Эрнст Юнгер • Ривароль
1
Взяться за перевод автора, умершего более ста пятидесяти лет назад, — для самого переводчика такое предприятие вряд ли нуждается в оправдании. Оно остается делом его досуга и удовольствия, которое он в нем находит. В этом смысле перевод издавна относился к наиболее высоким формам времяпрепровождения. И все же страсть переводчика полностью развертывается только применительно к тому материалу и к тому автору, которые для него уже предпочтительны. Поэтому ни персона автора, ни то или иное из его сочинений не избираются случайно. Выбору уже предшествует некая симпатия, притягивающая сила. Тогда за перевод берутся из желания проникнуть в сочинение как можно глубже, сделать его чтение как можно более увлекательным. Перевод следует за мыслью автора по горным тропам и подземным ходам, пробирается во все капилляры. Как в живописи копирование старых мастеров, так в языке одним из лучших упражнений можно считать перевод — строгое следование за наставником.
Опубликование же перевода предполагает и некоторые другие соображения. Оно выходит за границы личных предпочтений, и переводчик должен задаться вопросом, какое отношение предлагаемый проект имеет к его собственной эпохе. Это и нужно будет кратко выяснить в случае с Риваролем и его трудами.
2
Антуан граф де Ривароль, как он себя именовал, родился 26 июня 1753 года в Баньоле (Лангедок) и был старшим из шестнадцати братьев и сестер; семья жила в стесненных обстоятельствах. Отец, Жан-Батист Ривароль, владел разными ремеслами; кроме прочего ему довелось побывать учителем, сборщиком налогов и трактирщиком.
Уже Сент-Бёв называл родословную Ривароля «запутанной» (inextricable), подразумевая скорее всего претензию на дворянское звание и графский титул, не подтвержденную метрическим реестром. Возможно, Ривароль приписывал себе эти достоинства на том же основании, что и шевалье де Сенгаль, который, когда ему предлагали удостоверить свои права, ссылался на то, что владеет двадцатью четырьмя буквами алфавита. Но возможно, что семья Ривароля, как он утверждал, происхождением своим действительно была обязана переселенцам, принадлежавшим ветви старого генуэзского рода. В любом случае, в отличие от столь многих других, Ривароль жил не пользуясь своим именем, а возвеличивая свое имя. Последнее случается намного реже. В конце XVIII века, на протяжении которого дворянство играло столь значительную роль, к таким поправкам в визитных карточках относились гораздо либеральнее, чем в наступившие вскоре и даже в нынешние времена. Это придавало обществу ту подвижность и элегантную легкость, каких в дальнейшем уже не удавалось вернуть и которые, с одной стороны, можно рассматривать как предзнаменование заката, а с другой — как ослабление сословных оков, не только сделавшее более одухотворенным межличностное общение, но и принесшее значительную пользу искусству.
Слава человека, обладавшего тонким умом или каким-то блестящим дарованием, гарантировала в этом обществе не только постоянный доступ в салоны, но и возможность занять в них подобающее место. Возникает даже впечатление, что часто бывало довольно одной славы, и на таких наблюдениях, возможно, основывалось замечание Ривароля: «Ничего в своей жизни не достичь — огромное преимущество, не надо только им злоупотреблять».
Но кроме знаменитостей-однодневок, рыцарей удачи и авантюристов, коим удавалось блистать лишь короткое время, в этом предреволюционном обществе встречались обладатели имен, отзвук которых слышен и сегодня. К ним принадлежит Ривароль. Рассматриваемый в рамках своей эпохи, он представляет собой не единичный случай, а одно из типичных ее явлений.
Не менее типична его предыстория, вплоть до первого появления в Париже, где он сразу привлек к себе внимание. Как это случалось со многими даровитыми отпрысками из небогатых семейств, основная роль в образовании принадлежала церкви. Отучившись в нескольких приходских школах и в каждой добившись блестящих успехов, Ривароль завершил учение в духовной семинарии Сент-Гард в Авиньоне под покровительством епископа Юзэ и покинул ее в чине аббата. Значит, шел он, как говорится, одним из привычных путей — дорогой бедного школяра, рано выделившегося из общей среды благодаря своим талантам. Именно из юношей такого склада старался рекрутировать свое пополнение клир, даже если ему приходилось мириться с тем, что некоторые его стипендиаты — как это произошло (и, пожалуй, не могло не произойти) с Риваролем — вырывались потом в мирскую жизнь. Если приводить примеры, то так дебютировал и Шамфор, которого часто вспоминают в связи с Риваролем и даже сравнивают с ним. Стендаль почерпнул здесь свой романтический образец: его герои страдают и созревают в аскезе и интригах приготовительной духовной школы, прежде чем посвятить себя военной службе, политике или литературе. В сопряжении со стихийными силами строгая дисциплина способна произвести взрывное действие.
О Ривароле нельзя, по крайней мере, сказать, что он, подобно столь многим другим, отплатил за помощь неблагодарностью; именно поэтому у него напрасно искать тот цинизм, который в этой связи находят у Шамфора. За его мыслями, сколь бы свободно и легко они ни излагались, скрывается впечатляющая образованность как в отношении языка и стиля, так и в том, что касается общих познаний. Именно ей он обязан своей осведомленностью в античной литературе, истории и мифологии, своей склонностью к грамматическим и этимологическим изысканиям, своим пристрастием к таким мыслителям, как Данте, Паскаль и Августин.
К этой основе добавилась проницательность в понимании литературных, общественных и политических явлений собственной эпохи. Надо полагать, Ривароль приобрел ее уже в первые годы своего пребывания в Париже, о которых мы располагаем лишь весьма скудными сведениями. В этой столице, где, по его собственным словам, «Провидение действует более эффективно, чем в любом другом месте», да к тому же в центре ее лихорадочной жизни, годы учения весьма ему пригодились. Ведь для того чтобы оценить ту или иную ситуацию, всегда бывают нужны масштабы, приобретенные за ее пределами, и вот эти-то масштабы Риваролю дало его духовное воспитание. Попытка же справиться с эпохой только средствами, предлагаемыми ею самой, терпит крах в потоке движения и ограничивается общими местами; она не может проникнуть глубже. Умы пусть и волевые, но ограниченные терпят неудачу именно по этой причине.
Мы не ошибемся, если предположим, что эти годы учения были посвящены главным образом двум важнейшим средствам установления духовного контакта: чтению и разговору. Что касается чтения, то уже ранние работы Ривароля показывают, что он мог трезво судить не только о творчестве тех современных ему авторов, коих мы ценим по сей день, но и о сонме тех, чьи имена давно забыты. Такая осведомленность подразумевает почти непрерывное чтение, алчное пожирание книг днем и ночью. В жизни молодых людей бывают такие отрезки — месяцы или годы, — когда они делаются, словно болезнью или каким-то пороком, одержимы этой жаждой чтения; и на улице Ришелье, где тогда ютился Ривароль, так все, по-видимому, и обстояло.
3
Разговору в этой связи нужно уделить особое внимание. Для лишенного средств чужеземца он в любом случае является одним из главных, а часто и единственным источником поддержки, поскольку заменяет ему не только звонкую монету, но и оружие в духовном пространстве. Новичка находят симпатичным, обаятельным, очаровательным, находчивым, безмерно пленительным, ослепительным, завораживающим своими чарами. Конечно, такие триумфы предполагают посредующее наличие культурного сообщества, в котором хорошо развиты как средства выражения, так и способность к пониманию.
В эпоху, для жизни в которой родился Ривароль, так было повсюду. И если уже в те времена его прославляли как мастера своего дела, то нужно учитывать, что приговор этот раздавался с высот нагорья. Способность понимания утончилась настолько, что ее возбуждал даже легчайший намек, тишайшее дуновение, тень самого слова. Отсюда возник ни с чем не сравнимый стиль косвенных указаний, импровизаций, эпиграмматических фигур. Подобно тому как в преддверии непогоды по-особому электризуется вся атмосфера и над каждым шпилем занимаются огни святого Эльма, общественный климат тоже способен порождать явления, при которых разговор становится текучей средой, непосредственно и без всякой рефлексии связующей и очаровывающей людские умы. В этом воистину есть что-то стихийное: возвращение к природе, только происходящее на более высоком уровне. Как дикари без слов угадывают мысли соплеменников, так и здесь царит никак внешне не выраженное взаимопонимание; слово — это символ, вспыхивающий на краткий миг. Острота не готовится заранее, она сиюминутна и потрескивает, как лейденская банка, до которой дотронулись рукой.
Но там, где атмосфера пропитана остроумием, существует и опасность, что все превратится в игру, утомительную для ума, изнуряющую его аллюзиями. Мы ощущаем это уже при знакомстве с некоторыми, пусть даже превосходными бон-мо. Во времена Ривароля жили истинные волшебники, умевшие извлекать из слов самые неожиданные сюрпризы. К их числу принадлежал маркиз ле Бьевр, гвардейский офицер и крупный землевладелец. Молва о его остроумии дошла до короля, и он пригласил маркиза к себе, чтобы поощрить его и устроить ему испытание: «Donnez-moi, Sire, un sujet. — Eh bien, faites-en un sur moi. — Sire, le Roi n'est pas un sujet».[1] Вот один из бесчисленных фрагментов «бьеврианы», которые можно потреблять лишь малыми дозами. В таком же духе каламбурил герцог де Линь и многие другие, а какую ценность в те времена придавали игре слов, понимаемой в самом широком смысле, яснее всего видно из того, что даже энциклопедисты завершили длинную череду изданных ими томов подборкой красных словец, острот и по всякому поводу сделанных замечаний, часто граничащих со вздором и безвкусицей.
Вполне вероятно (и свидетельства о том до нас дошли), что в разговорах с современниками Ривароль не мог вовсе избежать подводных рифов каламбура. Но сила его ума была бесконечно более велика, чем у всякого рода бьевров, и об этом у нас тоже имеются свидетельства. Есть ли, к примеру, разница между вышеприведенной репликой и афоризмом Ривароля: «Un livre qu'on sou tie nt est un livre qui tombe»?[2] Да, и очень существенная! Ответ Бьевра королю и то, что в нем озадачивает, ограничивается лишь игрой слов, поскольку слово sujet может быть понято и как «тема для беседы» и как «неодушевленный предмет». Эффект заключен в самой вокабуле, в ее переменчивом содержании. Когда же Ривароль говорит, что книга, которую поддерживают, плохо стоит на ногах, что в ней, стало быть, нет ни духовной, ни художественной самостоятельности, он выходит далеко за пределы сферы созвучий и ассоциаций. Подобно молнии, слово озаряет своим светом всю пропасть, что лежит между подлинным свершением и пропагандистской декларацией. И верно это не только применительно к какому-то одному случаю, но и ко всем временам, в том числе и нынешним, поскольку затронуто оказывается одно из уязвимых мест всякой тирании. Тут уже нет сумеречной двусмысленности. Удар наносится с легкостью, но сколько в нем сокрушительной силы!
Утонченности, в которую галльское остроумие развилось к концу ancien régime,[3] суждено было исчезнуть вместе со своим носителем, старым обществом. Ее отголоски еще можно расслышать в шутках, на которые отваживались перед гильотиной. Что касается Ривароля, то он хотя формально и пользовался этим наследием, все же опирался на более глубокую почву. Потому-то и смог возвысить голос против Революции в тот момент, когда она была наиболее сильна.
Современники и биографы этого человека сожалели о том, как много сил он уделял обществу и беседам, — расточительность, которая, несомненно, пагубно сказалась на его сочинениях, а может быть, и на сроке жизни. Становишься-де жертвой пиров, героем которых тебя почитали. Тем, кто высказывает такие упреки, следовало бы подумать, не слишком ли низко они оценивают умение вести разговор как по духовному рангу, так и по производимому действию. В лучших своих образцах оно может быть признано искусством, подобно тому как, скажем, в Японии искусством считается составление букетов. И не надо ссылаться на их недолговечность, поскольку, в конце концов, всякое произведение искусства недолговечно. В таком понимании произнесенному слову может быть свойствен тот же ранг, что и написанному, хотя слушателю оно является в ином виде, нежели читателю. И разумеется, перед разговором стоит задача, решить которую может только он, и никакое другое средство. В нем выражается как раз недолговечное — живое мерцание времен, которое уже не вернуть заклинаниями историка. Оно исчезает, как иней, как бархатистый налет на кожице плодов с наступлением дня.
Это и есть тот смысл, в котором разговор оказывается самодостаточным; то или иное событие получает свое завершение, из прошедшего становится прошлым лишь после того, как переживающий, претерпевающий его человек обсудит его с себе подобными. Его действие сродни волшебству. Очевидно также, что в бурные времена разговор становится первым и важнейшим источником формирования людских мнений. Здесь реки и ручейки сливаются в единый поток и обретают ту мощь, что сокрушает плотины и дамбы. Здесь, у камина и за круглым столом, опробуются и проекты речей, произносимых с трибуны, которые, как и при всяком укрупнении, более грубы и прямолинейны.
Нельзя поэтому принижать ценность, которую Ривароль придавал разговору, не говоря уже о том, что сам он был рожден для беседы, как рыба для волн или птица для песен. Скорее, разговор надо рассматривать как невидимую часть труда, значение которой нам позволяет распознать дошедшая до нас видимая его часть.
4
Итак, включившись в разговор, а вскоре и став его центром, Ривароль утвердил свою славу сначала в узком, затем в более широком кругу и наконец сделался тем непререкаемым arbiter elegantiarum,[4] в качестве какового и прослыл легендой. Мы уже вкратце коснулись недостатков, что сопутствуют такому дарованию, сковывающему продуктивные силы и расточающему себя в мимолетных наслаждениях. К ним добавлялась леность, которую мы почти всегда обнаруживаем в тесном родстве с чрезмерным пристрастием к чтению и которую Ривароль вполне в себе сознавал, что явствует из его эпитафии собственного сочинения: «Лень отняла его у нас раньше смерти».
Неудивительно, стало быть, что в эти годы нескончаемых разговоров, чтения книг и вдохновенной праздности мало что уродилось. На то же время приходится, кроме прочего, и связь с одной англичанкой, мисс Мэдерфлинт. Ривароль женился на ней, чтобы тотчас же развестись; что между ними произошло — неизвестно. Риваролю отношения вряд ли виделись чересчур радужными, это видно по эпиграммам, которые он впоследствии посвящал англичанам и населяемому ими острову, например: «Боже вас убереги от любви англичанки». Он говорил также, что у англичанок обе руки растут левыми. Характерно, что его остроты нацелены, как правило, на изъяны вкуса, а потому вполне вероятно, что и в этом союзе (приведшем к рождению сына) вскоре проявились ощутимые различия в предпочтениях. Предисловие к Полному собранию сочинений, с которым эта женщина, уже как его вдова, еще раз появляется в 1808 году, Ривароля, если бы он дожил, скорее всего тоже вряд ли бы удовлетворило. Оно в образцовом виде отражает «борьбу диадохов», часто разгорающуюся вокруг литературных наследий.
Как и многое другое в жизни Ривароля, от нас остается скрыто, какую роль в ней играли женщины. Не больше, чем о его жене, знаем мы и о его возлюбленной, отправившейся за ним в ссылку и оставившей нам только свое имя: Манетта. Все же по характеру Ривароля, как и по его сочинениям, можно заключить, что его идеал точно вписывался в те рамки, которые Стендаль в знаменитом введении к своей книге «О любви» определил как l'amour-goût, любовь-удовольствие. По словам Стендаля, здесь сами тени еще окрашены в розовый цвет, нет ничего страстного, ничего непредвиденного, и потому зачастую царит более нежная привязанность, чем при самой большой любви, — причем всегда духовная. Такое же настроение улавливается в «Двойной комнате» Бодлера, только к розовому цвету там добавляется голубой.
Совершенство человеческого существа теперь, по-видимому, возрастает настолько, что оно может показаться неземным. Такой апофеоз мы находим в максимах Ривароля, и он весьма показателен. Мадемуазель Лагерр, актриса, ежевечерне восхищавшая своей игрой публику столицы мира, в силу нелепой случайности оказывается в отдаленной местности в костюме своей героини. Крестьяне, посчитавшие сверхъестественными не только ее великолепные одеяния, но и ее красоту, грациозность движений и звучание голоса, принимают ее за ангела, сошедшего с небес, и падают перед ней на колени.
Взаимопонимание встречается тем реже, чем тоньше становится критика. В той же мере к эротическим элементам неизбежно добавляются духовные и эстетические. Всему, без чего нельзя обойтись, — например, общению, языку, одежде, обеденному столу, — придается видимость художественной завершенности; от простой повседневности все это отличается теперь тем же, чем цветы с парковой клумбы — от тех, что растут на лугу.
Чтобы произвести подобный эффект, требуется, конечно же, искусственное освещение, и прежде всего свет рампы. Выбор, стало быть, падает на женщин — здесь их поле деятельности и их сила, — причем всегда на тех, что располагают духовными, а когда возможно, и материальными средствами для попечения об избранном обществе.
В жизни Ривароля салон должен был играть важную роль уже потому, что она не мыслилась без нескончаемых разговоров, без потребности формулировать и развивать идеи в ходе беседы. Салоном руководит женщина, задающая в нем тон, в нем владычествующая. В предшествовавшие Революции десятилетия его влияние на формирование общественного мнения и на развитие талантов и характеров неуклонно возрастает. Мы вправе рассматривать его как один из зрелых плодов культуры: существуют эпохи, когда салон еще не возможен, и другие, когда он уже не возможен. Коль скоро в нем главенствовала женщина, установление равноправия лишило ее этой формы влияния. Ее участие в формировании общественного мнения ограничивается теперь коллегиальными органами, прообразом которых является клуб, где правила игры задаются мужским мышлением. Это вовсе не означает, что она обязательно становится синим чулком. Скорее, здесь намечается тип женщины, которую ум делает еще более желанной. В этом отношении наш рабочий кабинет в своей обыденности опережает искусства, до сих пор не предложившие нам никаких иных образцов.
5
Влияние салона на политическое развитие остается более анонимным, чем влияние двора, кабинета, а позднее и парламента, но оттого не менее существенным. Ткань разговора плетут сообща; кому принадлежит новая мысль, та или иная меткая формулировка, выяснить бывает тем труднее, чем ярче производимое ими впечатление. Некоторые идеи, замечания, в самом деле, распространяются неведомыми путями со скоростью искр на запальном шнуре (особенно в критических ситуациях). Это времена сочинений, распространяемых из-под полы, и слов, нашептываемых на ухо; времена, когда авторству какой-либо конкретной шутки придается тем меньше значения, чем четче в ней расставлены точки над i. Зато возрастает цена слова; за него можно поплатиться головой. В периоды спокойствия об этом забывают, и это бывает пагубно для стиля. Когти притупляются.
«Братство или смерть» — говорят, эти слова были впервые произнесены именно Риваролем. Они касаются не только 1792 года, но вообще ситуации, которая периодически воспроизводится. Точнее тут не скажешь. Там, где непомерное воодушевление охватывает большие массы народа, дело идет к кровопролитию. В шумном ликовании, знакомом не каждому столетию, не слышно рычания хищных зверей. Но уже скоро, когда начинаются первые трудности, оно становится более различимым. Поэтому в буре всеобщего братания кое-кому может не поздоровиться. Пруссаки всегда, даже в самую раннюю пору, обладали в этом отношении острым слухом. «Там внизу марширует революция», — промолвил Фридрих Вильгельм III, когда под его окном с песнями проходил ландвер. А Вильгельму I испортили настроение цветы, замеченные им в 1864 году в стволах винтовок при вступлении одержавших победу войск.
Не только из трудов самого Ривароля, но и из многочисленных замечаний, разбросанных в биографиях и мемуарах, можно узнать, что в парижских салонах, а позднее, уже после эмиграции, и в гостеприимных домах Бельгии, Голландии, Англии и Германии он завязал личное знакомство со множеством влиятельных современников. Многие были им очарованы, и подобное впечатление блестяще описано, к примеру, у Шендолле. Берк называл его «Тацитом французской революции», а Вольтер сказал: «C'est le Français par excellence».[5]
Другие говорят, что не поддались его чарам; к ним принадлежат Шатобриан и герцог де Линь, на которого свойственная Риваролю манера говорить, чем-то похожая на фейерверк, произвела отталкивающее впечатление. Впрочем, не следует слишком доверять суждению людей, которые сами привыкли быть в центре внимания. То, что друг о друге говорят красивые женщины и литераторы, всегда по меньшей мере подозрительно.
6
В этой связи нужно коснуться и вопроса о том, можно ли Ривароля назвать денди, к каковому ордену его пробовал причислять уже Барбе д'Орвильи. Но раз уж в своей книге о Бруммеле, который был только денди и больше ничем, д'Орвильи противопоставляет ему герцога де Ришелье и лорда Байрона, которые помимо этой возделывали еще и другие нивы, то Ривароля следовало бы поместить в их ряду. Д'Орвильи говорит, что в их случае общество лишь на мгновение отпустило поводья, тогда как в случае Бруммеля оно скучая пожевывает травинку. Он пишет далее: «Если убрать денди, что останется от Бруммеля?» У Ривароля же мы наталкиваемся на основу, что скрыта под узором его личного существования. Он действует «от имени и по поручению».
Убедительное прояснение проблемы было дано Отто Манном в его исследовании «Современный денди», вышедшем в 1925 году. Манн описывает денди как поздний эстетический тип в рамках подвергающегося все большей нивелировке и знающего только материальные интересы общества, с которым он в разладе. Между тем, поскольку сам он уже оторван от глубинных богатств культуры и не испытывает их притока, он чувствует потребность хотя бы формально реализовать свое притязание на место в табели о рангах. Поэтому значительность начинают искать во всем внешнем, и прежде всего в своем собственном внешнем виде, превращаемом отныне в произведение искусства. Значение человека неизбежно перекладывается с того, что он есть, на то, что он собой представляет, и в связи с этим чисто эстетические стороны жизни и ее обустройства приобретают все больший вес.
Как своего рода передышка, разминка перед началом борьбы за подлинные цели дендизм сыграл свою роль во многих биографиях. Задолго до того как появилось это прозвище, во всех обществах и во всех культурах молодые люди месяцы и годы своей жизни тратили на пустяки (кстати, одна из этимологии возводит слово денди именно к этому корню).[6] Тут не были исключением даже правители — царь Давид, Цезарь или Фридрих Великий. Но всегда это был именно переходный период, развлечение, прелюдия перед постановкой настоящих задач. Денди задерживается в этой передней, и потому в старости у него бывает какой-то незавершенный облик, словно что-то в его жизни осталось невыполненным. Это бросается в глаза на портретах Бруммеля, Пюклера, Пелэма. Уайльдов Дориан Грей стал образцом в литературе: неподвижная золотая маска, под которой скрыта ужасающая пустота. На этих окраинах и процветает цинизм. Денди остается куколкой; это слово применимо к нему в обоих смыслах: и в значении личиночной стадии организма, и в значении детской игрушки. Чтобы вывести его из этой стадии, нужно причинить ему боль; она высечет на нем рунический знак жизни. Исправительный дом сделал Уайльда автором «De profundis».[7]
Помещая Ривароля в ряду денди, мы судим о нем по внешнему виду и делаем поспешный вывод на основании тех свойств, которые сближают его с человеческим типом, изображенным в «Воспоминаниях» капитана Гроноу или в «Истории Уайтов» Бурка. Если же попробовать снять внешний лоск, то под ним обнаружится не только знаток старой, уже созревшей культуры, но и ее законный наследник, отстаивающий в бытии то, что он собой представляет. Его суждения глубоки, его мера безошибочна. По этой причине он выше своего времени с его ограниченностью и слепотой и намного больше, чем его современник Робеспьер, заслуживает прозвища «Неподкупный».
7
На таком примере, таком единичном случае становится видно, как медленно в водоворотах и течениях бурного времени рождается подлинный металл. Слова тоже имеют свою цену и свой вес. Правильная мера обеспечивает им долгую жизнь, как старым, благозвучным мелодиям, вновь и вновь возвращающимся и радующим сердце, сколько бы ни заглушали их развязные уличные песни. Их действие достигает более глубокого уровня, чем ярус страстей.
Оттого и получается, что речи и писания людей, некогда волновавшие мир, задавшие ему направление, в котором мы движемся и поныне, со временем становится все труднее воспринимать. «CEuvres politiques»[8] Сен-Жюста сделались источником скуки, и даже речи могучего Мирабо действуют ныне как снотворное. Выплатив дань своей эпохе, они оказались истрачены, амортизированы. Легкость, с которой из-за слов, подобных эоловым мехам с гуляющим в них ветром, разыгрываются опустошительные бури, с давних пор занимала и угнетала мыслящих людей. Она дала Гераклиту повод уподобить языки демагогов ножам мясников и заставила Ли Бо задаться вопросом:
«Что песнопевец перед тем, кто губит миллионы?»Возможно, как и всякий подлинный вопрос, он уже содержит ответ в себе самом, как в плоде содержится семя. Слово бывает губительным, но может и дарить жизнь, и в этом своем качестве оно выступает как поэтическое, творческое слово. Тогда оно возвышается над своим временем и, подобно рифам, вновь и вновь проступает из-под его водоворотов и прибоев.
Это справедливо и в отношении Ривароля; у него встречаются фразы, для понимания которых мы лишь недавно созрели благодаря накопленному опыту. В этом обстоятельстве есть что-то утешительное. За истекшие годы (и не только) всякому образованному человеку не раз доводилось ощутить себя в положении утопающего, одолеваемого страхом сгинуть в море бессмыслицы. Наглость «захвативших» власть демагогов непоколебима, рукоплескания нескончаемы. После проигранной войны спектакль начинается снова. Терсит празднует триумф в отвратительной мерзости, смущающей самого победителя.
Тут-то и бывает отрадно оглянуться назад и увидеть, что монета, когда-то в сходных обстоятельствах отчеканенная неподкупным умом, в череде эпох сохранила свой вес и достоинство.
8
«Ривароль не относится к нашим литераторам первого ранга. Он стремился этого достичь и обладал надлежащими способностями, но подняться на эту высоту ему помешала Революция, оттолкнувшая его на поле политической борьбы. Преждевременно скончавшись в изгнании в возрасте сорока семи лет, он не успел в полной мере развить свои силы».
Против этого суждения, которым Лекюр начинает предисловие к своему изданию трудов Ривароля, возразить нечего. К тому же большие сочинения Ривароля остались незаконченными. Это находит свое объяснение не только в перипетиях эпохи, которая, с другой стороны, как раз и побуждала его к работе. Мы должны видеть тут влияние уже упомянутой лени вкупе с сознанием ответственности, коим характеризуется и отличается всякое неподдельное усердие в работе со словом. Стремление найти более удачную формулировку, сложить более точную фразу поглощало большую часть времени.
Между тем успех достигается не только благодаря цельности или объему опуса. Подобно тому как даже наши величайшие умы в некоторых своих трудах до первого ранга не дотягивают, другие достигают его одним образцовым высказыванием, метким словом. Нам известны писатели, чье имя было вырвано у забвения и обрело бессмертие благодаря лишь немногим страницам или даже одному-единственному стихотворению. Поэтому доколе будет существовать литература и литературная критика, Ривароль благодаря своим «Максимам» тоже останется в ряду тех исследователей и изобразителей человеческого характера, которых называют «моралистами» и развитию которых особенно благоприятствует французский дух, наделенный добродетелью межчеловеческого общения. Подобно тому как некоторые плоды хорошо созревают в этом мягком климате и служат потом украшением стола, так, по крайней мере со времен Монтеня, здесь имеют успех сочинения, посвященные глубокому исследованию человеческого сердца, ума и характера, их возвышенных и низменных черт, их добродетелей и изъянов. Благодаря этому обстоятельству Франция подарила мировой литературе ряд замечательных книг, открыв которые мы имеем счастливую возможность «читать в сердцах», радостно отдаваясь познанию и самопознанию.
Но помещая Ривароля в этому ряду, мы не должны забывать о его эпохе. Нужно поразмыслить над тем, что стало возможным в конце XVIII века, если сравнивать его с двумя предыдущими. Общество стало намного более восприимчивым, пустило более нежные ростки, чем во времена, когда о нем писал Ларошфуко. Оно стало во многом более утонченным и в то же время менее стабильным. В него просочились новые силы, ослабившие прежние узы, и уже был достигнут момент, когда из теории, литературы и философии они начали проникать в политическую действительность. Сердца сделались более чувствительными, но их биение утратило тот твердый, рыцарственный ритм, что одухотворял максимы Вовенарга, и паскалеву отвагу, которую в верующем пробуждает близость и само претерпевание суровых гонений. И все же кое в ком эта отвага сохранилась; она только сделалась более гибкой, подобной клинку, и уже близились годы, когда в таком оружии возникнет большая потребность. Скоро в жизни Шатобриана настанет миг, когда он выглянет из окна своей квартиры и ему на острие копья протянут чью-то отрубленную голову. И он не отшатнется.
Предштормовые годы отличаются особой открытостью. Широко распахиваются не только двери салонов; в сердца и умы тоже проникают новые чувства и мысли. Одно подле другого, в обмене мнениями ив разговорах сосуществует то, что вскоре сойдется в противоборстве, в спорах не на жизнь, а на смерть. «Женитьба Фигаро» была поставлена в 1784 году, причем по настоянию двора. Ривароль сидел в зале рядом с автором, и сохранилось саркастическое замечание, которым он с ним поделился.
Благодаря такому либерализму общество, которое Тальман де Рео рисует изобилующим феодальными чудачествами и которое при Сен-Симоне шлифует свои манеры, доводя их до придворной изысканности, теперь расширяется и оживляется многочисленными огнями, среди которых не одни только светочи Просвещения. Оно становится падким на все новое, хотя и удерживается пока в старых рамках. Кажется, оно еще способно вобрать в себя это новое и с ним укрепиться. И вот, благодаря шлюзам и плотинам, был достигнут такой уровень, что впоследствии не могло обойтись без водопада.
Взвесить здесь все pro et contra был попросту предназначен такой человек, как Ривароль; у него были для этого и средства, и способы выражения. Весы для него были символом, заключавшим в себе изначальное, строго определенное понимание справедливости. Это понимание придает форму средствам, и прежде всего языку, делая его размеренным и взвешенным. Но то, что поначалу поражает легкостью, уравновешенностью и элегантностью, что граничит с артистизмом, в действительности проникает глубже и основывается на подлинном таланте отыскивать истину, на призвании истинного судьи.
9
Отметим здесь коротко, что по той же причине Ривароля нельзя причислить и к романтикам. Его суждения не имеют ничего общего с ремеслом адвоката, что как раз характерно для них. Романтик защищает что-то утраченное, что он хотел бы вернуть. И в искусстве, и в политике он стоит «по ту сторону» как во времени, так и в пространстве. Его точка зрения — это позиция лишенного власти жреца или аристократа, не отказавшихся от своих притязаний. Относительно своих целей он находится в ситуации утраченного рая, который, в лучшем случае, еще виден ему поверх преграды, и для него нет более решительного испытания, чем попытаться претворить этот рай в действительность. Поскольку утрата происходит в сфере бытия, ее нельзя возместить политическими средствами. Такая позиция не лишена духовного величия.
Ривароля нельзя отнести к этому разряду, даже когда он уже в эмиграции, бывшей одним из рассадников романтических идей. Мы не обнаруживаем у него ни «настроений», ни пронизанного светом средневековья, ни растворившегося в прекраснодушии христианства. Его высказывания продуманы в тончайших ответвлениях. Поэтому и в суждениях своих он заслуживает большего доверия и менее заносчив, чем Шатобриан, без промедления реагировавший на колебания политического климата. Ривароль избежал той ошибки, которая слишком свойственна человеческому характеру — путать гордость с силой; в его жизни не было такого периода, когда его можно было бы назвать человеком крайних позиций. Уже один только хорошо развитый вкус не давал ему впадать в крайности; как хороший стрелок, он всегда стремился попасть в самую середину мишени. Одним из первых он выступил против недальновидного манифеста герцога Брауншвейгского.
Ривароль не романтик, потому что в глубине его души, в его сознании не произошел тот резкий разлом, который на новый лад отделил прошлое от настоящего и прервал традицию так, что это ощущалось отчасти как освобождение, отчасти как утрата корней. Поэтому в водовороте событий он умел столь же беспристрастно, сколь и проницательно судить о том порядке, что лежит в основе сменяющих друг друга политических явлений.
Это следование здравому человеческому рассудку и пренебрежение к мистическому антуражу весьма для него характерно. Мы входим в ярко освещенное пространство, где все измеряется правильной мерой и где нет места полумраку склепов и часовен. Конструкция и метод сохраняют свою весомость, сколько бы реставраций и новых революций мы ни увидели, в каком бы смятении, знаменующем последние времена, ни пребывали.
Почему получается, что столь сильные затруднения возникают с употреблением термина «консерватор», — и это в эпоху, как никогда более нуждающуюся в сдерживающей, охранительной силе? Если не брать в расчет чей-либо явный интерес, то в этом виновато влияние романтиков, с самого начала связанное с этим словом и приводящее к негативным последствиям, поскольку основывается на чувстве утраты. Влияние это уничтожается в свете критики и в ходе борьбы за власть. Подлинным консерватором является тот, кто не позволяет себе никакой романтики, ни даже простого воодушевления, да и вовсе не нуждается в них. «Res, non verba»[9] — вот его закон. Плывущие же по течению оппоненты намного более благонадежны. Там, где Ривароль восхваляет людские деяния, мы напрасно стали бы искать у него фимиам, который расточает, к примеру, Мишле в своем описании событий 14 июля. Он принадлежит к тем авторам, которых еще и сегодня с пользой для себя прочтет каждый, кто интересуется консервативными идеями и их непреходящую составляющую старается отделить от того, что в них оказывается чрезмерным и вредоносным.
10
Риваролевы максимы — это аббревиатуры, зародышевые клетки всего его труда; в них мы в концентрированном виде находим все, чем он занимался in extenso. В них его перо ближе всего к тому поприщу, на котором он был воистину силен — к сфере разговора. При его жизни они ни разу не публиковались и представляют собой результат позднейшего отбора. Духовный облик автора и его предпочтения отражены в них как в округлом шлифованном зеркале.
К таким предпочтениям прежде всего относится язык, который для него был чем-то большим, чем просто инструмент ремесленника. Ривароль относится к мыслителям, которые отталкиваются от языка, для которых слово стоит в начале. Всю свою жизнь он занимался словом и именно этим занятиям обязан своим первым большим успехом. В 1783 году он выиграл премию, предложенную Берлинской академией за лучший ответ на вопрос: «Чем можно объяснить универсальность французского языка». Работа, поданная на конкурс Риваролем, принесла ему не только приз; он был принят в Академию, удостоился лестного письма от Фридриха Великого, вступил в переписку со многими европейскими учеными и стал получать пенсию, назначенную ему Людовиком XVI. В одну ночь он сделался знаменитым.
Последнее его произведение, обширное «Предисловие» к задуманному «Новому словарю французского языка», над которым он работал в годы гамбургского изгнания, тоже посвящено языку; это настоящая сокровищница остроумия. Составление словаря не продвинулось дальше сбора материалов и первой, хотя и довольно объемной, части введения. Вероятнее всего, он не был бы закончен, даже если бы Ривароль прожил дольше: это один из тех грандиозных трудов, контуры которого вырисовываются в чьем-либо деятельном уме, но для его осуществления требуется, скорее, величайшее усердие какого-нибудь дю Канжа, человека, располагающего досугом и живущего за счет досуга. Ривароль планировал создать некий противовес к «Энциклопедии», произведение, в основании которого лежали бы законы языка. Такое предприятие нельзя было препоручить целому штабу умников, как это сделал д'Аламбер. Проникнуть во внутренний арсенал языка удается только одиночкам в противоположность логической, пожалуй даже физической, задаче, для решения которой годится разделение труда и применение математических или механических средств. Таково с давних пор главное различие между банаусическим и мусическим трудом. К примеру, Якоб Гримм в своем введении к «Словарю немецкого языка» даже сотрудничество с любимым братом характеризует как помеху единообразию. Поэтому намерение Ривароля обратиться к алфавиту в одиночку, чтобы оживить его средствами искусства, в принципе было правильным, хотя и обреченным на неудачу в том, что касалось его осуществления.
Он работал с языком как художник, а не как ученый, даже когда скрупулезно штудировал Кондильяка и других своих предшественников. Ранг автора вообще можно определить по тому, в какой степени он может оставаться независимым от науки. Он живет в непосредственной связи с миром, с его изобилием. Поэтому стихи гораздо сильнее меняют мир и гораздо надежнее его оберегают, чем науки, следящие за ним из отдаления. Они способны выстоять среди перемен и устоять перед прогрессом, подобно Сатурну пожирающим всевозможные теории и изобретения. В подробностях упомянутое «Предисловие» имеет для нас зачастую лишь исторический интерес; по-другому дело обстоит со стоящими за ним принципиальными решениями. В первую очередь они касаются вопроса о происхождении языка, который и впрямь требует на что-то решиться, поскольку никакое исследование не может на него ответить. Этот великий вопрос — того же рода, что и вопросы о свободе воли или о зарождении жизни: они всегда будут оставаться спорными. Чем ограниченнее ум, тем скорее у него найдутся на них ответы. Но существуют проблемы, которые лишь до известной степени подвластны разумению. Нам никогда не осветить их полностью, но наши ответы проливают свет на нас самих.
В этом отношении Ривароль действует как художник, как человек творческий, поскольку главное значение он придает духу языка, его духовному истоку, le génie de la langue. Творческий акт обладает у него изначальным, независимым рангом, хотя это вовсе не исключает того, что язык развивается из звуков и знаков, которыми обмениваются животные, и что его развитие обусловлено договоренностью между людьми. Но все это не только остается подчинено творческому акту, — здесь нет даже перехода от одного к другому. Развитие всегда протекает во времени и остается зависимым от временных случайностей; интуиция же действует вне времени. Массе пользующихся языком людей эта сфера недоступна, хотя они ею живут; поэт же проникает в нее, и язык вновь оживает в его стихах.
Здесь Ривароль согласен с Гаманом, называвшим поэзию исконным языком рода человеческого. Его предшественником был и Руссо, в «Очерке о происхождении языка» утверждавший, что язык возник не из потребности, а из страсти. Поэтому в устной речи его воздействие сильнее, чем в письменной; языком Гомера был напев. С течением времени языки теряют в выразительной силе, зато приобретают в ясности.
Касательно лейбницевского плана универсального языка Ривароль придерживался того мнения, что его назначение определяется потребностями, тогда как дух языка расцветает только на родной почве, и потому она ему необходима. Здесь Ривароль тоже чужд всякого империализма. Вести себя нужно как бы путешествуя, обходя по кругу прекраснейшие национальные языки и обустраиваясь в своем собственном. Между языком и человеком, на нем говорящим, существует глубинная гармония, достижимая только на материнской почве. Великие национальные языки развиваются в направлении к языку универсальному, и в этом смысле последний идеален. На практике же универсальных языков всегда несколько: латынь — язык ученых, французский — язык дипломатов, английский — язык обиходного общения. Сегодня мы располагаем множеством повсеместно распространенных технических выражений, среди которых немало греческих заимствований. Намечается и развитие языка образов, причем, разумеется, не только в виде дорожных знаков. Существует набор знаков и символов, которые благодаря планетарным процессам — к примеру, рыночной торговле, войнам и обмену пленными, фотографии и кинематографу — приобрели космополитическое значение и сделались понятны всем. Поэзия же, напротив, расцветает только в родном языке, ибо только здесь дух языка находится у себя дома.
Симпатии, с которой конкурсное сочинение Ривароля приветствовалось во всей Европе, оно обязано отличающей его немногословной сдержанности. В качестве особого преимущества своего родного языка он превозносит «ясность», clarté, понимаемую не как математическое совершенство, а как черта его своеобразия, но в то же время и как его слабость, которая должна уравновешиваться талантом. Ясность эта есть также та вершина, с которой следует оценивать и силу, и ограниченность прозы самого Ривароля, с той оговоркой, что сила ее заключена и в самой этой ограниченности. Язык он характеризует как свет, хотя сам, как и Дидро, не относится к числу тех романских писателей, от которых остался полностью скрыт мир его иероглифики. В отличие от Мармонтеля он не отвергает style imagé,[10] a ясно подчеркивает: «Le style figuré est toujours le plus claire et le plus fort».[11] Мы видим также, что образам отдают предпочтение те умы, которые особенно высоко ценят исконность и самобытность. В этом отношении существуют два больших лагеря, распознаваемые по стилю и отделенные друг от друга более резко, чем политические. «Идея принадлежит всему миру, образ же только тебе одному», — в этом обращенном против Барреса высказывании Жюля Ренара акценты можно расставить по разному.
Между тем по Риваролевым образам видно, что их источником является именно свет. Их не омывают воды подземного мира. Они однозначны, стремятся быть точными, метят не в бровь, а в глаз. Они не поднимаются со дна потаенных колодцев, как у Гераклита. Поэтому в том, что касается глубинных слоев языка, Ривароля нельзя безоговорочно ставить в один ряд с такими его современниками-немцами, как Гердер и Гаман. Нередко афоризмы Гамана и Ривароля обращены к одним и тем же предметам. Но фраза «истины — это металлы, рождающиеся под землей», конечно же, не могла бы принадлежать Риваролю. На это у него не было плодотворной способности видеть вслепую. Слова звучат как гераклитово: «Незримая гармония важнее зримой». Тут мы находимся ближе к пророкам.
Некоторые критики упреками Ривароля за рассудочную ограниченность его образов. Но это означает сравнивать несравнимое и порицать автора за отсутствие того, что ему в принципе не свойственно — примерно как упрекать птицу в том, что у нее нет плавников. Следовало бы, напротив, подчеркнуть, что особенности стиля Ривароля оптимально соответствовали окружавшему его миру. Соразмерность силы и ее орудия относилась к излюбленным его темам, и в этом отношении можно сказать, что находившийся в его распоряжении духовный инструментарий отвечал тем силам, что были разбужены эпохой. Они лили воду на его мельницу, и на том основывалось его влияние, которое было весьма сильно, что подтверждается и его продолжительностью. Ривароля нельзя, как, скажем, Фехнера, причислить к тем незаурядным умам, которые разминулись со своим временем, не найдя в нем никакого отклика.
Чтобы дать оценку своеобразию того или иного автора, нужно мириться с некоторыми его суждениями. Принцип этот постоянно нарушается. Согласно древнему изречению, не клятва служит порукой человеку, а человек клятве — то же и с людскими суждениями. Взяв их в отрыве от личности, мы получим лишь набор мнений. Это обычное дело для эпохи, когда значение придается всему — и в то же время ничему. Но когда вес сосредоточивается в одних местах, неизменно легчают другие. Поэтому Ривароль хорошо понимал Данте, труды которого он перевел для своих соотечественников, но, скажем, не Шекспира. В примечаниях к своему «Предисловию» он пишет: для того чтобы получить представление о Шекспире, нужно смешать в персоне великого Цинны черты пастухов, торговок и неотесанных крестьян. «Оставив в стороне возвышенное и разрушив единство времени, места и действия, вы получите образцовую шекспировскую пьесу».
Это суждение человека, держащего свою дверь на замке. И это обстоятельство важнее самого суждения. «Шекспиромания», как ее называл Граббе, была одной из тех сил, что распахивали тогда все двери. В сравнении с аристократической англоманией Пале-Рояля ее действие было, возможно, более анонимным, зато тем более грубым и неотвратимым. Критерий вкуса задавали веймарские гастроли Ленца и Клингера. Фигуры, подобные Дантону, проникали не только в общество, используя политические средства, но и — еще настойчивее — в драматургию.
Мы до сих пор вряд ли в состоянии даже вообразить, какую роль тогда играл театр. Он мог развертывать такую мощь, такую способность расширять пространство, о какой среди наших нынешних искусств нам дает представление, пожалуй, только живопись, воздействующая, однако, на гораздо более узкие сообщества людей. Что именно ставили и играли на сцене, определялось отнюдь не одними только вопросами вкуса. На некоторых представлениях можно было просто-напросто вживую ощутить, как раздвигаются театральные своды.
«Буря и натиск» не могли означать для Ривароля ничего, кроме грубой и необузданной стихийной силы, действующей без разбора. Буря, играющая у Шекспира столь значительную роль, осмыслялась им только в связи с ветряными мельницами — и вовсе не из-за предрасположенности его ума к экономическим феноменам, а потому, что ум его был обуздан и дисциплинирован. Политическая одаренность доходит до самых глубин его существа, и потому его политические суждения совпадают с нравственными и эстетическими.
11
Публикации конкурсного труда предшествовал ряд критических статей, которые можно рассматривать как заметки на полях, сделанные во время занятий двумя основными делами тех лет: чтением и разговором. Критическая работа не прекращалась на протяжении всей жизни Ривароля. В 1788 году она предварительно увенчалась изданием «Малого альманаха наших великих людей» и была продолжена «Малым альманахом великих людей Революции» и «Галереей Генеральных штатов», работа над которыми отчасти велась анонимно, хотя рука подлинного автора узнается везде.
Альманахи представляют собой сборники эпиграмм, причем отнюдь не безобидных; они надолго обеспечили Риваролю дурную славу. Сказанное о лицах способно раздразнить совсем других ос, нежели объективные аргументы. Острие своей иронии Ривароль испробовал здесь на всех, с чьим литературным стилем или политикой он был не согласен, — на Шамфоре, Мирабо, Неккере, Лафайете, Жозефе Шенье, ла Гарпе, аббате Делиле и мадам де Жанлис, не считая множества авторов, чьи имена теперь неизвестны, а может быть, никогда и не были известными.
«Альманах великих мужей» составлен в алфавитном порядке, и Ривароль сам говорит, что читать его можно с любой страницы, на какой он будет раскрыт, ведь и словари никто не читает методично, от корки до корки. Кроме того, при ином подходе читатель будет наказан встречей со множеством мест, ровным счетом ничего не значащих. Впрочем, добавляет он, именно эти места отличаются наибольшим портретным сходством. «Рудье. Ничего сказанного в его похвалу нельзя установить с достоверностью. Больно смотреть, как уже современники осуждают человека на такую безвестность. Что же со всеми этими именами будет через пару столетий?».
«Шас. Его статейки разбросаны по разным газетам, и, чтобы собрать все их множество, потребуется талантливый коллекционер».
«Дюкло де Лонгви. Поэт-бретонец, посвятивший свои творения Парижу».
«Планше. Некоторым этот автор непременно должен быть хорошо знаком по одному рассказу на индийскую тему, раздобыть который нам так и не удалось».
Такие вещи слышать неприятно; разве что только о других, не о себе. Создается впечатление, что Ривароль здесь сверх меры предается иронии, национальному пороку французов, причем, похоже, главным образом лишь для того, чтобы отточить свое перо. Прибавим сюда колкости из повседневного обихода. Академика Флориана, проходившего с выглядывавшей из кармана рукописью, он приветствовал словами: «Смотрите, Вас легко обокрасть тому, кто Вас не знает».
Все это приносило ему не одни только литературные неприятности. Не надо забывать, что многие из тех, с кого он писал свои портреты, приобрели политическую власть, возвысившись как якобинцы. Между тем хорошо известно, что в такие времена можно поплатиться головой и за более невинные шутки.
В этом отношении мы можем отдать должное и тому, насколько долго Ривароль, уже утратив все иллюзии, но продолжая отстаивать свою позицию, оставался в Париже. Он покинул город только 10 июня 1792 года, за несколько дней до того, как населявшая предместья чернь вторглась в Тюильри и натянула королю на голову красный колпак. Накануне Ривароль подал королевскому интенданту ла Порту свою последнюю записку, озаглавленную «У кратера вулкана». Совсем скоро ла Порт, а также несколько сослуживцев Ривароля лишились головы. Это и в самом деле был последний момент для того, чтобы через черную лестницу покинуть дом, в двери которого уже стучались террористы: «Где тут этот великий человек? Сейчас мы его малость укоротим». В отличие от многих своих товарищей по несчастью Ривароль не делал из нужды добродетель и не восхвалял эмиграцию как радикальное средство. Для него она была вопросом не благородства, а скорее трагического выбора. И медлил он с отъездом именно потому, что видел в ней средство слишком слабое. Главное, он не совершил ошибку Кориолана — не стал заставлять Отечество каяться в том, чему виной дух партийности.
12
«Политика — это все», — сказал Ривароль Шендолле в одной из гамбургских бесед. Слова эти приводят на память наполеоново: «Политика — это судьба». Тем не менее политические воззрения Риваро-ля трудно определить точнее, поскольку в годы, когда они вызревали, в этом деле не обходилось без противоречий. Обстоятельства были причиной тому, что они формировались как индуктивным путем, так и дедуктивным: индуктивным в той мере, в какой он внимательно следил за Революцией с самого ее начала и выносил о ней свои суждения; дедуктивным — поскольку все время пытался разработать теорию, систему политического искусства. Методы эти дополняют друг друга. И оба они не получили завершения, потому что Риваролю не удалось ни дожить до завершения Революции, ни достроить до конца свою систему.
В том, что мнения формируются не сразу, а как бы слоями и в несколько приемов, состоит отличительная черта эпохи, когда плотины рушатся одна за другой. Такую особенность мы обнаруживаем и у Шатобриана, и даже у такого систематика, как Сиейес. То же продолжается и в первой половине XIX века; типичные примеры — Геррес, чье лицо в старости представлялось современникам полем битвы разнообразных идей, или такой мастер внезапных разворотов, как аббат Ламенне.
Другие времена и страны более благоприятствовали развитию идей. Монтескье, которому Ривароль многим обязан, до того как написал «О духе законов», имел возможность собирать материал в многолетних путешествиях по странам Европы. Берку на пользу пошло островное положение: Англия всегда была классическим наблюдательным пунктом для созерцательного ума. Согласно давнему, ныне уже устаревшему правилу, ее политике соответствовал статус противника Франции как второй по могуществу морской державы. Это вполне вытекало из ее внешнего расположения; но много глубже, в самом ее характере, укоренена позиция, которая вновь и вновь будет вести ее к противостоянию Франции как самой могущественной революционной державе. В этом стремлении она пойдет даже против очевидных своих интересов. Из этого ее характера, противящегося велениям времени, следует и то, что войны свои она всегда затягивает, ведет подолгу. Тут проявляется ее консервативность.
В сущности, Ривароль, вопреки превратностям эпохи, оставался верен самому себе, даже когда менял свои взгляды на действительность. Внезапные, а тем более скандальные повороты были чужды его гармоничному характеру даже там, где в его сочинениях угадывается весьма жаркая работа. Своеобразие его писательской деятельности состояло в том, что она ограничивалась в основном публикациями в журналах, расплодившихся в те времена в большом количестве. Прежде всего это относится к «Journal politique national»,[12] первый номер которого вышел 12 июня 1789 года, и к знаменитым «Actes des Apôtres»,[13] где деятели Революции изображались апостолами новой религии. С самого первого дня Ривароль решительно выступил против Революции.
«Деяния апостолов», выходившие на протяжении четырех лет, предшествовавших бегству Ривароля, сегодня, оглядываясь назад, мы перелистываем, не переставая изумляться. Третий выпуск, напечатанный «a Paris, l'an de l'anarchie Iesuper»,[14] начинается «сравнительным описанием», в котором излагается история несчастного английского короля Карла I. «Королева, ставшая мишенью оскорблений и преследований, предприняла меры для бегства на континент». Шестьдесят первый номер посвящен первому заседанию Якобинского клуба: воодушевление грандиозно, «но экстаз, как известно, не в ладах с памятью».
Нынешнему читателю такие дерзости кажутся еще более удивительными, чем современнику, потому что образ Революции со временем сгущается и теряет переходные оттенки.
Сегодня мы все же понимаем, что пагубные явления вовсе не были массовыми, что всегда оставались какие-то лазейки, островки, на которых можно было чувствовать себя более или менее безопасно, по крайней мере, тешиться такой иллюзией. Были люди, которые еще какое-то время пользовались покровительством, были дома и кружки, за пределы которых еще ничто не выходило, была, наконец, та вселенская неразбериха, что на недолгий срок порождается абсурдностью всех революционных событий. «Долго так продолжаться не может», — говорит здравый человеческий рассудок. Его суждение, быть может, и верно, но чересчур оптимистично, потому что поразительно как раз то, сколь долго могут в действительности длиться так называемые временные ситуации. Подобными настроениями и сопутствующими им надеждами и слухами питаются недовольные и преследуемые, объединенные в более или менее открытые группы; ими живут журналы, закусочные и даже кабаре. Кроме того, какие-то волнения даже отрадны для власть имущих, они опасаются их меньше, чем анонимного безмолвия, посреди которого чувствуют себя неуютно. Волнения облегчают работу полиции. Ривароль рассказывает, что в один из часто посещаемых им погребков она даже подсылала провокаторов, чтобы оживить разговор. И Геббельс в своем послесловии к резне 1934 года говорил, что мышей надо неустанно выманивать из нор.
Революции развертываются не по логической схеме, а подобно органическим процессам, в которых больше задействована не голова, а вегетативная система. У них есть свои «дни», свои спазмы и сдвиги, не предусмотренные планом, а начинающиеся, когда что-то в них срабатывает случайно: глухие пересуды, паника, какая-то уличная потасовка, базарная ссора, внезапное нападение. В других кварталах тем временем жизнь идет своим чередом; разносится почта, обыватели по привычке заходят в кафе. Весть о взятии Бастилии доносится до Версаля лишь к вечеру; королю дело представляется рядовым мятежом. С 14 июля до того самого5 октября, когда Людовик XVI охотится в Медонском лесу, двор остается в полном неведении относительно происходящего. Зловещее впечатление производит то, как нагнетается давление рока. Мишле приписывает это гению народа. Макиавелли говорит: «Когда судьба хочет произвести великий переворот, она порождает людей, способных ускорить крушение существующего порядка. Если кто-нибудь встает на пути ее решений, она либо умерщвляет его, либо лишает всякой возможности поправить дело».
Это, пожалуй, верно. Возможно, жизнь Мирабо оборвалась бы и без болезни. Сколько людей, зачастую словно в лихорадке, перебирало в уме мельчайшие подробности тех дней, определивших нашу дальнейшую судьбу! Что делал Лафайет в тот пасмурный октябрьский день и что ему следовало делать? Размышления начинаются еще в гуще самих событий, вплетаются в них и в таком переплетении появляются в брошюрах, журналах и докладных записках, в письмах к королю, к Национальному собранию, Мирабо и Неккеру, какие писал и Ривароль. Но бывает, что человек не в силах противиться течению и неизбежно тонет в нем. Ведь в такие дни даже отсутствие энтузиазма считается преступлением.
И тем не менее всегда найдутся люди, отличающиеся ясным пониманием происходящего. Превосходным примером здесь может служить Ривароль. Слепое воодушевление было противно его характеру, и то, насколько разумно, насколько нравственно то или иное действие, зависело, с его точки зрения, не от одобрения большинства или даже всех свидетелей. Пусть он и не считал, что здравый человеческий рассудок всегда имеет решающее значение, он тем не менее видел в нем не способность, присущую всем, а наоборот, редкое Исключение, подобное состоянию полного равновесия, которое отображается на весах только в какой-то один момент. Последние годы пребывания в Париже, несмотря на все тревоги, принесли ему большую пользу. Теоретик, не ощутивший на себе всю серьезность ситуации, подобен фехтовальщику, никогда не дравшемуся без предохранительной ваты. Клаузевиц не был бы Клаузевицем без опыта, приобретенного на поле битвы, как и Макиавелли немыслим без страда-ний, пережитых во флорентийских распрях. Когда за гражданской войной наблюдаешь из эмиграции, ты не можешь составить о ней правильного суждения, и Ривароль высмеивает подобные заблуждения в вымышленном диалоге двух бежавших в Брюссель архиепископов.
Напротив, сообщения о первых шести месяцах Революции, публиковавшиеся в «Национальном политическом журнале», представляют собой свидетельства очевидца, старающегося строго выверять свои суждения. Их ценность подтверждается уже тем, что Берк пользовался ими как основными источниками во всем, что касалось как фактов, так и аргументов. Позднее, в «Деяниях апостолов», полемика приобретает черты партизанской войны. Зрелище начавшихся бесчинств придало остроты не только суждениям Ривароля, но и позиции многих других европейцев. Его собственное рвение в эти годы можно вслед за Лекюром объяснить тем, что он был королевским уполномоченным in extremis.[15] Только когда король признал себя побежденным, Ривароль задумался о своей собственной безопасности.
В Брюсселе, своем первом пристанище на чужбине, он начинает литературную деятельность «Письмом к французскому дворянству», которое должно было смягчить впечатление, произведенное манифестом герцога Брауншвейгского. Несмотря на все треволнения и интенсивную общественную деятельность последующих лет, Ривароль постоянно работал над двумя обширными проектами: своим словарем и теорией государственного управления, в которой он намеревался дойти «до самого истока принципов». Оба труда, как уже было сказано, известны нам только фрагментарно, однако фрагменты эти в достаточной мере характеризуют духовный облик автора.
Нельзя, однако, сказать, что об этом облике сформировалось твердое мнение. Это объясняется как многообразием точек зрения, так и противоречиями в трудах самого автора, но прежде всего тем, что великие конфликты, в пламени которых жил и творил Ривароль, все еще тлеют, все еще причиняют боль. Мы не можем говорить о нихс надлежащим хладнокровием, не можем их рассматривать как нечто уже завершившееся; наши оценки всегда имеют партийную окраску. Полемика с Риваролем и о Ривароле способна уже заполнить небольшую библиотеку. И когда мы заглядываем в нее, у нас часто создается впечатление, что за деревьями тут не видят леса.
Ведь своеобразие идей Ривароля состоит не в их новизне и не в том, что в них содержатся какие-то неожиданные решения. Скорее, они типичны для образованного европейца той эпохи. У многих лучших ее умов, сознававших свою ответственность, мы находим свойственное Риваролю желание сохранить связь с прошлым и продолжать строительство по чертежам прежней культуры. По мере развертывания революционных сил и после начала парижских событий это желание только усиливается. Похоже, в эту воронку будет засасывать без конца, покуда люди не будут ввергнуты в варварство. Сжатие столь велико, что можно ожидать сильных взрывов, грандиозных разрушений. Уже нависла тень международных войн. В этом хаосе крушений, но в то же время и прорывов, высвобождающем массу теологических, философских, национальных, социальных, романтических идей, стремящихся сложиться в систему, классическое мировоззрение менее всего может рассчитывать на вдохновенное сочувствие. В своем стремлении привести к равновесию традицию и свободу оно неминуемо вызовет раздражение и у правых, и у левых. При этом внутренние разногласия есть и в нем самом, если принять во внимание такое рискованное предприятие, как «Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства» Вильгельма фон Гумбольдта. Уверенность Гете в том, что только «спокойное образование» позволит нациям развиться до полной зрелости, пожалуй, разделяют все. Но насколько трудно бывает даже высочайшему авторитету защищать столь простую максиму, видно по нападкам на Гете, в которых националисты соревнуются с либералами. Он с самого начала был под подозрением, не снятым и по сей день. В другом месте он говорит: «Не так-то просто справиться с заблуждениями эпохи: будешь с ними бороться, останешься один; пойдешь у них на поводу, не будет тебе ни чести, ни удовольствия». Подобные, только более резкие, замечания разбросаны в дневниках Грильпарцера.
Конституционная, но сильная королевская власть, дворянство как просвещенное сословие, церковь как охранительная сила, авторитет которой должен признавать каждый, даже если внутренняя свобода позволила ему перерасти догматические границы, — в проведении этих основных идей Ривароль, без сомнения, последователен, но не оригинален. Они роднят его не только с духовной элитой, но и с настроениями более широких кругов, в памяти которых они сохранились. Ведь идеи эти были включены во все европейские конституции девятнадцатого века.
Своеобразие и уникальность нашего мыслителя проявляется, скорее, в формулировке идей, в придании им сжатой и выверенной формы. Иногда они поражают блеском, иногда убеждают своей экономичностью, подобно движениям танцора, на один миг вступающего в круг, чтобы показать неподражаемую по исполнению фигуру. Чувствуешь, что можно только так, и никак иначе. Ничего нового не говорится, просто давно известное сводится в краткую формулу. Ведь танцор и не может указать на что-либо большее, что-либо иное, чем человеческое тело.
Ривароль не стремится наделить государство новым смыслом, он стремится извлечь из него то разумное содержание, которое издавна ему присуще и в котором оно нуждается, для того чтобы существовать. Замысел Ривароля состоит в том, чтобы освободить от исторических напластований то, что значимо везде и всегда, как выплавляют из руды чистую медь. Затем следует чеканка, которая делает его высказывания похожими на монеты. А ценность этим монетам придает не столько герб и изображение правящего монарха, сколько чистый и полновесный металл.
13
То, как Ривароль высказывается о народе, едва ли удовлетворит сегодняшнего читателя. В глаза прежде всего бросится сухость, граничащая с равнодушием. Словом этим у Ривароля именуется то, что он как «corps social»[16] противопоставляет государству как «corps politique».[17] Выражения «peuple», «bourgeois», «citoyen», а также «populace»[18] он употребляет в связи со всевозможными бесчинствами, слово же «public»[19] — там, где говорит о народе как выразителе общественного мнения. В населении Парижа он угадывает черты народных масс XIX века: «Париж — ничье отечество». У него можно найти взгляды, подобные тем, что спустя сотню лет были конкретизированы в социологии ле Бона. С точки зрения Ривароля, народ никогда не достигает совершеннолетия, не покидает пору детства, он часто бывает свиреп и всегда крайне легковерен. Он следует чувственным побуждениям. Говоря о народе, Ривароль всегда противополагает два полюса: он считает его некой стихийной силой, неизменно вызывающей в уме идею формы. Он подразумевает при этом правительство и государство, как мореплаватель думает о корабле и кормиле, когда говорит о море, а земледелец — о плуге, когда говорит о земле.
Это все еще кабинетное умонастроение XVIII века: управлять людьми — строгое искусство. Но главное в том, что Ривароль еще четко различает народ и государство. Это обеспечивает ему большую непринужденность, чем его нынешним читателям, для которых само это слово стало отчасти табу, отчасти критерием партийной истины.
Поэтому мы не находим у Ривароля и того раздражения, которое у одаренного одиночки вызывает толпа и которое непрерывно возрастает на протяжении
XIX столетия. Фраза наподобие бодлеровской: «Денди обращается к народу в лучшем случае ради того, чтобы над ним поиздеваться» — никогда не могла быть произнесена Риваролем. В таких замечаниях проявляется растущая отдаленность художника от народа, т. е. от вышедшей из революции буржуазии с ее интересами, — пропасть, достигающая максимальной глубины у Ницше в его суждении о «слишком многих».
Такое поведение гениального индивидуума уравновешивается, с другой стороны, все более акцентируемым эмоциональным отношением к народу, из которого рождаются хорошо известные, составленные в стиле лозунгов фразы вроде: «Народ — все, ты — ничто». Когда народ начинают настолько превозносить в общественном мнении, во всем оправдывать, считать ко всему способным, на деле он вырождается в полное ничтожество. У Ривароля было куда менее высокое мнение о народе, но именно поэтому народ фактически представлял собой для него нечто большее.
За прошедшее с тех пор время такие отношения проникли в сферу актуальной практики, повседневного опыта. Человеку, проходящему мимо какого-нибудь «народного предприятия», и во сне не может присниться, что там, за оградой, ему начисляются дивиденды. Никто не ожидает и того, что заседатели «народного суда» станут рассматривать его дело с какой-то особенной благосклонностью. Скорее, каждому ныне понятно, что все эти слова стоят дешевле краски, которой они написаны. В этом отношении за науку уже заплачено.
Пусть и в совершенно другой исторический ситуации, перед человеком сегодня вновь встает проблема Вильгельма фон Гумбольдта — «определить границы государства». Это возможно лишь в том случае, если мы умеем отличать народ от государства. Иначе поток выходит из берегов.
Но, хотя Ривароль и знал, как это делается, нам нельзя возвращаться к его позиции. Наша задача в том, чтобы дать старому слову «народ» новое наполнение, и эту задачу невозможно передоверить каким-либо прошедшим временам. Путь, по которому идет развитие нашего мира труда, более благоприятен для ее решения, чем индивидуализм минувших столетий. Но ее нельзя решить без помощи теологии, ибо только благодаря ей человек осознается не просто как «ближний», но как «свободный» и «равный» и потому может быть вызволен из своей отъединенности, о которой свидетельствуют ужасающие явления нашего нынешнего мира. Среди писателей это лучше всех понимал Достоевский.
14
Точность выражения относится к средствам, коими располагает человек, более развитый в духовном отношении, но слабый физически, не имеющий сил пускаться в продолжительные дебаты. Несмотря на все свои выпады, Ривароль находится в положении обороняющегося, ему приходится беречь резервы. При этом нужно учитывать, что он не только отстаивает проигранное дело монархии в качестве ее адвоката, но и борется за свое собственное дело. Уже Сент-Бёв видел здесь противодействие образованного ума нивелирующим силам, пугающим его своей нарастающей мощью. Мы можем дать еще более точную формулировку, сказав, что в случае Ривароля художник вступает в борьбу с силами эпохи, с самого начала ощутив исходящую от них смертельную угрозу.
Здесь художник выходит в широкую область, где встречается с государством и власть имущими, где возникают волнующие его вопросы свободы, надежности и защиты. Художника можно рассматривать как человека, владеющего огромным богатством, который именно из-за этого богатства находится в большой опасности. Просто удивительно, как часто глубокое видение мира и наполняющих его сокровищ сочетается в художнике со слепотой в отношении собственного его положения. Сюда относится и его участие в тех движениях, что, направляясь к свободе, на самом деле ведут к полной нивелировке. Можно привести сколько угодно примеров, когда на своем пути он лишается либо головы, либо, что еще хуже, творческой силы. Впрочем, стремление к свободе — черта общечеловеческая, и действие ее достигает кульминации и затем сходит на нет благодаря действию противовесов. Ее можно обнаружить в жизни почти каждого художника, хотя далеко не всегда в таких чисто политических аспектах, как это было у Достоевского.
Ривароль с самого начала трезво смотрел на эту проблему, и слово «свобода» мало волновало этого человека, который сам жил такой свободной жизнью. Он всегда спрашивал, кто именно произносит это слово и что он под ним понимает. Он чувствовал, что обществу, стремящемуся к свободе лишь ради всеобщей нивелировки, художник не нужен, что в нем он обречен иссохнуть от жажды, обречен на вымирание. Он знал также, что нет ничего хорошего, если богатство делается анонимным и становится функцией аппарата, управляемого армией безымянных функционеров. Художник связан зависимостью с тем, что в мире существуют знатоки, любители, дилетанты, коллекционеры, меценаты, владетельные особы, которые, помимо одних только жизненных удобств, заинтересованы также в более утонченной, более красивой, более одухотворенной жизни, и что расточительность здесь может сделаться добродетелью. Это предполагает наличие известного числа праздных людей, а также наследуемое богатство, утонченность наслаждений и суждений — зрелый плод предшествующих поколений. Этому богатству Ривароль противопоставляет его варварскую форму — огромные состояния, сколачиваемые сборщиками налогов и военными поставщиками.
В той же мере, что и унификация общества, его, по-видимому, тревожил подъем национального государства. В этом явлении он не мог не видеть ослабление монархии, войска, сословий, провинций, да и самих наций — всего лишь количественный и, в конечном счете, иллюзорный рост за счет субстанциальной основы. По достоинству это можно оценить, пожалуй, только сегодня, когда национальное государство уже близится к закату.
Риваролю было важно многоцветье палитры, а не ее размеры. Несомненно, у многих имеются свои причины способствовать всеобщему выравниванию, но все же это задача не для художника. Ему надлежит поставить на кон более высокую свободу, чем та, которую защищают властители. Он находит ее в себе. Он живет вне всяких границ и должен избегать становиться на путь, ведущий от статуса национального поэта к роли государственного служащего, призываемого по случаю праздников и получающего за это пенсию. В конце этого пути — продажное умение и оплачиваемое вдохновение, а на заднем плане курится чад живодерни.
15
Ко внешним обстоятельствам нужно еще добавить, что сначала Ривароль переселился в Брюссель. Там он оставался до весны 1794 года, когда к городу подошел Пишегрю со своей армией. В Брюсселе он вел привычный для себя образ жизни, занятый своими планами, публикациями и поисками более или менее порядочного общества эмигрантов.
Следы пребывания в Брюсселе обнаруживаются в литературе тех лет, например в «Замогильных записках» Шатобриана или в переписке Ферзена с королевой. В сдержанном отношении Ферзена к Риваролю отражается та осторожность, с которой все истинные легитимисты, а также церковь с давних пор встречали поддержку со стороны литераторов. В ней сказывается предрассудок, питаемый старым солдатом в отношении вольноопределяющегося, а кроме того опасение, что в подношении скрыто обоюдоострое оружие и что оно обернется данайским даром. Возможно, такие чувства были справедливы, ведь, если позиция взвешена и обдумана, она не будет уже являться искренней и спонтанной. Между тем все связи между людьми, основанные на преданности и клятве, подвержены воздействию времени. Случаются кризисы, требующие либо разрыва этих связей, либо их упрочения на более продуманной основе. Если последнее удается, единство может стать еще более монолитным, чем прежде.
Люди живого ума, подобные Риваролю, несомненно, были тогда более важны для сохранения монархии, чем косные роялисты вроде Ферзена, совсем недавно руководившего внесением поправок в манифест герцога Брауншвейгского. В оценке ситуации здесь допущена ошибка, тридцать лет спустя повторившаяся в ордонансах Полиньяка. Между тем в поворотные моменты истории столкновение абсолютно завершенных характеров с характерами открытыми происходит снова и снова; те и другие относятся к числу исторических фигур, выступающих под все новыми и новыми масками. Достаточно хотя бы почитать, что старик Марвиц писал о Гарденберге. И даже о таком консерваторе, как генерал Йорк, которому прусская монархия была обязана столь многим, в придворных кругах говорили, что ему, собственно говоря, следовало бы покончить с собой после Тауроггена.
Из Брюсселя Ривароль через Голландию перебрался в Лондон, где, несмотря на горячий прием со стороны Питта исвоего почитателя Берка, пробыл лишь несколько месяцев. Кажется, этот город не пришелся ему по вкусу и он не нашел там поддержки, в которой нуждался. Он продолжил осматриваться в поисках места, которое обещало бы стать прибежищем на длительный срок. Такая возможность представилась в Гамбурге, куда его сестра Франсуаза перебралась в компании Дюмурье, за которым последовала в ссылку. В ее доме, а также у м-м де Нёйи и в других домах собиралась роялистская эмиграция. Ривароль обрел здесь плодородную ниву. В Гамбурге проживал и французский издатель Фош, с которым был заключен выгодный договор о публикации задуманного словаря. Первая часть обширного «Предисловия» вышла в свет в 1797 году и имела большой успех.
Ривароль поселился в маленьком домике в Гамме, одном из пригородов Гамбурга. Здесь он посвящал свое время размышлениям о высшей и всеобщей грамматике, если не проводил его в долгих прогулках или в многочасовом и нередко весьма напряженном общении. Его он ограничил рамками французской колонии или, лучше сказать, кругом слушателей-французов, поскольку зависел от их пазумения и в еще большей степени от проявляемого ими тонкого чутья, каковое приобретается только на почве родного языка. По этой причине не состоялась и встреча с такими знаменитыми немцами, как Клопшток и Клаудиус, хотя он жил с ними чуть ли не по соседству. Кроме того, обитатели Гамбурга были больше расположены к либеральной оппозиции: Лафайета они приветствовали с восторгом.
Ривароль не был особенно разборчив в своих знакомствах, лишь бы они удовлетворяли его интеллектуальным притязаниям. Он общался с такими одиозными личностями, как Тилли и ему подобные, из-за которых в Германии про эмиграцию пошла дурная слава. Такое впечатление отразилось в одном из дошедших до нас писем Якоби. В оппонентах у Ривароля не было недостатка и в Германии, поскольку многие из тех, чьи портреты он набросал в «Альманахе великих людей» или в других своих произведениях, за истекшее время тоже успели эмигрировать. В Гамбург переселилась, к примеру, и м-м де Жанлис, на чьей персоне он неоднократно испробовал остроту своего ума. По-видимому, именно в ту пору такое общество, в котором неразрывно сплелись люди самых различных убеждений, с легкой руки Арндта, стали называть «клубком эмигрантов». Шатобриан делил его на категории. Ривароля он причислял к «émigration fate»;[20] стало быть, как и де Линь, он не заметил в нем ничего, что лежало бы глубже поверхностной пленки дендизма.
Не было в Гамбурге недостатка и в огорчениях. К тому же затянувшаяся работа над словарем привела к разногласиям с издателем Фошем. По-видимому, все это побудило Ривароля в конце 1800 года положить конец своему пребыванию в Гамме и переехать в Берлин. Эмигрант ведет кочевой образ жизни, где в обычае время от времени разбирать шатры. Эмиграция — это жизнь в гостях. В Берлине перед ним, членом Академии, тоже распахивались двери именитых домов, в том числе и особняка г-жи фон Крюденер. Общался он и с княгинями Голицыной и Долгорукой, с которыми был связан узами дружбы.
Мы располагаем множеством свидетельств об этом блестящем берлинском периоде, который, однако, уже 5 апреля 1801 года закончился смертью Ривароля. Тяжелая простуда свела его в могилу. Тело его, как свеча, зажженная с обоих концов, ослабленное и неустанной умственной деятельностью, и стремлением к наслаждениям, сопротивлялось лишь недолгое время.
Антуан де Ривароль был похоронен на городском кладбище Доротеенштадта; место погребения скоро было забыто. Когда Фарнхаген фон Энзе попробовал разыскать его там в 1856 году, ему это уже не удалось.
Слава Ривароля пережила его самого. Жизнь, подобная прожитой им, бывает облагорожена трудом, который, как жемчужина — раковине, придает ей смысл и достоинство. Среди старых и новых авторов он останется образцом бесстрашной, но при этом тщательно продуманной позиции, в которой одиночка противостоит потоку времени, грозящему поглотить всех и вся, на что отваживаются лишь немногие умы и сердца. «Он оснастил и украсил разум оружием духа», — сказал один из его биографов, и фраза эта могла бы стать эпиграфом к его трудам.
16
Вернемся еще раз к вопросу, поставленному вначале: каким значением автор, стремившийся в одиночку противостоять Революции in statu nascendi[21] и умерший сто пятьдесят лет назад, обладает в наше время? В такое, стало быть, время, когда именно эта Революция восторжествовала во всех своих последствиях и на всех фронтах, на отдельных территориях и в планетарном масштабе, в теории и на практике, в человеческих обычаях и институтах?
Давно уже пошли на дно великие империи, возводившие заградительные валы перед ее идеями, — Пруссия, Австрия и Россия, к коим можно присовокупить и Турцию; и то обстоятельство, что они едва ли не в один день были обыграны на обеих сторонах шахматной доски, позволяет представить себе всю нивелирующую мощь неотразимой атаки. И если здесь эта атака наводит на мысль о механических разрушениях, скажем, о разбитых коронах, то в других, избегающих каких бы то ни было перемен империях она осуществляется скорее химическим путем, приводя к более тонкому распаду. Это касается пространства, но и во времени идеи 1789 года в тот или иной момент торжествуют над силами реставрации и персонификации, над создаваемыми из масс империями, над восстанавливаемой монархией, буржуазным королевством и консерваторами-собственниками. Дворцы разрушены или превращены в музеи, даже если в них все еще можно встретить королей.
Выражение «консерватор» не принадлежит к числу удачных словообразований. Оно соотносит человеческие характеры со временем и ограничивает волю человека стремлением удержать отживающие формы и состояния. Но тот, кто еще хочет что-либо сохранить, сегодня заведомо слабейший.
Поэтому мы поступим правильно, если попытаемся вырвать это слово из рамок традиции. Речь идет скорее о стремлении найти или вернуть то, что всегда лежало и будет лежать в основе всякого жизнеспособного порядка. Но такая основа есть нечто, лежащее вне времени, к чему нельзя прийти ни отступая назад, ни продвигаясь вперед. Все общественные движения лишь вьются вокруг нее. Меняются только их названия и используемые средства. В этом отношении нужно согласиться с определением Альбрехта Эриха Гюнтера, понимающего консерватизм не как «пристрастие к тому, что было вчера, а как жизнь на основе того, что всегда действенно». Но быть всегда действенным может только то, что не подвластно времени. Неподвластное времени сохраняет свою действенность, даже если с ним не считаются, причем в последнем случае — действенность самую пагубную.
Стремление удержать неудержимое обрекает консервативную критику на бесплодие, которое часто сопровождается великолепием и утонченностью ума. Мы словно входим в полуразрушенные дворцы, уже никем не заселенные. Именно такое чувство пробуждают сегодня труды Шатобриана, де Местра, Доносо Кортеса, а равно и Берка, столь сильно повлиявшего на немецких романтиков. Быть может ведомый тем же чувством, Ницше сформулировал свой парадокс: то, что падает, нужно еще подтолкнуть; ведь планирование и в самом деле должно предшествовать возведению зданий. На том же основании еще Леон Блуа называл себя «устроителем работ по сносу», но сегодня и ему пришлось бы закрыть свое предприятие.
Мы и сегодня можем видеть молодых людей, занятых бесплодными попытками восстановить, к примеру, монархию. Французы в этом отношении уже прошли хорошую школу, и всем нам следовало бы успокоиться в эпоху, когда больше нет ни монархов, ни подходящих для монархии народов. В столь бурные времена доминирует решительный и волевой дух, который как раз в старых семействах искать напрасно. Ныне сомнений не вызывает только то, чего удается добиться на деле. Жаль, но ввиду этого наследственная власть теряет силу. Харизма передается по наследству, удача — нет.
Среди консервативных мыслителей Ривароль выделяется своим трезвым рационализмом. Поэтому труды его — скорее даже не в части выводов, а в самих началах его мышления — могут дать хороший импульс всем задумывающимся о том, как в ситуации tabula rasa можно вновь удобрить почву перегноем и создать что-то непреходящее. Такая идея назрела настолько, что к ней начинают обращаться даже в Америке, о чем можно заключить по тому вниманию, которое привлекли к себе работы Рассела Керка.
Но можно ли говорить о tabula rasa в то время, когда в мире возводится небывалое множество новых зданий, прежде всего титанические городские постройки? Можно, поскольку и закладка фундамента вызывает неслыханные прежде опасения, дающие о себе знать в повсеместно распространившемся ощущении, что все это может быть сметено с лица Земли одним ударом. Оборот растет за счет капитала, движение ускоряется за счет субстанции; мы висим над землей, словно прикрученные болтами к воздуху. При всех возможных гарантиях и при том растущем значении, которое придают гарантированной безопасности, нет все же последней гарантии — гарантии доверия — ни друг к другу, ни к Провидению, а именно таким доверием и характеризуется подлинный порядок.
Другой вопрос, может ли основной капитал мира вообще уменьшиться или даже быть полностью исчерпан людскими усилиями, или же он подобен золотой жиле, которую мы просто потеряли из виду. Казалось бы, именно об этом говорит чудо с умножением вина и хлебов или слова древних о том, что боги вотще даруют нам наилучшее. В таком случае разрушиться могли бы только человеческие порядки, но не порядок самого мира. Доверие к такому порядку, даже когда кажется, что все уже потеряно, и есть в действительности основная черта консервативного мышления.
Что касается золотой жилы, то вокруг нее-то все и кружат, как вокруг места, которое скрылось от глаз, но все еще угадывается сердцами. Нашему времени свойственно искать вечные образы, стоящие за человеческими порядками и их чередованием. Ему недостает не короля, а скорее отца, которого король как раз и символизировал. Именно из-за тоски по отцу республики и диктатуры любовно стремятся придать большую глубину поверхностным и зачастую попросту устрашающим личинам власть имущих, предоставляя им права, которых не было ни у конституционных, ни у абсолютных монархов. То же справедливо и в отношении аристократии, всюду утратившей свою былую власть. И все же общество повсюду занято поисками избранных, образцовых фигур. В конце концов, всякий культ может ослабнуть и обессмыслиться, но человеку во все века будет не хватать того света, каким он был озарен, и всегда он будет смутно догадываться, что родина его — в бесконечном.
Точно ли мы знаем, что такое отечество? Известно, что смысл этого слова изменился с образованием национальных государств, потребовавшим столь многочисленных жертв. И ныне вновь намечается формирование еще более обширных обитаемых пространств, понимаемых не только как территории, но и как духовные пространства. Глаз не видит того, что прежде не было усмотрено разумом. В какой-то день отечеством для нас может стать вся Земля, — конечно, не в том смысле, в каком это представляли себе космополиты прошлого. Неудивительно, что путь к этому моменту окажется еще более запутанным и трудным, чем переход от земельных княжеств и феодальных владений к национальным государствам.
Таким переменам предшествует ряд неизбежных явлений, вызываемых давлением фактических обстоятельств, подобных, например, сегодняшней технике с ее пространственным голодом. Человек силой впечатывается в новое. Оно накладывает на его физиономию свой отпечаток. Но он не может принять это новое, примириться с ним только потому, что оно более целесообразно, более практично или более сильно. Он должен вступить с ним в какую-то связь. И связь эту он черпает не из истории, а из своего собственного вечного и всегда истинного содержания. Там, где оно приходит на подмогу, акты основания сменяются актами учреждения. И повсюду требуются жертвы.
17
К отличительным особенностям нашего времени относится то, что сегодня на основные фонды больше претендуют, больше нацеливаются революционные движения, а не охранительные. Именно в этом, а не в злободневных лозунгах заключена тайна всеобщих рукоплесканий.
Характерные для этого времени напряженные усилия сосредоточиваются вокруг старых истин, и, только когда последние явятся в современных одеждах, сможет завязаться новая традиция. Трудности в подборе адекватной замены слову «консервативный» носят не этимологический, а гораздо более глубокий характер. Новое слово нельзя придумать, оно должно родиться само и обязательно быть принято всеми, когда в нем сольется сияние старой и новой истины. В сущности, существует только одна истина, как и у человека может быть только одно здоровье.
Консерватизм — это не реставрация, ибо реставрируются сегодня как раз идеи 1789 года, вместе с их символами и учреждениями; идеи сильно износившиеся, часто уже едва уловимые. Конечно, даже поношенная одежда лучше, чем полное ее отсутствие. Ведь за истекшее время мы стали скромнее и знаем, что наша безопасность — и как приватных людей, и как граждан государства — имеет свои границы. Мы понимаем, что наши конституции не опираются на реальный фундамент, а ткутся из материала идей, которые ныне, после великого поражения, у всех на устах. В общем-то, это больше соответствует нашему положению, чем если бы их пытались как-то приукрасить, подновить декоративный романтический свод. Они еще на какое-то время сгодятся. Есть и другие заботы, ведь, как сегодня догадываются многие, наши подлинные проблемы лежат не в политической сфере, а если какие из них и оказываются политическими, то вовсе не самые сложные. Такая политическая проблема, как воссоединение с немецким Востоком, уходит корнями в глубины нашей воли; если она достигнет ее основания, то непременно будет решена.
Мы испытываем большее беспокойство от других вопросов; размышляя, к примеру, о том, способны ли вообще политические усилия еще как-то препятствовать надвигающейся угрозе прорыва дамб совсем в другой области. Такой, казалось бы, рассудительный, такой позитивный человек XIX столетия настолько широко распростер свои органы чувств, — причем не только благодаря науке, — что сфера их стала попросту необозримой. Живопись и хотела бы зафиксировать его образ, но может ли она изобразить г-на Немана, стремящегося побывать на Луне? Здесь обнажается разрыв между могуществом и бытием. Другой вопрос состоит в том, не объясняется ли это недоразумение не используемыми средствами, а скорее самим представлением о человеке, которое уже стало неадекватным, или еще вновь адекватным не сделалось. Тогда нам следовало бы либо соотнести эти органы чувств с новым, соразмерным им типом, либо поискать яркие образы в прошлом, к примеру в архаике или в мифах. Там все измеряется более высоким масштабом. Этим путем шли наиболее одаренные живописцы, но дело, в конце концов, идет о чем-то большем, чем просто о живописи.
18
Нанесенный традиции ущерб будет оцениваться по-разному, в зависимости от точки зрения и оттого, в какой мере движение и способность к развитию представляются необходимыми в лежащих перед нами отрезках времени. Если влияние классиков иссякает или сосредоточивается в музеях, это еще не означает, что наша молодежь перестала реагировать на слово и на заключенную в нем мощь. Ведь слову тоже нельзя дважды окунуться в одну и ту же реку. Оно наделяется непреходящим содержанием только там, где сливается с духом, в сфере невыразимого. В этом смысле слово есть неприступная крепость, средоточие традиции, и Ривароль не случайно уделял ему самое пристальное внимание.
Сегодня нет недостатка в попытках принизить ценность языка, развенчать его и превратить просто в некое коммуникационное средство. Но ему уже доводилось пережить и более горькие времена. Удивительно, что дремлющие в нем сокровища — причем в том, что касается самой их сущности, — могут быть выданы на гора людьми, работающими в одиночку. Когда великий историограф хочет воскресить события прошлого, он извлекает из недр истории тот или иной осмысленный образ. Когда же поэт занимается обновлением языка, он создает одновременно и сим-волы, и прообразы, ударяет посохом о скалу, дает жизни родиться из недр духа. Там, где веками косневший под спудом язык вырывается наружу потоком огненной лавы, пробивается и тот источник, в котором прошлое и будущее ясны и слиты воедино.
МАКСИМЫ РИВАРОЛЯ
Политика
Власть есть организованная сила, соединение силы с каким-либо орудием. Вселенная полнится силами, которые ищут себе подходящие органы, чтобы сделаться властью. Ветер и вода — это силы; воздействуя на мельничные крылья или помпу насоса, служащие им орудиями, они становятся властью.
Этой разницей между силой и властью объясняется и то, как осуществляется господство в государстве. Народ — это сила, его правители — орудие; соединение их рождает политическую власть. Когда сила отторгается от ее орудия, исчезает и власть. Когда орудие пришло в негодность, а силы продолжают действовать, налицо только конвульсии, судороги и ярость; когда же народ отдаляется от своего орудия, т. е. от правительства, начинается революция. Господство есть власть, длящаяся во времени. Обретение господства предполагает наличие власти. Власть же, как единство орудия и силы, может обрести стабильность лишь благодаря правительству. У народа есть только силы, и эти силы, неспособные к сохранению, когда они отлучены от своего орудия, обращаются к разрушению. Цель же господства как раз в сохранении; и потому господство становится постоянным не благодаря народу, а благодаря правительству.
Царскую власть нельзя расплескать ненароком.
Право есть союз света и силы. От народа приходит сила, от правительства — свет. Права суть блага, основой которых выступает власть. Когда власть слабеет, ослабевают и права.
Народу нужны наглядные, а не отвлеченные истины.
Разящие взмахи монарших когтей по своей мгновенной мощи сходны с ударами молний, народные же восстания подобны землетрясениям, толчки которых расходятся в необозримые дали.
Для мужчины повиновение должно быть тяжелым, как щит, а не как ярмо.
Народ дарит свою благосклонность, но не отличается постоянством.
Цивилизованные народы отстоят от варварства не дальше, чем сверкающая сталь от ржавчины. У народов, как у металлов, шлифуется только поверхность.
Философию, как поздний плод духа, созревающий в пору жизненной осени, нельзя предлагать народу, всегда остающемуся в младенческом возрасте.
Для революций благоприятно сочетание обильной глупости со слабой освещенностью.
Противостоять мнению нужно с подобающим оружием, потому что против идей винтовки не помогают.
Воля — справный раб, прислуживающий то страстям, то разуму. Только она слишком часто впрягает все наши силы в колесницу страстей, с которыми внутренне связана. И слишком часто оставляет без подмоги разум. Похоть, жестокость, тщеславие — все они хотят; разум же просит или предписывает. Женщины всю жизнь живут в потоке желаний. Слабое желание называется прихотью. Когда от возраста чувств и страстей мы переходим к возрасту мыслей, воля слабеет, но именно в эту пору рождается политическая способность суждения.
Государство — одно из запутанных и многозначных понятий, к которым надо привыкнуть; собственно, другие нам и не известны. Человек не мыслим без почвы под ногами, государство — без почвы и человека в придачу. Всадника нельзя себе представить без коня, и понятие верховой езды включает в себя идею и коня, и всадника. Форма узды определяется размерами человека и лошади, подобно тому как форма правления — соотношением территории и населения.
Возможно, заговоры иногда и подготавливаются благоразумными людьми, но исполняются всегда только злодеями.
Там, где армия зависит от народа, государство рано или поздно попадет в зависимость от армии.
На смену правительству, которое было достаточно дурно, чтобы спровоцировать восстание, и недостаточно сильно, чтобы его подавить, революция приходит вполне закономерно, как болезнь, тоже представляющая собой последний шанс природы; однако никому еще не приходило в голову объявить болезнь добродетелью.
Гармония в государстве основывается на соперничестве и рвении, на градации от простого ремесленника до капиталиста, от рядового солдата до фельдмаршала. На двойной лестнице чинов и имущественного достатка каждый стремится догнать того, кого видит впереди себя и от кого отделен лишь одним рангом или одной тысячей фунтов. Такое честолюбие вполне разумно; философы же без всяких церемоний связывают друг с другом крайности, противопоставляя солдата маршалу, рабочего богачу. Отдача такая, что любого собьет с ног,
Государство — корпорация «мертвой руки». Поэтому все в нем подчинено ренте и извлечению пользы, и потому же в прежние времена говорили: «Король всегда остается несовершеннолетним, а монаршие земли неотчуждаемыми».
Философы любят основывать равенство на анатомических совпадениях. Из того, что нервы, мышцы и внешний облик двух горожан не отличаются друг от друга, они выводят их равенство — но путая сходство с равенством, можно впасть в роковое заблуждение.
Народ всегда полон желаний, из которых многие противоречат благу государства, поскольку народы никогда не выходят из детского возраста. Если он, как некогда евреи, покидает свою страну и следует за вожаком в пустыню, требуется волшебство, чтобы зачаровать его, и должны приключиться чудеса ради его спасения. Если он потом выбирает себе военачальника или царя, то в этом великом действе политики не больше, чем то бывает необходимо при избрании почетного председателя. Напротив, выбор того или иного по своему усмотрению большей частью проходит под несчастливой звездой.
Полная защищенность собственности и неприкосновенность личности — вот как выглядит подлинная социальная свобода.
Свобода вне общества не подразумевает безопасности, которую невозможно помыслить как без свободы, так и без общества.
Часто спрашивают, правители ли созданы для народов, или народы для правителей. Ответ прост: народы созданы для государства и образуют его тело, тогда как правительство представляет собой голову. То и другое существует для целого. Стрелки часов изготовлены не ради шестеренок, как и последние — не ради стрелок: те и другие предназначаются для часов.
Если государь набожен, то исповедник должен быть государственным деятелем.
Деспотические государства чахнут от недостатка деспотизма, как культурные люди от нехватки культуры.
В государстве арифметическое большинство нужно четко отличать от политического.
Природа вынуждает нас либо зарезать курицу, либо умереть от голода; на этом основываются наши права. Происхождение политических инстанций таково: из потребностей вырастают права, а из прав полномочия. Во Франции же народу отдали полномочия, на которые у него не было прав, и права, в которых у него не было потребности.
По мере того как народ расстается с суевериями, правительство должно повышать бдительность и строже следить за авторитетом и дисциплиной.
В Англии ум всегда более здрав, во Франции он удачливее в выражении; поэтому английский народ лучше в целом, тогда как во Франции скорее встретишь лучших людей.
У человека подчиненного вежливость — сословный признак, у благородного же она — признак воспитанности. Поэтому он, несмотря на революцию, сохраняет хорошие манеры, ведь по ним судят о его воспитании. Человек же из народа будет груб, чтобы доказать, что переменил сословие. Он сквернословит и наносит оскорбления, потому что раньше повиновался и подхалимничал: так он понимает равенство.
Абсолютный монарх может оказаться Нероном, но иногда бывает Титом или Марком Аврелием. В народе же часто виден Нерон и никогда — Марк Аврелий.
В спокойные времена слава определяется иерархическим порядком. В периоды революций она зависит от мнения черни; это время мнимых величин.
Как известно, если смотреть с Земли, движение остальных планет кажется беспорядочным и запутанным, и потому нужно переместиться на Солнце, чтобы постичь порядок всей системы. Подобным образом у частного лица суждения о государстве, в котором оно живет, менее точны, чем у того, кто стоит у кормила.
Господствующий в природе порядок удивителен. И все же в ее все перемалывающем шестеренчатом механизме гибнет множество насекомых, как в государствах — множество индивидуумов.
И для отдельного человека, и для целого народа большое несчастье происходит от слишком хорошей памяти о том, чем он когда-то был и больше уже быть не может. По этой причине современный Рим обзавелся консулами и трибунами. Но время подобно реке: оно никогда не возвращается к своим истокам.
В страстном возбуждении великий народ способен только на расправу.
Бывают времена, когда правительство утрачивает доверие народа, но вряд ли оно само хоть когда-либо может народу доверять.
Совершенное правительство могло бы в равной мере и изнасиловать разум, и образумить насилие.
Неблагоразумно и даже пагубно было бы советоваться с детьми об их будущем. Мы должны все решать за них и скрывать перед ними свою нерешительность, которая не только не придаст им новых сил, но и лишит всякого к нам доверия; точно так же дело обстоит с народами и их правительствами.
О Революции. Из всех французов мы были первыми, кто еще до штурма Бастилии обратил свое перо против Революции. Сам Берк признал это в своем замечательном, впоследствии опубликованном письме к моему брату, и мы этим гордимся. Не без опаски, но уверенные в том, что будем вознаграждены в своих убеждениях и своей совести, мы отважились вступить в борьбу в тот час, когда все еще видели в Революции великое благодеяние философии, высокую гармонию, плод Просвещения. Национальное собрание, чья власть основывалась на слабости короля, а высокомерие объяснялось столичной строптивостью, опьяненное успехами и фимиамом, расточаемым ему в провинциях и за границей, впадало в крайности и в своем ослеплении не догадывалось, какие плодывзойдут из его посевов и каких наследников оно себе воспитает.
Напрасно мы устно и письменно выступали в защиту религии, морали и политики во имя человечности и опыта всех прежних веков. Голос наш терялся в шуме грандиозной катастрофы; мы замолчали.
Наш политический журнал охватывает только первые шесть месяцев революции. Мощные удары уже были нанесены. Разум сначала оказался не у дел, а затем и сделался преступным. Король томился в заточении в Париже, дворянство и духовенство были разогнаны и обращены в бегство. Законы уступили место декретам, деньги — ассигнатам; якобинцы вели беспрерывные заседания. Чем еще могли помочь себе люди честного сердца и здравого ума в ситуации, когда надежды и виды на будущее сохранились только у бандитов да сумасшедших? Итак, нам пришлось эмигрировать, пока якобинцы еще предпочитали наше бегство нашей гибели, и идти со своей нуждой к тем правителям и народам, которые согласны были нас терпеть.
Судьба нации тотчас же отразилась и на войске. Несмотря на дворянское происхождение, многие офицеры жаждали больших или меньших перемен. Солдаты их до сих пор были просто механизмами, когда же они сделались демократами, офицеры превратились обратно в аристократов, как будто содействовали Революции лишь для того, чтобы быть истребленными ею. В самом деле, духовенство, дворянство, парламенты, все лучшие люди почти повсюду желали Революции, когда нация в массе своей еще была охвачена сном, — но когда она поднялась, повинуясь их призыву, им пришлось спасаться бегством или всходить на эшафот. Я не одобрял эмиграцию и покинул отечество только в 1791 году. Король хотел этого: мое перо могло сослужить службу его братьям. Я готов к тому, что за это мне не скажут спасибо.
Если революционным событиям суждено когда-нибудь повториться, то угнетенные вряд ли станут искать в наших статьях целительные наставления, злодеи же найдут себе образец в интригах якобинцев. В 1789 году мне доводилось видеть членов Законодательного собрания, прилежно изучающими Кларендона, в которого они до той поры и не заглядывали, — чтобы узнать, как Долгий парламент обошелся с Карлом I.Впрочем, поскольку человеческое себялюбие и страсти неискоренимы, я полагаю, что история ничему не учит ни королей, ни народы и что, если бы Людовику XVI повезло обрести продолжателей своего рода, его несчастье, его ошибки ровным счетом ни от чего бы их не предостерегли.
Вместо прав человека лучше было бы сформулировать принципы государства. Это следовало бы вменить в обязанность Учредительному собранию, которое, как известно, не учредило ничего, кроме наших несчастий. Но на этом пути ему пришлось бы опасаться критики; поэтому оно предпочло вооружить человеческие страсти, в особенности тщеславие, поставив во главу угла права человека и не подумав о том, что под таким титулом никакая конституция невозможна. Под ним скрывалась не только Революция, но и зачатки всех будущих революций, и конституция, опирающаяся только на права человека, заранее обрекала себя на бессилие перед ними. Все властные инстанции, включая короля, были проглочены Революцией, потому что хотели противодействовать ее духу, цепляясь за букву конституции.
Вместо «Hoc est jus»,[22] Учредительное собрание провозгласило «Jus esto»,[23] нанеся тем самым ущерб и королевской власти, и своей собственной конституции.
Отстаивая свою нелепую аксиому об универсальном разуме как господине мира, великий метафизик Сийес извратил все принципы метафизики: он выводит из игры и теорию страстей, и всевластие глупости.
Нужно проводить различие между собственностью и суверенитетом. В своих указах касательно владения и господства короли пользовались более широкими формулировками, чем позволяла действительность. Все это основывалось на праве первого захвата территорий, на том, что тон, взятый в фамильных владениях, они постепенно распространяли на все королевство, наконец, на том, что по мере эволюции человечества слова приобрели слишком большую силу. Нужно было укреплять свое господство и идти на уступки в том, что касалось его форм. В этом тоже проявляется глупость революционеров: им бы надо было скрыть свою власть от народа, обуздать ее, придав ей вид благоговения перед государем; в таком виде она не дала бы и королю увидеть свою слабость.
Если бы кто-нибудь исследовал волю всех французов перед созывом Генеральных штатов, он открыл бы, что каждый из них по-своему хоть немного да желал Революции. По-видимому, судьба собрала все эти помыслы по отдельности, чтобы воплотить в действительность всю их совокупность. Теперь каждый втихомолку жалуется: это уж слишком.
С точки зрения философов, дело идет не о разногласиях между людьми, не о спорящих друг с другом страстях или партиях, а о неком великом процессе в человеческих умах. Их следовало бы поймать на слове. Тогда революция была бы грандиозным экспериментом философии, в ходе которого последняя проигрывает свой процесс против политики. Слово «революция» происходит от revolvere, что означает приблизительно «поменять местами верх и низ».
В нации, как и в Национальном собрании, большинство всегда составляли завистники, честолюбцы же оказывались в меньшинстве — ведь для массы людей первые места недостижимы, и обоснованно притязать на них могут только немногие. Честолюбие стремится достичь своей цели, которую зависть хочет уничтожить; и воля большинства к разрушению, конечно, восторжествовала.
Воистину, в народном собрании всегда ораторствуют страсти.
Несчастная судьба благородного дома Бурбонов и бедствия эмигрантов возбудили при чужестранных дворах необыкновенную веселость. Фридрих изрек: «Мы, северные короли, всего лишь мелкие дворяне; французские же — великие властители». Так зависть повлекла за собой ненависть, а последняя, возможно, и преступление.
В 1789 году иностранные державы уподобились нашим колонистам: уютно устроившись в Париже, они болтали о революции, не подозревая, что она разразится в Сан-Доминго. В начале революции меньшинство обратилось к большинству с призывом: «Подчинись мне», на что большинство ответило: «Давай будем равны». Впоследствии это сказалось самым страшным образом.
По Вольтеру, чем более просвещенными будут люди, тем более свободными они станут. Последователи его, наоборот, говорили народу, что чем свободнее он будет, тем просвещеннее. Отсюда и вся разруха.
Дворяне забыли принцип, согласно которому вещи должны сохраняться тем способом, каким возникли. Аристократы же шпагой отстаивали свой дух и пером — свое звание.
Между английской и французской революцией есть достопримечательные переклички: Долгий парламент и смерть Карла I, Конвент и смерть Людовика XVI, а потом Кромвель и Бонапарт. Узрим ли мы, в случае реставрации, нового Карла II мирно умирающим на своем ложе, нового Якова II бегущим из своего королевства и вслед за тем новую, пришлую династию? В таких прогнозах нет ничего из ряда вон выходящего, и все же властителям следовало бы рекомендовать ими заняться. Карл I и Людовик XVI этим вполне пренебрегали; несмотря на свою добродетельность, они кончили дни на эшафоте. Добродетели государя не должны быть теми же, что у частного лица: королю, ограничивающемуся стремлением оставаться просто честным человеком, можно только посочувствовать.
Если бы 10 августа Людовик XVI пал с оружием в руках, кровь, окропившая лилии, принесла бы более изобильный плод, чем вышло на деле. Смерть на эшафоте, окруженном безмолвствующим народом, навсегда ложится позорным клеймом — и на нацию, и на трон, и даже на само воображение.
13 вандемьера Бонапарт привел в исполнение то, в чем после 10 августа был ложно обвинен Людовик XVI: он стал преемником Робеспьера и Барраса, что было уже нетрудно.
Бонапарт находится у власти, потому что он отдал приказ стрелять в народ и по-тому что действительно совершил то преступление, в котором несправедливо был обвинен Людовик XVI. С утеса на утес Франция падала в бездну. Она пробовала зацепиться за штыки: хватило бы горстки солдат. Впрочем, Париж был уже совсем другим; общественное мнение в нем исчезло. Оставалась лишь обширная воровская малина да полиция.
Наши поэты хотели бы видеть в Бонапарте нового Августа, воображая, что сами от этого превратятся в Вергилиев и Горациев. Однако умом он до Августа не дотягивает; прежде всего в том, что касается его строя. Разговоры всегда ему вредили, потому и пришлось включить в свиту офицера, напоминавшего ему о необходимости молчать.
Устав от порядка, французы начали резать друг друга; устав друг друга резать, покорились игу Бонапарта, забивающего их теперь на поле брани.
Лучшее доказательство того, что Бонапарт сильнее Ланна, Нея, Сульта, Моро и Бернадота, заключается в том, что они служат ему, вместо того чтобы попробовать от него избавиться.
Огромная власть, внезапно оказывающаяся в руках гражданина республики, учреждает монархию, и даже больше чем монархию. Наследуя власть народа, превращаешься в деспота.
Бонапарту не везет ни в ненависти, ни в дружбе. Революционеры и цареубийцы навлекут на него беду, если он их к себе приблизит. У него больше власти, чем достоинства, больше блеска, чем величия, больше дерзости, чем ума, и правильнее будет его не похвалить, а поздравить.
Случись революция при Людовике XIV, Котен приказал бы гильотинировать Буало, а Прадон отвел бы душу на Расине. Эмигрировав, я избежал мести якобинцев, портреты которых поместил в «Альманахе великих людей».
Французы всегда имели пристрастие к иностранцам, и это выдает их ревность друг к другу. Примеры тому: Орнано, Брольо, Розе, Левендаль, саксонский гофмаршал, Неккер, Безенваль, Бонапарт. Тит, Траян и Марк Аврелий были не меньшими деспотами, чем Тиберий, Нерон и Домициан. Одним кивком головы они приводили в движение весь известный на то время мир от Евфрата до Дуная: они были деспотами, но не тиранами, как их по ошибке назвал Монтескье.
Когда меня в 1790 году спросили об исходе революции, я ответил: «Либо у короля будет армия, либо армия породит короля». И добавил: «Мы увидим, как из ее рядов выйдет один удачливый солдат, ибо конец революции всегда полагает сабля: Сулла, Цезарь и Кромвель тому примеры».
Союзники всегда запаздывали на один год, армия — на одну идею.
Забавно было бы посмотреть, как философы и безбожники однажды, скрипя зубами, потащатся за Бонапартом к мессе и как республиканцы станут расшаркиваться перед ним. Еще бы! они ведь клялись расправиться с каждым, кто возжаждет короны. Забавно было бы увидеть, как сам он однажды учредит большой орденский крест, чтобы награждать им королей, как будет раздавать княжеские титулы и путем женитьбы соединится с каким-нибудь королевским домом… Но горе ему, если он не всегда остается победителем.
В каждом мыслителе, ломающем голову над проблемой конституции, зреет якобинец; это истина, которую Европа не должна забывать.
Политика напоминает сфинкса из басни: она пожирает всякого, кто не может разгадать ее загадки.
Территория Земли — пространство для политических единств. Полное развертывание государства зависит от правильного соотношения между территорией и населением. В Северной Америке, где населенные пункты теряются в пространстве, государство еще далеко не достигло полного развития. Зато в Европе, где численность населения и земная поверхность оптимально соответствуют друг другу, государства пребывают в зените своей мощи. В Китае, где слишком многочисленное население теснится на ограниченном пространстве, государство приходит в упадок.
Государства всегда всё начинают заново: они живут за счет лекарств.
Государство подобно дереву, которому по мере роста требуется все больше пространства как земного, так и небесного.
Народ без страны и веры зачах бы, как Антей, повисший между небом и землей.
Разум включает и те истины, которые нужно высказать, и те, о которых лучше умолчать.
Золото — царь царей.
Правителям не следует забывать, что раз народ никогда не вырастает из детских ботинок, то и правление должно осуществляться по-отечески.
С личностью короля все обстоит как со статуей бога: только первые удары наносятся по божеству, последние приходятся по бесформенной груде мрамора.
Война — суд королей; победы — приговоры, которые он выносит.
Для черни век Просвещения никогда не наступает. Чернь — это не французы, не англичане и не испанцы; она одна и та же во все времена и во всех странах: людоед, выгадывающий как бы поживиться человечинкой; и, когда она мстит правительству, за преступления, не всегда доказанные, отплачивает злодеяниями, всегда очевидными.
Если народ просвещеннее династии, то революция стучится в дверь. Так было в 1789 году, когда блеск трона померк в потоке света.
Агитаторам: когда Нептун хочет унять непогоду, он заклинает не волны, а ветра.
Правительство, которое мы сочли бы столь же непогрешимым, что и Провидение, было бы, подобно ему, облачено в деспотическую форму.
Если правительство могущественного и высокоразвитого государства желает, чтобы в нем был представлен народ, это может произойти либо благодаря приверженцам действующей власти, которых народ будет считать своими врагами, либо благодаря ее противникам — и тогда дело идет к революции.
В любой стране приграничные города пользуются меньшей свободой, чем расположенные в глубине территории; в таком случае безопасность оказывается предпочтительнее свободы.
В природной табели о рангах важно и заслуживает восхищения то, что есть общего между таким человеком, как Вольтер, и каким-нибудь водоносом, а то, что их разделяет, едва различимо.
Целостность и стабильность государства гарантируются одним только страхом, а вовсе не страстью, сколь бы мощной она ни была. Он обеспечивает благоденствие, наличествуя и у народа, и у короля. Ведь если народ боится короля, он не поднимает восстаний, а короли, испытывая страх перед народом, воздерживаются от угнетения. Но если такой страх сохраняется лишь у одной из сторон, всегда возможны либо деспотизм, либо анархия.
Сравнение с пастухом и его стадом в сфере политики неприменимо. Им может пользоваться религия, поскольку в ней к человеку обращается Бог. Пастух посреди своих овец — просто человек, окруженный съестными припасами; вряд ли это удачный образ для королевской власти.
Государство начинает хворать, когда короли ведут себя как собственники, а собственники — как короли.
У государства, как уже было сказано, есть потребности, права и полномочия. Однако связь между тремя этими принципами такова, что народ никогда не может вывести свое право из тех предметов, обращаться с которыми не умеет. Следовательно, поскольку он не может собраться вместе и добиться единодушия, это означает, что он не должен ни принимать решения, ни определять форму правления, ни выступать в качестве суверена.
Представительная система правления подразумевает, что всех депутатов можно собрать в одном месте, сколь бы велика ни была страна. Тогда нужно учесть, что большинство народа в парламенте всегда будет оставаться в меньшинстве. Правит ведь именно большинство парламента.
Восстание наделили конституцией; между тем для человеческой конституции лихорадка пагубна. Часто ее нельзя избежать, но мы всегда стремимся от нее избавиться.
Сочетать в каждом своем законе вознаграждение и наказание остается привилегией природы, равно как и заповеди ее суть в то же время влечения. Общество такого величия достичь не может: его законы только грозят и карают.
Поскольку короли составляют ту часть правления, которая всегда на виду, их личная жизнь — игры, привычки, удовольствия — должна быть открыта только тем, кто посвящен в эти символические отношения. От народа ее следует скрывать. В еще более строгом смысле это касается папства. Бенедикт XIV, столь чтимый духовной элитой, не нашел уважения среди римского народа.
Слова «порядок» и «свобода» вечно будут водить род человеческий от деспотии к анархии и от анархии обратно к деспотии.
Когда Людовик XV спросил, какой теперь час, один придворный ответил: «Какой будет угодно Вашему Величеству».
В нашумевшем «деле ожерелий» было два виновника: м-м де ла Мот и де Бретей. Ею двигала нужда и страсть к интриге, им — жажда мщения. Жертв тоже две: королева и кардинал, но королева, конечно, более невинна.
При французском дворе стало уже, в конце концов, невозможно обрести счастье, если ты не обладал какими-нибудь милыми причудами или тебя не терпели там ввиду твоего полного ничтожества.
Сегодня настолько вошло в моду говорить о государях дурное, что, похвалив их, начинаешь подозревать, будто находишься с ними в близких отношениях.
Хотя Руссо своими сочинениями подточил устои монархии, можно все же сказать, что он в то же время придумал, как дворянству свести концы с концами в эмиграции, обучив своего аристократа столярному ремеслу.
Первый парламент отобрал у короля королевство, второй лишил королевство короля, третий ликвидировал и короля, и королевство. Учредительное собрание подчинило себе короля, Париж и войско. Потом оно само было порабощено Парижем. В конце концов, якобинцы истребили десятую часть Парижа, войска и Конвента.
Учредительное собрание уничтожило королевское достоинство; затем должна была последовать казнь короля. Конвент лишил жизни всего лишь человека. Первая инстанция совершила цареубийство, вторая — отцеубийство. Жертва была уже приготовлена, якобинцам оставалось лишь взмахнуть топором.
Как король Людовик XVI заслуживал своей горькой участи, поскольку плохо знал свое ремесло. Как человек — нет. Именно его добродетели и отдалили его от народа.
Армия, которой пользуются для порабощения, сперва сама должна быть порабощена. Молоту приходится выдерживать те же удары, что и наковальне.
Людовик XIV осветил все отрасли управления таким ясным светом, что его, если можно так выразиться, оборудование проработало вплоть до 1789 года. Его собственные распоряжения и донесения его интендантов подтверждают это. Наши оклеветанные администраторы жили традициями этих своих предшественников. В период революции ветви управления стали подобны лесным угодьям, разграбляемым без зазрения совести. Отсюда произошли те колоссальные состояния, один вид которых вызывает тошноту.
Народам впору, как Дидоне, жаловаться на то, что прозрели.
Задача любого правительства состоит в том, чтобы защищать общество; у общества же с самого момента его возникновения нет и не может быть другой цели, кроме как гарантировать безопасность и охрану собственности. Эта ясная, точная и исчерпывающая дефиниция была бы лишена каких бы то ни было изъянов, если бы ее, к несчастью, не дополнили этим плеоназмом — двусмысленным и сомнительным словом свобода.
Если бы мы после Лиги не получили правителя, с домом Бурбонов было бы покончено. От Фронды могла исходить очень большая опасность, но молодой король рос в своем величии, и все постепенно входило в норму. Так какой же Бурбон пришел бы на смену нашей ужасной революции? Можно предвидеть, что легитимные короли рано или поздно заключат союз и уничтожат Наполеона.
Мы живем во времена, когда незначительность защищает лучше законов и более, чем невинность, успокоительна для совести.
Монаршие властители иногда начинают слушаться ученых мужей, подобно безбожникам, которые тоже призывают святых, когда им плохо; и так же безрезультатно. От глупости медицина не помогает.
Франция еще настоятельнее нуждается в сильной руке, чем другие государства. Суверенный народ казнит любого короля, у которого корона перед глазами, а не на лбу.
Общество можно уподобить театру: вход в ложи располагается на верхнем этаже.
Заявив, что «нет монархии без дворянства», Монтескье занял слабую позицию; в этих словах есть что-то неопределенное, произвольное и потому спорное по своему содержанию. Имел ли он в виду дворянство, которое властвует, или то, которое только кого-то представляет?
Дворянство может существовать четырьмя способами. Оно может быть суверенным, как в Германии, феодальным, как в Польше, конституционным, как в Англии, или священной кастой, как в Индии. В Испании и Франции дворянство едва ли было чем-то большим, чем просто приятный образ жизни.
Литература
Даже самый сухой ум не может обойтись без образов. Если ему кажется, что их удалось изгнать из языка, это означает лишь, что устраненные им образы настолько устарели и износились, что не видны ни ему, ни читателям. Можно утверждать, что Локк и Кондильяк — первый ради искоренения заблуждений, второй ради того, чтобы сделать свои тезисы неоспоримыми, — точно так же не сумели увидеть тайну языка. Они не услышали волшебного звучания слов, стучащего в сердца и заставляющего их трепетать. Нужно ли их благодарить за эту немощь? Или же следует признать, что они не стремились воздействовать на человеческие чувства и отвергли образный стиль, потому что того требовало достоинство метафизики?
Вообще говоря, я мог бы доказать, что непосредственного, не пользующегося образами стиля вовсе не существует. Локк и Кондильяк тоже используют образы, пусть и неосознанно или против воли. Они часто прибегают к метафорам и сравнениям, причем довольно удачным, что я тоже мог бы подтвердить примерами. Но здесь дело не в этом. Разве природа, наш великий образец, не говорит параболами, разве весна мыслима без цветения, разве на цветах и плодах не переливаются краски? Аристотель выдал воображению блестящий аттестат, и это нужно ценить тем выше, что сам-то он вовсе не был им одарен в отличие от своего соперника Платона. Изящные образы оскорбительны только для завистников.
Случается, что человек, следуя привычке или наезженной колее своего существования, начинает действовать и говорить словно отсутствующий: тело двигается само по себе, как корабль без рулевого. Так бывает, когда голова занята мыслями, далекими от выполняемой деятельности. Тогда краткого приказания и первого толчка достаточно для того, чтобы удержать тело в повиновении; ему не нужно ничего вспоминать. Каждому, кто наблюдал за собой при ходьбе, за разговором и письмом, знакомо это непосредственное побуждение, с которым не может соперничать никакое обдуманное решение. Этим же объясняется различие между человеком говорящим и пишущим. В речи мы меньше сознаем себя, и потому сознание запрещает нам писать так, как мы говорим. Наоборот, говорить так, как пишешь, противно природе. И лишь немногим удается сочетать элегантность устного стиля с продуманной ясностью письменного.
Творение и язык сходны в своем устройстве. Языковой строй состоит из предложений, предложения из слов, слова из букв. Тут деление прекращается. Точно так же в природе мы доходим до элементов. Единственное отличие структуры материи от строения языка в том, что на элементы воздействуют силы притяжения, которые все время связывают их в одни и те же соединения. С буквами все не так. Их порядок устанавливается людьми; этим обстоятельством и объясняется многообразие языков. Если бы гласные и согласные выстраивались в ряд по тем же законам, что и природные элементы, у нас был бы только один универсальный язык.
Человек вынужден был придать своему мышлению формы крайнего остроумия. В самом деле, утонченность, изыск ума, вплетенная в ткань языка метафизика превышают всякую мыслимую меру. Любопытное зрелище для философа — особенно, если он распутает те таинственные нити, в которые человек облекает свои мысли, как гусеница шелкопряда, ткущая себе сверкающую оболочку.
Язык — это мышление, обращенное вовне; мышление — внутренний разговор.
Работа над языком должна протекать неслышно.
В языках история чеканит свои истинные памятные монеты.
Грамматика — рычаг, приделанный к языку, и рычагу этому не надо придавать значения большего, чем его обременительный вес.
Слова подобны монетам, имеющим собственную стоимость еще до того, как в них будет выражена стоимость всего остального.
В человеке, как и в языке, все подчинено мере. Нельзя сказать: «Я увидел, как блоха растянулась во всю длину», хотя, с точки зрения логики, к блохе это можно отнести в не меньшей степени, чем, например, к теленку.
В слове «дорогой» есть что-то нежное и в то же время пошлое, ибо им пользуется и любовь, и скупость. Можно предположить, что у сердца и кошелька есть одно общее отделение.
Словари — это кладбища обветшавших слов, ожидающих великого автора, который даст им воскреснуть в полном блеске.
Не говоря уже о том, что в академическом словаре напрасно искать то, чего не знаешь, не найдешь там и того, что знаешь.
Слово precaire означает сегодня «шаткий», «ненадежный»; это говорит о том, сколь малого мы добиваемся молитвой, от которой это слово происходит.
Великие авторы владычествуют благодаря мощи своего языка. Руссо своей славой затмил всех, кто до него выбирал своей темой материнские обязанности. Гений уничтожает предшественников, наследием которых пользуется.
У самой жизнерадостной и веселой европейской нации сохранились игра, танец и музыка, противоречащие ее сути: пикет, менуэт и старинные народные мелодии. Не этим ли объясняется веселый нрав Расина, сочинявшего трагедии, и меланхоличность Мольера, автора комедий?
Заголовки вроде «Философическая история» или «Беспристрастное наблюдение» вызывают один только смех. Сейчас мы поглядим, насколько философична твоя история и насколько беспристрастен твой взгляд. У тебя же в самом названии содержится суждение оценки.
Человек, у которого писательство вошло в привычку, продолжает писать, даже когда у него кончаются идеи, как тот старый врач, по имени Бувар, который, лежа на смертном одре, пытался нащупать пульс у своего кресла.
В литературе все со временем становится общим местом.
Стремительные восхождения плохо сказываются на литературе. Появлению на небе даже самых ярких звезд всегда предшествуют сумерки.
Нельзя слишком полагаться на проницательность читателя; ей тоже нужно знать меру.
Присутствие духа в нас тем больше, чем меньше мы сами присутствуем.
Живопись может запечатлеть у человека только один жест, у действия — одно событие, у времени — один миг. Живописец располагает только одним местом; поэту же подвластен универсум.
Неизвестный изобретатель алфавита дал нам ключ к познанию природы и ариаднину нить к лабиринту наших мыслей.
В науках о языке грамматика занимает место элементарной физики.
Знаки — разменная монета взаимопонимания.
Только у писателя над головой нимб, сияние которого спорит с блеском трона.
Правители не должны забывать, что писатель может набрать себе рекрутов среди солдат, а генерал среди читателей — не может.
Искусство книгопечатания — артиллерия идей.
Если книгу поддерживают, значит, она плохо стоит на ногах.
В поэзии приходится раздевать старика Адама.
Ничего в своей жизни не достичь — огромное преимущество, не надо только им злоупотреблять.
По мере того как искусство прогрессирует, цели его, по-видимому, отодвигаются в будущее.
Париж — это город, в котором меньше всего знают о ценности, а иногда и о самом существовании книг. Чтобы стать человеком начитанным, нужно пожить в провинции или в деревне. В Париже ум питается и обогащается стремительной сменой событий и разговорами о них, тогда как в провинции он вынужден ограничиться чтением. Поэтому в провинции приходится разыскивать книги, а в столице мира — людей. Здесь не производят впечатления даже аплодисменты; по крайней мере, оно длится недолго. Скоро становится ясно, какому кружку принадлежит автор, какие покровители ценят или проталкивают его, — и этот взгляд за кулисы рассеивает газетную лесть, перестающую опьянять и самого автора. Напрасно трубы разносят хвалу этой прозе или тем стихам: в столице всегда найдется тридцать-сорок неподкупных умов, не разделяющих общее убеждение. Молчание знатоков тревожит совесть плохих писателей и отравляет им всю дальнейшую жизнь. Но когда расхваленная во всех газетах и поддерживаемая могущественной кликой книга прибывает в провинцию, иллюзией оказываются зачарованы все, особенно молодые люди. Тот, у кого есть вкус, недоумевает, почему не может разделить общее восхищение: множащиеся похвалы халтуре сбивают его с толку. Прочие убеждены, что Париж кишит талантами и что в литературе только одна беда: не знаешь, кого из них предпочесть.
В своей поэме о садах постарался каждой строке дать приданое; целое от этого только пострадало.
Г-н Делиль, сделав перевод «Георгик», вышел из своего кабинета хромая, как Иаков после борения с Богом. Хорошие строки в этом переводе — шрамы, оставленные Вергилием.
Делиль — Вергилий в чине аббата.
На трибуне Мирабо обычно становился в позу статуи лорда Чатэма, а в одной из своих речей нажился на шутке какого-то мальчишки. Что можно сказать об одаренности оратора, который жесты свои заимствует у покойника, а юмор у ребенка?
Сочинения Мирабо подобны брандерам, вышедшим навстречу вражеским кораблям и запалившим их; при этом и сами они погибли.
По своему простодушию учебники до сих пор различали три стиля изложения: обычный, сдержанный и возвышенный. После выхода в свет сочинений г-на Неккера мы вынуждены добавить к ним четвертый стиль — министерский.
«Картина Парижа» Мерсье — книга, сочиненная на улице и написанная на придорожной тумбе. Автор описывает подвалы и чердаки, не заходя в гостиные.
Ощущение, на какое-то время остающееся у французов после драм Мерсье, напоминает вкус изысканных блюд, запиваемых водкой.
Кондорсе пишет опиумными чернилами на свинцовой фольге.
Нынешние благородные дворяне лишь призраки своих предков.
Палиссо, зайцем метавшийся между религией и философией словно между двумя изготовившимися к бою армиями, сделался всеобщим посмешищем.
Французские короли лечили своих подданных от плебейства как от золотухи; следовало бы помнить, что от обоих недугов остаются следы.
Ла Гарп пишет вороненым стилем. Его проза отшлифована, но лишена блеска.
Многие выскочки и лакеи, обогатившиеся казнокрадством, запрыгнули в телегу сзади; именно так им удалось избежать колеса.
Шансене-старший — человек-загадка. Про него не скажешь, что он входит в комнату: он просачивается в нее. Он прокрадывается за спинками кресел и укрывается в заднем углу. Когда спрашивают, где он, в ответ доносится шепот: «Замолчите! Разве о таком говорят в открытую?»
Черутти пишет блестящую прозу. Он в литературе как улитка: оставляет за собой серебристый след, но это всего лишь пена.
Есть писатели, которые свои издержки покрывают какой-нибудь парой ощущений; к ним относится и Янг — с молчанием и ночной темнотой.
Есть писатели, которые свои издержки покрывают какой-нибудь парой ощущений; к ним относится и Янг — с молчанием и ночной темнотой.
Философия
Главная идея иудейской религии заключается в том, что Бог предпочел евреев перед другим народами. На этой основе Моисей возвел бронзовую стену между своим народом и всеми остальными. Более того, он обрек эту несчастную нацию вселенскому проклятию. Удивительно, однако, что именно этой всеобщей ненавистью он обеспечил ей бессмертие. Симпатия или даже равнодушие со стороны других народов давно заставили бы евреев исчезнуть; они бы просто перестали существовать, отчасти вступая в смешанные браки, отчасти погибая в войнах и рассеиваясь в пространстве. Ненависть рода человеческого сберегла евреев; на ней зиждется их бессмертие.
Евреи сказали Богу: «Господи! делай все для живых, поскольку от мертвых Тебе ждать нечего: non mortui laudabuntt te, Domine».[24]
Ханжа верит священникам, вольнодумец философам; оба легковерны.
Наделяя богов человеческим слабостями, поэты бывают более убедительны, чем если бы они возводили людей к божественному совершенству.
Большинство наших атеистов рекрутировано из взбунтовавшихся католиков.
Мученики древних религий выглядят упрямцами, мученики прогресса — просветленными.
У привидений есть один небесполезный инстинкт: они всегда являются только тем, кто вынужден в них верить.
В общем и целом, дети и молодые люди лучше понимают телесную сторону действительности, а зрелые и старики — духовную. Это соответствует природной предрасположенности: если у юношей в крепком теле заключен еще не вполне развитый дух, то у стариков сформированный дух помещается в дряхлеющем теле. Одни руководствуются чувственными впечатлениями, другие — идеями.
Неприметная разница между восприятием и связанными с ним идеями в увеличенном масштабе переносится на различия между людьми. Как отличаются друг от друга гурман Апиций и естествоиспытатель Плиний, глядящие на одну и ту же куропатку; человек ученый и человек суеверный, слышащие, как гремит гром: один полагается на громоотвод, другой — на реликвии.
Скряга потешается над транжирой, транжира над скупым, безбожник над святошей, святоша над безбожником; друг в друге они видят простаков.
Различие между страстями и идеями можно пояснить следующим отрывком: На небесах у Вольтера спросили:
— Вы ведь хотели, чтобы все люди были равны?
— Да, конечно.
— Известно ли Вам, что из-за этого разразилась ужасная революция?
— Это все равно.
Пока коснулись лишь его идей.
— Но известно ли Вам также, что сын Фрерона стал проконсулом и теперь разоряет провинции?
— Боже милосердный! Вот где великий-то ужас!
Теперь заговорили с его страстями.
Сознание — это лишь более интенсивное восприятие, все равно, телесное или умственное: мы видим, слышим, обоняем, осязаем и мыслим осознанно. На этой интенсивности основывается наше превосходство над зверьми, а также отличие одного человека от другого. Но мы не должны, как Гельвеции и Кондильяк, полагать, что сознание полностью в нашей власти, а главное, что у двух в равной мере сознающих себя людей оно действует одинаково. Сколько на свете людей, которым ни глубочайшая задумчивость, ни напряженнейшее внимание не приносят никакой пользы; не говоря уже о тех, кто таким способом лишь множит просчеты да ошибки.
Внимание ребенка трудно к чему-либо приковать., дети много кричат, любят пошуметь и потолкаться в тесноте. Они делают все, чтобы убедиться в собственном существовании и получить побольше впечатлений: внутри у них еще пусто. Только привыкшие к размышлению люди предпочитают молчание и покой; их существование состоит в последовательности идей, развертывающейся внутри сознания.
С этим связано то обстоятельство, что анекдот соразмерен старческому уму и вместе с тем увлекателен для детей и женщин: их внимание можно удержать в состоянии напряженности только чередой связанных друг с другом фактов. Последовательная же связь рассуждений и идей подобает мужскому уму и мужской жизненной силе.
Осуществляя свое господство над элементами и веществами, природа действует в направлении изнутри вовне: она развертывает себя в своих произведениях, и мы называем формами те границы, на которых она останавливается. Человек действует на внешней стороне, внутренняя же ему неизвестна: он видит и прикасается только к формам.
У человека нет средств для земного бессмертия. Его запасы оказываются израсходованы к концу жизненного пути. Если этот путь в силу какого-либо непривычного сцепления причин продолжается, а сокровищница радостей и чувств, воспоминаний и идей уже пуста, то человек чахнет и угасает в пустыне, как лишившийся провианта путешественник.
Природа наделила человека ограниченными силами и безграничными желаниями, и именно этот преизбыток, эта пружина выносит его за установленные пределы, превращает его потребности в желания, а желания в страсти; и сила ее действия, пожалуй, не была бы так велика, если бы ее насильно не сдерживали.
Но разве задача человека в том, чтобы оправдать природу? Чего она от него ждет в знак поклонения, так это покорности, а не похвалы.
Память всегда готова услужить сердцу.
Методы — протоптанные дороги духа с веховыми столбами памяти.
Единство цели свидетельствует о здравости человеческого рассудка, в то время как многообразие средств задает духовный масштаб. Недостаточная определенность цели наводит на мысль о расстройстве рассудка.
Дети добиваются, чего хотят, упрямством или лестью; взяв вещь в руки, они поглаживают ее, потом ломают, а сломав, безутешно плачут об утрате.
Разум — историк, страсти — актрисы.
Есть два разных мира, доступных умозрению философов: воображаемый, в котором все истинно и ничто не действительно, и природный, в котором все действительно и ничто не истинно.
На то, что невозможно, нельзя получить никаких прав.
Природа снабдила человека двумя важнейшими системами: органами пищеварения и размножения. Первая обеспечивает жизнь индивидуума, вторая — бессмертие рода. Роль живота настолько значительна, что руки и ноги воистину являются его проворными рабами. Даже голова, которой мы так гордимся, всего лишь его просвещенный сподвижник, фонарь над входом во дворец.
Естественная история. Нам не дано проникнуть в глубины природы. Я каждый день надеваю новую маску; так неужели тот, кто сумел бы срисовать их все, тем самым создал бы уже и мой настоящий портрет?
С достойной восхищения мудростью природа утаила, что общее всем людям существенно, а то, что их различает, нет. Нельзя, однако, отрицать, что эти различия могут возвести общее совсем в другой ранг.
Человек — единственное животное, способное добывать огонь. Это умение сделало его господином Земли.
Кто уповает на чудеса, не догадывается, что требует от природы прекратить ее собственные.
Наши влечения основываются на соразмерности. Поскольку мир гармоничен, то есть устроен пропорционально, такая разновидность чувствительности, как сострадание, по-видимому, тоже не напрасно была включена в замысел природы.
Природа могла сделать долговечной либо жизнь индивидуума, либо жизнь рода. Первое было выбрано для планет и Солнца, второе — для животных и растений, чьи индивидуальные формы бренны, но обеспечивают бессмертие целого рода.
Подлинный философ одной силой ума достигает тех мест, в которых обычный человек оказывается лишь благодаря течению времени.
Набожный человек верит видениям других, философ — только своим собственным.
Настоящий философ прощает обществу свою бедность с таким же хладнокровием, с каким богатый банкир прощает природе нехватку ума.
На титульном листе своих политических сочинений Руссо попросил выгравировать сатира, приближающегося к зажженному факелу, и подписать: «Сатир, остановись! Огонь обжигает». Аллегория хромает, поскольку сатира уже коснулся свет. Его следовало бы предостеречь о другом: «Остановись! Свет пагубен». Наши просветители, вручившие сатирам светоносный факел, не учли, что от него может разгореться пожар.
Чтобы нападать на религии, требуется гораздо меньше ума, чем для того, чтобы их основать и поддерживать, — ибо всякая направленная против Христа эпиграмма уже хорошо.
Мужества просветителю тоже нужно ничуть не больше, а чаще всего и намного меньше, чем было необходимо апостолу.
Изречение мудреца: «В спорных случаях воздерживайся от суждений» — это не только прекраснейший принцип морали, но и предпосылка всякой метафизики.
В своих попытках то действительность объявить явлением, то явление действительностью философы не упустили почти ни одного ошибочного пути. Еще Цицерон заметил, что нет такой бессмыслицы, которую бы уже не высказал какой-нибудь философ.
Никто не забредает в более непролазные дебри, чем тот, у кого слишком много ума; только располагая очень большим состоянием, можно прийти к грандиознейшему банкротству.
Самое замечательное свойство человеческого ума, искусство придумывать понятия, становилось источником едва ли не всех его заблуждений.
Разум должен быть весел, а не угрюм, согласно сократову представлению об иронии. Паскаль сочетал в себе то и другое. Сам Господь Бог, после того как проклял Адама на вечный труд и общение с женой, изгнал его из Эдема с насмешкой. Ecce Adam factus sicut unus ex nobis: вот Адам стал как один из нас. Это проливает свет на проблему богоподобия.
Плоды, упавшие с дерева раньше срока, яркими красками и сладким привкусом имитируют подлинную зрелость. Плоды, созревавшие на ветках до самой осени, отличаются от них своей сочностью и ароматом.
Точно так же бывает с детьми, преждевременно умершими; они созревают внезапно, и их жесты, слова и взгляды словно принадлежат другому возрасту. Часто они поражают какими-нибудь нравственными поступками, которые несвойственны детскому поведению. Те же, которым суждено достичь зрелого возраста, имеют возможность оглянуться на долгое, бурное детство. И чтобы закончить картину: родители выпускают детей из-под своего присмотра, когда они становятся взрослыми, как деревья сбрасывают плоды, когда те полностью созрели.
Нет ничего удивительного там, где все удивляются: это пора детства.
Люди простодушные, крестьяне и дикари, уверены, что они гораздо дальше ушли от зверей, чем то полагает философ. С чего бы это?
Настоящее — это движение между неподвижным будущим и неподвижным прошлым. Ткач сплетает свое полотно из несуществующих нитей.
Подобно тому как наших глаз касаются только образы предметов, а не сами предметы, нашу душу волнуют только мнения о вещах, а не сами вещи.
Леность одних умов бывает вызвана отвращением к жизни, леность других — презрением к ней.
Все обречено на забвение, отдано этому немому и свирепому тирану, шествующему по пятам у славы и пожирающему у нее на глазах всех прежних друзей и благожелателей. Впрочем, о чем это я? Слава сама не более чем легкий шелест, дуновение ветра, облетающего шар земной. Он дует, непрестанно меняя направления, чтобы разнести слух об именах и деяниях по всему миру и затем бесследно развеять его.
В первых свидетельствах упоминаются два великих события, значение которых еще в должной мере не оценено: Сатана, первый среди ангелов вознамерившийся отобрать трон у своего благодетеля, и плод познания добра и зла, повлекшего за собою смерть. Первое означает, что неблагодарность от рождения свойственна всякой твари, второе — что просвещение не в силах осчастливить народы.
Экстраординарные умы обращены, в первую очередь, к обычным, повседневным предметам, тогда как ординарным в глаза бросаются только необычайные.
С несчастьем дело обстоит примерно как с пороками, которых стыдишься тем меньше, чем больше людей их с тобой разделяет. Эмиграция показала мне (и это было в ней наиболее тягостно), что людей, попавших в несчастье, способна утешить только их многочисленность.
Стирание границ ведет к путанице, истины не на своем месте обращаются заблуждениями, чрезмерная упорядоченность чревата беспорядком. Мудрец в астрономии остается астрономом, в химии химиком, в политике политиком.
Человек не будет рад абсолютной свободе; ему приличествует лишь свобода второстепенная. Он может, конечно, выбирать, какого кушанья он хочет — с этой тарелки или с этой; но хочет он вообще есть или нет, решать не ему.
Тот еще остается свободным, кто, пусть и в зависимом положении, может заботиться об удовлетворении своих потребностей; как, например, слуга, подносящий блюда другим, чтобы прожить самому. Рабом становится тот, кто вынужден заниматься вещами, в коих не имеет потребности.
Зрелище злодеяний воспитывает в человеке справедливость, созерцание смешного — вкус: jura inventa metu injusti.[25]
Кто сутки напролет спорит с окружающими, того сочтут сутки напролет несущим вздор.
Веленью рока подчинены предметы, но не мы. Ясно, что при известной крутизне любой не удержится и упадет со склона, но заранее не определено, ступит на него тот или другой.
Из всех страстей страх наиболее опасен, потому что его первый натиск направлен на разум. Он парализует сердце и рассудок.
Рассеянность свидетельствует либо о великой страсти, либо о недостатке восприимчивости.
По протестам против неизбежного зла и по покорности вполне устранимому узнаются слабаки. Что еще можно сказать о человеке, негодующем на плохую погоду и молча сносящем оскорбление?
Не забывайте, что этот великий человек подвержен тем же страстишкам, что и вы: он столь же труслив и бесстыден, столь же жаден и лжив. И где тогда искать его величие? Не в нем, а в вас самих. Величие человека подобно его славе: оно живо, лишь пока о нем говорят.
Свойственная светским людям смесь пошлости и изящества возникает оттого, что они больше общаются с людьми, а не с вещами. У действительно независимых умов все как раз наоборот.
Светские люди извлекают свою выгоду главным образом из досуга; бедняки такой возможности лишены.
Страсти проявляются по-разному: можно встретить людей, не просто сознающихся в своих пороках, но и похваляющихся ими, — и других, старательно эти пороки скрывающих. Одни только и ищут собеседника, другие норовят пустить нам пыль в глаза. Не всегда самыми отъявленными эгоистами оказываются те, кто сознается в своем эгоизме. И не тот больший гурман, кто громко расхваливает лакомое блюдо, а тот, кто смакует его молча, из опасения, что придется им с кем-нибудь поделиться. Несомненно, обладание вещью способствует более справедливому суждению о ней, чем вожделение. Поэтому воры и солдаты отважнее владельцев имущества, на которое они посягают. Человек больше страсти вкладывает в завоевание, чем в удержание завоеванного.
Люди придают одинаковое достоинство тем, о ком у них сложилась высокая идея, и тем, кто одарил их высокими идеями. А также тем, кто построил крупный завод, и тем, кто запустил механизм великих событий.
Есть люди, которых предрассудки и упрямство доводят до того, что основанием собственной честности они начинают считать свои сомнения в честности других.
Нет большего несчастья, чем когда мы в какой-то одной ситуации действуем сообразно правилам, принципам или обстоятельствам, сообразным другой. Дикарь, получивший наше образование, и парижанин с неотесанностью дикаря были бы одинаково несчастны.
Тот, кто ставит перед собой какую-то цель, вовсе не добавляет себе досуга, а напротив, ограничивает свое время.
Весь мир трудится ради того, чтобы получить наконец досуг, хотя встречаются бездельники, начинающие прямо с этой цели.
Главное зло нашего времени заключается в том, что мы с одинаковым рвением стремимся сами стать счастливыми и препятствуем в этом другим. Потому-то столь многие пускают в нашу сторону не только взоры, но и стрелы.
Честолюбие и сладострастие зачастую одинаково окрашены. На вершине человеческой власти Цезарь признавался, что прошения подданных щекотали ему ухо. Я был знаком с одной женщиной, говорившей своему любовнику: «Ах, попроси меня об этом!» Поэтому самозванцы получают от власти более глубокое наслаждение, чем те, кому она перешла по наследству.
Чтобы иметь вес в свете, нужно делать, что можешь, что должен и что нравится.
Вот как рассуждал один знатный господин, озабоченный вороватостью своей прислуги: «Один тащит у меня то, другой — другое, и на всех вместе выходит довольно много, но я не прогоняю их, поскольку новые, не ровен час, окажутся еще хуже. В конце концов, я достаточно богат, чтобы все это снести; вот мой сын! посмотрим, как он устроится». В таком же духе высказывался и Людовик XV: «На мой век монархии хватит; я скорблю о моем наследнике». Это высшая степень себялюбия и легкомыслия.
Что если богатство можно было бы расходовать, повинуясь голоду, испытываемому бедняками, а королевской властью пользоваться, сохраняя наклонности, позволительные частному лицу!
Можно обладать богатством и не иметь счастья, как обладают женщиной, не имея любви.
Некоторым людям богатство приносит лишь заботы и страх его потерять.
Плохи дела, если приходится стремиться к неизбежному как к предмету, без которого ты несчастен и с которым отнюдь не сделаешься счастливым.
Оказавшись лицом к лицу с задачей создать существо, своей телесной формой соответствующее мужчине, а духовной — ребенку, природа отважилась решить эту проблему, превратив женщину в большого ребенка.
Сердце — это то, что безгранично в человеке; ум его ограничен. Бога любят всем сердцем, но не всем умом. Мне доводилось наблюдать, как в людях бессердечных (число которых более значительно, чем принято думать) ярко выраженный эгоизм сочетался с духовной нищетой, поскольку именно сердце, и только оно, задает правильную меру всему, что есть в человеке. Такие люди ревнивы и неблагодарны, и чтобы превратить их во врагов, достаточно сделать для них что-нибудь доброе.
Любовь — это кража, в которой природа виновна перед обществом.
Любовь привычна к бурям и часто только крепнет, когда ей грозит измена. Напротив, она нередко ослабевает в тихой гавани верности с ее безветрием.
Почему любовь приносит столько тревог, а себялюбие столько довольства? Это оттого, что в одном случае мы только отдаем, а в другом только получаем.
Юноши в отношениях с женщинами — стыдливые богачи, а старики — бесстыжие попрошайки.
Невинную девушку можно соблазнить дерзкими речами, светскую даму — нежным ухаживанием; используемый прием в обоих случаях малознаком.
Ничто так не выдает недостаточного уважения людей друг к другу, как ненамеренное пренебрежение, которым они удостаивают не только актеров, но и всех, кто их развлекает, кто доставляет им удовольствие. Поэтому причина, по которойбольшинство мужчин пренебрежительно относятся к той или иной женщине, состоит именно в том, что они ею обладали.
Речи себялюбия не убедительны ни в любви, ни в несчастье. Возлюбленной оно говорит только о себе самом, а власти, к которой взывает, — только о понесенных жертвах, а не о принятых благодеяниях.
Любовь возникает между двумя существами, каждое из которых страстно ждет от другого равного восторга.
Почему родители предпочитают выдать свою дочь за глупца со званием и именем, а не за умного человека? Потому что первый может поделиться своими благами, а второй нет: герцог делает свою жену герцогиней, а умник свою не делает умницей.
Странствующие рыцари создавали в своем воображении образ совершенной возлюбленной, которую потом неустанно искали, но так нигде и не находили. Так и наши великие умы всегда имели при себе лишь теорию дружбы.
Известно, что наши великие умы между собой скорее не дружат, а соперничают. И это неизбежно: чтобы не бросать друг на друга тень, они взбираются к вершинам славы в одиночку. Овцы сбиваются в стадо; львы действуют порознь.
Из интимного знакомства рождается как величайшая нежность, так и сильнейшая ненависть.
Эней, вынесший на своих плечах отца из пламени, — образцовый пример сыновней любви. Если бы он приказал это сделать своим рабам, то не заслужил бы такого имени. Героем становится тот, кто приносит наивысшую жертву своему королю или своему отечеству. Можно быть великим правителем, великим человеком, великим полководцем, героем вовсе не будучи.
В искусствах деятельной части народа подобает творить, праздной — наслаждаться и выбирать лучшее.
Скромный человек может все приобрести, высокомерный — все потерять, потому что один вызывает сочувствие, а другой — зависть.
Из всех чувств презрение следует скрывать наиболее тщательно.
Наша терпимость к знакомым людям почти всегда меньше того сострадания, которое мы проявляем к незнакомым.
Глупцы поступали бы правильно, если бы встречали острословов недоверием, соответствующим их пренебрежению к ним.
Болтливая зависть нерасторопна; опасаться нужно той, которая молчит.
Ясный ум часто кажется нам удачливым, подобно тому как красивое тело кажется ловким.
Человек с посредственными задатками, но умеющий пользоваться своим временем, проворством и терпением может достичь такого ранга, что привлечет к себе всеобщее внимание.
В животе зарождается идея.
Хорошие манеры — украшение для богатства и прикрытие для нищеты.
Путь дружбы зарастает терном, если по нему долго не ходить.
Есть добродетели, вменяемые только богатству.
В дикой природе виды имеют красивые формы, потому что самка принадлежит самцу, одержавшему верх над другими самцами.
Как цветы и плоды, выращиваемые в домашних условиях: чем более они красивы и велики, тем меньше в них семян и зерен; так и человек, культивирующий свой дух: он утрачивает способность к размножению и ручной работе. Следовательно, создание самых прекрасных цветов, обильнейших плодов и гениальных людей не входило в замыслы природы.
Природа, располагающая только четырьмя кулисами времен года, а также Солнцем, Луной и прочим небесным составом, меняет зрителей своего спектакля, отправляя их в мир иной. Мы, люди, не можем менять зрителей, поэтому меняем декорации и саму пьесу.
Нас раздражают не столько неудобства, связанные с одним положением, сколько удобства другого.
Кошка не ластится к нам, она дает нам себя приласкать.
В Европе рождается больше мужчин, чем женщин, и не будь войн, женщины были бы обречены на неверность. И наоборот, в стране, где мужчин больше, многие женщины были бы обречены хранить верность мужьям.
Те же таланты, что делают человека способным приобрести состояние, мешают ему пользоваться им.
Дураков следует избегать: от них одно раздражение. Пока их в двадцатый раз не заденешь, они не ответят.
Если бы дураки имели представление о том, какие муки они доставляют, они бы нам посочувствовали.
Не следовало бы класть в основу своей добродетели вещи, которые сами по себе ни хороши, ни плохи: например, девственность.
В человеческом представлении о том, что время течет, содержится большая ошибка. Время — это берег, который будто бы движется, когда мы проплываем мимо него.
От самого плохого колеса больше всего шума.
Память довольствуется обветшалой драпировкой; фантазия восседает под расшитым цветами балдахином.
Животных можно подразделить на умных и одаренных: собака и слон умны, соловей и шелковичный червь талантливы.
Человек — единственное существо, которое удивляется универсуму и с каждым днем все больше дивится тому, что это удивление имеет границы. В царстве животных изумление бывает связано с появлением незнакомого предмета и сразу же сменяется испугом или бегством, а в конце концов уступает место привычке или забвению. У нас же удивление становится матерью идей. Оно переходит в размышление и, дав плодотворную встряску уму, приводит к открытиям. Гениальность проявляется, даже когда мы удивляемся нашей слабости: ощущение своей малости есть признак величия, как ощущение своей вины — признак добродетели. Поэтому мы не только способны удивляться, но и сами удивительны; животные же только удивляются.
Большая удача для нас, что животные отличаются от людей не только внешним видом, но и отсутствием языка, ведь если бы они могли обмениваться с нами идея-ми и чувствами, если бы владели словом, то мы не могли бы их есть: из соображений гуманности. Мы даже не можем решиться убить животное, живущее в тесном соседстве с нами, например собаку. Если кто по неосмотрительности умертвит курицу, принадлежащую какому-нибудь крестьянину, то может задобрить его талером. Иначе дело обстоит, если убита собака: здесь ущерб невозместим, и талер причинил бы еще одну обиду.
Поскольку жизнь есть некое целое, то есть имеет начало, середину и конец, неважно, длится она долго или коротко. Важно только, чтобы ее возрасты были правильно соразмерены. Поэтому оплакивать надо лишь преждевременную смерть — не ту, что полагает конец жизни, а ту, что обрывает ее.
Есть много так называемых философов, навязчивых умов, которые подходят к природе без той страстности и почтительности, которые выдают искренне влюбленного человека, заслуживающего ее милости. Они ведут себя, скорее, как любопытствующие болтуны, возбуждая много шума и толкотни и только унижая возлюбленную своим поклонением.
Состояние, которым располагал Вольтер, соответствовало его гению. Напротив, у Руссо мы обнаруживаем сильную несоразмерность между средствами и талантом. Первому больше подошло бы жить в обширной стране, второму — в маленьком городке, где бедность может сойти за добродетель. Но в силу какого-то странного извращения, объяснимого только разницей в темпераменте, первый проживал в Женеве, а второй в Париже: первый щеголял своим богатством перед маленьким народом, второй изумлял великую нацию мизантропической бедностью. В обоих случаях истинной философией и не пахнет.
В метафизическом смысле время — это не старец и не река. Такие символы подходят только для характеристики грандиозного движения, непрестанно уничтожающего и вновь порождающего все во Вселенной. Время — это, скорее, неподвижная урна, из которой выливается вода; побережье духа, мимо которого текут все события, тогда как нам кажется, что движется оно само.
Старость, как известно, больше опирается на память, чем на воображение. Поэтому талант стремится потрясти людей в пору своего цветения, поскольку в старости ему будут удаваться лишь их портреты. Значит, надо уже в юности заготавливать запасы на период засухи.
Без способности к воспоминанию наш возбуждаемый впечатлениями дух постоянно натыкался бы на все углы в универсуме; чувства и идеи, сверкающие поначалу подобно молниям, она обращает в мягкий и ровный свет.
Дикарю не нравится в наших городах, поскольку он равнодушен к общественному мнению. В противном случае все наши прочие оковы вскоре показались бы ему вполне терпимыми в сравнении с этими, первыми и самыми гнетущими. Одичавшие в странствиях матросы не желали возвращаться в наше общество; и никому не встречался такой дикарь, которой не использовал бы первую возможность вернуться к своим соплеменникам, каких бы удовольствий мы ему ни обещали.
В начале жизни человек стоит на распутье, перед животными же раскрывается прямая дорога. Поэтому мы способны сомневаться и бываем повинны в обмане, тогда как звери неподкупны и свободны от того и другого.
Философы обманывались и в отношении народа, и в отношении знати. Они полагали, что просвещение коснется малых сих, а великих мира сего не затронет.
Мораль правит более возвышенным и более строгим способом, чем закон. Она хочет, чтобы мы не просто отошли от зла, но и делали добро; чтобы мы не только казались добродетельными, но и на самом деле были таковыми. Ведь она основывается не на всеобщем уважении, которого можно добиться хитростью, а на нашем самоуважении, которое ничем не купишь.
Мораль, как и само государство, основывается на принципе однородности, поскольку ни отношение человека к зверю, ни отношение человека к Богу нельзя назвать моральным.
Моральные отношения между животными строились бы на анималистической основе, мораль между ангелами — на спиритуалистической. В отношениях между людьми она предполагает гуманность, мать всех добродетелей, порождающая в нас сперва наше право, а затем милосердие.
В морали есть такие вопросы, которые умный и совестливый человек вслух не задает. Закон светит с торцовой стены государства, он охраняет врата и улицы; осторожность и снисходительность ему незнакомы. Между тем в лабиринте морали и закона есть одно укромное место, которое мне хочется назвать форумом совести. Путь к нему знает только добродетель, и потому от множества людей оно остается навеки скрыто.
Было бы преступно передать чужеземцу чертежи наших укреплений, ведь тем самым он получил бы ключ от ворот королевства. Поэтому я не стану говорить, где находится потайной вход в то отдаленное святилище, в коем разрешаются самые тонкие, самые щекотливые проблемы морали и права, для которых слишком грубы весы Фемиды. Ведь если указать эту дверь, туда скоро проникнет алчность со множеством других изворотливых страстей, которые учинят насилие над совестью в ее последнем оплоте.
Существует только одна мораль, как и только одна геометрия; у этих слов нет множественного числа. Будучи дочерью совести и справедливости, мораль является универсальной религией.
Добродетель не следует искать в нейтральных заслугах, таких как соблюдение поста, ношение покаянных одежд или умерщвление плоти; все это не служит никакой службы окружающим.
Нужно различать два вида добродетелей: те, которые идут на пользу только нам самим (сдержанность, рассудительность, бдительность), и те, которые полезны другим людям (справедливость, благожелательность, преданность). То, что полезно только нам одним, еще не добродетель, поскольку сам по себе человек ни добродетелен, ни порочен.
Однако в общественной сфере рассудительный, сдержанный или бдительный человек больше приспособлен к выполнению обязанностей чиновника, отца семейства или солдата. И в этом смысле его личные дарования становятся добродетелями.
Мы должны решиться быть искренними в каждом своем слове, поскольку неукоснительное следование этому правилу повышает нас в собственном мнении, а также потому, что так мы становимся менее болтливы: одна добродетель влечет за собой другую. Лицемерие не должно вырываться за ограду молчания.
Кроме злопыхателей, легкомысленно обвиняющих нас в пороках, о которых они только догадываются, есть еще скромники-друзья, старательно замалчивающие добродетели, о которых им точно известно.
При дворе ничто не сходит с рук, здесь нельзя открывать свои слабые стороны: придворный ориентируется на образцовый вкус и культивирует в себе изысканную учтивость. Он может во всех областях выбрать себе таланты высшего ранга, отсюда тот оттенок универсальности, которым отличается придворная жизнь.
Умение вести себя и хорошие манеры, которые еще хоть как-то облагораживают наш свет, не исчезают потому, что ни одному мошеннику не хочется, чтобы его считали таковым, и он обвиняет в мошенничестве себе подобных. Все пропало бы, если бы он отважился публично заявить: «Смотрите, я мошенник». В стыде выражается более глубокое содержание, чем в притворстве.
Провидение совершило великое благо, допустив, чтобы дети наслаждались счастьем: ведь если бы мир был хорош, то наибольшего сожаления заслуживали бы те, кто ничего в нем не понимает.
— Почему он покончил с собой?
Для того чтобы жить, нужны столь основательные причины, что для самоубийства никаких особых не требуется.
Скупому не хватает и того, чего он лишен, и того, что у него в избытке. Нет более гнусного типа. Богач, которого скупость удерживает от благодеяний, подобен солнцу, переставшему светить.
Если богатый человек не сделается милосерднее земной почвы и, как и она, станет оплачивать только усердие, он прослывет жестоким.
Ничто так не отвратительно, как обходящееся без добродетелей богатство.
Если личность человека действительно более важна, чем его владение, то воистину лучше быть бедным. Именно поэтому богачи кажутся нам людьми столь низкого сорта, и именно поэтому мудрецы отдают предпочтение беднякам.
«Возвращайся, — писала одна не слишком набожная женщина своему любовнику, — если бы я могла любить того, кто отсутствует, я выбрала бы Бога». Женщина эта могла представить себе Бога, который как-никак вездесущ, только по подобию человека.
Подданный, которого монарх избирает своим наперсником, наверняка, как та нимфа, все время трясется от страха, ожидая, что в один прекрасный день Юпитер забудется и явится перед ним в сиянии своих молний и грохоте грома.
Из десяти человек, обсуждающих нас, девять скажут плохое; и тот единственный, кто скажет хорошее, скорее всего сделает это плохо.
Если при дворе мыслят тоньше и выражаются деликатнее, чем где-либо в другом месте, то только потому, что там требуется постоянно скрывать свои мысли и чувства.
Чего может добиться здравый человеческий рассудок в зараженный педантизмом век, когда даже удачу никуда не пропускают без документов.
Иерархия умов строится подобно пирамиде; чем более высокое место в ней занимает человек, тем более он одинок. В самом низу он причисляется к широким слоям, наряду со многими себе подобными; чем выше он поднимается, тем более узкому кругу принадлежит. Камень, венчающий и завершающий пирамиду, единственен и уже не имеет ничего подобного себе.
Тацит зарекомендовал себя подлинным философом, сказав, что в Бога лучше верить, а не умничать по его поводу: sanctius et reverentius videtur de existentia Dei credere quam scire.[26]
В сущности, на Земле есть только одна религия: отношение человека к Богу. Подобно тому серебром называют только один металл, хотя каждое государство чеканит на нем свой герб; так возникает валюта. То же происходит и с языками, отличающимися друг от друга, хотя в них варьируется один и тот же смысл. С каким еще эталоном можно сверить языки и религиозные культы, если не с той долей универсального, что в них содержится?
Универсум состоит из концентрических кругов, вписанных и соразмеренных друг с другом с удивительной гармоничностью: от насекомого к человеку и от атома к Солнцу, вплоть до того высшего, испускающего таинственный свет существа, которое образует их центр — это Я мироздания.
У нас были конституционные священники, но конституционной религии быть не может.
«Философию немногое отдаляет от религии, зато многое возвращает к ней». Это сказал о религии Бэкон; он хотел намекнуть, что вернуться к ней нас заставляет ее политическая ипостась.
Если бы сегодня во Франции была учреждена тирания единоличного властителя, философия смогла бы поставить перед ней меньше преград, чем религия.
Я знал одного человека, который не верил в Бога, и тем не менее все, кто его окружал, казался подлинным Провидением. Я знал только одного такого. Мудрец относится к религии без легковерия, но не без уважения.
Человек неверующий обманывается в отношении грядущей жизни, верующий зачастую — в отношении жизни сегодняшней.
Заметки
Крайне прискорбно, если наши наклонности приходят в противоречие с нашими потребностями. Мне, к примеру, требуется больше двигаться, а я склонен к покою.
Один юный неудачник, втершийся в высшее общество, когда Фортуна повернулась к нему лицом, воспользовался этим случаем, чтобы помочь отцу деньгами. Своему другу, содействовавшему в деле, он наказал никому об этом не говорить: ибо, пояснил он, благотворное впечатление, которое произвела бы сыновняя любовь, не перевесило бы несчастья иметь небогатого отца.
Он глуп, но производит приятное впечатление, когда слушает умных товарищей.
Боже вас убереги от любви англичанки.
— Вам скучно, монсиньор?
— Не беда, вот только кто бы меня развлек…
— Что это за распутство? Одна девчонка за другой!
— Лучше бы вы меня поздравили. Моей любовнице всегда пятнадцать, кроме того, я экономлю на корреспонденции.
«Своим рождением, — сказала мне однажды внебрачная дочь графа П., — я обязана безмозглой глупости и бессердечному распутству».
Лежа на своем диване, я наблюдал, как вокруг ширится слава о моем коварстве, притом что ради нее я не совершал никаких иных злодеяний, кроме нескольких произнесенных мною острот, и я сказал себе: Нерону и Калигуле приходилось громоздить преступление на преступлении, чтобы распространить вокруг себя ненависть и страх, хотя какая-нибудь пара метких словечек — и о них бы уже заговорили как о чудовищах.
В погребке где-то около 1780 года наши разговоры устремлялись на такую высоту, что шпионы едва не дохли со скуки; поэтому к нам отрядили академика Сюара.
Поскольку природа не может предложить мне ничего нового, а общество и того меньше, я довольствуюсь воздухом и водой, тишиной и одиночеством как четырьмя элементами моей жизни, которые не имеют вкуса, но и не ведут к раскаянию.
Г-на Дютана, автора книги, в которой он заявляет, что всеми изобретениями мы обязаны древним, следовало бы спросить, почему у него Аполлон остался без ружья в руках. Поскольку в будущем непременно появятся новые изобретения, а следовательно, и новые Дютаны, которые не упустят случая приписать их древним, я предлагаю, чтобы наш избавил от лишнего труда своих последователей и раз навсегда извлек из классиков все изобретения, которые еще предстоит сделать in saecula saeculorum. Amen.[27]
Практическое правило: никогда не давать женщинам книгу, разве лишь тем, которых держат за семью замками.
О Мирабо: деньги он добывал только преступлениями, а преступления ему ничего не стоили.
Однажды вечером, после бурной ссоры со своим возлюбленным, мадмуазель Ла-герр, не переодев костюма, с заплаканным лицом выбежала из оперы; совсем потеряв голову, она заблудилась в полях. Не переставая плакать, она провела там ночь, а утром (дело было летом) приветствовала утреннюю зарю чудесной арией, которой часто аплодировали в Париже. Прекрасное создание в богатых сказочных одеждах, с его жестами, голосом и изящной фигуркой, местные крестьяне сочли не то Девой Марией, не то ангелом и бросились перед ним на колени.
Представим себе, что в этот момент появляется колесница, вроде той, на которой Шарль бежал из Тюильри, и м-ль Ла-герр похищают, — разве это не довершило бы иллюзию? Разве очевидцы не дали бы разрезать себя на куски, свидетельствуя явление и вознесение богини? Нашлось ли бы в какой-нибудь религии чудо, удостоверенное с такой же ясностью и определенностью? Между тем произошло это в наш просвещенный век в 1778 году в Париже.
Бог людей — человек. Более того, бог евреев — еврей, бог японцев — японец и так далее.
О Лорагэ. Его идеи — как оконные стекла: по отдельности они прозрачны, сложенные в стопку — нет.
Я заснул. Архиепископ сказал своей собеседнице: «Пусть он подремлет, давайте помолчим». Пришлось возразить: «Если вы перестанете разговаривать, вы меня разбудите».
Люди не столь злорадны, как Вы думаете. Вам потребовалось двадцать лет, чтобы написать плохую книгу, а им лишь одно мгновение, чтобы о ней забыть.
— Вы так много говорите с этими занудами.
— Я говорю сам, чтобы не пришлось их слушать.
— Я напишу Вам завтра; отнеситесь к этому всерьез.
— Не утруждайте себя и пишите без церемоний.
И почему только г-н Лорагэ уподобил мой ум пламени, поднимающемуся из воды?
В пору моей юности в Париже водились прожигатели жизни, тратившие состояния на девиц из простонародья, чтобы те их любили.
«Этот человек, — сказала мне одна из этих девиц о герцоге X., — хочет, чтобы его боготворили, а это дорого стоит».
В 1722 году нескольким знатным юным дамам в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет, скучавшим в аббатстве О-Буа, пришла в голову мысль написать письмо Великому Турке и попросить его принять их к себе в сераль. Письмо перехватили и передали королю; при дворе оно дало повод к великому веселью. Монастырская скука и желание любви подтолкнули юных дам ко вполне естественному выходу.
Одна дама сказала выскочке, отказавшему ей в какой-то просьбе: «Фу, у вас все пороки знатных господ». И получила, чего хотела.
Журналисты, столь тяжело пишущие о легких стихах Вольтера, напоминают таможенников, навешивающих свои пломбы на нежнейшие ткани Италии.
Из всех людей Мирабо больше всего соответствовал своей славе: вид его был ужасен.
За деньги Мирабо был готов на все, даже на доброе дело.
Притворство помогает прослыть остроумным человеком: Г. принципиально говорит обратное тому, что думает; иногда это приводит к крайне метким попаданиям.
Моя работа над словарем французского языка иногда напоминает мне работу врача, которому пришлось вскрывать труп любимой женщины. Венера Милосская всего лишь мраморная статуя, но формы ее совершенны. Женщина несовершенна, но исполнена жизни и движения. Из-за своей неподвижности статуя была бы отвратительна без совершенных форм; из-за своих несовершенств женщина напоминала бы плохую статую, если ее лишить того очарования, которое ей придает жизнь и игра страстей.
Музыка должна оставлять душу в неопределенности, предлагая только мотивы. Худшее, что можно сказать о музыке, это что ею все определено.
Ничтожные умы торжествуют, заметив ошибку великого человека, как совы, радующиеся затмению Солнца.
В сочинениях Руссо много шума и жестикуляции. Такой стиль больше подходит не пишущему, а ораторствующему с трибуны.
«Дух законов» Монтескье — сочинение величественное и плодородное, как Нил в своем течении, и столь же темное в своих истоках.
Некоторые люди собираются чихнуть и все никак не могут; та же беда у Г. с остроумными замечаниями.
Историки и романисты обмениваются правдой и вымыслами; первые — чтобы оживить былое, вторые — чтобы придать правдоподобность тому, чего никогда не было.
Однажды я осмелился возвести хулу на Амура, и он отомстил, сведя меня с Гименеем. С тех пор и мучаюсь раскаянием.
В Париже Провидение убедительнее, чем где-либо.
В периоды роста Париж походит на распутную девку.
В 1792 году два престарелых архиепископа, опираясь на свои костыли, прогуливались в городском парке Брюсселя. После продолжительного молчания один обратился к другому: «Монсиньор, как выдумаете, мы проведем эту зиму в Париже?» На что тот важно отвечал: «Монсиньор, не вижу в этом ничего предосудительного».
Когда развиваешь свою мысль перед немцами, они отвечают лишь по зрелом размышлении и ободрив друг друга взглядами. Они объединяют усилия, чтобы оценить красное словцо.
Хоть я не Сократ и не Юпитер, Ксантиппа и Юнона живут в моем доме.
В Европе я не знаю никого, кто находился бы в более глубоком заблуждении относительно своего пола, чем мадам де Сталь.
Если француз стремится выявить комическую сторону жизни, то англичанин, похоже, всегда присутствует при драме, так что классическое сравнение с афинянином и спартанцем здесь исполняется буквально. Наводить на француза скуку столь же бесперспективно, что и пытаться развеселить англичанина.
Я повернулся к Англии спиной по двум причинам: во-первых, из-за дурного климата; и, во-вторых, потому, что работа над словарем лучше шла на континенте. Вообще говоря, мне не нравится страна, в которой больше аптекарей, чем булочников, и где неизвестны никакие свежие фрукты, а только печеные яблоки. Англичанки прелестны, но у них две руки — и обе левые. «…И грация их ярче красоты», — возражает наш Лафонтен в одном из своих стихотворений, написанном будто специально для француженок.
Моя эпитафия: «Лень забрала его у нас раньше смерти».
Анекдоты
Ривароль называл глаз тем местом, в котором дух соединяется с материей, — пародируя стих из «Генриады»: «Здесь умирает тело, оживает дух».
Автору, попросившему сочинить эпиграф для его книги: «К несчастью, Вам я могу предложить только эпитафию».
Ораторов из Учредительного собрания, имена которых были у всех на устах, хотя прежде о них никто не слышал, он называл «политическими шампиньонами, за ночь выращиваемыми в теплицах современной филантропии».
В ходе своей встречи с Вольтером он уподобил некоторые алгебраические операции рукоделию кружевниц, проводящих свои нити сквозь лабиринт булавок и вечером любующихся великолепным кружевом.
Человеку, прочитавшему ему свое двустишие: «Все хорошо, но есть длинноты».
В разговоре шла речь о революции, и аббат Бальвьер сказал: «Это наш ум оказался столь пагубным для всех нас». Ривароль отозвался: «Почему же вы не дали нам противоядия?»
Вечером его помощник уже не мог вспомнить, какие письма ему продиктовали утром. Ривароль назвал его идеальным секретарем для заговорщиков.
Однажды Ривароль беседовал с д'Аламбером о Бюффоне. Д'Аламбер сказал: «Оставьте вы меня в покое с этим болтуном, начинающим с фраз вроде „Благороднейшая победа, которую когда-либо одерживал человек, есть покорение этого гордого и быстроногого зверя“. Почему он не пишет просто: лошадь!»
«Да, — отвечал Ривароль, — он состязается с Жан-Батистом Руссо, вступающим со словами: „От побережий, где встает Аврора, до берегов, где пламенеет ночь“,вместо того, что просто сказать: с востока на запад».
О Тибо, читавшем в Гамбурге лекции, которые очень плохо посещались: «Он платит привратникам, чтобы никого не выпускали».
О Герцоге Орлеанском, лицо которого покраснело от выпитого бургундского: «Излишества избавили его от краски стыда».
Издатель: «Кажется, мне удалось сохранить приличие».
Ривароль: «Это я не хотел Вас смущать».
«Как Вы полагаете, — спросил Ривароль у одной герцогини, заявившей, что королеву следовало бы высечь, если революция не будет продолжена, — как Вы полагаете, если высекут королеву, — что сделают с герцогинями?»
Одному глупцу, хваставшемуся тем, что владеет четырьмя языками: «Поздравляю, у Вас всегда есть четыре имени для одной идеи».
Комментарии
Об источниках
Для литературной репутации слава, которую Ривароль стяжал в обществе как «homme d'esprit»,[28] была, скорее, вредна. Либералам он в лучшем случае казался острословом, язвительным насмешником; среди консерваторов слыл заядлым фехтовальщиком.
«OEuvres Completes»,[29] вышедшие у Коллена в Париже в 1808 году, мало что смогли подправить в этом образе; в них обнаруживаются те же недостатки, что и во многих посмертных собраниях. Взять, к примеру, выпущенные Ротом тексты Гамана, которыми приходилось довольствоваться до недавнего времени, пока их не сменило издание Надлера.
В середине прошлого века один Сент-Бёв признавал значение Ривароля, хотя и ограничился, в сущности, лишь стилистической оценкой. В восьмидесятые и девяностые годы издания Лекюра и ле Бретона пролили свет и на тексты, и на биографию автора. Их работы вызвали интерес к Риваролю у таких умов, как Барбе д'Орвильи, Реми де Гурмон и Поль Леотар.
Ривароль всегда будет производить впечатление только на немногих людей; он — один из пробных камней в литературе. Если его кто-то любит и обнаруживает такую же любовь у незнакомого человека, то это уже предвещает между обоими сердечный разговор. Проигрывая в широте воздействия, Ривароль столько же выигрывает в его продолжительности. В его тетрадях есть такая запись: «Я хочу отшлифовать свой стиль настолько, чтобы не оказать никакого влияния на свой век».
В Германии влияние Ривароля было еще более ограниченным, чем в его отечестве. И все же он довольно скоро нашел здесь таких поклонников, как Карл Юлиус Вебер, ученый составитель «Демокрита», этого неиссякающего источника юмора.
Перевод «Максим» впервые появился лишь в 1938 году в изданном Дитерихом сборнике «Французские моралисты». В этом переводе тексты расположены в порядке, предложенном Лекюром. Выполнен он Фрицем Шальком.
В том же году заслуги нашего автора были в надлежащей мере признаны в работе «Антуан де Ривароль и конец французского Просвещения». Речь идет об объемной диссертации, которая по осведомленности в деталях и по глубине духовного проникновения превосходит даже прекрасную работу ле Бретона. Она дает научную основу каждому, кто хочет заниматься Риваролем и его трудами. Автором ее был Карл-Эйген Гасс.
Здесь нужно вспомнить об этом одаренном романисте, — не только потому, что этого требует готовящаяся в Германии новая публикация о Ривароле, но также и потому, что он принадлежал к гвардии талантов, созревших накануне войны и ею взысканных.
Карл-Эйген Гасс родился в Касселе 21 марта 1912 года; с 1930 по 1936 год изучал романские языки, германистику и философию сначала в Гейдельберге, где былучеником Ясперса, затем в Мюнхене и наконец в Бонне, у Эрнста Роберта Курциуса. Здесь он получил толчок к изучению Ривароля и ради этого на зимний семестр 1934/35 года отправился в Париж, в Сорбонну. Там, в одной антикварной лавке на рю де-Сен, ему посчастливилось найти издание 1808 года, давно уже считающееся большой редкостью. Этот экземпляр, извлеченный из бомбоубежища в подвале его разрушенного дома, пригодился и мне в моем переводе. Подарком, как и знакомством с подробностями жизненного пути Гасса, я обязан дружескому участию его супруги.
Гасс защитил диссертацию в феврале 1935 года, а в 1937 году получил по обмену место в Scuola Normale Superiore в Пизе, где обрел досуг для своих занятий. Наряду с научными сочинениями здесь был написан и прекрасный дневник. В 1938 году он был принят на должность ассистента в Библиотеке Герца в Риме. Оттуда он и выслал мне свою работу о Ривароле. Как явствовало из сопроводительного письма, Гасс вполне сознавал, что сочинения его любимого автора имеют для нашей эпохи не только историческое, но и вполне актуальное значение, а потому являются пробным камнем и в отношении злобы дня. Привычным для тех лет слегка шифрованным слогом он писал мне: «Из книги Вы увидите, что в это время Ривароль оказал на меня значительное влияние: он во всех деталях прояснил мне современную нашу ситуацию. Следуя диссертационным требованиям, я тем не менее опустил все, что можно было сказать в этой связи, стремясь лишь описать духовный мир Ривароля в его строении. Но всегда сохранялось желание перевести некоторые избранные вещи, дающие представление о его подлинном облике, и тем самым сделать его известным в Германии…»
Потом разразилась война. Последовало еще несколько коротких писем и наконец, уже после разгрома, о Гассе, как и о столь многих друзьях, лично оставшихся мне не знакомыми, пришло известие, что 18 сентября 1944 года он погиб близ голландского городка Эйнховен.
Его от природы веселый нрав уже долгое время казался омраченным; участь нашего народа наполняла его глубокой печалью. Но когда поступил приказ о выступлении, радость жизни к нему вернулась. Как и большинство наших лучших людей, он видел, что гнетущее сопряжение власти и права образует третий элемент: жертвенные врата, всегда остающиеся открытыми. «Пожелай мне такого пути, в который я не мог бы взять тебя с собой», — это последние слова, которые он сказал своей жене.
О максимах
Как уже было сказано, при жизни Ривароля максимы в таком виде не публиковались. Они возникли, скорее, как собрание отдельных находок. Уже в посмертном издании 1808 года небольшая их часть была помещена под заголовком «Mélanges».[30]
В 1836 году младший брат Ривароля Клод-Франсуа выпустил в свет «Pensées inédites».2 (Неизданные мысли (фр.). В основу публикации были положены четыре оставшиеся от Ривароля тетради, которые он называл своей «кладовой». У него была привычка записывать свои ежедневные наития на клочках бумаги и потом, рассортировав по содержанию, хранить их в разных папках, как в те времена было принято у нотариусов и чиновников. Время от времени заметкой пересматривались и приводились в порядок. К сожалению, брат, о котором сам Ривароль однажды сказал, что он слыл бы вундеркиндом в любой семье, кроме своей собственной, счел необходимым снабдить издание своими поправками и дополнениями. Заслуга в сверке этих текстов с «carnets»[31] и другими источниками, и их очистке и устранении темных мест принадлежит Андре ле Бретону. Выполненная им селекционная и критическая работа нашла отражение в опубликованном в 1895 году труде «Rivarol, sa vie, ses idées, son talent, d'aprés des documents nouveaux»,[32] до сего дня остающегося образцовым. От него отталкивается и новейшее собрание «Notes, Maximes et Pensées de A Rivarol»,[33] вышедшее у Омона в 1941 году.
Жак Омон, издатель, всей душой преданный своему делу, сверялся не только с изданием ле Бретона, но и с Лекюром, а также с Полным собранием и с напечатанной в 1812 году «Риваролианой». В результате получился прекрасный двухтомник в карманном формате, пополнивший задуманную им «Коллекцию моралистов». Предлагаемый перевод, при подготовке которого вновь были просмотрены источники, в целом следует этому порядку. Некоторые фрагменты были возвращены в его состав, другие, утратившие для нас свою значимость, опущены. Замечания вроде того, что «искусство книгопечатания — это артиллерия мысли», были сохранены в качестве нижнего предела, хотя сегодня достаточно сравнить ружейный порох с типографской краской, чтобы убедиться в правоте Ривароля, считавшего, что в литературе, в конце концов, все становится общим местом. Излишними стали насмешки над литераторами, от которых время не оставило и следа, — по крайней мере, в том случае, когда замечания касаются только личностей и не получают от универсальной истины никакого дополнительного веса. Напротив, когда Ривароль об одном своем современнике говорит, что его идеи напоминают сложенные в стопку оконные стекла, намекая на то, что все они ясны по отдельности, но непрозрачны собранные вместе, то мы имеем дело с оценкой более высокого уровня, касающейся логического построения; в ее-то свете имя этого современника и сохраняется для будущих поколений. Крапивнику, возомнившему, что может летать выше орла, всегда грозит эта опасность: триумф одного дня оборачивается вечным посмешищем.
Дела за последнее время вновь вошли в норму настолько, что здесь я могу выразить г-ну Омону свою благодарность за два его тома — провиант, которым я с 1944 года был обеспечен в своих блужданиях в неизвестном. Мысли, высказанные человеком ясного ума, даже если он жил задолго до нас, в такой ситуации питательнее и незаменимее хлеба.
О переводе
Ривароля нельзя отнести к трудным авторам, это не соответствовало бы его характеру. Вокабулы его словаря просты, тематика удерживается в рамках общей образованности и предполагает некоторое знакомство с историей Французской революции.
У Ривароля слово подчинено не логической схеме, а скорее жизни самой фразы и духу языка. Поэтому читателю придется воспринимать, скажем, значение слова «философ» в подвижном контексте, когда так может быть назван и человек, подобный Сократу, и разумно мыслящий современник, и какой-нибудь внушающий отвращение демагог.
Не раз отмечалось, что стилю Ривароля присуща меньшая свобода там, где он вступает в область философии. Объясняется это отчасти его терминологией, кото-рая не выходит за рамки сенсуализма и недостаточно дифференцирована для современного читателя-немца. С другой стороны, это оставляет известное пространство при переводе таких понятий, как pensée, sentiment, notion.[34] Поскольку ограниченность касается терминологии, а не сути дела, нам благодаря этому может открыться много нового.
Обороты вроде «corps politique», «corps social», «corps national»,[35] наделяемые смыслом в Риваролевом учении о государстве, излишне затруднили бы чтение максим, и потому переведены просто как «государство», «общество», «нация».
Есть две причины, по которым публикация максим в характерном для них сжатом виде может увенчаться успехом именно в наши дни. Во-первых, наш язык сделался более гибким; он упростился и сделался отшлифован настолько, что благодаря этому, с одной стороны, кое-что оказалось утрачено, но, с другой — многое и приобретено. Это связано не только с упрощением грамматики, в чем другие народы намного нас опередили, но также и с развитием ассоциативной способности. Одним простым словом сегодня можно сказать если и не больше, чем сто лет назад, то, по крайней мере, больше разного, — причем не только потому, что увеличилось количество тем, но и потому, что возросла энергия говорящего. Правда, уже Шопенгауэр в своем эссе «О писательстве и стиле» жаловался, что «ужасные невежды-литераторы» урезают немецкие слова как плут монету, но он видел в этом теневую сторону закономерного процесса, который ведет к афористике Фридриха Ницше, пробудившей скрытые в слове ядерные силы. И напротив, нам придется смириться с упрощением глагольных форм и самой структуры слова. Для духа языка оно имеет то же значение, что в химии стабилизация молекул. Другое дело, что писатель непременно должен владеть классической грамматикой, как художник владеет предметом, даже если занимается непредметной живописью, или как современный японец — дзен-буддистским стилем. Воздействие традиции сегодня сделалось неприметным, но оно придает важность людским делам и трудам, хотя заметить его могут теперь лишь избранные.
Во-вторых, мы созрели для тематики Ривароля и в том, что касается нашего политического опыта. Из почвы Французской революции прорастает ствол континентальных, а потом и мировых волнений XIX и XX веков, ветви его простираются во временах и множатся в пространствах. Это не значит, что дальнейшее развитие форм прекращается и что народы не вносят в него собственного вклада, и все же именно в годы, предшествовавшие штурму Бастилии и следовавшие за ним, появились ростки всего, что происходило в дальнейшем. Лозунг Троцкого «Большевизм плюс электричество» во многом справедлив: террор не многим бы отличался от бесчинств наших властей, если бы типы вроде Марата или Каррера располагали имевшимися у них техническими средствами. С другой стороны, и такие новые, утонченные репрессивные средства, как например система блоквартов, были бы немыслимы без подготовительной работы, проделанной лисьими умами вроде Фуше. Что касается нас, то впервые мы присоединились к этому процессу в 1918 году и затем в 1933 и 1945. Что такое ассигнаты, levée en masse,[36] изгнание, эмиграция, нация в противоположность народу — нельзя узнать из книжек по истории. Париж одержал верх над королем и провинциями, и с этого момента историю определяют населяющие крупные города массы и их понятия. Это повлияло не только на технику, но и на язык, с чем связан важный рывок в развитии слога. Прежде всего ужесточается контроль над жизнью и языком со стороны сознания; подавляются чувства, высвобождаются энергии. У верхних пределов это приводит к рождению новой прозы, подобной той, которую Ницше с восхищением открыл у Стендаля. Именно таким сознанием уже обладал Ривароль. Поэтому к нему несправедливы те из критиков, кто видит в нем только феномен старого общества, воплощенный дух ancien regime. Они не замечают при этом вновь пробудившейся бдительности, рожденной близостью великой и до тех пор неведомой опасности. Она либо неизбежно ведет к тому, что мы сегодня называем «унификацией», либо рождает новую, более одинокую смелость, чем та, которой отличался Вольтер. Сегодня случаются более опасные святотатства.
И если мы пристальнее вглядимся в жизнь и сочинения этого человека, то под сверкающей поверхностью старого общества и его форм уже обнаружим первые приметы того духовного сиротства, которое потом, на протяжении XIX века, столь многих увело в нищету, в безумие или в самоубийство. Таков же и один из источников цинизма, в котором так часто упрекают Ривароля. Цинизм этот принадлежит к симптомам одиночества.
Время, отодвигающее, отдаляющее от нас столь многих писателей, других, наоборот, делает нам ближе. К числу их относится и Ривароль.
* * *
Присущее максимам своеобразие можно пояснить на одном примере. Оно заключено не в словах, а лежит за ними; слова же зачастую выполняют мистифицирующую функцию.
«Nous sommes dans un siècle où l'obscurité protège mieux que la loi et rassure plus que l'innocence».
На первый взгляд, это можно прочесть так:
«Мы живем в столетие, когда темнота защищает лучше закона и приносит больший покой, чем невинность».
При более точном рассмотрении возникают сомнения. Во-первых: о каком это столетии Ривароль может говорить, когда восемнадцатое как раз кончается? По-видимому, слово siècle означает здесь просто «saeculum», «эпоха», «время».
Но что тогда означает эта obscuritê? Это не та темнота, которую человек ищет словно перепуганный заяц в тени лесных деревьев или каракатица, распространяющая вокруг себя облако чернил. В обоих случаях он поступал бы так, чтобы спрятаться, и слово «укрытость» здесь подошло бы больше, чем «темнота».
Ривароль же, по всей видимости, понимал под «темнотой» нечто большее, чем просто «укрытость». Речь несомненноидет и о каком-то оттенке сознания: на этоуказываетсвязьс «невинностью». Представим себе, что герцогиня Ламбаль спряталась от террористов у своего привратника. В таком случае она находится в «укрытии», однако нельзя сказать, что в безопасности. Привратник же никуда не прячется, и все же он в безопасности. Ведь вокруг него та самая темнота, которой ищет Ривароль и которая была бы еще гуще, если бы он состоял в привратниках не у герцогини Ламбаль, а у какого-нибудь незначительного частного лица. В незначительности-то и заключается его безопасность.
«Темный» в смысле незначительный, ничтожный; смутного, неопределенного происхождения: таковы частицы громадных и мощных масс, и суверенность этих масс покоится на незначительности составляющих их индивидуумов. «Ты — ничто, народ — всё» — такие лозунги хорошо характеризуют это соотношение; и, наоборот — безопасность индивидуума обеспечивается его незначительностью. В таком состоянии для поддержания общего духа не обойтись без проскрипций: для правителей они все равно что овчарки для пастуха. Поэтому же люди во все времена заняты составлением списков (ныне картотек), и меньше всего подозрений вызывает человек без свойств. Нельзя допустить, чтобы тебя отнесли к аристократам, к помещикам, капиталистам, кулакам, цыганам, евреям или даже просто к горожанам. Поэтому вожди народных государств предпочитают сегодня иметь как можно более темную родословную. В этом смысле obscurité можно перевести как «незначительность», если уж не оставлять просто как «затемненность». Гениальная находка Ривароля в том, как он связывает это качество (или, скорее, отсутствие качеств) с покоем невинности, т. е. со спокойной совестью. Светом этой ремарки озаряются нагромождения бесстыдства, через которые проходят в удивленном молчании.
Наконец, остается la loi, «закон». Здесь можно сказать и «законы», ведь в виду несомненно имеется не закон в древнем, досточтимом смысле, как например закон Моисеев. Такой закон как раз и слабеет, по мере того как множатся законы.
Таким образом, мы приходим к следующей версии: «Мы живем во времена, когда незначительность защищает лучше законов и более успокоительна для совести, чем невинность».
Ее тоже можно оспаривать, ведь перевод всегда остается лишь приблизительным. Анри Плар, германист из Брюсселя, сравнивает слова, всплывающие как возможные варианты перевода, со связкой ключей, которыми мы пробуем открыть ларец. Некоторые подходят к скважине, но замок отпирается только одним.
Можно добавить, что и в ларце иногда не оказывается точного эквивалента. Всегда остается невесомый осадок, определяемый самим духом языка. В этом смысле у нас нет слова, которое объединяло бы в себе все гены французского obscurité. В нем пошлая ничтожность суверенного буржуа, непревзойденный портрет которого нам оставил Домье, сочетается со свойственным XVIII веку презрением к человеку темного происхождения, к простолюдину. И вокабула эта типична для Ривароля, ведь он стоит на самом гребне хребта, разделяющего два столетия. А тот, кто с такой точностью попадает в средостенье своего собственного времени, затрагивает и то, что значимо во все времена. Вот и получается, что такое слово, как obscurité, еще и сегодня сохраняет провоцирующий характер, и при его звуке из тьмы встают целые галереи современников, людей давней эпохи, вновь начинающих властвовать над жизнью и смертью. С другой стороны, это добрый признак того, что мы еще способны ощутить сам вкус слова, а значит, свет критики еще не померк.
К отдельным местам
[С. 96] Во время этой премьеры Бомарше сказал Риваролю: «В Версале у меня было столько хлопот с полицией, что я просто совершенно разбит». «Такие уж там порядки», — ответил Ривароль, и эти слова показывают, что он (и быть может, только он один) вполне проникся настроением, воодушевлением этого вечера, который Сент-Бёв уподобляет разорвавшейся бомбе и о котором Наполеон позднее говорил: то была «уже двинувшаяся в поход революция».
[С. 102] Якоб Гримм пишет там о «Немецком словаре»: «Теперь вся эта громадная ноша ложилась на две пары плеч: казалось, это ее облегчит, разделит пополам; но появились ведь и две головы, а это вредило если не единству замысла, то единству его исполнения. Однако сомнения рассеялись, уступив той неизменной дружбе, что соединяла нас с младых ногтей…».
[С. 146] Упоминание о Берке в этом контексте нужно принимать с оговоркой; всегда следует спрашивать, что именно думали о нем романтики. Карл Шмитт характеризует то восхищение, с которым Адам Мюллер относился к Берку, в сущности неоправданным: «В Германии о Берке до сих пор говорят как о первом этапе романтизма, как будто он был для романтиков чем-то иным, нежели Данте, Кальдерон, Гете — одним ярким тоном в пестром полотне романтического интеллектуализма, просто романтической фигурой, подобно Бетховену в эпистолярных романах Беттины, неким расплывчатым образом…» («Романтизм в политике»).
Существенное различие между Берком и Риваролем, хотя они многим обязаны друг другу, заключается в их отношении к религии. Преимущество и ограниченность Ривароля состоит в строгом проведении рациональной линии, и потому среди консервативных мыслителей он принадлежал к тем, кто сумел с наибольшей четкостью отделить государственную политику от религии. Это не мешало емуподчеркивать в своих суждениях, что духовная свобода предполагает веру или что истина является пробным камнем философии, но не веры. «Il n'y a pas de fausse religion».1(Ложных религий не бывает (фр))
[С. 196] Слово précaire (рискованный, ненадежный) происходит от латинского precarius — вымоленный, полученный молитвами (preces).
[С. 210] «On n'a pas le droit d'une chose impossible». На первый взгляд, эта максима требует следующего перевода: «Ни у кого нет права на невозможное». Однако, не говоря уже о том, что для Ривароля странно было бы останавливаться на такой банальности, выбранный смысл подтверждается и другими местами, например: «…le peuple n'a jamais le droit de ce qu'il ne peut pas» [C. 185].
Смешно было бы, к примеру, если бы ныне какое-нибудь государство издавало законы, предназначенные к исполнению на Луне, хотя со временем это, пожалуй, станет вполне возможным и необходимым. О том же говорит старое изречение «Нюрнбергцы никого не вешают, кто побывал в их власти», а равно и пословица «Где пусто, там и у власти прав не густо». В попытках вывести какие-либо права из невозможного слабость сочетается с грубостью; вместе они всегда свидетельствуют об отсутствии логического чутья в установлении правильных границ. Так, сегодня широко распространено убеждение, что невозможность за себя постоять обеспечивает право на защищенность. С другой стороны, если волк нападает на ягненка, ставшего на водопой ниже по течению, и мотивирует свое нападение тем, что тот-де замутил ему воду, то и в этом случае право выводится именно из невозможного.
У Ривароля и здесь весьма значительное содержание облечено в предельно сжатую форму. Подобно хорошему лекарству его максимы оказывают действие на организм в целом. Он выступает не от имени какой-либо партии, а от имени здравого человеческого рассудка. Поэтому напрасны все попытки использовать его имя в интересах крайних политических группировок. Его сильная сторона — не воля, а способность суждения, которую не поставишь на службу какой-то одной партии. Это нужно учитывать, когда судишь об авторе, чья слава сильно пострадала не только от его врагов, но — возможно, еще в большей степени — и от ложных друзей.
[С. 217] Крепкий орешек среди максим. Это место у Ривароля особенно интересно тем, что тут его мысль выходит за пределы четко размеченного поля. Будь его авторство анонимным, такую связь между бытием, движением и временем вполне можно было бы приписать и индийскому мудрецу, и немецкому философу XX века. Поэтому я с особым любопытством поинтересовался мнением Мартина Хайдеггера и был очень рад, получив от него подробный комментарий, выдержку из которого предлагаю вниманию читателя:
«Le mouvement entre deux repos est l'image du présent entre le passé et l'avenir. Le tisserand qui fait sa toile fait toujours ce qui n'est pas».
«Движение между двумя состояниями покоя есть образ настоящего между прошлым и будущим. Ткач, который делает свое полотно, всегда делает то, чего нет».
Что прежде всего бросается в глаза, так это взаимосвязь между движением-покоем (как граничным случаем подвижного и его сосредоточения), с одной стороны, и темпоральным — с другой. Со времен Аристотеля (Физика IV, 10–14) вид этой взаимосвязи явно входит в представление о времени. Но «движение» и «время» в ходе европейского мышления сделались многозначными титулами, в которых, варьируясь, всегда просматривается первое начало греческого мышления. Я упоминаю об этих, во многом еще темных исторических взаимосвязях лишь ввиду того, что у Ривароля речь идет о том, qui n'est pas…[37]
Однако темное, и в то же время проясняющее в максиме Ривароля содержится во втором предложении. Образ ткацкого станка, со снующим туда-сюда челноком, показывает, что Ривароль смотрит на движение не как на течение из будущего в прошлое («время проходит»), но что переход есть движение туда-сюда между тем, что покоится. Поскольку, однако, прошлое и будущее в не меньшей степени принадлежат времени, собственно существующее и пребывающее, покоящееся, по-видимому, покоится именно в прошлом и будущем. Собственно время стоит, а не идет, идет оно только как настоящее, т. е. как преходящий переход.
Решающим во втором предложении мне видится дважды сказанное fait и его двусмысленность. Последняя выявляется вопросом: что делает ткач? Это может означать: 1) что он изготавливает в смысле своего ремесла, какое произведение готовым выпускается (про-из-водится) из изготовления в для-себя-стояние и предлежание; 2) чем занят ткач, с чем он работает, что именно у него в руках и под рукой?.. При взгляде на двузначное fait предложение Ривароля говорит следующее:
Ткач, который, как и полагается полотнянщику, производит и выпускает свое полотно, им изготовленное полотно как его произведение, в этом изготовлении всегда занимается (только) переходом, движением туда-сюда; туда-сюда, т. е. «туда» к некоему «еще нет» и «сюда» из некоего «уже есть», и наоборот. Переход же есть присутствие не-существующего.
Итак, будучи занят [beschaftigt] не-существующим туда-сюда, ткач создает [schafft] существующее, готовое полотно. В движении туда-сюда выявляется настоящее. Всякий покой есть прекратившееся движение туда-сюда. Вид настоящего передает как раз не то, что покоится, а движение. Ударение в этой максиме стоит на первом слове: le mouvement. Обычно мы представляем себе настоящее как нечто застывшее, неподвижное, покоящееся. Ривароль же говорит: настоящее видится как движение…
Такие максимы всегда подвергают нашу способность мышления испытанию, которое где-нибудь вновь принесет плоды…
Хайдеггер добавляет, что сам он еще не занимался Риваролем. Тем удивительнее его толкование, в несколько приемов вскрывающее самую суть этой максимы, Риваролево понимание времени. В действительности, время для него стоит. На это указывают замечательные образы, в которых оно уподобляется неподвижным берегам реки, вдоль которых мы проплываем, или неподвижной урне, из которой струится вода. [С. 230] «Есть добродетели, вменяемые только богатству…». Тут можно добавить: «…и в еще большей мере — только бедности».
[С. 250] Под «колесницей» (char) подразумевается «шарльер», воздушный шар, наполненный водородом. Его соорудил физик Жак Шарль, отправившийся на нем в первый продолжительный полет 3 декабря 1783 года, при большом стечении публики.
[С. 255] Гименей, бог супружеского союза, противопоставляемый здесь Амуру.
[С. 269] Поспешность, с какой составлялось это собрание, проявилась, в частности, в том, что на самом фронтисписе имя Ривароля и годы его жизнь приведены с ошибками; и ошибки — еще не самое досадное в этом издании.
Там же. Клод-Франсуа Ривароль (1758–1848) участвовал в различных политических и литературных проектах своего брата, прежде всего в издании Journal politique national. Он был офицером, дважды, в 1793 и 1800 годах, попадал в плен и вышел в отставку генералом в 1816-м. В одном письме к Манетте Антуан называет его «Дон Кихотом контрреволюции».
Клод-Франсуа организовал издание трудов своего брата и опубликовал наряду с небольшими работами четыре тома «CEuvres litteraire».[38] В них содержатся сведения о многочисленных братьях и сестрах, большинство которых постигла ранняя смерть. Хотя он достиг гораздо меньших успехов, чем брат, последний всегда отзывается о нем в превосходной степени. Все это позволяет сделать вывод, что гостиницей «Три голубя», над которой оппоненты Ривароля вдоволь насмеялись в песенках и эпиграммах, на самом деле заправлял добрый домовой. Поэтому мы не должны думать, что юность Ривароля прошла в сумрачном одиночестве, как у Фридриха Геббеля; скорее, она была сангвинически-веселой и прошла в родовом гнезде среди духовно близких людей, как у Эмили Бронте.
Примечания
1
Дайте же мне, сударь, какой-нибудь предмет. — Хорошо, пусть таким предметом буду я. — Но, сударь, король — это не предмет (фр.).
(обратно)2
Если книгу поддерживают, значит, она плохо стоит на ногах (фр.).
(обратно)3
«Старый порядок», государственный строй дореволюционной Франции (фр.).
(обратно)4
Судья в вопросах изысканного (лат.).
(обратно)5
Это француз до мозга костей (фр.).
(обратно)6
Немецкие Tandvi и vertandeln восходят с средневерхнене-мецкому tant — «пустая болтовня», «пустяки», «проказы».
(обратно)7
Из глубины (лат.).
(обратно)8
Политические труды (фр.).
(обратно)9
Меньше слов, больше дела (лат.).
(обратно)10
Образный стиль (фр.).
(обратно)11
Образный стиль всегда более ясен и убедителен (фр.).
(обратно)12
«Национальный политический журнал» (фр.).
(обратно)13
«Деяния апостолов» (фр.).
(обратно)14
В Париже, в первом году анархии (фр.).
(обратно)15
В особо важных делах (лат.).
(обратно)16
Социальное, общественное тело (фр.).
(обратно)17
Политическое тело (фр.).
(обратно)18
Народ, буржуа, граждане, чернь (фр.).
(обратно)19
Публика, общество (фр.).
(обратно)20
Фатовская эмиграция (фр.).
(обратно)21
В стадии ее зарождения (лат.).
(обратно)22
Вот твое право (лат.).
(обратно)23
Ты сам будешь правом (лат.).
(обратно)24
Не мертвые восхвалят тебя, Господи (лат.).
(обратно)25
Права придумали из страха перед несправедливостью (лат.).
(обратно)26
Благочестивее и почтительнее было бы верить в существование Бога, а не знать о нем (лат.).
(обратно)27
Во веки веков. Аминь (лат.).
(обратно)28
Остроумный человек (фр.).
(обратно)29
Полное собрание трудов (фр.).
(обратно)30
Смесь, разное (фр.).
(обратно)31
Записные книжки (фр.).
(обратно)32
«Ривароль, его жизнь, идеи, дарования в соответствии с новыми свидетельствами» (фр.).
(обратно)33
«Замечания, максимы и мысли А. Ривароля» (фр.).
(обратно)34
Мысль, чувство, понятие (фр.).
(обратно)35
Политическое тело, социальное тело, национальное тело (фр.).
(обратно)36
Народное ополчение (фр.).
(обратно)37
Что не существует (фр.).
(обратно)38
Литературные труды (фр.).
(обратно)


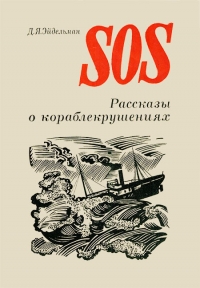
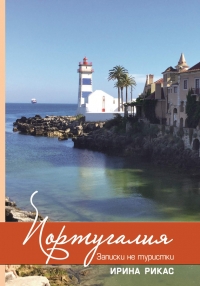




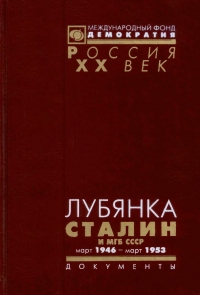
Комментарии к книге «Ривароль», Эрнст Юнгер
Всего 0 комментариев