Трюм, или Большой колымский трамвай Рассказ-свидетельство
Я ПОМНЮ ТОТ Ванинский порт: И вид парохода угрюмый, Как шли мы по трапу на борт В холодные мрачные трюмы… Из песни колымских заключенных[1]Следы многих преступлений ведут в будущее
С. Е. Лец
Оглядываясь назад, я еще и еще раз старалась запечатлеть в своей памяти, как впервые рассматриваемую фотографию, дорогу, по которой только что прошла сама: длинной змеей ползла и вытягивалась на ней серо-черная колонна заключенных, повторяя ее изгибы и повороты.
Глаза жадно схватывали все кругом, но скудный ландшафт не давал им желаемой пищи: вокруг только едва пробуждавшиеся из-под стаявшего снега после долгой зимней спячки сопки, покрытые кое-где стелющимся низкорослым кустарником, да чахлые лиственницы в редком одиночестве трепыхались на ветру.
И когда, наконец, человеческая змея вползла по крутизне большой сопки на ее вершину, удивленному взору открылась неожиданная панорама: во всю свою неохватную ширь и даль, плещась и играя всеми оттенками зеленовато-лазурного цвета, предстал могучий свободный океан.
Легкой ударной волной хлынула давно забытая живительная свежесть морского воздуха, вызвавшая внезапное головокружение и слабость во всем теле.
Задышалось здоровым чистым воздухом, и это особенно заметно ощущалось после вонючих, забитых до отказа тюремных камер, тесных скотских вагонов, переполненных пересыльных бараков с той особенной прогоркло-кислой и специфически спертой вонью, которая свойственна местам, где пребывает масса давно немытого народа — неизживная вонь от скопища человеческих тел.
Осязаемая на всем теле, как липкий грязный пот, и оседая на слизистой оболочке дыхательных путей, особенно на нёбе, эта вонь, подобно сладковато-трупному запаху, вызывала тошнотворное состояние, въедалась в человека, неотступно преследовала его, окружая невидимой микрооболочкой. Ощущение было мучительно, казалось, что тело насквозь пропитано ею: вонь вносила свой дополнительный и жестокий элемент в страдания физические при нестерпимых страданиях душевных.
И вдруг эта неожиданная свежесть, как дар божий, как божья благодать, влившая в тела людей живительную силу, — и послышалось учащенное жадное дыхание тысяч пар легких.
От охватившей радости мне захотелось бежать, скользить, парить, умчаться в неведомое. Хотелось припасть к земле, как бывает во сне, обнять необъятное распростертыми руками. Хотелось рыдать, оросить слезами, целовать и ласкать каждый камешек, каждую песчинку! Хотелось окунуться и омыться в морской очистительной волне…
Но так радовалась моя душа, рвалась наружу после 16-месячного одиночного и этапного заключения, разум же должен был подчиняться обстоятельствам, а тело и члены исполнять приказ…
Надо было плестись в гуще нескончаемой колонны зеков по пять человек, с опущенной вниз головой, заложенными назад руками и не разговаривать, а молча идти «под дудоргой», т. е. под конвоем к месту следования.
В одной пятерке со мною шагали еще четыре молодые и красивые женщины, опутанные одной цепью огульных обвинений и осужденные по 58-й статье, политической.
Это Тамара — аккордеонистка, арестованная со своей довольно молодой матерью — они всегда и везде были вместе — в Берлине, куда их забросила судьба из Крыма, где они обычно отдыхали каждое лето, и так случилось, что и 22 июня 1941 года их тоже застало там.
В первые дни войны все железные дороги были закрыты, переведены на военное положение, введена строгая пропускная система, пропуска на проезд выдавались через военные комендатуры только военнообязанным, спешившим на свои призывные пункты и базы; станции оцеплены; вокзалы, привокзальные площади и перроны забиты гражданским людом, детьми и женщинами, предпринимавшими отчаянные попытки как-то добраться до своего дома; пробиваясь к неприступным крепостям-кассам, отстояв многосуточные безрезультатные очереди, втискивались в переполненные, трещавшие от перенаселенности вагоны, с детьми лезли в тамбур, продирались, и донельзя уплотняя такими же, как и они сами, «зайцами» межвагонные подпрыгивающие площадки, карабкались в приоткрытые проемы вагонных окон, лезли и срывались с крыш, захватывали «классные» места на тендере и у самой трубы, исторгавшей клубы черной жирной копоти — о транзитной публике н и к т о не заботился, не организовывал, всюду царил беспорядок, разброд, сутолока, хаос, гвалт, слухи; люди волнами бросались из стороны в сторону, от касс к поездам и обратно; враз пропали продукты; станционные ларьки и буфеты закрылись, исчез хлеб — введена жесткая карточная система, карточки выдавались только по месту работы, бешено взбухли цены на привокзальных базарчиках, ели что попало, спали под открытым небом; изнуряла жара, удушливая пыль, зловонные нечистоты, пагубная антисанитария, мухи; вспыхивала дизентерия, следы которой были видны и там и сям, беготня в поисках медпомощи, плач, стоны, мольбы, исходившие от скопища народа — массовая обреченность — обстановка, в которой оказались тысячи и тысячи людей, врасплох застигнутые войной на пляжах, в разъездах, на дорогах и транзитом без пропусков, без билетов, без денег рвавшихся хоть как-нибудь добраться до своих мест.
Пассажирские, товарные, скотские поезда и открытые платформы, набитые мобилизованными, проносились без остановок мимо станций, и казалось, что вся огромная страна встала на колеса…
Вернуться домой в Москву, где их ждал и волновался Тамарин отец — крупный инженер, предпринимавший все возможное и невозможное, но безрезультатно — потерялась последняя ниточка связи — потому как в довершение всеобщих бед нарушилась и почтовая связь, — было невозможно.
А ситуация тем временем на театрах войны первых месяцев калейдоскопически быстро и непредвиденно менялась, и Тамара с матерью в пляжных одеждах и курортных шляпах оказались в оккупации.
В первую очередь немцы гнали эшелонами «бездомников», бывало и прямо с вокзалов, в глубь Германии, где прибывающая рабсила с Востока — «остарбайтэр» — организованно распределялась по городам, заводам, бюргерским хозяйствам, немецким семьям.
Тамару с матерью взял к себе для ведения домашнего хозяйства престарелый профессор берлинской консерватории, втайне ненавидевший нацизм и насилие. Со временем Тамара встретилась с земляком — военнопленным, молодые люди потянулись друг к другу, полюбили, и Тамара родила от него дочь.
Тамаре с ее красотой не везло, к ней вечно приставали разные начальники, в Берлине, например, полковник из советской оккупационной зоны. Пораженный в самое сердце тамариной «расовой красотой», как он выражался, ее миниатюрностью, эффектностью и интеллигентностью, полковник готов был оставить ради нее свою жену, не родившую ему в течение всей их супружеской жизни ребенка, но Тамара оставалась верной своему земляку и попала под гонения…
Тамару и ее мать арестовали в 1947 году, а девочку полковник с женой удочерили.
Сквозным путем Берлин — Н. Тагил, из глубины Европы в Сибирь; Тамара с матерью, в числе таких же заключенных, попала в уральские лагеря; вскоре мать умерла, не выдержав условий родных советских исправительно-трудовых лагерей. А Тамара, отвергнув приставания начальника лагеря, обещавшего при согласии перевести ее на облегченный режим, и разозлив отказом хозяина, получила «добавку» в 10 лет к своим 25 годам и была включена в дальний этап, на Колыму.
Забегая на несколько лет вперед, добавлю, что по прибытии в Магадан, Тамара, выдержав конкурс среди многочисленных претендентов — артистов и музыкантов, была включена в основной состав агитбригады, разрешенной верхушкой УСВИТЛа (Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей), под управлением Эдди Рознера — «серебряной трубы» мира, первоначально подвергавшегося изощренным издевательствам барачного ПАХАНА — махрового рецидивиста-уголовника. И получала редкие единичные письма из Берлина от дочери, уже школьницы — как это ей удавалось при нечеловеческих и кощунственных бериевских ужесточениях, можно было только догадываться…
Эти письма, написанные детским слабеньким почерком, давала мне читать сама Тамара, когда однажды попала из Магадана в тайгу, на штрафняк, на лесоповал. Дочь заявляла: «Ты мне больше не пиши, я тебя ненавижу, ты изменница Родины. Я люблю своих родителей, папу и маму».
Коротенькие письма кончались приписками полковника: «Прекратите травмировать ребенка своими слащавыми писульками, а не то я доберусь до вас и на краю света».
Тамара очень переживала, горевала, боялась потерять дочь, понимала ситуацию, теряла надежду — переломный 1953 год еще не наступил…
Последний раз я видела Тамару в Магадане летом 1956 года после моей реабилитации.
По центральной улице города с ревом промчался мотоцикл, в коляске которого восседала она, артистически красивая и вольная и как Айседора Дункан с развевающимся по ветру длинным бледно-розовым газовым шарфом…
Она меня в толпе не заметила. Рулем мотоцикла управляла твердая рука плотного немолодого офицера с большими звездами на погонах.
Прошел слух, что Тамару амнистировали.
Лена — дородная и респектабельная литовка, заметно выделявшаяся из общей массы своей здоровой красотой, была насильно угнана с родительского хутора в числе молодежи в Германию и в качестве дешевой рабочей силы попала оттуда в одну из Скандинавских стран, население которых ненавидело Гитлера, всячески сопротивлялось и противодействовало фашизму и помогало — с риском для себя — «остарбайтэрам», способствовало их отправке через Красный Крест в нейтральные дальние страны; так Лена оказалась на чужбине, в далекой Австралии, где на богатой ферме, обучившись верховой езде, пасла стада овец. За ее трудолюбие, сноровистость и целомудрие сын старого фермера настойчиво и неотступно предлагал Лене свою руку и сердце, но она при первой же возможности после окончания войны вернулась на свою родину с большущими кофрами из натуральной кожи. Она и сейчас — не в пример нашей пятерке и остальным — шагала в добротных вещах.
Шикарный свитер, собственноручно связанный из тонкорунной овечьей шерсти и украшенный на груди национальным рисунком, особенно бросался в глаза.
По возвращении в Литву в 1949 году была репрессирована и как изменница Родины попала на Колымский этап.
Зинаида Владимировна — архитектор из Москвы, дочь крупного специалиста, кто одним из первых восторженно приветствовал революцию 1917 года и принимал активное участие в строительстве молодой Советской России; репрессирован в 1937 году, за 10 лет заключения прошел через все нечеловеческие испытания российского интеллигента…
Когда больного раком легких отца Зинаиды Владимировны подняли с постели, чтобы арестовать во второй раз, в 1949 году, потеряв трагически перед этим 5-летнего сынишку — удары один за другим сыпались на ее голову, — она углубилась в религию, читала библию, евангелие стало ее настольной книгой; посещала московские церквушки, храмы, монастыри; помогала материально, рукотворно и духовно нуждающимся людям, изуверившимся, страждущим, тяжело больным, одиноким и брошенным на произвол судьбы…
Арестованная в 1950 году за «антисоветчину» — религиозные убеждения — была приговорена к 10 годам ИТЛ с поражением в правах.
В свое время воспитывалась и дружила с детьми Литвинова; до ареста была замужем за театральным художником.
Шура — швея из Краснодара, происходившая из семьи кубанской голытьбы, перебравшейся жить в город; простая, бесхитростная, душевная женщина, бессребреница; осужденная на 25 лет за неспетую, приписанную ей «белогвардейскую» частушку.
Ну, и я — ленинградская студентка, осужденная тоже на 25 лет за вынужденное сокрытие в анкете при поступлении в институт, что была в оккупации, — таких в столичные вузы в конце 40-х не принимали.
Пройдя многокилометровой путь от ВСЕСОЮЗНОЙ пересылки, состоявшей из леса зон — та, например, в которой я содержалась, была 404-я! — колонна устало подбиралась к самому отдаленному причалу порта Ванино, где незыблемой громадиной стоял океанский теплоход «Минск».
Это было крупнотоннажное грузовое судно с пятью глубокими трюмами, специально оборудованное и предназначенное для перевозки заключенных с материка на Колыму, от порта Ванино до бухты Нагаево, от которой до центра города Магадана — «столицы колымского края» — рукой подать — пять-шесть километров этапного пути.
Перед посадкой на судно была проведена еще одна очередная тщательнейшая проверка зеков по всей положенной форме. А до нее, в сопках, кроме тотальной проверки произведена и процедура показательных наказаний.
На полпути к порту Ванино колонна была остановлена и приказано расположиться походным лагерем — сесть на чем стоишь — в окружении конвоя и собак.
В середине этого лагеря — огромного человеческого массива — появились длинные зашарпанные столы на ножках-козлах, за которыми сидели чины внутренних войск и разгребали вороха формуляров, вызывали и проверяли соответствие записанных в них данных с личностью зека — процедура весьма медлительная, — дожидаться своей очереди приходилось часами.
По завершении проверки столы были убраны, и на их место подогнали полуторку с опущенными бортами, на которые вооруженные солдаты загоняли наказуемого за какую-нибудь незначительную провинность в пути — чтобы неповадно было другим!
При всеобщем обозрении на нарушителя надевали смирительную рубашку из грубой материи с длинными рукавами, плотно его пеленали, завязывали и бросались избивать, месить и ломать кости.
Душераздирающие внутриутробные вопли несчастных потрясали слух и сердца тысяч молчаливых свидетелей и безмолвие пустынных сопок…
После многочисленных проверок и перестроек этапников наступило, наконец, время посадки. По широким дощатым трапам-мосткам на борт «Минска» поднимались пятерками и исчезали в его огромных трюмах-утробах мужчины и женщины. Мужчины — в носовых и кормовых трюмах, женщины — в центральном.
По закону подлости наша пятерка была разобщена, и по трапу в трюм я спускалась одна.
Еще на причале в мой слух просочилась тихая, щемяще-печальная мелодия, а затем и слова впервые услышанной и сразу запомнившейся песни «Я помню тот Ванинский порт», признанной гимном колымских заключенных:
Я помню тот Ванинский порт И вид парохода угрюмый, Как шли мы по трапу на борт В холодные мрачные трюмы…. Над морем сгущался туман, Ревела стихия морская… Стоял впереди Магадан — «Столица колымского края». Не песня, а жалобный крик Из каждой груди вырывался: «Прощай навсегда, материк!» — Ревел пароход, надрывался…. От качки тошнило зека, Обнялись, как родные братья… И только порой с языка Срывались глухие проклятья… Будь проклята ты, Колыма, Что названа «чудной» планетой, Сойдешь поневоле с ума — Отсюда возврата уж нету… Я знаю меня ты не ждешь И писем моих не читаешь, Я знаю — встречать не придешь, Я в этом уверен, я знаю. Будь проклята ты, Колыма, Что названа чудной планетой, Сойдешь поневоле с ума — Отсюда возврата уж нету…[2]Итак, одна за другой, нескончаемой чередой спускались мы в холодные мрачные трюмы и, о боже, до чего же эти слова были правдивы! Только тот, кто пережил горчайшие ощущения навсегда утерянной свободы, может по достоинству оценить и эти слова, и мелодию, и настроение…
В трюме, у подножия трапа, каждую фраершу — так блатные называли всех заключенных женщин, не относившихся к преступному миру — встречали, окружали плотным кольцом и уводили в сторону группы из четырех-пяти блатных — «кодло», которое приступало к полной обработке своей жертвы. «Не трепыхайся», — приказывала возглавлявшая свое «кодло» воровка «в законе», — снимай свои ланцы и натягивай наши дранцы! Если фраерша пыталась оказать сопротивление «дело пахло керосином», т. е. жестоко избивали и раздевали наголо, ткнув в зубы вшивое грязное и драное тряпье.
Меня подхватило кодло из пяти блатных, по-лагерному «жучек», во главе с воровкой по кличке Стрелка, по внешнему виду — ни дать ни взять молодой красивый мужик, и было удивительно, как в женском трюме мог оказаться мужчина?! Но потом все выяснилось. Я не сопротивлялась — бесполезно! — все равно отберут и разденут, не те, так другие, и впридачу изобьют; и чтобы не ронять своего человеческого достоинства, не подвергаться полному раздеванию и обложной оскорбительной матерщине, из двух зол выбрала меньшее: «Скажите, что вы хотите с меня снять? (Все вещи были на мне). И я отдам вам сама». Стрелке это понравилось, и она, пальнув в меня своими красивыми глазищами-стрелками, сказала:
«Воротник, туфли и шарфик»
«Как воротник? — не поняла я, — он же пришит к пальто!» «Пальто я тебе оставлю, оно холодное, а меховой воротник отрежу»
И не успела я еще опомниться, как она натренированным жестом, описав бритвой дугу вокруг моей шеи, сорвала воротник. Шестерки отвернули полы моего демисезонного пальто, осмотрели подкладку и оторвали ее, бросив мне верх.
Мне не так было жаль воротник или подкладку — все равно жучки не оставляли никого в покое — но в воротнике я хранила и прятала от шмонов (обысков) превратившиеся в бумажные комки тюремные письма и стихи, посвященные мне дорогим человеком — корреспондентом военных лет и поэтом. Мне бесконечно жаль было потерять их окончательно, и я отважилась: «Стрелка, отдай мне только письма, они зашиты в воротнике». «Ты что, контра, чтобы я отдала тебе «шпионские» письма? Сейчас не время, а то бы я сдала их «мусорге»!» И она выпотрошила воротник, вытряхнула лохмотики и растоптала их ногами.
И кодло направилось опять к трапу для наскоков на очередную жертву.
Облегченная, в чужих хлябающих галошах, без головного шарфика, я пробралась по полупустому еще трюму к шпангоуту напротив трапа, чтобы наблюдать за спускающимися, в надежде увидеть хоть кого-нибудь из моих новых подруг по несчастью.
А в трюме в это время стоял шум и гам, вой и бой. Женщины не хотели расставаться со своими вещами, особенно теплыми, так необходимыми на Колыме! Но блатные еще более разъярялись и на глазах у них резали и полосовали шубы, здесь же кроили из них воротники; примеряли содранные с плеч зимние пальто, сшибали шапки, сдирали платки, раздевали донага — и все отбирали; заглядывали в рот: «А ну, раззуй свое хавало!» — приказывали они и если обнаруживали золотые коронки или зубы, выбивали их оловянной ложкой; тем из фраерш, кто особенно яростно сопротивлялся, полосовали бритвой руки, лицо.
Прислонившись спиной к холодному металлическому ребру судна и следя за спускающимися в трюм, я увидела, наконец, крупную Лену и обрадовалась встрече с ней, но в тот же миг интуитивно почувствовала, что это произойдет нескоро. Добротные вещи Лены несомненно были вожделенной приманкой для всех воровок. Как только она показалась в проеме люка, несколько «воровок в законе» со своими кодлами притиснулись к трапу и с нетерпением ожидали, когда она ступит на трюмное дно. Лена еще не знала, что здесь происходит, и когда неожиданно на нее сзади, по-воровски, набросилось «бакланье» — уголовная мелочь, исполнявшая самую грязную, преступную работу, и профессионально сорвало австралийскую дубленку, Лена, сообразив, стала в оборонительную позицию, расставив широко по-боцмански ноги для устойчивости и вступила в ожесточенную схватку с многочисленными преступницами, расшвыривая направо и налево худосочную мелюзгу, предварительно наградив их зуботычинами и тумаками куда попало. Но силы были неравные: с голыми руками против бритв, пущенных в ход десятком мелких бесов, долго не устоишь. Лену оголили, полосовали бритвами…
Последнее, что я увидела: она истекала кровью.
Оторвавшись от картины воровского разбоя, когда зрение приспособилось к полумраку, я разглядела на расстоянии, в самой середине трюма огромную многоярусную геометрически законченную конструкцию, составленную из металлических трубок небольшого диаметра; конструкция занимала 2/3 площади трюма и чем-то напоминала гигантских размеров пчелиные незаполненные соты. Назначение конструкции сначала не поняла, но когда натолкнулась на наваленные кругом доски, сообразила, что это многоэтажные нары — до всего доходила сама: никто ничего не объяснял.
Вдоль всей кормовой переборки в ряд стояло множество пустых бочек, высотою до метра, от которых несло застарелым зловонием, догадалась — параши.
При легкой качке по пайолу[3] от борта к борту перекатывалась вода.
Было сыро, холодно и мрачно.
А трюм тем временем наполнялся и набивался невольничьим людом. «Воровки в законе» со своим «кодлом-шоблом» продолжали орудовать вовсю: окружали, нападали, грабили, резали, кромсали, издевались, матерились…
Женщины впадали в истерику, кричали во всю мощь своих легких, вопили от наносимых ран и в этом содоме никто не обратил внимание на стуки чем-то железным и тяжелым в переборку; стуки повторялись все громче и чаще.
Наступил момент, когда стуки-грюки были услышаны и наверху, и в трюм спустилась команда в шесть человек из экипажа судна без каких-либо инструментов в руках; вооруженных солдат среди них не было, и я смекнула, что конвой опасается нападения со стороны преступного мира в замкнутом пространстве трюмного помещения и поэтому отсутствует.
Несмолкавшие удары в носовую переборку и появление моряков в трюме вызвало у меня напряженное внимание и тревожное предчувствие грозящей опасности, и я, не отягощенная лишними вещами, попыталась протиснуться сквозь толпу орущих ближе к переборке, чтобы все увидеть самой и понять: в чем дело?
Команда приступила к обследованию переборки, атакуемой с обратной стороны (по предположению, ломом) и вибрировавшей после каждого удара так, как дрожит тонкая стена от туго идущего гвоздя.
Моряки прислушивались, водили голыми руками по поверхности металлической переборки и, улавливая места ударов, определили — было понятно — их локальную зону. Озираясь по сторонам, команда с заметной опаской оглядывалась на бурлящий страстями котел и быстро покинула трюм.
После этого осмотра никто больше не спускался на пайол.
Спустя какое-то время блатные, пораздев последних несчастных, довольные, в пестром одеянии вели обмен и торг награбленным между собой… А пригорюнившиеся фраерши поневоле смирялись со своим безвыходным положением и стояли кто в чем, не узнавая друг друга. Общий шум и гам несколько приутих.
Судно вздрогнуло, двигатели заработали, гребной винт завертелся, и все почувствовали — «Минск» отошел от причала.
Удары в переборку продолжались все чаще и сильней, грохот стоял такой, что был всеми наконец услышан, и ситуация стала быстро меняться: кое-кто сообразил, что к чему, и многие кинулись к выходному трапу; возникла суматоха, потому как вслед за ними ринулись и другие; некоторым из первых удалось даже выскочить на палубу.
Но не для того заключенных загоняли в трюм, на дно. Наверху конвой быстро сориентировался и загородил выход, нацелив автоматы в отверстие люка.
Поддавшись панике и страху, витавшим в воздухе, как электрические заряды в предгрозовом небе, я тоже бросилась в поток, хлынувший к трапу. Но толчея у подножья уплотнилась настолько, что пробраться наверх и думать не приходилось.
В толпе заметно выделялась тонкая фигура длинной Стрелки, которая не без труда продиралась с остервенением, подталкиваемая со всех сторон своим угодливым кодлом.
Я невольно обратила внимание на паническую нервозность и резкую перемену в ее поведении: куда девалась ее прежняя наглость?! Теперь Стрелка выглядела явно обреченной — значит, чуяла опасность!? Я продолжала следить за ней, как за барометром состояния быстро менявшейся ситуации и, ощущая неосознанный инстинктивный страх девственницы, полезла за ней.
Но конвой стоял монолитом, загораживая выход, и никто не мог уже вырваться наружу. Несмотря на это, Стрелка все-таки пробралась на верхнюю ступеньку трапа и теперь яростно ломилась в открытый люк, энергично подпихиваемая своим шоблом.
Конвойный устрашающе направил на нее автомат…
А я все еще продиралась сквозь толпу, которая хватала меня за руки, волосы, пальто и стаскивала вниз.
Треск и лязг пробитой ломом насквозь переборки оглушили наэлектризованное паникой скопище женщин у трапа, и все мы увидели, как в образовавшуюся брешь с рваными острыми краями полезли оголенные до пояса уркаганы в темных навыпуск шароварах, заправленных в короткие сапожки, с чалмами на головах, свитых из замусоленных полотенец и длинными концами ниспадавших ниже плеч. Их спины и грудь лоснились от пота и были сплошь испещрены татуировками — «наколками».
С гиком и визгом, которые, наверное, в дикие времена исторгала для устрашения орда кочевников, одержавших трудную победу, они без всяких предисловий набрасывались на крайних женщин битком набитого трюма, недры которого вновь огласились непередаваемыми воплями, криками, мольбой… «Воры! Архары! Таракань баб на нары! У-лю, а-ля! По коням!» — орали урки.
Налетевшие как саранча, оторвы преступного мира расхватывали доски, застилали ими ячейки конструкции и, наскоро соорудив этажи нар, волокли на них женщин с ожесточением, едва ли сравнимым с нападением морских пиратов.
Нам представились первые картины из первой части нескончаемого сериала массового изнасилования женщин, где кадр за кадром раскрывались все новые и новые жертвы и истязания — в трюме пошел гулять «колымский трамвай»…
Впервые увиденное ввергло меня в шоковое состояние…
Блатные и фраерши, оказавшиеся в одинаковом положении, теперь кричали вместе, вместе взывали о защите к конвою… Весь трюм метнулся к трапу, в панике и страхе лезли друг на друга, по головам, топча упавших, рвались выбраться наружу, душераздирающе кричали — так, наверное, кричат обреченные на неминуемую гибель люди при кораблекрушении…
Кричали все: и те, кого повалили уже на нары и те, кто еще осаждал трап…
Не слыша собственного голоса в этом содоме и гоморре всеобщего ора и воя, я тоже кричала во всю силу. Что кричала — не знаю, только помню отчетливо, что во весь голос творила молитву, взывала ко Всевышнему — больше обращаться было не к кому! «Господь, услышь меня, вынеси из этого ада! Спаси, обереги, вызволь, помоги»… И, о боже, откуда что взялось!..
Сверхъестественные силы моего существа двинули меня вперед, я ринулась тараном по трапу, разгребая толпу, хватавшую меня за что попало, пытаясь свалить, но я — таки добралась до предпоследней перекладины… Стрелка в этот момент буйствовала у выхода, яро набрасываясь на конвой…
В открытый люк было видно, как солдаты подтаскивали толстенные доски… Стрелка, увидев меня, со злой силой лягнула ногой в грудь, и я опять скатилась вниз, толпа сомкнулась…
Здраво рассудив, что по обычной наружной стороне трапа мне больше не добраться наверх, я поползла, искусно работая ногами и руками, как заправская обезьяна, по внутренней его стороне. Блатные пинали меня ногами, целясь в грудь, лицо, голову, куда попало, но девичий страх попасть под действующий «колымский трамвай» удесятерял мои силы, и я подползла наконец к люку.
Стрелка теперь билась с конвоем не на жизнь, а на смерть, отводила с остервенением направленный на нее автомат, силой пытаясь вынырнуть на палубу. Конвой заорал: «Назад, сука! Стрелять буду!» — и выпустил очередь в ее орущий раскрытый рот. Она на мгновение вздрогнула всем телом, затем остолбенела и плашмя спиной повалилась на подхватившие ее руки.
Кто-то еще был убит или ранен, потому что толпа отхлынула, уплотнилась над кем-то стеной, и долго еще не смолкали пронзительные вопли, вперемежку со стонами.
Воспользовавшись откатной волной, я ловко извернулась и по-обезьяньи забралась на ступеньку, где только что стояла Стрелка. Люк уже был забит на 2/3 досками, осталась узкая щель на ширину одной, последней. Ухватившись за край доски, я пыталась подтянуться на руках и протиснуться в щель. Но конвой стоял настороже, угрожая автоматом, и окриком: «Назад, контра! Буду стрелять!» — загородил мне путь.
Не рассуждая, в какие-то доли секунды я подскочила и уцепилась за середину ствола. Конвой, не ожидавший такого выпада, рефлекторно потянул автомат к себе и я, не почувствовав собственного веса, пушинкой вылетела наружу.
Солдаты мгновенно закрыли доской люк и наглухо его забили.
На палубе находилось около десятка женщин, которым удалось выскочить в самом начале, они, облепив коминго большого центрального люка, расположенного над женским трюмом, в самой его середине, свесив вниз головы, наблюдали за тем, что там происходило.
К ним присоединилась и я.
Боже мой, как мало надо человеку, чтобы почувствовать себя счастливым! — всего лишь вдохнуть глоток относительной свободы, ощутить мизерную толику безопасности, осознать чувство прошедшего страха, который дамокловым мечом висел над тобою еще несколько минут назад!
За то время, которое я билась, чтобы вырваться на палубу, в трюме произошли заметные изменения: все население сконцентрировалось теперь на его многоярусных нарах, а самый верхний этаж представлял собою открытую площадку для невольного обозрения.
Никакая фантазия человека, наделенного даже самым изощренным воображением, не дает представления о том омерзительнейшем и безобразном действе жестокого, садистского массового изнасилования, которое там происходило…
Насиловали всех: молодых и старых, матерей и дочерей, политических и блатных…
Не знаю, какой вместимости был мужской трюм и какова была плотность его заселенности, но из проломленной дыры все продолжали вылезать и неслись, как дикие звери, вырвавшиеся на волю из клетки, человекоподобные, бежали вприпрыжку, по-блатному, насильники, становились в очередь, взбирались на этажи, расползались по нарам и осатанело бросались насиловать, а тех, кто сопротивлялся, здесь же казнили; местами возникала поножовщина, у многих урок были припрятаны финки, бритвы, самодельные ножи-пики; время от времени под свист, улюлюканье и паскудный непереводимый мат с этажей сбрасывали замученных, зарезанных, изнасилованных; беспробудно шла неустанная карточная игра, где ставки были на человеческую жизнь. И если где-то в преисподней и существует ад, то здесь наяву было его подобие.
Из отверстия центрального люка, как из канализационной трубы, тянуло тугим зловонием от скопища тысяч застарело грязных тел, десятков параш, испражнений; наружу вырывался рев и вой, какой исторгает охваченное страхом пожара или землетрясения загнанное в закрытое помещение стадо животных…
В детстве я читала о перевозке негров — «черного дерева» на невольничьих судах из Африки в Новый Свет, но и там т а к о г о не было…
Охватившее чувство стыда и отвращения оттолкнуло меня от люка.
За ночь число женщин на палубе увеличилось: в темноте ночи самые смелые и настойчивые как-то сумели продраться наружу и утром конвоиры очертили нам крохотную зону: от малого выходного люка до правого борта, несколько метров шириной, оградив площадку толстыми стальными тросами.
Центральный люк был плотно облеплен зекашками, остальные двигались по «зоне» или стояли у борта.
«Минск» шел на приличной скорости, по моим представлениям — 11–12 узлов.
Холод ночного дыхания океана сковывал все тело, а судно с каждой милей все дальше и дальше пробивалось на север, к «солнечному» Магадану, встречая на пути ледяные глыбы. Мы же были полураздеты, мое пальтецо, когда-то демисезонное, а теперь без подкладки и воротника, совершенно не спасало от холода.
Поднявшийся шквальный ветер и вздыбившиеся волны захлестывали палубу, но мы молчали, боясь возврата в трюм.
Почти все дни я проводила у правого борта и поэтому видела, как параллельно курсу судна, в нескольких метрах от его корпуса небольшими косяками плыли крупные остроносые рыбины. Обостренным чувством хищниц они учуяли трупный запах и неслись за «Минском» не отставая…
Кормили заключенных один раз в сутки. В середине дня обслуживающие зеки подкатывали к центральному люку огромную деревянную бочку, наполненную до краев кашей из не очищенной от шелухи крупы и «сдобренной» длинными, с полметра, морскими водорослями с толстым налетом темно-зеленого цвета и морским песком, скрипевшим на зубах. На верху довольно густого месива ставили оловянный таз с мисками и искореженными ложками, частично без черенков.
Бочку спускали в трюм на тросах.
В первые дни пребывания на палубе, когда народу там было еще не так много, я довольно внимательно наблюдала за сценой обеда.
Со всех этажей нар спускались, спрыгивали и срывались «жуки» и, опережая друг друга, толчеей устремлялись к кормушке; схватив миски-ложки, зачерпывали месиво, кому же «прибора» не доставалось, черпали пятерней, плотно обступив бочку, задние их оттаскивали «за шкирку», занимали освободившиеся места; подходившие отшвыривали передних и так длилось до тех пор, пока бочка не была начисто вылизана.
От бочки с кашей толчеей расползались к бочкам-парашам…
Сколько бы я ни наблюдала, но никогда не видела там женщин, и как они продержались эти долгие дни морского перехода, не представляю.
Взирая с края люка в трюм, я впервые воочию увидела внешние атрибуты преступного мира в самом неприглядном виде: грудь и спина, руки от пальцев до плеча и ноги — большинство «красавцев» маячило в трусах — все было расписано наколками, и мне даже казалось, что на свет божий появился новый вид человекоподобных: расписных, пестрокожих.
Бросались в глаза наколки с изображением вождя, Сталина, в самых разных позициях, размерах, формах: от головы с низким лбом и торчащими черными усами до полной респектабельной формы генералиссимуса во весь рост — как правило, на левой стороне груди, у соска или на спине, «защищая» сердце преступника.
Наколоты были и кресты, и могилы, и цепи, и решетки, и гадюки, обвивавшие руки или все тело и вонзавшие жало в самое сердце, много было выколото разных имен и надписей: одни сентиментальные, как, например, «и никто не узнает, где могилка моя», другие — короткие и призывные, как лозунги: «нахальство — второе счастье», или «где была совесть, там вырос…»
Порнография котировалась наравне со Сталиным, некоторые непристойные рисунки показывали даже картины в действии, например, акт близости — при соответствующем разведении рук и сближении лопаток…
До сих пор, почти сорок лет спустя, меня не покидает невыразимое словами чувство возмущения: «Кому нужны были такие университеты?!!»
Тот, кому угоднически пели дифирамбы и кого подобострастно называли «отец родной, вождь и учитель» загонял нас — тогда молодых, патриотичных, целеустремленных, нравственно здоровых (а среди нас было много прогрессивно мыслящих людей, смелой молодежи, убежденных в своих взглядах студентов, передовой интеллигенции) в трюмы пароходов, застенки тюрем, подвалы пыток, но люди всегда и везде оставались людьми, несмотря ни на какие мясорубки.
А тогда, тогда… тросами поднимали с двойного второго дна наверх трупы замученных, удушенных, изнасилованных, зарезанных, казненных и бросали за борт в Охотское море…
Острозубые хищницы окружали легкую добычу и каждый раз женщины кричали при этом: «Акулы, смотрите, акулы набрасываются на трупы!..»
Одной из самых первых бросили за борт Стрелку — я это сама видела — и только тогда узнала от вездесущих женщин, которые объяснили, что она была кобёл[4], а таких жуки раздирали живьем на части.
Стоя у правого борта и будучи невольной свидетельницей, каждый раз у меня возникала мысль: а как конвойные будут отчитываться власти за трупы?!
Ведь если представить себе и участь той тотальной и придирчиво строгий характер не раз проводимых проверок заключенных, конвоиры должны были нести ответственность.
Но позже вопрос этот меня уже не волновал.
То безответственное и беспощадное отношение к заключенным женщинам, допущенное и конвойными властями и администрацией т/к «Минск», который в конце мая 1951 года первым открывал навигацию и в трюме которого возник «большой колымский трамвай» — повальное массовое изнасилование — говорило о многом: за заключенных никто не отвечал.
За три-два дня до прибытия в Магадан, усеченная «зона» на палубе была настолько плотно забита вырвавшимися из трюмного ада женщинами, что, буквально слипшись в неразрывный ком, мы не имели никакой возможности из него вырваться: мочились под себя, стоя — нас превратили в скот, хуже чем скот.
Морской этап длился дней десять, а вернее, я потеряла счет дням и времени…
Наконец «Минск» причалил в бухте Нагаево. Кто был на палубе, первым ступил на колымскую землю: серое холодное тяжелое небо надолго нависло над нами…
Нас долго мурыжили на пристани, тщательнейшим образом скрупулезно проверяя и пересчитывая…
Этап не двигался.
Окоченевшие, голодные, измученные, мы несколько часов простояли на причале, недоумевая: «В чем дело?»
… К Нагаеву мчались пожарные машины, и было непонятно: почему? — ведь пожара нет?
Позже выяснилось.
По прибытии к месту назначения солдаты открыли наконец выходной люк трюма, но никто наружу уже не выходил. Приказы конвоиров: «На выход!» — рассеивались в воздухе…
Уголовники не отпускали женщин, а тех, кто пытался выползти, — казнили на месте… Никакие меры не действовали: ни окрики, ни приказы, ни стрельба…
И тогда вызвали пожарных, которые из брандспойтов мощной струей под давлением выбивали, как клопов, засевших в трюме насильников.
Трюм наполнялся водой, поступавшей из моря по шлангам, протянутым в люки, нижние нары затоплены, жуки выползали на средние: пловцы, трупы и человеческие экскременты вперемежку плавали на поверхности… Но блатные не сдавались, обсев средние ярусы под прикрытием верхних, они еще долгие часы держали крайне обострившуюся ситуацию…
Позже рассказывали, что трюм был залит водой настолько, что на плаву держаться было невозможно, последних преступников вылавливали баграми и сетями (?!).
На женщин, вызволенных, наконец, из трюма, нельзя было смотреть без боли. Мученицы, прошедшие все круги ада…
Вечером этапников погнали в сторону Магадана, навстречу нам плелись изможденные — кожа до кости — колонны понурых заключенных, которые, взобравшись на сопки, не расходились по своим баракам-развалюхам, а понимающе глядели вслед вновь прибывшим…
Люди молчали, и только окрики и мат встречных конвоиров да злобный лай служебных овчарок оглушали бухту невольников.
Мы вступали в страну узаконенного бесправия и человеческого безмолвия, в страну заключенных — Колыму, где на сотню 99 плакало, а один смеялся — по поговорке колымских зека.
Будь проклята ты, Колыма!..
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
И долго еще по видавшей виды Колыме, но на сей раз особенно потрясенной, запоздалыми громовыми раскатами тяжелых ПОСЛЕДСТВИЙ разносился по лагерям и тайге и напоминал о себе «большой колымский трамвай» на пароходе «Минск»: гинекологическими и вензаболеваниями, рождением детей-сирот и детей-уродов, нервными и психическими расстройствами, самоубийствами и мн. др…
1968, перерыв, 1989
Глинка Е. Трюм, или Большой колымский трамвай. Рассказ-свидетельство // Радуга (журн.). — Таллин, 1990. № 2. СС. 14–30.
«Колымский трамвай» средней тяжести
«Колымский трамвай» — это такой трамвай,
попав под который, бывает-случается,
останешься в живых.
Поговорка колымских заключенных
В рыболовецком поселке Бугурчан, влачившем безвестное существование на охотском побережье, было пять-шесть одиноко разбросанных по тайге избенок да торчал убогий бревенчатый клубишко о трех узких окнах, над которым болтало ветром старый флаг. Оттого ли, что у председателя не было в запасе кумача, флаг не заменяли; он висел в Бугурчане, наверно, с довоенных лет, весь вылинял, — но серп и молот в уголке полотнища по-прежнему выделялся ярко, как номера на бушлатах каторжан.
В трюме судна, развозившего летней навигационной порой грузы для поселков и рабочую силу в лагеря, сюда доставили женскую штрафную бригаду. Окриками и матерной бранью, под лай сторожевых собак конвоиры согнали зэкашек к клубу, бдительно пересчитали по головам, после чего начальник конвоя скомандовал всем оставаться на местах и ушел разыскивать единственного представителя здешней власти — председателя поселка, которому надлежало передать этап.
Этап состоял в основном из бытовичек и указниц, но было и несколько блатных — жалких существ с одинаковой, однажды и навсегда покалеченной судьбой: сперва расстреляны или сгинули в войну родители, пару лет спустя — побег из детприюта НКВД, затем улица, нищета, голод, — и так до ареста за кражу картофелины или морковинки с прилавка. Заклейменные, отринутые обществом и озлобившиеся оттого, все они очень скоро становились настоящими преступницами, а некоторые были уже отпетые рецидивистки — по-лагерному, «жучки». Теперь они сидели у клуба, перебранивались друг с дружкой, рылись в своих узелках и выпрашивали окурки у конвоя.
В это месиво изуродованных жизней лагерное начальство бросило трех политических, с 58-й статьей: пожилую даму — жену репрессированного дипломата, средних лет швею и ленинградскую студентку. За ними не числилось никаких нарушений и посягательств на лагерный режим, — просто штрафбригада комплектовалась наспех, провинившихся не хватало, директива же требовала в срочном порядке этапировать столько-то голов, — и недостающие головы добрали из «тяжеловесок», то есть из осужденных на 25 лет исправительно-трудовых работ.
Новость: «Бабы в Бугурчане!» мгновенно разнеслась по тайге и всполошила ее, как муравейник. Спустя уже час, бросив работу, к клубу стали оживленно стягиваться мужики, сперва только местные, но вскорости и со всей округи, пешком и на моторках — рыбаки, геологи, заготовители пушнины, бригада шахтеров со своим парторгом и даже лагерники, сбежавшие на свой страх с ближнего лесоповала — блатные и воры. По мере их прибытия жучки зашевелились, загалдели, выкрикивая что-то свое на залихватском жаргоне вперемешку с матом. Конвой поорал для порядка: на одних — чтоб сидели где сидят, на других — чтоб не подходили близко; прозвучала даже угроза спустить, если что, собак и применить оружие; но поскольку мужики, почти все с лагерной выучкой, и не думали лезть на рожон (а кто-то и вовремя задобрил конвоиров выпивкой), конвоиры не стали гнать их прочь, — лишь прикрикнули напоследок и уселись невдалеке.
Жучки в голос клянчили махорку, просили заварить чифир, предлагали в обмен самодельные кисеты. Большинство мужиков загодя запаслись снедью, кто дома, кто в поселковом ларьке; в толпу штрафниц через головы полетели пачки чая и папирос, ломти хлеба, консервы… Бросить изголодавшемуся арестанту корку хлеба — было поступком, наводящим на мысль о неблагонадежности и наказуемым, случись это там, на сострадательной матушке-Руси: там полагалось верноподданно опустить глаза, пройти мимо и навсегда забыть. Но тут — потому ли, что почти все здешние мужики имели лагерное прошлое? — тут был иной закон… Компания засольщиков рыбы и единственный в поселке, уже изрядно выпивший бондарь притащили сверток с кетовым балыком, порезали балык на куски и бросили зэкашкам.
Измученные морской болезнью и двухдневным голодом в трюме, женщины жадно хватали на лету подачки, торопливо запихивали в рот и проглатывали не жуя; блатные долго, с хриплым кашлем курили дареный «Беломор». Какое-то время было тихо. Затем послышалось звяканье бутылок; несколько мужиков, как по команде, отошли в сторону и уселись пьянствовать с конвоем.
Насытясь, жучки хором затянули песни — сначала «В дорогу дальнюю», за ней «Сестру»; мужики вторили им знаменитой лагерной «Централкой», — и после этой спевки все воспрянули, разошлись, стали шумно знакомиться уже без оглядки на конвойных, которые, побросав автоматы и привязав к деревьям собак, пили теперь вместе с вернувшимся начальником и председателе.
Впрочем, особую активность выказывали только жучки. Бытовички и указницы, которых в бригаде было большинство, вели себя тише и даже держались особняком. Правда, и они охотно брали подачки и вступали в разговоры, но будто отсутствовали при этом; мысли их были об ином: сроки у многих близились к концу, и им, в отличие от политических, не предстояла ссылка после лагеря. Краткосрочницы-жучки тоже ждали своего часа, и хоть возвращаться каждой из них было некуда и не к кому, и воля пугала некоторых, заранее обрекая их на беззащитность и равнодушие к их судьбам, — но все горести будущего для них пока не существовали: воля есть воля, это главное, это одно уже давало надежду на жизнь впереди. У политических «тяжеловесок» надежды не было — ГУЛАГ поглотил их навсегда.
Втроем они сидели в стороне от толпы — студентка, швея и жена врага народа. Они уже поняли, для чего был устроен весь этот разгул и пьянка с конвоирами; поняли задолго до того, как солдаты один за другим в бесчувствии повалились наземь, и мужики с гиканьем кинулись на женщин и стали затаскивать их в клуб, заламывая руки, волоча по траве, избивая тех, кто сопротивлялся. Привязанные псы заливались лаем и рвались с поводков.
Мужики действовали слаженно и уверенно, со знанием дела: одни отдирали от пола прибитые скамьи и бросали их на сцену, другие наглухо заколачивали окна досками, третьи прикатили бочонки, расставили их вдоль стены и ведрами таскали в них воду, четвертые принесли спирт и рыбу. Когда все было закончено, двери клуба крест-накрест заколотили досками, раскидали по полу бывшее под рукой тряпье — телогрейки, подстилки, рогожки; повалили невольниц на пол, возле каждой сразу выстроилась очередь человек в двенадцать — и началось массовое изнасилование женщин — «колымский трамвай» — явление, нередко возникавшее в сталинские времена и всегда происходившее, как в Бугурчане: под государственным флагом, при потворстве конвоя и властей.
Этот документальный рассказ я отдаю всем приверженцам Сталина, которые и по сей день не желают верить, что беззакония и садистские расправы их кумир насаждал сознательно. Пусть они хоть на миг представят своих жен, дочерей и сестер среди той бугурчанской штрафбригады: ведь это только случайно вышло, что там были не они, а мы…
Насиловали под команду трамвайного «вагоновожатого», который время от времени взмахивал руками и выкрикивал: «По коням!..». По команде «Кончай базар!» — отваливались, нехотя уступая место следующему, стоявшему в полной половой готовности.
Мертвых женщин оттаскивали за ноги к двери и складывали штабелем у порога; остальных приводили в чувство — отливали водой — и очередь выстраивалась опять.
Но это был еще не самый большой трамвай, а средний, «трамвай средней тяжести», так сказать.
Насколько я знаю, за массовые изнасилования никто никогда не наказывался — ни сами насильники, ни те, кто способствовал этому изуверству. В мае 1951 года на океанском теплоходе «Минск» (то был знаменитый, прогремевший на всю Колыму «Большой трамвай») трупы женщин сбрасывали за борт. Охрана даже не переписывала мертвых по фамилиям — но по прибытии в бухту Нагаево конвоиры скрупулезно и неоднократно пересчитывали оставшихся в живых, — и этап как ни в чем не бывало погнали дальше, в Магадан, объявив, что «при попытке к бегству конвой открывает огонь без предупреждения». Охрана несла строжайшую ответственность за заключенных, и, конечно, случись хоть один побег — ответили бы головой. Не знаю, как при такой строгости им удавалось «списывать» мертвых, но в полной своей безнаказанности они были уверены. Ведь они всё знали наперед, знали, что придется отчитываться за недостающих, — и при этом спокойно продавали женщин за стакан спирта.
… Ночью все лежали пластом, иногда бродили впотьмах по клубу, натыкаясь на спящих, хлебали воду из бочек, отблевывались после пьянки и вновь валились на пол или на первую попавшуюся жертву.
Бывало ли что-нибудь подобное в те дремучие эпохи, когда, едва-едва оторвавшись от земли передними конечностями, первобытные существа жили еще животно-стадными инстинктами? Думаю, что нет.
… Тяжёлый удар первого прохода трамвайной очереди пришелся на красивую статную швею. Жену врага народа спас возраст: ее «партнерами» в большинстве оказались немощные старички. И только одной из трех политических сравнительно с другими повезло: студентку на все два дня выбрал парторг шахты.) (Шахтеры его уважали: справедлив, с рабочими держится запросто, на равных, политически грамотен, морально устойчив… В нем признавали руководителя — и его участие в «трамвае» как бы оправдывало, объединяло всех как мы, так и наш политрук, наша власть. Из уважения к нему никто больше не приставал к студентке, а сам парторг даже сделал ей подарок — новую расческу, дефицитнейшую вещь в лагере.
Студентке не пришлось ни кричать, ни отбиваться, ни вырываться, как другим — она была благодарна Богу, что досталась одному.
Наутро конвоиры очухались, у каждого ломило башку с похмелья. Мужики были наготове: выбили доску в двери, двое протиснулись в образовавшуюся щель, поднесли, подлечили, — и вскорости конвой опять мертвецки завалился под соснами. Автоматы лежали рядом, овчарки выли.
Только на третьи сутки начальник конвоя, наконец, очухался и приказал мужикам открыть дверь и по одному покинуть клуб.
Мужики не подчинились. Начальник предупредил: «Буду стрелять!» — но и это не возымело действия. В заколоченном клубе зекашки умоляли конвоиров вызволить их, — однако угрозы конвоя и мольбы женщин только подхлестнули насильников: они еще не пресытились «трамваем» — а когда там в Бугурчан снова привезут баб! И кинулись насиловать еще ожесточенней…
Конвоиры вырубили дверь топором. Начальник повторил предупреждение, но мужики не реагировали и теперь. Тогда солдаты стали стрелять — сперва в воздух, потом в копошащееся на полу месиво тел.
Были жертвы.
Но отупевшие, раздавленные, безразличные ко всему три женщины не интересовались, кто убит и сколько.
Глинка Е. С. «Колымский трамвай» средней тяжести // Нева. — 1989. — № 10. Глинка Е.
Примечания
1
Стихи эти в свое время написаны зека Николаем Заболоцким
(обратно)2
Это один из многих «народных» вариантов, отходящих от канонического текста автора. (Прим, ред.).
(обратно)3
Пайол — деревянный настил в трюме судна
(обратно)4
Кобёл — активная лесбиянка — «мужчина»
(обратно)

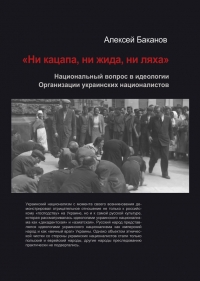



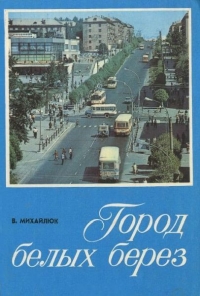

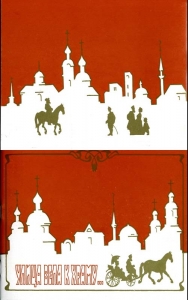

Комментарии к книге «Трюм, или Большой «колымский трамвай»», Елена Семеновна Глинка
Всего 0 комментариев