Олег Юлис ПРОЗРАЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ Абсурдные диалоги
Посвящаю моей дочери
Не частый случай, когда жалею, что не я написал чьи-то слова. Хотя недавно я перечитывал и Блока, и Цветаеву, но почувствовал это сожаление, прочитав в книге Олега Юлиса такие слова: «Блок искусно построен на банальностях, на устоявшемся слове, пропускающем насквозь смысл и звук к чистому переживанию. Только через банальное молчащее слово возникает зыбкое, бесконечная цепь связей. Без всякой учености они загадочно вместительны. Возможно больше и нельзя сказать о душе».
И я пользуюсь возможностью снять перед ним шляпу.
Лев Аннинский
Жизнь — это сумасшедший дом. И минуя «шестую» чеховскую, мы переходим в палату, которая Чехову и не снилась. Паркетины только притворяются одинаковыми, и когда каждая сколько-нибудь приподнимается, то открываются жалкие сокровища, которые не примут ни в одном порядочном ломбарде. Но нам они интересны, мы стремимся дальше и снова натыкаемся на нарисованные двери. Зайцев позволил себе сказать о Набокове: «На меня его облик наводят метафизическую грусть. Больших размеров бесплодная смоковница». И с тай же печалью я позволяю Олегу Юлису показать мне этот бред, именуемый миром, сквозь набоковские очки и через нарисованные двери. А посему надеюсь, что и любезный читатель, вслушиваясь в причудившийся скрип этих дверей, отыщет в нем свой сокровенный, дорогой сердцу звук. В облегчение трудного поиска предлагаю Вам сказать: «Сезам!», дабы погрузиться в музыку книги.
Олег Михайлов
Виталий Никитович СТРАШНО ТОЛЬКО, ЕСЛИ ВЫ МЕНЯ ЗАВТРА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ПОКАЖЕТЕ
— Виталий, Вы могли бы завтра бросить пить, если бы точно знали, что за Ваш подвиг Бог устроит так, что завтра же прекратится война в Чечне и заодно сменится президент?
— Не годится. Я и так за мир. А что касается президента, не знаю, кто бы мог быть у нас президентом. Нет такого лидера сейчас.
— А что Вы ждете от хорошего президента?
— Меня зовут Виталий Никитич. Вас как зовут?
— Олег Ильич.
— А вот Вы сами что ждете от президента?
— Я хочу, чтобы он помог абсолютно всем. Например, пусть устроит так, чтобы Вам не надо было несколько дворов обходить, когда необходимо опохмелиться…
— Я тоже за такого. А как Вы думаете насчет Горбачева?
— Ну, этот уже показал себя.
— Точно. Он с пьянством боролся. Вот послушай: «В шесть часов поет петух, в восемь — Пугачева. Магазин закрыт до двух, ключ — у Горбачева».
— Скажите, а Вам не страшнее трудностей пьянства, что Вы недолюбили многих женщин, а вернуть уже ничего нельзя…
— Да нет, я смотрю «Плейбой» по пятницам. Страшно только, если Вы меня завтра по телевизору покажете…
— А спать Вам не жалко ложиться?
— Так по-другому как? Поддал — и пошел спать, как же иначе? Выпил — поспал, еще выпил — опять поспал.
— Но сон — ведь это смерть?
— Как смерть? Я ложусь спать, а не помирать.
— Скажите, отчего Вы не хотите, чтобы Вас показали по телевизору? Ведь писали бы письма, присылали бы деньги на лечение… Вы хотели бы, чтобы Вам присылали переводы?
— Конечно, и чем больше, тем лучше. Мне не надо было бы занимать ходить деньги по соседям.
— Вы не хотите умереть должником?
— Нет. Я живу одним днем и в планах у меня этого нет.
— Что Вы помните о своей жизни, кроме того, что выпивали?
— Честно сказать?
— Если не трудно.
— Вот, слушай. Я не пил. Мне было 25 лет, поругался с женой — и запил. Устроился на работу, прихожу вечером домой, она мне говорит: «Ты чего пьяный?» Я дыхнул на нее, она: «Надо же, трезвый». Тут я ей по роже!
— Вы не можете забыть обиды, которые Вам люди в жизни нанесли?
— Нет, не могу. Все помню.
— А если бы забыли, пить перестали бы?
— Да.
— И что делали бы?
— Хозяйством бы занимался — поить, кормить скотину надо, навоз возить.
— А что самое интересное в жизни?
— Я прирожденный шофер. Но под этим делом все время — никогда не просыхаю — и не вожу. А перестал бы пить — может, и за баранку бы сел.
— Может, Вы за этим и родились — за скотиной ухаживать, машину водить?
— Вас как зовут?
— Олег Ильич.
— Вот Вы вопросы странные задаете. Я не задумывался, зачем родился.
— Виталий, Вы замечали, что детям все интересно, они от любого пустяка радость испытывают. А Вам бывает интереснее жить, когда напьетесь?
— Нет, сразу спать ложусь.
— Но когда Вы не спите, а люди Вас обижают, Вам жить скучно?
— Никто меня не обижает. Пусть только попробуют! Жить мне не скучно.
— Виталий, Вы меня простите, но какой Вы: необразованный или тупой?
— Все вместе.
— И Вам не жалко своей жизни, — что она, как собаке под хвост?
— Нет, я жил, как хотел.
— Вот я понял, наконец, почему Вы не хотите умирать…
— Ты меня уже не первый раз об этом спрашиваешь. Нет, я еще не всю самогонку выпил в деревне.
— У каждого человека есть своя тайна. А у тебя?
— Нет, у меня все открыто.
— Скажи, может ты сумасшедший, если живешь открыто?
— Почему я сумасшедший? Тогда вся наша деревня сумасшедшая. Все и пьют, и живут открыто.
— Значит, вся деревня… Лев Толстой говорил, что вообще все люди сумасшедшие. А я такими вижу одних коммунистов… Скажи, пожалуйста, если тебе двести тысяч в месяц будут платить, пойдешь в коммунистическую партию?
— За двести лимонов — да.
— У тебя, наверное, все болит — руки, ноги, желудок, сердце?
— Да, стоит неделю не попить — все не в порядке.
— Есть у тебя враг в деревне, которого ненавидишь всем сердцем?
— Нет, такого нету.
— А жену?
— Ее иногда ненавижу, когда шипит, как кобра. Тогда одеваюсь и ухожу.
— Вот смотри, я перевожу на тебя пленку, а она пятьдесят тысяч стоит. Тебе не стыдно — ты пьяный сидишь, глупости говоришь?
— Если по телевизору покажут, тогда стыдно будет. Но если будут переводы присылать, тогда все равно хвотографируй, я тебе половину отдам. Да не забудь номер моего счета указать. Подольский район, деревня Лучинское, Виталию Никитичу.
Фазиль Искандер СКРОМНОСТЬ — ЭТО ОЧЕРЧЕННОСТЬ ГРАНИЦ ДОСТОИНСТВА
— Простите, я умышленно долго возился с камерой, чтобы Вы успели прочесть мое интервью с Виктюком. Успели?
— Да, но я не из тех, кто на бегу, легко все схватывает. Чтобы усвоить, мне надо углубиться….
— Если бы читая Вы почувствовали, что кто-то из нас выпендривается, Вы сказали бы: Олег, со мной будьте попроще?..
— Я полагаю, что если Вы берете интервью, то Вы задаете и тон. Есть закономерность — чем интереснее вопросы, тем интереснее ответы. Но есть, конечно, и такой интервьюер, который вулканирует сам, независимо от ответов. Я не особенно надеюсь на вулканирование.
— Умоляю, еще несколько советов…
— Когда Вы идете к человеку брать интервью, Вы, конечно, должны хорошо обдумать, какие вопросы можно именно ему задать. Тогда он всколыхнется и гораздо интереснее Вам ответит. Подумайте, что в его профессии может быть оригинального… Если читали его книги, то задумайтесь, что вызывает у Вас недоумение или, напротив, что понравилось, рифмуется ли его мысль с вашей.
— Увы, теперь моя мысль срифмовалась с толстовской. Он не хотел, а я ничего не сумею оставить своим детям. Ни дома, ни ума, ни денег. А как думаете Вы, Толстой был прав, когда ничего не хотел оставлять детям?
— Не совсем так. То, что для Толстого — малость, для нас — уже много… Но, конечно, безделье развращает человека как ничто другое.
— А без искусственного принуждения человеку свойственно искать себе занятие? Имея состояние, тем не менее, трудиться?
— Люди свободных профессий — писатели, художники — не служат государству. Как-то выворачиваются… Знаменитый пример — нищенство Ван Гога. Он жил на копейки, которые регулярно присылал ему брат. Это острый пример, но и у нас были такие люди — профессиональным нищим был Мандельштам. Гениальный поэт, который часто не имел ни куска хлеба.
— Вы хотели бы, чтобы у Вашего сына был свой счет, право издания Ваших книг, что давало бы ему возможность быть свободным человеком? Или, как Толстой, Вы полагаете, что нужно близких людей принуждать к труду?
— Я рад был бы оставить что-то, кроме квартиры. У Толстого совсем другая была ситуация. Те доходы несопоставимы с нашими. Толстой стремился печататься бесплатно, а Софья Андреевна не могла смириться с этим. Она полагала, что Толстой должен обеспечить им комфортабельную жизнь. Толстой был против. Но я знаю, что на Западе, в Германии, например, принято так: богатые люди посылают своих детей зарабатывать с нуля…
— Вы помните, о чем чаще всего беспокоился Толстой, какое главное неудобство в жизни, в миропорядке тревожило его сильнее паразитизма детей?
— У него была масса огорчений, но главное, наверное, это смерть. Он много думал об этом. Еще его приводило в неистовство неравенство между людьми состоятельными и бедным российским людом, крестьянством. Он считал такую жизнь паразитической и мучился этим.
— А что, по Вашему мнению, больше всего мучило Достоевского?
— Я думаю, болезненнее всего его мучил вопрос о Боге. Все эти рассуждения вокруг Великого Инквизитора — это самое острое, что он переживал. «Если истина не с Христом, то я остаюсь с Христом, в нем истина», — говорил он. Он до того любил Христа, что доходил до такой еретической мысли. Истинно верующий полагает, что Христос и есть Истина. То есть, он с одной стороны, был грандиозный идеалист, а с другой стороны, он говорил себе: а вдруг Бога нет? Как один из его героев говорил: «Если нет Бога, то какой же я штабс-капитан». Он взмывал из атеистического дна, до которого нередко доходил, силой любви, силой идеала в религиозное сознание. Но ему все время виделись обе стороны — и логика атеизма, и божественная логика. Это его знаменитая диалогичность. В его книгах герой всегда спорит сам с собой, всегда у обеих сторон достаточно мощные аргументы…
— Сколько Вам лет?
— 67.
— Вам пятьдесят лет показывали логику атеизма. И Вы всегда умели оттолкнуться от нее?
— Конечно, я думаю, что я от природы был стихийным христианином. При этом я человек нецерковный. Атеизм как философское течение меня не затрагивало, но атеистическое государство все время задевало меня.
— Вы любили поговорить о Боге с друзьями?
— Да, как все интеллигентные люди.
— И какое-то время Вы уже подводите итоги. Вы давно готовы, что Вас не будет, и Вы перейдете в вечность… Не хотите ли поставить самому себе важные вопросы?
— Я пишу книгу — издание второе, расширенное. В ней я выдумал сократовский диалог. К Сократу, после приговора приходит купец и предлагает ему бежать. Он отказывается — мол, какой же я буду тогда философ, если соглашусь на это. Я ведь не знаю, где лучше — там или здесь.
— Вы сами придумали текст за Сократа?
— Да.
— Не задохнулись от собственной смелости?
— Я же сделал это не как философ, а как художник… И назвал это «Рукопись, найденная в пещере» — свободные размышления. Если «там» что-то есть… Сократ на меня, я думаю, не обидится. Я ощущаю внутреннюю теплоту, любовь к Сократу, которая возникла после чтения Платоновских диалогов. Это попытка показать человека со многих сторон. В этой работе есть ответы на многие современные вопросы. Глубинная сущность человека, а это один из самых трагических вопросов, осталась неизменной. Очень медленно, тысячелетиями происходит этическое развитие человека. Смешно думать, что можно создать нового человека при помощи Октябрьской революции. Один из героев моей книги говорит, что если человек и произошел от обезьяны, как утверждает Дарвин (что сомнительно), то это говорит о возможности развития обезьяны, а не человека. Если человек благополучно минует этот трагический период своей истории, когда техническое развитие многократно опередило этическое, то через пару тысячелетий он будет более достойным уважения, чем теперь.
— Моцарт, Пушкин — обогнали ли они человечество в этом смысле?
— Да, — если говорить об этих людях, но ведь есть и гении-чудовища, обладающие сверхчувственностью технической и достаточно тупые этически.
— Когда-нибудь остальные люди подтянутся до гениев или до чудовищ?
— Вот это и есть самый трагический вопрос человечества. Если можно было бы, предположим, доказать всеобщее людоедство много тысяч лет тому назад. Мы сказали бы: да, прогресс, люди ведь отказались от такого варварского самопожирания… Но, с другой стороны, из каких соображений прекратилось это людоедство? Потому ли, что проще убивать животных или же — этических? И все же это было бы величайшей надеждой… Раз человечество ушло от такой формы взаимоотношений, то, может, через двадцать тысяч лет вообще уже не будет политики, люди будут проще и человечнее относиться друг к другу.
— Вы, наверное, позволите задавать Вам несколько иронические вопросы, на котрые я буду ждать серьезных ответов… Вам свойственна скромность?
— Скромность — это очерченность границ достоинства. Это отказ от малодоказуемых преувеличенных достоинств, это вера человека в свои реальные достоинства. Ему противно, когда эти достоинства преувеличиваются — тогда как бы всякие достоинства уходят…
— С чем в себе Вы боролись?
— Сложный вопрос. По-видимому, боролся с проявлением человеческой зависти. Во времена, когда меня не печатали, ко мне подходил какой-нибудь писатель, которого я считал менее талантливым, чем я сам, и сообщал о выходе своей книги. Я чувствовал зависть. Но тут же в себе ее подавлял. Я говорил себе: «Тебя никто не направлял на тот путь, по которому ты пошел, ты сам себе его избрал. Ты должен смириться. И мне удавалось усмирять себя. Может, это иллюзия, но мне кажется, что можно смягчать нравы творчеством.
— Есть ли двойственное ощущение: с одной стороны, страх — подходишь с каждым днем все ближе к конечной черте, с другой — ощущение освобождения, оттого, что жить надоедает?
— Нет, к старости думающий человек закаляется мыслью о том, что это неизбежно. Но я не хотел бы приблизить этот час, — пусть он придет, когда придет.
— Вам вовсе не знакома усталость от жизни?
— Да, очень знакома. Но прямого желания смерти нет.
— Кроме старения что-то Вас разрушало — ведь всех нас что-то мучит, подтачивает, пугает?
— Часто мне казалось, что судьба России безысходно тупиковая. И меня это страшно угнетало с самых юных лет. Но потом я на что-то надеялся, отходил… И это тянется до сих пор.
— Так до сегодняшнего дня ничего не сдвинулось, не изменилось?
— Я не теряю надежды, что к какому-то порядку мы придем, но перестаю надеяться, что застану это.
— Нельзя ли сформулировать Ваше ощущение так, что это Богом проклятая страна?
— Я так не считаю. Но есть невезучие люди, может, есть и невезучие страны? От природы я был достаточно оптимистичен, и в более молодых моих произведениях было достаточно юмора. Может, юмор и спас мою первую повесть „Созвездие Козлотура“ от разносной критики и вообще помог ее напечатать. Обычно наша цензура боялась мрачных вещей, а в повести все проходило весело, и цензура, похоже, не заметила, что это сатира на весь строй.
— Что, по Вашему мнению, цементирует книгу „Сандро из Чегема“? Юмор?
— Тоска по той жизни. Жизни, которую я отчасти в детстве застал. В горах жизнь не была той, какой она становилась в долине, во всей России. Но изменения происходили и там. Печальные.
— Что так же важно было Вам в этом цикле, кроме тоски и юмора?
— Если все объединить, я бы назвал это, скорее, юмористическим эпосом. И лиризм, ностальгия. Я сидел и писал „Сандро“ в Москве. Гомеопатические дозы ностальгии писателю необходимы. Но не катастрофические.
— Вы перечитываете какие-то страницы?
— Если только случайно. Читаю, и прихожу в равновесие.
— Похоже это на то, как красивая женщина смотрится в зеркало?
— (Смеется). Да… Но „Сандро“ я с начала до конца никогда не перечитывал. Какие-то страницы перечтешь и скажешь самому себе: „Да, я что-то сделал“. Стихи же у меня, как правило, трагические, драматические. Совсем по другой шкале.
— Чье чтение стихов Вам казалось лучшим?
— Яхонтов гениально читал. Юрский тоже неплохо.
— Прочтите, пожалуйста, стихотворение, которым Вы гордитесь.
— Какие канули созвездья, // Какие минули лета, // Какие грянули возмездья, // Какие сомкнуты уста… // Какие тихие корчевья // Родной, замученной земли, // Какие рухнули деревья, // Какие карлики взошли… // Отбушевали карнавалы // Над муравейником труда, // Какие долгие каналы, // Какая мелкая вода! // Расскажут плачущие музы // На берегах российских рек // Как подымались эти шлюзы //И опускался человек. //И наше мужество не нас ли, // Покинув, сгинуло вдали… // Какие женщины погасли, // Какие доблести в пыли. // А ты стоишь, седой и хмурый, // Неужто кончен кавардак? // Между обломками халтуры // Гуляет мусорный сквозняк…
— Ваше стихотворение кончается, как набоковский роман „Приглашение на казнь“… На Ваш взгляд, нужно изучать Набокова в школе?
— Я думаю, у него просто замечательные романы — „Дар“, „Другие берега“. „Лолита“ тоже, но я сомневаюсь, что стоит его изучать в школе.
— Какие советские романы можно исключить из школьной литературы, чтобы все же изучать набоковские? Может, „Русский лес“ Леонова?
— „Русский лес“ не лишен таланта… „Молодую Гвардию“ выкинул бы без трепета, а вот на счет „Разгрома“ подумал бы. Можно было бы выкинуть смело Федина.
— Какую главу „Сандро из Чегема“ и в каком классе стоило бы изучать, если бы решено было на уроках литературы „проходить“ творчество Искандера?
— В старших классах — „Старого Хабуга“.
— Предположим, максимальный балл — 10. Тогда сколько Вы поставите самому себе за страничку Вашего текста?
— 8.
— Сколько на свете людей, с которыми Вы поддерживаете отношения, и они считают Вас гением?
— Не очень скромная тема, поэтому помолчим об этом.
— Вы хотели бы, чтобы в России объявили национальный траур, если Вы умрете?
— Нет, я хотел бы, чтобы это было тихо, скромно. Я не любитель шума.
— Что бы Вы сказали жене перед смертью?
— Постарайся неизданные рукописи просмотреть и издать, которые не изданы. А что касается замужества — пусть, конечно, выходит, хотя поздновато… Пусть живет полноценной жизнью.
— Приходилось ли Вам приспосабливаться, угождать?
— Никогда.
— Почему же Вас печатали?
— Многое не печатали. Печатали же оттого, что тип моего дарования достаточно оптимистичен, по крайней мере, в молодые годы. И это скрадывало идеи, неугодные власти. У меня была опубликована рукопись „Созвездие Козлотура“ — а это ведь пародия на советскую власть.
— Вы уникальны, хотя бы оттого, что известный автор, и при этом не угождавший… Кто-нибудь еще был таким?
— Я отдал на растерзание свою любимую книгу „Сандро из Чегема“, ее вполовину сократили… Из желания реабилитироваться перед этим произведением я согласился напечатать ее полностью в Америке. Тогда это было опасно.
— Есть ли у Вас в последние годы человек, с которым Вы систематически беседуете?
— Я действительно достаточно одиноко себя чувствую. Но это неизбежности жизни художника. Да и возраст… Близкие отношения у меня с критиком Станиславом Рассадиным. Мы старые друзья.
— Будете звонить мне в Хайфу?
— Я вообще никуда не звоню, ни в какие страны. Да и в Москве. Мне обещают поездку, тогда позвоню.
— Эмигранты, которые тоскуют, но не могут вернуться… Их культура остается русской. Будут ли в Израиле смотреть и платить деньги за видеосъемку, которую я сделал в России?
— Большое значение имеют первые такие показы. Посмотревшие будут или не будут рассказывать своим соседям…
— Достаточно ли евреи интеллектуальны, чтобы интересоваться вопросами, которые мы обсуждали?
— Евреи — люди вообще с повышенным интересом к жизни.
— К жизни и учебе. Поэтому прошу Вас закончить тем, с чего начали. Дайте мне наглядный урок интервьюирования. Задайте мне, пожалуйста, несколько вопросов.
— Пожалуйста. Вот Вы берете у кого-то интервью. У режиссера ли, актера ли, писателя. Прежде чем брать интервью, например, у режиссера, Вы смотрите его фильмы?
— Нет.
— Я советовал бы Вам актера прослушать, писателя прочитать. Вы должны знать творчество человека, с которым беседуете! Второй вопрос: уверены ли Вы, что в Израиле заинтересуются мной и другими людьми, у которых Вы брали интервью?
— Не заинтересоваться русскоязычным евреем, все равно, что в тюрьме отказаться от передачи.
— Третий вопрос — изучаете ли Вы язык?
— Нет. И слава Богу, что в Израиле тридцать процентов русскоязычных эмигрантов. Весь день слышишь русскую речь… Самый прекрасный в мире язык… Но спасибо, и я все же слишком привык последний вопрос оставлять за собой. Что для Вас совершенный человек или гений?
— Гений — это в высшей степени созидательный талант.
Олег Басилашвили ЖАЛЬ, ЧТО УЙДУ БЕЗ МИРА И ПОКОЯ В ДУШЕ
— Олег, Вам не обиден обывательский высокомерный взгляд на артиста, проживающего не свою жизнь, а чьи-то чужие?
— Ну, зачем же обижаться на обывателя… Тем более, что я тоже высокомерно считаю, что артист отличается от других людей своей повышенной способностью или потребностью в любви. Если я играю положительного героя, я сам хочу быть на него похожим. Если негодяя, то его я люблю еще сильнее потому, что подлецы, всякие уроды, как правило, эгоисты.
— Видимо, обыватель это чувствует и наравне с другими зрителями платит Вам ответной любовью. Как же Вы относитесь к славе?
— В молодости умирал от ее недостатка, а теперь не знаю, как избавиться. Ведь даже в ресторане невозможно посидеть с дамой.
— А если Вас выберут в парламент, новая слава Вас будет также тяготить?
— Не знаю, будет ли тяготить, но я буду рад… Оттого, что появится возможность помочь кораблю государства уплыть от края пропасти или хотя бы какое-то время удержать его на гребне водопада. Ведь, работая в театре, в кино я до сих пор испытываю чувство стыда, что участвую в бесконечной комедии. Всего несколько раз в жизни я освобождался от этого чувства, когда рядом были Данелия или Рязанов.
— Из всех моих собеседников самым скрытным мне показался Губерман, теперь мне почудилось, что Вы, напротив, окажетесь самым откровенным…
— Если это достоинство, то вряд ли я заслуживаю Вашего комплимента. Но, может быть, моя интеллигентная семья, в которой я воспитывался… Моя мама — доктор филологии, составитель довольно откровенного словаря Пушкина…
— Сколько денег у Вас теперь в карманах?
— Шесть тысяч и билет на поезд, это ведь тоже деньги. Но практически у меня денег не бывает. Все уходило на то, чтобы кормить семью, а теперь еще на строительство дома.
— Вы материтесь когда-нибудь?
— Слава Богу, только наедине с собой. И думаю, что даже этот маленький недостаток, как и все остальные наши недостатки — последствия нашего страшного все еще существующего государственного режима. Знаете, когда я испытал самый большой в жизни страх? Во время штурма Белого дома. Правда, на какие-то мгновения, оттого, что я сразу увидел близко со мной стоявшего Ростроповича и других людей, показавшихся мне самыми красивыми из всех, когда либо виденных — и страх бесследно исчез.
— А если бы Вы никого не увидели в те мгновенья, и умерли от страха, как трудно пережила бы это Ваша семья?
— Здесь, думаю, ничего страшного не произошло бы. Моя семья мало разделяет со мной мои радости или горести.
— А из великих русских писателей кто Вам близок, а кто не очень?
— Достоевский — оттого, что, скорее, философ, чем писатель, — мне чужд. И абсолютно не понимаю, не принимаю Шекспира. А вот Чехов — мой союзник по выдавливанию из себя раба. Ведь со времени самодержавия ничего не изменилось. Если позволите, я поставлю в этот ряд моего учителя Товстоногова, чья гениальность восхищала меня 35 лет и Станиславского, чья жизнь служила мне образцом. Он жил ради великой идеи, верой, что театр делает людей лучше. Правда, тут я могу уточнить, мне кажется, только через три поколения генная память поможет человеку стать совершеннее. Потому я и обрадуюсь, став членом правительства, здесь результат был бы налицо.
— Как Вы полагаете, Станиславский был умнее вас?
— Думаю, что нет. Но, честнее и целеустремленнее. А вот умнее — Егор Гайдар, который взвалил на себя бремя реформ. И всем, кто хочет стать умнее, я советую прочесть его книгу „Государство и эволюция“.
— Почти все прославившиеся артисты, умные и не слишком, пишут воспоминания. А Вы пишете или готовитесь?
— Давно пишу, но непонятно что. И к тому же нечто бездарное. Настолько бездарное, что никому не показываю. Но делаю это, наверстывая таким образом упущенное в жизни.
— Если бы не Ваш герой „Служебного романа“, а Вы побывали бы в тюрьме, Ваши записки были бы талантливее?*
— Не дай Бог. И думаю, что после лагеря никакой литературы быть не может. Даже Шаламов — это не литература, а страшные документы.
— А смерть для Вас еще страшнее?
— Знаете, нет. Жду ее, как освобождения. Даже не терпится пройти по Хевронской долине, откуда, Вы знаете, грешники сваливаются в ад. Кстати, ученые исследовали этот район и подтвердили наличие в нем энергетических масс. После этого сообщения мое нетерпение усилилось.
— Вы как-нибудь оцениваете мои вопросы?
— Для меня Ваше интервью служит самопроверкой. Мне вдруг стало интересно, что же я из себя представляю.
— Если Вы достаточно разогрелись, расскажите, каким Вы себя видите в старости.
— Очень тянет соврать, что хочу умереть на сцене, как Жерар Филипп. Но, конечно, не буду. Если можно говорить о времени до дряхлости, беспомощности, тогда мне хотелось бы рубить дрова, косить сено, много ходить, чтобы обдумать, а кем же я должен был быть. Я никогда не хотел быть актером. Всегда ненавидел тусовку, богему. Просто в 45 году я попал в Художественный театр и мне захотелось, нет, не артистом стать, а как бы попасть в прекрасный мир Чехова, Островского и т. д. Вот, например, в одной из лучших пьес, где мне пришлось играть — „Цена“ Миллера, герою приходится выбирать между нравственностью и богатством. И это атмосфера и моей жизни тоже. Да, сейчас я получаю больше, чем при коммунистическом режиме, но вкалываю так же, а в мыльных сериалах сниматься отказываюсь. И жаль, что не все это умеют. Впрочем, что же говорить об этом, если даже мой любимый Маяковский хотел быть как все и сломался на этом.
— Вы много умеете, — но что же Вам мешало жить, как хочется?
— Видимо, надо признаться самому себе, что я мало себя реализовал из-за безнадежной привычки к театру и еще к оседлому образу жизни. Как ни странно это прозвучит, я очень домашний человек. Но если помечтать, то я вернулся бы в Москву, ходил по улицам, конечно, немного играл бы где-то, но это было бы хуже, чем в Товстоноговском театре. Главное же, что ходил бы, наблюдал, запоминал и радовался. Помните, у Набокова, которого, я кстати, забыл перечислить: „Давай блуждать, глазеть, как дети на проносящиеся поезда и предоставим выспренным глупцам пенять на сновиденье единый раз дарованное нам“.
— Вы так увлеклись, не опоздаете ли на поезд?
— Да, спасибо. Но на прощанье, я хочу поправиться. Мне сейчас кажется, что умереть будет все-таки жалко. Оттого, что не удалось осуществить юношеские мечты. Жаль невоплощенную в дела чистоту юношеских ощущений. Жаль мечту о монашеском служении делу. Жаль, что уйду без мира и покоя в душе…
Игорь Губерман НЕ ДАЙ БОГ, БУДЕТ СТОЯТЬ СМЕШНАЯ КОЛОБАШКА С ПТИЧЬИМ ГОВНОМ
— Не сумеете ли Вы вспомнить свой любимый или мучительный вопрос» который чаще других задаете самому себе и все не знаете на него ответа?
— Если бы я знал какой-то вопрос, на который у меня была бы заготовлена искрометная реплика или прекрасная история, я бы непременно сказал: «Спросите у меня то-то, и я блестяще отвечу».
— Не следует ли из Вашей шутки, что Вы ищете всегда искали легкой жизни?
— Да, всюду и всегда я искал легкой жизни.
— Вы хотите меня развеселить, а мне страшно, что Вы согласитесь и с тем, что Вы конъюнктурщик… Ваши гарики — настольная книга большинства русскоязычных читателей планеты. И замирая от страха, спрошу, не делали ли Вы себе славу?
— Я считаю это случайностью и отношусь к ней со смехом.
— Будете смеяться, даже когда узнаете, что собирают деньги на прижизненный Вам памятник?
— Не дай бог. Засрут голуби. Участь всех памятников. Будет стоять смешная колобашка с птичьим говном. Чего ж тут хорошего?
— Все минуты с Вами меня не оставляет ощущение, что Вы очень спрятанный человек. Что это маска, которую Вы одели в мою честь? Она единственная?
— У Вас иллюзия, что я спрятанный человек. Я очень распахнутый человек. Да мне и нечего прятать.
— А деньги? Если бы я попросил у Вас денег, Вы дали бы?
— Если бы Вы осмелились, этот эпизод я попросил бы исключить из интервью. Я не скажу, как я поступил бы, знаю только, что деньги надо давать тайно. Деньги, если они кому-нибудь даются, нужно давать, чтобы другие не видели, как даешь деньги. Это совершенно однозначно. Я знал людей, которые приходили на день рождения и демонстративно дарили пачку денег. Я видел, как Михалков подарил пачку пятирублевых бумажек (чтобы была потолще) старику Крученых… По-моему, ничего мерзее я в жизни не видел.
— Вы были бы такой же страстный матерщинник, если бы не побывали в лагере?
— Я не страстный матерщинник… Считайте все, что угодно, но сейчас Вы говорите, как секретарь партийной организации при ЖЭКе… Я считаю эти выражения естественной частью русского языка. Я не кривляюсь, моя неформальная лексика — это совсем не марш подростков для самоутверждения под забором или в подъезде, где они тайком курят.
— Кто из великих людей не пренебрегал матом?
— Пушкин всегда в письмах употреблял мат, и думаю — это было естественной частью его не только эпистолярного сознания.
— Сколько людей в мире потрясающе остроумных, с которыми Вы познакомились и дорожите общением с ними?
— Здесь на окраине Иерусалима живет русский прозаик, Дина Рубина. Замечательный писатель, она очень умный человек, талантливый необыкновенно. И она совершенно нормально употребляет слова, которые Вы называете матом.
— Чуть поднимите планку, назовите людей, о которых думаете, что они умнее Вас?
— Куча людей умнее меня. Потому что непонятно, что такое ум и что такое глупость…
— И тем не менее, назовете людей блестящих, невероятных, фантастического ума.
— Например, мой товарищ Витя Браиловский. Математик, профессор университета, бывший редактор нелегального журнала «Евреи в СССР». Отменно умный человек. И кстати, он совершенно спокойно употребляет матерные слова, когда они нужны.
— Вы помните имя женщины, Вашей самой большой любви, и другие женские имена по нисходящей. Так, что разбуди Вас ночью и Вы назовете их?
— Я очень счастливо женат уже 31 год. Очень люблю свою жену.
— Вам очень важно, чтобы в газете осталось это место — про жену?
— Это Ваши дела, батенька… Я ничего лишнего не скажу. Если я захочу, чтобы какого-нибудь места не было, я Вас попрошу об этом.
— Аккордеонист в Хайфе, играет в переходе, и может быть, платит еще и за свое место… Я говорил с ним 10 минут. Клянет свою жизнь в Израиле. Со слезами, говорит, что живет, как собака. Я забыл спросить, уехал бы он в Россию, если бы подарил бы кто денег на дорогу и жилье…
— Я отвечу за него. Не уедет, скотина.
— Вы знаете его имя?
— Я не знаю его имени. Заведомо уверен, что скотина. Неизвестно, зачем сюда приехал. Если потому, что решил, что его не оценили как аккордеониста — так сюда приехало много тысяч музыкантов, и классом повыше. Израиль маленькая страна. Если ты полноценный мужчина, то уезжай. Человек, который живет не там, где хочет, он вреден окружающей среде. Он вреден Израилю. Ему плохо, он портит окружающий воздух тем, что говорит. Я не вижу в этом никакого человеческого поведения… И будьте спокойны, за место он не платит.
— Вам не кажется, что Ваш монолог созвучен тому, что исповедуют сионисты?
— Думаю, что нет. Это имеет отношение к обычным проблемам эмиграции. Всегда процентов 5, 6, 10 (не знаю точной цифры) уезжает обратно, потому что им не понравилось — во всем мире. А здесь еврей приезжает в Израиль. И его пустили. Не потому, что он выдающийся аккордеонист, а потому, что еврей. Не нравится — уезжай к ядрене матери и играй в переходах российского метро.
— У этой истории мистическое продолжение, этот аккордеонист утверждает, что Вы смертельно обидели его брата… Рассказать вам, чтобы Вы прокомментировали? Или Вам не хотелось бы, чтобы это появилось в газете?
— Ради бога, пожалуйста. Я о себе слышал уже столько легенд… Я его знать не знаю. Если ему приятно рассказывать именно обо мне — на здоровье.
— Ну да Бог с ним. Давайте о более грустном поговорим. Не очень ли Вам тошно погружаться в эту грязь, клоаку, если я спрошу о статье, по которой Вы сидели?
— Стоит ли? Все это подробно описано в двух моих книжках.
— Вы убеждены, что если я перевру наш разговор, Вам будет меня жалко, как было жаль предыдущих интервьюеров?
— Мне очень часто бывает людей жалко. Потому, что кто-то хочет невероятного, кто-то мечтает в гордыне бог знает о чем, и мне их ужасно жалко. Если Вы переврете, то что ж? Переврете, так переврете. Важна сама интонация, даже если слова воспроизведены точно — ведь устная речь и письменная различаются.
— Ваша интонация говорит мне о том, что Вы можете в этом случае разозлиться.
— Я совершенно не мизантроп. Хозяин мастерской, где мы беседуем, изумительный художник, подтвердит, что он часто ругает меня за противоположное поведение. Я не слезливый человек, но плачу в сентиментальных местах. Смотрел раз семь или восемь «Графа Монте-Кристо» и плакал в том месте, где разоренный хозяин погибшего корабля собирался повеситься. А граф Монте-Кристо, которому он некогда много сделал добра, купил новый корабль, набил его пряностями… Корабль входит в порт, — и вот на этом сентиментальном месте я рыдал каждый раз. Рубашка даже была мокрая. А еще я плачу в ситуации, характерной для советского фильма. Например, какой-нибудь директор МТС, мужик лет тридцати, кургузый такой немножко, никак не может справиться с подонком — председателем колхоза или кем-то там еще. И тогда он едет в райком, а ему все говорят, что зря. А в райкоме новый секретарь, таких было много в шестидесятые годы фильмов, и тот все улаживает. И справедливость восторжествовала. А еще учительница географии, оказывается, его тоже любит. Вот в таких сентиментальных, заведомо фальшивых и пошлых местах я рыдаю, как ребенок. Но это своего рода отзывчивость на прекрасное.
— Вы хотите, чтобы Вам хватило долголетия и здоровья, чтобы написать прозу. Такую, чтобы она не уступала Вашим гарикам?
— Нет. Я не прозаик. Умею лишь на уровне журналистики. Никогда ничего не напишу даже на уровне гариков.
— Многие великие писатели и поэты особенно последнего столетня были убеждены, что не должно быть массовой профессии писателя. А если она существует, то ею заняты либо мошенники, либо слабоумные люди… Набоков, Бунин — недоумевали — как удивляется обыватель: зачем становиться проституткой, если можно быть порядочной женщиной…
— Здесь у Вас по-моему две темы в одной… Если Вы спрашиваете, должно ли общество содержать художника и ему платить, как это было в России — то есть, платить, за то, что они пишут, что надо, а более того, за то, что они не пишут того, чего не надо. Тогда, конечно, нельзя. Каждый человек, по моему мнению, должен заниматься тем, чем хочет и получать от этого удовольствие, вот и все. Если он согласен днем работать грузчиком, а по ночам сочинять безумную музыку или писать графоманскую поэзию — на здоровье, каждый играет в собственные игрушки, я ему желаю счастья.
— Вы иногда подозреваете и тогда сколько-нибудь страдаете, что Ваши гарики, которые заучивают наизусть, это не поэзия? Тогда что же это?
— Не знаю. Мне тоже кажется, что это не поэзия. Поэзия — это Блок, это Пастернак. Может быть — искусство? Но я не знаю, что такое искусство…
— Может быть, для Вас самое важное, что это доставляет удовольствие и радость людям, которые это читают?
— Это мне тоже теперь совершенно неважно. Но когда-то я прятал их в стол, и они приносили удовлетворение и мне, и немногим друзьям, одобрение которых мне было ужасно важно…
— Какое удовольствие острее, когда читаете уже сочиненное или сочиняете?
— Когда сочиняю, конечно. Я не получаю удовольствия, когда читаю. Тем более сейчас, когда это стало профессией, ремеслом. А когда сочиняю, получаю большое удовольствие.
— Вы бы испытывали гораздо более глубокое удовлетворение, если бы считали это поэзией?
— С иллюзиями жить легче, конечно. С иллюзиями и мечтами жить приятней.
— Среди 50 русскоязычных писателей, где Ваше место? Кто-нибудь «мешает» вам, как Блоку мешал Толстой, или Ахматовой не давал писать Блок. Вашей творческой жизни никакой поэт не мешает? Или философ?
— Нет, я иногда испытываю зависть, когда читаю некоторые стихи Игоря Иртеньева. Я очень высоко его ценю, я считаю, что это не то что недооцененный — недоощущенный поэт. Прекрасный поэт. Я иногда дико завидую отдельным фразам Зощенко. Дико восхищен, когда их читаю. Но так, чтобы мешать — нет.
— Пригов не кажется Вам графоманом?
— Нет, это просто вне сферы моих интересов. Но однажды я слышал, как Пригов читал свои стихи под музыку. И я умирал от смеха. А потом я прочел эти же стихи глазами — и ничего. И вот эта магия — это счастье. Я очень обрадовался. Я вообще очень люблю получать удовольствие от коллег.
— Вы, вероятно, помните много стихов других поэтов. Вот наша ситуация, беседы… Пушкин: поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви… Другой полюс, Георгий Иванов — за несколько месяцев до смерти: Все — туман// Бреду в тумане я//Скуки и непонимания// И с ученым или неучем говорить мне в общем не о чем… Может вспомните строчки, которые Ваше теперешнее состояние характеризуют вернее?
— «Поговорим о странностях любви, иного я не мыслю разговора»…
— Почему о любви, если у нас довольно напряженный разговор?
— Вы меня обнюхиваете и это естественно при Вашей любви к такого рода игре. Еще почему? Да потому, что я думаю, вся наша жизнь — это некие разновидности любви. Любовь между мужчиной и женщиной — только частный случай любви. Друзей своих я по-настоящему люблю, и часто ловил себя на этом ощущении. Есть люди, которых я люблю, занятия, которые я люблю. Бог есть любовь, я думаю. В этом отношении я согласен с христианством.
— А о смерти в гариках у Вас тоже целая глава?
— Нет, есть о старости. В гариках все главы кончаются смертью. Думать об этом не люблю, писать — люблю, потому что это прекрасный предмет для шуток. Мне кажется, что над смертью надо смеяться. Над всеми настоящими вещами в жизни надо смеяться. В смехе тоже любовь. Я никогда не подшучиваю над человеком мне несимпатичным, неблизким. Над близкими непрерывно подшучиваю, смеюсь над ними, они злятся, но знают, что это от любви. Я говорю об устоявшихся человеческих отношениях. Я увлекающийся человек — в мужиков-собеседников, бывало, влюблялся через 10 минут разговора, и знаю за собой страсть к людям, с которыми обожал разговаривать и искал общения; были люди, с которыми я просто боялся познакомиться — так любовно к ним относился. Бахтин, например. Так я с ним и не познакомился, к сожалению. Просто боялся к нему пойти, так благоговел перед ним.
— Когда человек врет, Вы часто видите это, осязаете?
— Думаю, что да. Хотя моя жена мне возразила бы, потому что безумное число раз меня обманывали.
— Вы мастер метафор, мастер сравнений. Юрий Олеша конца века… Да что там, Вы не уступаете Бунину и Набокову.
— А лесть — это способ завлечь человека, отвлечь его внимание?
— Способ посмеяться над ним.
— А, тогда замечательно! Так заканчивайте вопрос.
— Лагерь — это сквозняк, буря? Что это? Придумайте сравнение…
— Ничего подобного. Лагерь — это болото. Никакой не сквозняк. Сквозняк в предшествие события, когда тревога появляется. Нашим душам свойственно предчувствие, когда мы сопряжены с тревогой.
— Зачем Вам слава? Гастроли? Суета? Деньги?
— Сейчас перечислю. Слава ни на… не нужна. Это могут подтвердить все, кто меня наблюдает. Гастроли мне нужны, чтобы зарабатывать деньги. Исключительно для этого. Деньги мне нужны, чтобы кормить семью, а она у меня большая.
— Вы утверждаете, что Вы не лишние деньги зарабатываете, а только необходимые?
— Я зарабатываю настолько мало, что денег не хватает на необходимое, я ведь живу только стихами и исполнением, от гастролей до гастролей. Эта суета не нужна мне душевно, не дает мне ни удовольствия, ни развлечения, ничего. Если бы мне выплачивались деньги ежемесячно, для прокорма семьи, то, может быть, я ездил бы раз в два года куда-нибудь и только чтобы проветриться, погулять, а стишки бы сочинял попутно.
— Вы не остываете к писательству? До конца своих дней будете писать?
— Не знаю. И потому беспокоюсь. Графоманы — люди счастливые. У Юры Смирнова есть замечательные стихи: Толстой был тоже графоманом, // У графа мания была // Писал он толстые романы, // Забросив прочие дела. // Хирела барская усадьба // И граф вегетарианцем стал. // Другой такой успел устать бы, // А он писал, писал, писал… Я не графоман, мне не доставляет удовольствия сам процесс писания. Я его просто не люблю. Сочинительство мне доставляет большое удовольствие. Придумать какую-нибудь шутку, чтобы ее на первой же пьянке рассказать друзьям… А писание — нет. Ведь надо выживать, а я не работаю. Так что, это забота о хлебе насущном.
— Деньги появятся — и Вы остынете сочинять. Чем же займетесь?
— Я думаю, что у нас разное воззрение на процесс сочинительства. Стишки пишу не я — это кто-то мне пишет. Это точно. Они приходят сами, и вот, «душа стесняется лирическим волнением», как у Пушкина. Это как роды. И ты не можешь ничего сделать. Ты начинаешь думать о стишке, и вот два слова завяжутся в рифму. Стишок необходимо выбросить из себя. Я чудовищно ленивый человек. Встаю, пью кофе. Выкуриваю три или четыре сигареты. Беру книжку, которая меня интересует, читаю ее. Еду куда-нибудь по делам. Могу валяться часами с наслаждением. Иногда с книжкой, иногда так.
— А к общению не остынете, пока не одряхлеете окончательно?
— К сожалению, влечение к общению подостыло. Исчез острый щенячий интерес к людям. Как и остальные наши данности остывают с годами. Но пока общаюсь с удовольствием. А стишки зависят не от меня — поэтому не знаю, брошу или нет.
— Из великих поэтов XX века — кто для Вас бальзам, лекарство от царапин, от ран?
— Большое удовольствие от Ходасевича, очень люблю Георгия Иванова. Раньше очень любил Сашу Черного, сейчас подостыл.
— Две строчки Георгия Иванова?
— Меня поразили его строки: «Все тот же мир. Но скука входит //В пустое сердце, как игла. // Не потому, что жизнь проходит. // А потому, что жизнь прошла».
— Что Вам страшнее, импотенция или потеря зрения?
— Никогда не думал. Это совершенно разные вещи, не знаю. Абсолютно бессмысленный вопрос. Что легче потерять — правую или левую ногу.
— Вы с собой не покончите?
— Не знаю, по крайней мере не отвечу на этот вопрос в газетном интервью.
— Если бы в лагере не сложилось так удачно и благополучно, Вы выдержали бы более длительный срок?
— Не знаю, не верю, когда говорят, что выдержали бы больший срок и столь же не верю, когда говорят, что не выдержали бы.
— Довлатов сказал, что мещанин — человек, думающий, что у него все должно быть хорошо. Что же такое мещанин в Вашем представлении?
— Я не знаю, что такое мещанин. Как раз я мещанин — я тоже хочу, чтобы все у меня было хорошо, уютно, спокойно.
— Как Вы думаете, кто-нибудь, прочитав интервью с Вами, полюбит Вас сильнее?
— Нет, не думаю. Вообще автор должен быть оторван от своих произведений. Авторы очень часто мерзкие люди. Лучше читать произведения, а автора — не знать.
— Вы знаете, что есть много прекрасных людей, которые Вас терпеть не могут за то, что Вы непристойный поэт.
— На здоровье. Значит, они лишены еще одного удовольствия. Вот у меня нет музыкального слуха. Значит, я обделен еще некой возможностью получать удовольствие.
— Если бы Вы знали определенно, что Ваш сосед Вас ненавидит, но здоровается, Вы продолжали бы с ним здороваться?
— Да. Если он со мной здоровается. Не любит, и что ж, ладно.
— Бог и дьявол — это какая-то пара?
— Да. Напоминают борцов, которые борются, ссорятся, заключают пари.
— Кто из мудрецов прав — те, что говорят, что надо готовиться к смерти, или утверждающие, что не следует об этом размышлять?
— Я не люблю предписаний. Поэтому не могу никому ничего предписывать.
— Но Вы любите думать об этом, когда столько пишите о старости?
— Мне доставляет удовольствие шутить на эту тему.
— Каких людей Вы насчитали больше: хороших или плохих?
— Кто-то очень хорошо сказал, а я это украл и зарифмовал, чтобы было незаметно — что хороших людей больше, но плохие чаще встречаются.
— Что-нибудь приводит Вас в отчаяние, так, что депрессия начинается?
— Бывало. Но жить все равно в это время хочется. Понимаешь, что ужасно плохо. 5 декабря 1979 года в Волоколамской тюрьме, мне объявили, что сидеть мне 12 лет. Тяжко, но жить хотелось. В первый год отъезда, в эмиграции жуткие бывают депрессии. От бессмысленности такого существования, пусть оно даже благополучное.
— Толстой кокетничал, когда сказал, держа книгу «Записки из мертвого дома»: а меня Бог не сподобил? Он должен был понимать, что это только отрицательный опыт?
— Я считаю это крайне положительным опытом, и счастлив… Это огромная благодать, и я благодарен советской власти, что в лагерь попал. Толстой врал, старикашка ведь все время врал. Он врал окружающим, себе. Не был вегетарианцем, обожал куриный бульончик, хотя, наверное, догадывался, что ему варят. А насчет того, что не сподобился — может, ему действительно хотелось — но из тех же соображений, из которых сидел при умирающих, жадно на них глядя, настолько, что его даже выгоняли — такой у него был хищный, исследовательский взгляд. Ему это было интересно, как художнику. Он себя ощущал писателем, которому необходимо знать все проявления жизни.
— Ваше отношение к Набокову, его стихам?
— Хорошие есть стихи, просто отменные. Вот этот: ведут к оврагу убивать — это потрясающие стихи. А в общем, стихи у него слабее, чем проза. Если бы мы знали его только как поэта, то меньше ценили бы. Наслаждался безумно его «Приглашением на казнь».
— «Старикашка Толстой». Прошлись по Набокову. А для Пушкина найдете пренебрежительное словечко?
— Пушкин был чистый гений, чистый — просто поразительный.
— Знаете, а Вы более скрытный человек, чем даже Набоков, самая высокомерная личность, самая таинственная в истории литературы — никто о нем ничего не знал толком.
— По счастью, мне это не свойственно. Я не знаю, в какие игры он играл.
— В какую игру играете Вы, общаясь с миром?
— Я абсолютно открытый человек. Хотя Вы мне не верите. Я общаюсь только с теми, с кем я хочу. Я свободный человек, и поступаю, как хочу. В Ваших похвалах по телефону прозвучала интонация издевки, от Вас не зависящая. Мне стало интересно. Люблю свободных людей. Но Вы переигрываете. Я не льщу никогда. Общаюсь только с симпатичными мне людьми, так на… мне симпатичных людей обманывать?
Ефим Шифрин МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ДРУЖБА С УМНЫМИ
— У Чехова есть рассказ. Извозчик везет лесом ночью судебного следователя. И оба друг друга боятся. Я Вас собрался прокатить в машине интервью. Но боюсь Вас смертельно. А Вы похожи на судебного следователя?
— Я следователем не могу быть потому, что от самого названия профессии меня мутит. Это генетически, от папы.
— Мне нравится, как Вы меня успокаиваете. Можно еще…
— Нет-нет, я не буду Вас успокаивать. Мне интересно послушать второй вопрос. Ну, ладно, успокою. Я же не гений, чего меня бояться? У Жени Харитонова, моего приятеля, есть фраза «Гениев выдумали. На самом деле нас нет». Это действительно смешно.
— Вы меня успокоили. Хотя я все еще не уверен, что Вы не гений. Давайте проверим. Будьте добры, вспомните по три синонима к слову «жизнь» и к слову «смерть».
— Я и этот вопрос оставлю без ответа. Не потому, что он слишком умный. У меня впереди спектакль, и не хочется ломать голову, мучить себя догадками. Теперь я предпочитаю ответить на то, что знаю.
— Соперничество и ревность — немножко синонимы, правда? Кому-нибудь из Ваших любимых женщин казалась Ваша ревность патологической?
— Я воспитанный человек, и потому избегаю оставлять такое впечатление, и как бы сдерживаю себя. Вообще не хотелось бы выглядеть патологическим ни в чем.
— Существует ли война между дураками и умными, и страшнее ли она для Вас, чем война в Чечне?
— Не уверен, что есть безусловно умные и безусловные дураки. Я никогда не думал, что между ними война. Скорее, вечный баланс. Если бы я польстил себе и сказал, что я умный, то все равно не мог бы заявить, что вся моя жизнь — это война с дураками. Тогда я, наверное, сказал бы, что моя жизнь — это дружба с умными.
— Вы мечтаете о том, чтобы когда-нибудь кончились все спектакли?
— Это вовсе не мечта, а жуткое наказание. Даже мысль об этом. Я не хотел бы, чтобы спектакли когда-нибудь закончились.
— А письма Вы когда-нибудь писали? Помните, какое наслаждение было в том, чтобы писать и отправлять письма?
— Получать. И даже не наслаждение, а трепет… Но все это я плохо помню.
— Если теперь кто-нибудь из очень близких Вам людей позвонит и скажет: «Я больше не буду тебе звонить, и не спрашивай, почему. Я тебе позвоню, когда смогу. Вы огорчитесь?
— Вот тут-то испуг извозчика и сработает. Я буду доискиваться причины, мне покажется, что я в чем-то виноват, позвоню через минуту, тут же.
— А его не окажется. Он звонил из автомата. С каждой минутой Вы будете нервничать все больше, или остановитесь?
— Ну, какое-то время буду очень нервничать. Потом жизнь все измолотит и тревогу эту тоже.
— А потом Вы получите письмо. Оказалось, он перестал с Вами разговаривать, потому что сел писать Вам письмо. Очень хорошее письмо, умное, в нем много признаний… Скажите, Вы испытаете то же волнение, какое в юности испытывали, читая письма от женщины, которую любите?
— Не знаю, я немного моложе вас, опыта у меня меньше. Мне кажется, что время действительно доктор. Время, погасившее боль, работает против волнений. Я не могу во второй раз пережить то же. Я работаю, например, с людьми, которые меня непоправимо обидели. Или я очень их любил, а потом все разрушилось. Но я не могу в себе вызвать даже намека на те чувства, что были тогда. В одну реку дважды не войти. Когда я получу письмо, это мне польстит. Мне будет тепло, но жарко и страстно мне не будет.
— Вы с каким-нибудь гением соперничали?
— Я иногда попадал на какую-то строчку в книге, которая меня поражала совпадением чувств. И я был счастлив от этого. Вычитав про исключительную гневливость Бердяева, я понял, что это совершенно картина моей гневливости. Вам покажется странным, но я иногда бываю очень рассержен. И в такие моменты совершенно себя не контролирую, могу ужасно обидеть и оскорбить человека. Но я и очень отходчив. Во всем остальном у нас с Бердяевым не совпадает.
— Если свалить в кучу все Ваши влюбленности, что получится — куча скорбей, сборище горя, катастроф, или песня?
— Ну, песня вряд ли. Скорбей — тоже… Все, что я делаю в частной жизни, везде разлито какое-то лукавство. На сцене легче изображать чистое чувство, а в жизни краски смешиваются, ничего там исключительно подлинного нет. Я не могу сказать, что я честен, бескомпромиссен, непримирим или наоборот. В жизни я очень разный. А на сцене — другое дело. Поэтому даже во влюбленностях было лукавство, потому что я видел себя со стороны. Это описано великими лучше, чем я могу сказать. Толстой лукавил на похоронах матери, и Флобер, отравивший свою Бовари и почувствовавший отравление сам. Даже Горький, рыдавший над Самгиным… Знаете, на сцене живешь как-то чище.
— У Вас нет ощущения, что, когда я разговариваю, я как бы выхожу на сцену?
— Я не успел об этом подумать, но, наверное, Ваша профессия предполагает элемент моей.
— А Вы сейчас убеждены, что Вы в жизни, а не на сцене?
— Нет, не убежден. Но вообще-то мне нужно больше публики.
— Фима, после сцены, когда Вы обдумывали, как Вы играли, Вам страшно не становилось, что эта чистая жизнь — она все же не Ваша. И что-то болеть начинало по этому поводу. Вот Ваш доктор Альберт…
— Да, но ведь доктор Альберт создан не из чужой глины. Я свою на него потратил. Поэтому я не могу сказать, что это абсолютно чужой мне человек. Просто я бы, может быть, не поступил так же в разных ситуациях. Но это не чужой мне дядька с чужим голосом и с чужой походкой…
— Вы не выглядете измученным, как многие звезды. Но я видел артиста, который выглядел просто великолепно, а через три дня умер…
— Бывают как бы разные смерти. Вы говорили о физической смерти, а еще бывает какая-то кончина, когда в тебе умирает профессия. Для окружающих при этом делается вид, что человек по-прежнему скачет на коне. А уже никакого коня в помине нет, и человек давно ходит пешком…
— Вы замечали, что Вам интереснее говорить с совершенно незнакомым человеком, чем даже, простите, с собственной женой, с близкими? Если замечали, отчего это происходит?
— Да, это безусловно так. Для того, чтобы разговаривать с близкими людьми, совершенно не нужен текст, вообще слова.
— Сколько друзей входит в Ваш дом, самых близких? Таких, что приходят без звонка?
— Без звонка ко мне не приходит никто, даже самые близкие друзья. Я не люблю этого.
— А может быть так: Ваш друг позвонил Вам и сказал, что зайдет к Вам. Пришел, и молчит. Ему нужно было Вас видеть…
— Если кто-то из близких людей нуждается в моем участии, то я, естественно, помогу. Как я поступлю, зависит от конкретного случая. Как говорили советские чиновники, „мы решим этот вопрос“. Иногда достаточно и слов по телефону, что-то пообещать, успокоить. Те, кто знают меня хорошо, никогда не вторгнутся ко мне без звонка, даже если им будет очень важно. Потому что я впущу их в дом, но закрою себя изнутри. Это все равно, что я не открою квартиру.
— Извините, я закурил. Может, Вы не переносите запаха табака?
— Нет, почему же. Я когда-то курил, и много курил.
— А запах перегара стерпите, когда Ваш приятель, который Вам симпатичен, дышит на Вас водкой?
— И это я стерплю. А вот дурной запах изо рта — нет. Это у меня с детства. Я в детстве очень страдал; когда мне, маленькому, приходилось целоваться с родственниками. А дома меня к этому не приучили. Дома у нас не лизались, не было это принято. А с родственниками почему-то надо было. Меня это повергало в совершенный ужас, я просто сходил с ума. И сейчас я этого терпеть не могу. Бывают какой-то совершенно невообразимый дух изнутри…
— У Мандельштама и „Четвертой прозе“ такие слова: „Я извиняюсь, но не изменяюсь“. Вам нравится это выражение?
— Как я могу оценивать? Оно не требует моей оценки… Знаете, однажды Раневская, когда некто ей пожаловался, почему все восторгаются Сикстинской мадонной, ответила, что не понимает его, потому что мадонне столько лет, что она вольна выбирать, кому нравиться, а кому нет… Также и Мандельштам.
— Не хотите вернуться к началу разговора и вспомнить синонимы к словам „жизнь“ и „смерть“?
— Это все отдает какими-то играми, отгадай слово…
— Пуд соли, необходимый для знакомства, за сколько времени Вы обычно его съедаете?
— Отвечу так, что, боюсь, Вам не понравится. Я вовсе не убежден, что нужно съесть какое-то количество соли. Вообще Ваши вопросы предполагают жесткие ответы, а они мне несвойственны. Я люблю отвечать цветисто.
— Если в картинной галерее посетители смотрят сначала на табличку, а потом на саму картину, Вас это не раздражает?
— Нет, конечно. Я и сам так делаю иногда. Но она же там для чего-то существует.
— Существует ли у Вас какая-нибудь гимнастика для души?
— Мне эти сравнения с физкультурой не нравятся… В этом есть демонстрация пренебрежения к душе. Работа души должна длится 24 часа в сутки, в отличие от работы для групп мышц. Увы, есть люди, которые вообще без этой гимнастики обходятся. Киллеры, например. Если люди искусства перестают вспоминать об этой гимнастике, они перестают быть людьми искусства.
— Вы убеждены в правильном выборе своей профессии, ту ли дверь Вы открыли?
— Дверь я открыл безусловно ту, а вот в тот ли угол забился, я не уверен. Ведь и за дверью есть выбор. Я хотел стать актером, то есть попал туда, куда надо. А вот хорошо ли, так ли как надо я это делаю… Не знаю.
— Вообразите, объявлен конкурс фотографий талантливо работающих артистов… И Вы посылаете фотографию, которая в случае победы принесет Вам тысячи долларов. Какое выражение лица, из какой роли Вы выберете?
— Не знаю. Я-то себя изучил. Когда я позирую, я точно не смогу стать номинантом, и претендовать на премию. Мне легче подловить себя на каком-то моменте. Я лишен борцовских качеств, и все конкурсы, состязания меня отпугивают. В молодости я был вынужден участвовать в одном конкурсе, но потому что долго стучался в эту дверь, она навсегда отбила у меня всякую охоту соревноваться. Но, простите, я должен бежать на сцену…
Наталья Иванова ВОТ ПТИЧКА ПОЕТ, А Я ПИШУ ЗАМЕТКИ
— Помните Мандельштамовское об Ахматовой: „Вы хотите быть игрушечной, но окончен Ваш завод…“ Ваша дивная прическа напоминает мне ахматовскую, что на знаменитом портрете Модильяни, поэтому, не дав Вам разогреться, предлагаю работу. Какие писатели были Вам особенно близки?
— Родной писатель — Трифонов. Потому что он сумел сказать о том времени и том месте, где мы жили гораздо больше и лучше тех, которые написали об этом сейчас, когда стало уже можно. У меня есть ощущение, что его книгами оправдано несколько десятилетий нашей общей жизни. Моей — нет. Потому что я человек уже другого поколения. Для того, чтобы оправдать мою жизнь, должен был бы появиться следующий писатель. И, конечно, я о нем немедленно напишу, как написала о Трифонове.
— А другие Ваши книжки о ком?
— Несколько сборников статей. Один называется „Точка зрения о прозе последних лет“, другой называется „Факультет нужных вещей“, потом вышла книжка о Фазиле Искандере, потом „Освобождение от страха“…
— Чаще какое было ощущение, что Вы кормите себя ремеслом? Или Вы всегда полагали, что это уровень искусства — то, что Вы делаете?
— Я не знаю, уровень ли это искусства, но это необходимость моей жизни. То же, что ходить, дышать, пить чай. Это самовыражение, которое мне необходимо. Ни ремеслом, ни профессией это не было никогда. Это было образом жизни.
— Пренебрежительное высокомерное отношение всех почти великих писателей к профессии критика и литературоведа, Вы понимаете, чем питалось оно?
— Мне было совершенно все равно по поводу Чернышевского, Писарева, Белинского, цену которым я понимаю и понимала. Она не изменилась со студенческих лет. Благодаря моему учителю Владимиру Турбину, который был для меня моделью того, как надо строить жизнь. И поскольку я попала в его руки в университете, и для меня это было очень важно, потому что он не только как бы разгадывал литературу, литературное произведение, но этим же ключом отмыкал нашу жизнь. Мы занимались, например, Лермонтовым, а жизнь отмыкалась наша. Это было странное ощущение, но никем другим, кроме как литературным критиком, я себя после этого не ощущала…
— Турбин — это прекрасно, а все же Бунин или Набоков — Вы не понимаете, отчего они считали это наростом, паразитированнем, иначе как бранными словами не называли этот вид деятельности человеческой?
— Я понимаю, почему они считали это наростом. Им казалось, что когда они пишут, что Машенька пошла вот туда, а Иван Петрович сделал то-то — что это творчество. А вот сейчас я перечитываю лекции Набокова и вижу, что там творчества не меньше, чем в его так называемых лирических произведениях. Я спокойно к этому отношусь. Я себя выражаю так. Вот птичка поет, а я пишу заметки…
— Вы полагаете, это раздражение великих людей было их капризом?
— Я просто думаю, что они не доросли, вернее, не дожили до того положения критики, которое она обрела в современном мире. Я не имею в виду — в России, а именно в мире. Это такая же равновеликая часть литературы, как стихи, проза, эссеистика. Все зависит от того, как.
— У Вас ежемесячный журнал?
— Да, он выходит двенадцать раз в год. И, казалось бы, это легкое занятие — составить номер. Но получается так, что я работаю ежедневно. И 99 % из прочитанного мне приходится возвращать. И возвращать не всегда потому, что это посредственно, ведь половина из того, что я возвращаю, появляется потом в „Новом мире“ или „Дружбе народов“, в „Звезде“ или журнале „Октябрь“… Дело в том, что я не воспринимаю себя как руководителя или начальника над литературой, у меня совершенно другая концепция своей деятельности и деятельности журнала. Я считаю, что я — галерист. Я выставляю свою выставку и вижу, что в этой выставке эти работы будут хороши, а те — в другой выставке, другом номере. А вот эти не годятся. Это довольно мучительная, сложная работа. Не потому, что я хочу кого-то просветить, кому-то внушить какие-то идеи. А потому, что это отбор, отбор эстетический для такого художественного произведения, как журнал, как цельного произведения. Для этого нужна большая энергия. Сообразить, куда что поставить, что нужно, что не нужно. У меня такое впечатление, что я знаю всю литературу на год вперед. Потому из того, что я читаю, составляются потом другие журналы, выходят книги. Эта работа постоянная.
— Вы сказали, как тяжело Вам отказывать, особенно, когда Вы понимаете, что это талантливо, но в галерее не может быть выставлено. Можно подробнее, как тяжело?
— Если это очень талантливо, то я под эту вещь подберу всю „выставку“.
— Что это было, когда Вы подбирали всю „выставку“?
— Это бывает почти в каждом номере. Иногда это очень маленькая вещь, но под нее выстраивается весь журнал. Вот эссе „Образ японца в русской литературе“ — казалось бы, своеобразная тема, и под нее нелегко подстраиваться. Но статья так смешна и хороша, что мы подбираем под нее другие вещи — статью о восприятии еврейства в современной общественной жизни, эссе о наших в Великобритании, эссе „Крымская ностальгия“ — и так вот странно выстраивается номер. Хотя это вовсе не целевой номер, я терпеть не могу целевые номера. Это проблема другого, мы и Другие.
— Потребность и стремление к славе… Самые прославленные, объевшиеся славой актеры, писатели стремятся дать интервью. Что руководит ими?
— Ох, не знаю. Я пользуюсь этой возможностью совсем не потому, что стремлюсь к славе. Я не могу обогнать в славе человека, который мелькает в рекламе. Мы в эпохе, когда ни прозаики, ни поэты не могут сравниться в славе с исполнителем эстрадного шлягера… Я пользуюсь этой возможностью для того, чтобы как-то объяснить и рассказать о ситуации, в которой мы сейчас оказались. Может, это будет полезным.
— Вы не тщеславны?
— Я очень честолюбива.
— Тогда сделайте еще одну попытку. Чем же вызвана потребность в славе?
— Я думаю, что неверием или слабой верой в Бога. Нас не останется, так пусть останется наша известность. Известность в отличие от славы связана с вестью, которая исходит от человека, меньше зависит от его осознанных поступков.
— Бессознательно или сознательно Вы охотнее изучали себя, если изучали других?
— Себя я стараюсь не изучать. Это слишком бывает опасно. А что касается других, то это то, что называется моей профессией. Поскольку я разгадываю писателя через слово, которое он, может быть нечаянно, обронил и могу интерпретировать его отнюдь не к его славе и известности, скорее, наоборот, я его декодирую. И в связи с тем, что я постоянно занимаюсь этими манипуляциями, мне не хочется думать о себе самой.
— А когда Вы просто кого-то видите, то в Вас происходит мгновенная эмоциональная оценка этого человека?
— Ну, конечно.
— И сколько наберется Ваших знакомых, с которыми Вы должны поздороваться, по крайней мере?
— Думаю, несколько тысяч.
— Как Вы думаете, среди них больше грешников, или они в большинстве люди добродетельные?
— Конечно, грешники. Естественно. Во-первых, добродетельных людей я вообще встречала крайне редко, и потом они как бы не входят в круг моих знакомых.
— Как это получается? Это какой-нибудь механизм?
— Да, механизм. Я думаю, что добродетельные люди — а) скучны и б) не захотят общаться с такой грешницей, как я. Поэтому у нас нет контакта, нет будущего.
— Вы помните, как Сократ объяснял назначение философии?
— Нет, не помню, потому что меня тогда не было.
— Накажу Вас за этот тон, так и умрете, не узнав назначение философии… Вижу, как Вы огорчены, так и быть, слушайте. Уже досократовские мудрецы учили, что философствовать необходимо для того, чтобы в конце концов суметь вырваться из круговорота обыденности. Вам удалось вырваться из этого круговорота?
— Мне кажется, что я живу вне обыденности. Моя жизнь сложилась так, что мне всегда помогали в моей обыденности. Я могла не думать, откуда появляется суп или чистое белье. Я должна была, правда, деньги заработать. А в остальном мне всегда помогали. Я просыпаюсь с рукописью и книгой и засыпаю с рукописью и книгой. Это довольно тяжело. Получается, что внутренняя жизнь становится твоей обыденной жизнью. Это довольно мучительно, хочется это прекратить, разделить — вот это моя обыденняя жизнь, я тут не читаю, я тут не думаю, не сочиняю, а тут будет моя духовная жизнь. Мне, к сожалению, это не выпало. Обыденная жизнь уже не получится. В прошлом году я попыталась — вскопала грядку, посадила кабачки. Поливала целый месяц. Вырос один кабачок, я даже попыталась его приготовить. Он оказался абсолютно каменный. Так что не судьба.
— Наташа, Вам, грешнице, приходилось платить за грехи дорогой ценой, кусками души?
— Не думаю, что за это приходится платить кусками души. Думаю, приходится платить отсутствием покоя в душе.
— Вообразите, что Вы подозреваете любовника, мужа в том, что он Вам изменяет. Но нужно проследить, вечер потратить. Вы будете выслеживать, чтобы знать, чтобы не продолжать жить в неведении?
— Нет, я не буду следить. Если у меня возникнет такое ощущение, связь больше продолжаться не будет. Со мной такого быть не может. Если существо, которое рядом со мной, вызвало некоторое подозрение, боюсь, наша дальнейшая жизнь будет невозможна. Это при том, что я большая грешница.
— Данте водит своих современников по кругам ада, рая, чистилища. В каком месте чаще бываете Вы?
— Я между адом и чистилищем. В раю я бывала иногда, когда путешествовала. Потому что в путешествии как бы нет меня, я отказываюсь от собственной личности. Я превращаюсь в существо воспринимающее, в губку. Остаются чувства — я вижу, слышу, впитываю в себя, а меня нет. Это редкие мгновения счастья. Это и есть рай. Неделя в Гонконге была неделей счастья. Меня там никто не знал, я могла часами глазеть на то, что я хочу видеть, ходить, где хочу. Или в Японии, например. Там я прожила несколько недель именно в таком состоянии. Хотя я там читала лекции, и тогда в эти часы вновь становилась личностью.
— Вы попадаете в ад, чистилище из-за людей?
— Нет, только из-за себя. Потому что ты не сделал чего-то или сделал не так. Самое страшное, когда ты ничего не можешь поправить. Если человек жив и ты можешь что-то сделать, это одно. Но если ты уже не можешь исправить, это ад.
— Жизнь — лес, дорога, колесо, лабиринт… Может быть, какое-нибудь свое слово вспомните?
— Может быть, жизнь и лес, и дорога, и лабиринт… И, кроме того, жизнь это дом. Который ты строишь, который у тебя получается, либо не получается. Кто-то заходит, а кто-то остается насовсем. Но не всегда дом получается таким, как хотелось бы. Потому что ты строишь его не от нуля. Из материала, который тебе предложен, или перестраиваешь дом, который тебе оставлен предками. Мечта о доме… Каждый из нас, как кошка — входит в дом и понимает, будет он здесь жить, или нет. Когда я вышла замуж первый раз (мне было девятнадцать лет), я вышла замуж за художника. Жили очень тяжело, на первом этаже, в мастерской. Я была студенткой. Мы построили кооперативную квартиру, казалось бы, все замечательно — прекрасное место, рядом с Американским посольством. Я вошла и поняла, что жить я там не буду. И ровно через пять месяцев я оттуда ушла.
— Ваше сравнение с домом украдено у Мандельштама?
— А может, у Бродского. Или у Пастернака, у которого столько образов дома — жизни, где есть двери, выход за которые — смерть…
— О Набокове написать у Вас не чесались руки?
— Чесались. Пока просто набираюсь духа. У меня есть идея фильма о доме Набокова. Очень странный дом на Большой Морской, где он родился. Газета „Невское время“ — в комнате, где он родился. Будуар матери, а там — брокерская контора. Или кабинет отца и библиотека, а сейчас там какое-то голосование активистов. У меня с Домом много связано. Дом Набокова, Дом Пастернака, Дом Чуковского. Для меня тайна дома, где обитал художник, очень много значит. Поэтому, если я буду когда-нибудь писать о Набокове, может, я попробую разобраться с тем, почему после этого дома он никакого не имел и не хотел иметь. Я была в Швейцарии в этой гостинице замечательной, где он занимал несколько комнат. В Монтре, „Гран-палас“. Она такая бездомная, эта гостиница. Весь Набоков для меня — между своим питерским домом и бездомностью этой роскошной, в одной из самых дорогих гостиниц.
— Набоков великий писатель?
— О, да. Хотя о Набокове заурядными критиками столько понаписано!
— Вы досадуете на них за эту смелость?
— Нет. Чем больше ерунды, тем легче написать свое. Мне всегда было интересно писать о том, о чем никто еще не сказал. Осмелюсь сказать, такой критический темперамент. Может, это связано с моей работой в журнале, где я читаю то, что никто никогда не читал, и они появляются впервые.
— Вы второй после Губермана запрятанный человек среди тех, с кем я уже поговорил. Вы чаще ловили себя на том, что стремитесь помочь собеседнику, обласкать его или, напротив, обличить, когда не нравился он вам?
— Мне сначала люди очень нравятся. Чаще всего они мне нравятся, но я страдаю комплексом Жанны Д'Арк — мне еще кажется, что я могу помочь. Это с детства мне все просто нравились, а потом я прочитала в книжках по психологии, что это называется комплексом Жанны Д'Арк и означает, что я хочу что-то исправить в людях, которые нуждаются в помощи. Сейчас, понимая, что во мне сидит этот комплекс, я стремлюсь остановить себя.
— Любовь до Христа была эротической. После него многие люди как бы стали искать свою половинку. Вы всегда полагали, что Бог — это любовь или Вам более свойственен языческий взгляд на любовь?
— Для меня все это происходило не на урове ratio. Если я чувствовала, что хочу от этого человека ребенка, я знала, что могу выйти за него замуж.
— Как Вы полагаете, Вы слеплены из отца, матери, предков, то есть, Вы биологическое существо или какое-то новое, вышедшее из хаоса?
— Конечно, новое. Но мне очень жаль моих предков, потому что память о них сидит во мне. Мне очень жаль, что я не могу исправить ничего. Связь, конечно же, существует. Когда проходишь через подростковый период, когда всех ненавидишь, то отталкиваешься от родных и близких, переходишь в другую фазу — фазу неприятия. А потом — переход в другую фазу, когда тебе становится бесконечно жаль. В моих предках столько всякого намешано…
— Изнанка жизни… Не теневые ее стороны, а поэтическая, таинственная подкладка жизни — Вам это понятно?
— Да. Но как — не могу сказать. Это может быть достаточно неожиданно. Поскольку я — мама, для меня самая большая тайна мироздания, момент отделения этого существа, когда это ты и уже не ты. И когда это существо уже студентка, и живет совершенно в другом мире, и разговаривает с тобой только по телефону, это ощущение уже не только тайны, но и раны…
— В Евангелии от Иоанна есть загадочная фраза: „Пока есть свет, ходите, чтобы не объяла Вас тьма“. Не хотите ли изменить слово „ходите“? Вместо „ходите“ что бы Вы поставили?
— Ну, „ходите“ сказано совершенно гениально. Потому что „ходите“ значит абсолютно все. Мы перемещаемся от одной мысли к другой, мыслительный процесс — это ходьба… Можно заменить множеством разных слов — думайте, мечтайте, любите, воображайте, призывайте — это все будет „ходите“. Но пока есть свет, нужно стараться действовать. Под словом „действовать“ я вовсе не подразумеваю физическое действие. Вот я сидела на крыльце и смотрела, как просвечивает луч через лист дуба. И это был для меня тот самый момент, когда есть свет. И я шла, думала, блаженствовала, мечтала — все, что угодно можно поставить сюда. Пока есть свет, нужно читать. Если у тебя есть дар — составлять слова. Этот дар во мне иногда возникает, иногда покидает. Если внутри тебя свет есть, и ты видишь неправедность того, что происходит, и ты можешь сформулировать, что это неправедно и несправедливо, ты должен это сделать. Если ты это не сделаешь, свет уйдет и будет тьма — в прямом и переносном смысле слова. В прямом смысле слова ты заснешь, а утром будет другое время. И кто-нибудь другой скажет это слово не так как ты, и без тебя, и что-нибудь произойдет не так. Поэтому это великие слова.
— Вы чаще себя ловите на том, что Бог видит Вас, или Вы хотите его разглядеть?
— Мне иногда Бог показывает мир.
— А ждете смерти с ужасом, возмущены этим обстоятельством или притерпелись к нему?
— По отношению к другим, близким и родным — это не возмущение, это крайнее отчаяние.
— Любящие за что воюют друг с другом? Помните у Тютчева „Союз души с душой родной… и поединок роковой“?
— Поединок — это точно. Если человек любит, ему кажется, что тот, другой — его alter ego. Что у него свои привычки, своя голова, свое прошлое, которое может огорчить или раздосадовать. Любое общение, любовное в том числе, это конечно же, своего рода поединок. Не в том смысле, что кто-то кого-то должен победить. Это благородный поединок.
— Не хотите любовь сравнить с чем-то. Что она — сон, болезнь или помешательство?
— Любовь — это зависимость. Конечно, самопожертвование, конечно, чувство ответственности, конечно, счастье, конечно, радость, конечно, любовь это просто жизнь.
— „Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…“ Блаженство и восторг похожи на то, будто смотришь на раскаленную лаву рядом с тобой? Какой у Вас восторг?
— Нет, я думаю, что все не так. Этого вовсе нет. Например, я сижу в Грозном, и мои дети, и родители, — семья, и счастье, и любовь. Идет обстрел, уничтожение города, равного полутора Женевам. В одночасье все у тебя уничтожено. А тут было все — первая любовь, твоя школа… Роковые мгновенья — не хочу. С другой стороны, если жизнь станет спокойной, может, будет скучно? Это я иронизирую. А если серьезно» главное, что с нами происходит — это наша частная жизнь. Сознание наше перекошено, вам кажется, что все, что сейчас происходит — выборы, Зюганов, Ельцин — может изменить всю нашу жизнь. То, что произойдет с нашими любимыми, если честно говорить, гораздо важнее. У нас, бывших советских людей совершенно перекошено сознание. Наладит что-то или не наладит что-то без нас Ближний Восток, Сербия… Все смотрят выпуски «Новостей»… Зачем?! Любовь к «роковым мгновеньям» может быть опасной!
— Вы, скорее, отдохнули во время нашего разговора или работали?
— Конечно, отдохнула.
Илья Бахштейн Я ПИШУ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
— Как Вы думаете, способно ли высветить человека обычное газетное интервью?
— Например, Ваше интервью с таким великим писателем, как, например, Битов обычным быть не может. Такой человек захочет привнести что-то свое, изюминку свою.
— В какой мере Вам было нескучно читать это интервью?
— Мне было интересно.
— Потому что Вы знали, что это великий писатель?
— Да, конечно.
— Скажите, а Вас приучили к мысля, что Вы гениальный поэт?
— Нет. Сам поэт слеп к своим произведениям. Потом выясняется его место. Вторым критерием поэта является публика, хотя это тоже необъективный критерий.
— Представьте такую ситуацию. Полный стадион в Тель-Авиве, тысячи людей, заплативших за очень дорогие билеты на футбольный матч в чемпионате мира в Израиле. В последнюю минуту объявляют, что матч задерживается. А Вы — уже нобелевский лауреат. Сколько нужно было бы заплатить этим людям, чтобы не было возмущения, давки, а публика тихо сидела и слушала Ваши стихи, двухчасовое выступление?
— Смотря какая публика. Ну, долларов двести. Хотя за эти деньги они могут хоть пять часов сидеть, но слушать-то не будут. Будут газеты читать.
— С какого стихотворения Вы начнете, чтобы зрителей загипнотизировать?
— Если бы я получил Нобелевскую премию, зрители бы слушали, независимо от того, что я читал бы. И выбрать мне трудно… Я ведь пишу не для читателей, а для учреждений — для гуманитарных факультетов университетов.
— Я открыл вашу книжку на какой-то странице и предположил, что вся книга сделана из могучего, фантастического воображения. Гомер, Бродский, по сравнению с Вами, лилипуты…
— Но я преклоняюсь перед Бродским…
— Итак, Вас выталкивают на трибуну, Вы должны читать. Чем Вы начнете выступление?
— Одно стихотворение есть, которое нравится публике. Оно переложено на музыку, много раз публиковалось. Оно не так уж и сложно, аудиторно. Стихотворение называется «Художник». «Знает ли птица, что птица она? // Знает ли ветер, что ветром летает? // Птица не знает, и ветер не знает, // Вечно свободный свободы не чает. // Птице в темнице вспышка дали видна. // Быть я любимым хотел, // Но стихи вместо меня от любви клокотали. // Жизни не зная, слово терзали, // Между решетками строк трепетали, // Всплески полосками нежность плели, // Нежных тропинками снежной зари, // Страшно и чудно звенели слова, // Словно земля будто в колокол билась, // Ввысь уносилась, мечтой становилась, // Над океаном вселенной склонилась, // Как над казненными храм Покрова… // Все из меня в бесконечность ушло, // Ночь в сонной луже мерцает совою, // Бездна мне воет дорогой пустою».
— Ваши стихи кажутся Вам такими же прекрасными, умиляют Вас, как природа?
— Я горожанин и природа меня не умиляет никогда. Попав в первый раз в Израиль, я, вместо того, чтобы смотреть на расхваленное сотни раз Мертвое море, смотрел на алюминиевые коробки недоскребов! Ноосфера, то, что создано человеком, мне интереснее. Архитектура, живопись. Я любил когда-то побродить по подмосковным лесам, на грани смен сезонов.
— Пятое время года есть?
— Пограничное, то есть? Конечно есть.
— Когда оно рельефнее?
— Между летом и осенью.
— Но в другое время суток Вы выберете что-то другое, не так ли?
— Про пятое время не знаю, но больше всего люблю лето. Приехав сюда, я удивлялся, как может расцветать поэзия в условиях моносезона.
— Что-нибудь Вас мучает в мировом порядке, устройстве жизни сильнее, чем Ваш внешний облик?
— Странный вопрос. Очень странный. Когда у меня не было поэтического языка, мне мешала моя внешность. В детстве я много думал об этом, слишком долго лежал в больнице — 7 лет в гипсовой постели, выйдя из больницы, ходил в гипсовом корсете. Все кончилось с того момента, когда интересы литературы начали вытеснять все остальное. К сожалению, я не научился играть ни на каком инструменте, хотя обожаю музыку.
— Не является ли ключом или источником Вашей поэзии Ваш необычайный физический облик?
— Может быть, очень может быть…
Юрий Куклачев ПОЯВЛЯЕТСЯ В РОССИИ ГЕНИЙ И ТУТ ЖЕ ВОКРУГ НЕГО — МЕРЗОСТЬ
— Давайте спрошу о самом важном… Вы что-нибудь еще читаете?
— Стал читать детям. Прежде всего, «Хаджи Мурата». Сейчас идет война; пусть знают поближе, что это за народ…
— А какой предрассудок в людях Вы не переносите?
— Предательство.
— Юра, Вы уравновешенный человек? Как сбалансированы Ваши недостатки и достоинства?
— Я очень спокойный человек.
— Сумеете сформулировать, как Довлатов: «Мещанин — это человек, который считает, что у него должно быть все хорошо».
— Мещанин — это тот, кто довольствуется малым.
— Теперь о животных. Вы ловили себя на том, что они самые близкие Ваши друзья, ближе не было?
— Самые верные существа. Если они тебя любят, то преданно, если не любят, то они тебе это покажут.
— Вы придумали еще до перестройки включать детей в представление?
— Я думал всегда, как сделать интереснее, и давно решил, что в цирке интереснее всего дети и старики. Стал включать их — 25 лет назад. Я затягиваю их в действие, а когда ребенок выходит со мной, то родители тоже. Старушки даже мне пишут такие замечательные письма.
— Кто-нибудь у Вас на представлении умер — от радости, возбуждения?
— Вы заметили, что у нас на представлении доброе биополе. Да, мы делаем деньги, но — через добро. Могли бы иначе их заработать, например, сдать подвал в аренду — но это разрушит биополе. Это надо воспитывать в себе, отталкивать плохое.
— Почему женщин так магнетически к себе влечет зеркало?
— Она смотрит в зеркало, ищет движения, выражения, которые должны понравиться. Есть женщины, у которых заготовлены такие движения.
— Вам только понаслышке известны, или биографически — выражения «мой тип женщины», «искра, пробегающая между мужчиной и женщиной»?
— Мой тип женщины — моя жена.
— Это трагедия у собак, кошек — когда они теряют друг друга?
— У кошек это проще.
— За сколько времени Вы съедите пуд соли, чтобы Вы знали — да, Вы хотите дружить с кем-то?
— Я думаю, месяц. Хотя, у меня был учитель, каждое слово которого я впитывал долгие годы.
— Вы думаете, что преступники тоже промысел Божий, или дьявольский?
— Для меня преступники — совершенно несчастные люди, я смотрю на них жалеющими глазами. Они против закона природы. Но Бог создал и этих людей несчастных.
— У Вас есть какая-нибудь идея, вокруг которой группируются все события Вашей жизни?
— Я знаю, что люди, пришедшие ко мне на два часа, будут счастливы, довольны. Это и есть моя идея.
— Если Вы знаете, что человек будет счастлив, когда Вы дадите ему 50 $, Вы дадите?
— Нет. Если человек — человек протянул руку, как у нас в метро ходят и сказал — дай! — я не могу дать ему.
— Если я приду, встану на колени, протяну руку и скажу: «Дай», — Вы дадите мне сто долларов?
— Нет, если Вы протяните руку, не дам. Просто так — могу дать.
— Юра, играл случай какую-то роль в Вашей жизни?
— Очень часто. Зависть — страшная вещь, я видел очень многих людей, даже талантливее меня, которых затоптали… Может меня не затоптали случайно.
— Есть невероятно талантливый человек — артист, может быть, — Вы отдадите ему год своей жизни?
— Я не могу так щедро раздавать — год, месяц. Единственные люди, которым отдал бы, — это родители.
— Обложку книги Плисецкой украшают слова: «Люди не делятся на классы, на расы — они делятся на хороших и плохих. И хороших во все времена было гораздо меньше, и будет». Вы можете согласиться?
— Хорошие люди разрозненны, они не объединяются. Ну, впрочем, я ведь тоже не стремлюсь объединяться…
— Что Вам удавалось вынести из «пожара жизни» — какое убеждение, чем Вы начинали жить на пожарище?
— Я думал на эту тему, задавал себе сам этот вопрос. Например, после разговора с Брежневым. Это очень добрый человек. Добрый, откровенный. Мне было его очень жалко. Вот окружение его — мерзость, как сейчас вокруг Ельцина. Я вижу — ходит мерзость. У нас есть особенность в России — появляется гениальный человек — и сразу вокруг него мерзость.
— Не знал, что у нас такие хорошие цари. А чего Вам звери не прощают? Ведь Вы у них царь…
— Предательства. Они чувствуют это. У нас происходят разрывы с животными. Психическое напряжение у животного, и оно замыкается.
— Представьте, взорвался автобус, не осталось Ваших животных. Вам 47 лет — Вы найдете в себе силы через неделю набрать новых кошек…
— У меня был случай в Англии, когда меня выбросили туда без всего — делай… Но голь на выдумки хитра. Кстати, там я был бы очень богат. Но сейчас у нас тоже начинается…
— Нуждаетесь ли Вы в машинальной жизни, чтобы жить, как на автомате, ни о чем не думая?
— Нет, напротив. Я просто переключаюсь с одной работы на другую. Выпал момент — я взял книгу, или английский… Секунды нет!
— Юра, приливы, приступы счастья — отчего это у Вас бывает?
— У меня бывает при общении с природой.
— Вы зашли, предположим, на свадьбу, люди счастливы. Вы будете счастливы, как они — или это отстраненное чувство?
— Отстраненное.
— Бог о Вас думает? Ощущаете чаще его заботу или наказание?
— У меня есть свое предназначение. Прийти в мир, проснуться.
— Представьте, такой указ вышел в России: нельзя разговаривать с близкими с друзьями — и вся милиция брошена проверять выполнение этого указа; разговаривать можно только с незнакомыми людьми. Нарушителей штрафуют — максимальной зарплатой в десятикратном размере. Через несколько месяцев страна выходит на самый высокий в мире уровень благосостояния. Один за другим вот такие бесчеловечные указы. Все начинают задыхаться. Хотя никого не сажают, а визу недовольным присылают на дом и — деньги на проезд. Вы уедете?
— У меня была ситуация подобная и я остался.
— Вы всегда чувствовали, знакомясь с начинающим — он будет великим артистом?
— Я ощущаю талант, способности. Да, это было, я чувствовал. Кто умел трудиться, тот и пошел в гору. Я старался помогать.
— В азартные игры никогда не играли?
— Могу сыграть, но не азартен.
— Хорошая книжка будет с тремя десятками интервью с такими китами как Вы, Солоухин, Караченцов, Никулин? Будет раскупаться с лотков?
— Пытался я этим заниматься, но сейчас книги не покупают…
Сергей Каледин ДЛЯ АХМАДУЛИНОЙ НУЖНА ДРУГАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ
— Мне кажется, что Вы излишне серьезно относитесь к этим 15 минутам, которые мы проведем вместе…
— Я работал могильщиком, видел, во что превращаются люди с течением времени. Министры и поломойки превращаются в одно и то же — в поганые скелеты. Мне кажется, что тратить время на вялую задумчивость, на уклончивость ответов, на то, чтобы казаться не самим собой — непозволительная роскошь…
— А что значит быть самим собой? Да и сказано: «Нет правды на земле, но нет ее и выше»…
— Вот именно. И это тоже нас обязывает говорить как можно откровеннее.
— Вы полагаете, быть искренним необходимо человеку, независимо от того, трезв он или пьян…
— Во-первых, я не пьян, а трезв. Кстати, редкий случай.
— А во-вторых?
— Потому что иначе нет смысла жить, существовать… Я полагаю, что когда люди рассказывают, как ходят в церковь, верят в Бога, клюют носом иконы — это ошибка. Вера в Бога — это то, что ты знаешь, чего нельзя делать. И ты не осознаешь доподлинно, на каком основании выработалась эта концепция. Олег, Вы не журналист и интервьюер, а, скорее, психолог.
— Скажите, какие удовольствия Вы цените дороже удовольствия общения?
— Одно связано с другим, все очень совокуплено — музыка и оргазм, вино и беседа… Говорить художнику вообще и писателю в частности, писателю, необходимо. Потому что таким образом ты отражаешься в зеркале, во всеобъемлющем зеркале — фонетическом, обонятельном… Ты смотришь, какой ты есть. И нашему брату без этого нет жизни. Писательское ремесло — это парное катание. Не одиночное, к сожалению. До сорока лет я думал, что можно обойтись и одиночным катанием, что-то хорошо написать. А выяснилось, что без читателя жить нет никакой возможности.
— Что в сыне Вам больше всего не нравится, кроме того, что он Вас мало любит — гораздо меньше, чем Вы его, как все наши дети? Какой-то другой знаете его недостаток?
— Раздражает, что не являюсь для него глобальным авторитетом. Мне хотелось бы, чтобы мой жизненный опыт целиком передавался ему, и он не выдумывал бы велосипеда. Я назидаю ему, что цивилизация именно потому и цивилизация, что никто не выдумывает велосипед, а едет на нем дальше.
— Ваш сын ненавидел Вас какое-то время, когда Вы уходили в другую семью?
— Конечно. И сейчас остались рубцы, они и должны быть. Но он четко разбирается, кто где прав, кто виноват, почему так вышло…
— И все же Вы согласны, что «природа отдыхает на детях гения»?
— С одной стороны, мне кажется, что «природа отдыхает». С другой стороны, когда я читаю публикации своего сына, его израильские солдатские рассказы, слышу его голос на радиостанциях «Эхо Москвы» и «Свобода», думаю, что, может, природа устроила здесь эстафету, у нее появился какой-то другой закон…
— А Вами много написано?
— Давайте я расскажу Вам байку и Вы скорее поверите, что я лучше знаю чужое творчество. Я пришел как-то к Фазилю Искандеру. И говорю: «Фазиль Абдуллович, хочу рассказать вам, как здорово Вы пишете прозу». «Ну, это я знаю», — скромно сказал Фазиль. «Какой великолепный рассказ Вы написали, где Вахтанг работал спасителем на водной станции, потом кинулся в воду, сломал позвоночник и умер». А Фазиль говорит: «Ох, Серега, ты чего-то напился!» — «Да нет, я не напился». — «Тоня, иди сюда. Смотри, как Серега напился». Приходит Тоня. Я ей говорю: «Тоня, знаменитый рассказ, как сломал себе шею пацан-спасатель и там были такие слова: „Его отец, казалось, не мог дождаться истечения сорока положенных дней, и душа его кинулась вдогонку за ушедшей душой сына“. Она говорит: „Ой, нет. Это не Фазиль писал, нет“. Я говорю: „Дай книгу!“. Дает книгу и я открываю ее ровно на нужном месте и показываю. Фазиль говорит: „Тоня! Это я написал“. А Тоня говорит: „Да, Фазиль, это ты написал“.
— Сергей, к сожалению, я должен уходить, но не могу, не спросив вот о чем. Утешьте меня. Я Вам по телефону говорил, что Искандер полчаса тому назад завизировал мое интервью с ним. И мне обидно, что огромный кусок он вычеркнул. Ему показалось, что об Ахмадулиной я спрашивал у него как-то недостаточно уважительно к ее имени…
— Фазиль при его абсолютной гениальности, даже он, не помню где, не нашел верных слов о Белле. Для нее нужна другая тональность. Белла — это красавица, первая красавица Москвы конца 50 — начала 60 годов… С кем ассоциируется слово „красавица“ — так это только с Беллой Ахатовной Ахмадуллиной. С кем ассоциируются слова „гениальная поэтесса“ — с Беллой Ахатовной Ахмадуллиной. С кем ассоциируется слово „богема“, „элита“ — опять с Беллой Ахатовной Ахмадулиной.
Евгений Миронов НАДЕЖДА — ВОТ КОМПАС ЗЕМНОЙ
— Вам знакомо представление об актерах, которые как бы утрачивают себя, вовсе уничтожаются, наливаясь кровью персонажей? Вас беспокоит этот злой взгляд?
— Не беспокоит, даже радует. А если говорить в идеале о назначении человека, как жертвующим собой для других, то актерская профессия в какой-то мере этой миссии соответствует, не так ли? Получается, что волки сыты и овцы целы. Вообще вопрос выбора стоит перед любым человеком в любой профессии и, позвольте, я вспомню еще поговорку: не место красит человека…
— И все же Ваша вдохновенная картинка похожа на ситуацию, когда священнослужитель былого времени становится осведомителем КГБ, переходит в стан грешников, только затем, чтобы помочь, облегчить положение верующих в тоталитарной стране. Внешне это не так выглядит?
— Мне кажется, мы говорим о разных вещах. Если священника попутал бес, и он думает, что это во благо — это бесовщина, дьявольщина… Есть ведь истина, которая выше всего.
— В юности Вы ощущали себя верующим человеком? Глядя на Вашего „Мусульманина“, я неотвязчиво думал о том, что это невозможно сыграть…
— Сразу много вопросов. Сначала я был условно верующим или даже неверующим. Семья моя — неверующие люди. Потом некие обстоятельства повлияли на меня, и в девятнадцать лет я крестился вместе с матерью и сестрой в своем родном Саратове.
— Сколько Вам сейчас лет?
— Двадцать девять. Поэтому уже десять лет я пытаюсь быть верующим человеком. Я хочу быть верующим. Выбор меня на эту роль был случаен. А мне это показалось очень интересным. Потом начались мучения. У многих есть суеверия, что за смену веры ждет какая-то кара. И передо мной стал выбор. Либо я отказываюсь и играю чистого Ромео… Если спросите, верил ли я в фильме, я скажу — верил. Я серьезно подошел к этому вопросу. Я ходил в мечеть, изучал обряды. Мне нужно было влюбиться в эту веру. Поверить я не мог.
— Видимо, Вы верили в единого Бога…
— Да, Вы правы. В этом был смысл моей работы.
— Когда Вы закончили работу, Вы сделали шажок назад, к безверию?
— Шажки эти я всегда делаю. Я хотел играть человека, мусульманина, но грешного. Земного.
— Когда Вы в драках участвовали, Вам было это отвратительно, как верующему человеку? Или мусульмане — это агрессивный народ?
— Агрессивный. Но когда их не трогают, они живут мирно. Грешат, и искупают свои грехи. Но если их тронут, они сумеют ответить. Когда я давал сдачи, я не думал, богоугодное это дело или нет. Это эмоциональное.
— На этой неделе Вы ловили себя, что поступаете, как безбожник?
— Вы хотите, чтобы я исповедывался?
— Нет-нет. Просто скажите.
— Ну, поругался я. И знаю, что неправ.
— Вам хочется научиться прощать Вашего всякого обидчика, не сердиться, не гневаться?
— Была полоса жизни, когда я хотел научиться запоминать зло. Как мне казалось, приобрести мужественность… А теперь, конечно же, как человек, который пытается жить по вере, хочу научиться этому, но не получается.
— Когда видите церковь, не креститесь?
— Крещусь. Раньше делал это как бы скукожившись, стесняясь. Сейчас стал спокойнее, крещусь открыто.
— Сколько раз в месяц Вам хочется зайти в церковь?
— Есть праздники, бывают также трудные моменты в жизни. Тогда хожу.
— Чувствуете подъем, умиротворение, находясь в церкви?
— Достоевский говорил, что в вере нет доказательств. Это так. Зашел и — ах! почувствовал умиротворение… Иногда получается так, иногда — нет.
— Вы женаты?
— Нет.
— Вы себе положили, что будете бесконечно влюбляться, сходиться, расходиться?
— Влюбляться — это прекрасно, но, конечно же, бесконечно ни у кого не получается…
— Какая Вам теория любви больше нравится — о поиске своей половинки, с которой Вы должны соединиться, или теория энергетическая, об энергии, которая требует выхода? И тогда любая понравившаяся женщина может стать женой или любовницей?
— О половинках, конечно, больше. Любовь это не секс и не порнография.
— Вы думаете, что и теперь, после двадцати девяти лет, Вы будете всегда продолжать влюбляться?
— Конечно. Это относится не только к женщинам, но и к профессии. Спектакли, театры, режиссеры, роли. Это тоже влюбленность.
— Самый длительный период, когда Вы не могли влюбиться долго, и мучились?
— Трудные моменты жизни, когда погружаешься в себя и не можешь отвлечься. Год, полгода…
— Бог, Любовь, Профессия… Что четвертое в этом ряду важнейших для человека вопросов?
— Это смерть.
— Кто Вас околдовывал, гипнотизировал из актеров? Казался недосягаемым мастером?
— Лоренс Оливье, Марлон Брандо — они обладают гипнотическим талантом. Из женщин, очевидно, Раневская. Она как-то удивительно запоминалась в самых коротких ролях.
— Из русских актеров кого Вы боготворите, как Оливье?
— Олега Борисова. В нем загадочная, мощная энергетика. Леонов, сыгравший гениально в „Старшем сыне“.
— Что лучше всего, какие эмоции, черты характера, Вы умеете изобразить, передать, о какой мечтаете роли, где можно было бы развернуться?
— Я не совру, если скажу, что не знаю, что умею делать хорошо и что плохо. Я начинаю работать с трудом. Вот недавно сыграл Хлестакова. И мне кажется, одни партнеры сыграли так блестяще! Джигарханян, Козаков, Гердт, Никита Михалков, Янковский, Ильин… Там я попал в одну среду… А репетировал „Братьев Карамазовых“ в совсем другой атмосфере…
— Представьте себя семидесятилетним, остывшим… Спектакли, кино — не интересно. Придумайте себе другое любимое занятие.
— Я себя не представляю семидесятилетним. Думаю, и занятия не будет.
— Вернемся в начало. Все же, что за наслаждение отказываться от себя и проживать чужое?
— На самом деле это не отказ. Все, что я делаю, я ищу в себе. Мало того, могу сказать, что характер артиста зависит от ролей, которые он сыграл, в нем отпечатки, которые оставляют персонажи. Что интереснее; чем искать в себе неизвестное и находить? Человек, конечно же, меньше всего знает самого себя. Правильно сказано, что человеческий мозг использует себя на тридцать процентов. Театр — это возможность остальных семидесяти. Я могу летать, умирать, испытать миллион состояний.
— Это похоже на то, как в школе кому-то все время подсказывают, и потому он переходит из класса в класс…
— Это не подсказка, а взаимное обогащение. Когда встречаются Михаил Чехов и Гамлет — это событие. Или Чехов и Хлестаков. Это громадное событие в жизни всех, кто это видел. Об этом рассказывают, пишут еще долгие годы. Это нечто странное, что не пощупаешь. Кроме того, это поколения, века, соединенные искусством. Это — над ситуацией. И если в зале приподнимаются хоть чуть-чуть, значит, событие состоялось. Правильнее сказать, что я — проводник. Но какой проводник? Дело в личности.
— По словам Тарковского, если ежедневно поливать сухую корягу, она обязательно зацветет… Позвольте мне сделать парафраз: актер — это сухая коряга, а вода — это тексты. Шекспир, Чехов, Горин… Вы уже зацвели или только поливаете себя, таскаете воду?
— Коряги цветут где-то там. Я был на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в Париже. Меня поразила бедность могилы Тарковского: какая-то бетонная плита, покосившийся крест, и ничего больше. Через полтора года я приехал опять. И крест стоит ровно, и что-то цветет… Надежда — вот компас земной.
— Пушкин предпочитал завоевывать женщин своим остроумием, обаянием, а не славой поэта. Вам приходило в голову скрыть от какой-нибудь девицы, что Вы актер? Вам также важнее то, что существует помимо престижной профессии, Вашего славного имени?
— Конечно, было. Но она потом все равно узнала.
— Каким же человеком Вы хотите стать?
— Хорошим. Очень хочу и пока не получается.
— А что такое хороший человек?
— Это значит, сохранять в себе что-то очень важное. И после ухода оставить не имя, а звук…
Александр Кабаков ХОЧУ, ЧТОБЫ СКАЗАЛИ: „ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ МУЖИК, НО БЕЛЛЕТРИСТ СРЕДНЕЙ РУКИ“
— Не тесно в таком ряду… Сегодня я уже говорил с Караченцовым…
— Это хороший актер первого ряда. Хотя… я не с очень большим почтением отношусь к актерам.
— Актеры, как и солдаты, жертвуют своей жизнью? Обезличиваются?
— Что значит — жертвуют? Для этого надо иметь жизнь. Становясь актером, человек уже не имеет своей жизни.
— Вы могли бы продолжить этот ряд обездоленных? Проститутки, может быть?
— Не знаю, незнаком с проститутками. Я думаю, пожалуй, в каком-то смысле, политики. Да и вообще, начальники.
— Чиновники?
— Нет, необязательно чиновники. Начальники. Они могут быть и в бизнесе. Люди, которые страшно зависят от других.
— А если актер гениальный?
— Чем гениальней актер, тем меньше у него своей жизни. Если это актер, воплощающийся, как Смоктуновский. Иное — Ульянов или Габен. Кого бы они не играли, они одни и те же. Наверное, они тоже живут не своей жизнью, но только одной, а не разными. Лицедейство — занятие древнее. Вообще всякая выдумка, притворство, лицедейство — все это близко, свойственно и писателям. Я вообще не очень понимаю, почему мы говорим об актерах? Давайте хотя бы о писателях… Что касается проституток, то это профессия, сильно романтизированная. Прежде всего, писателями. Не нужно преувеличивать. Это женщины повышенного телесного темперамента, которые заодно извлекают из этого доход… Есть и другие профессии, извлекающие доход из растрачивания души.
— Тогда у преступников Вы должны предполагать предрасположенность, плохую наследственность?
— Конечно. Правда, не знаю на счет наследственности, не очень хорошо понимаю генетики. А Вы всерьез предполагаете, что преступность — это чисто социальное зло? Преступность существует при любом строе. В благополучной Швейцарии… В мусульманском мире, где жестоко карают преступников, и в Скандинавии, где законы мягки… Все равно преступность существует. Я глубоко убежден, что существуют люди, которые способны нанести физическую боль живому существу, урон, ущерб и те, кто неспособен.
— То, что Вы сидите в этом кресле… каково Вам в нем?
— Я служащий всю жизнь. Меня это не тяготит совершенно. Я работаю в журналистике двадцать пять лет. Это и образ жизни, склад характера.
— А писательство и журналистика — родственные стихии?
— Абсолютно противоположные.
— Вы допускаете, что Вы также и хороший писатель?
— Я хорошо знаю, какой я писатель. Это моя вторая профессия. Или первая. Нужно просто понять, что и то и другое пишется словами, так и бухгалтерский отчет пишется словами. Журналист не должен ничего выдумывать, писатель же должен выдумывать все.
— Что Вам теперь хотелось бы, чтобы о Вас написали после Вашей смерти?
— Есть расхожее мнение в художественной среде, что талант не только извиняет, но даже предполагает дурное в человеческом характере. Я предпочел бы, чтобы обо мне не говорили: гений, но жуткая сволочь. Но хочу, чтобы сказали: очень приличный мужик, но беллетрист средней руки. Таким беллетристом, кстати, я себя и считаю.
— Уговорили меня досрочно. А кто на Ваш вкус великие прозаики XX столетия?
— Сложно говорить о XX столетии. Не буду называть великие произведения, но скажу о произведениях, которые непонятно, как сделаны. Если понимаешь, как сделано, можешь сделать сам. Бунин. Если говорить о прозе советского времени — Булгаков, но с некоторыми оговорками.
— А Набоков не входит в число любимых?
— Нет, я не люблю Набокова.
— Скажите, „сделано“ — это какая-то кухня, какие-то приемы работы?
— Да, конечно. Если я вижу, что сделано просто, но не понимаю как — то, гениально. Из иностранных назвал бы Фолкнера.
— Приведите, пожалуйста, образец приема любого писателя, ну хоть Булгакова.
— При всей моей любви к Булгакову я вижу, как задумывался роман. Полностью вижу от начала и до конца, как делаются фразы. Какой ритм, какую фразу он выбрал и почему.
— То, что Вы говорите, наверное, способны понять всего несколько человек на свете?
— Да нет, все, кто профессионально занимается словом. Кто пишет или профессионально читает.
— А не могли бы Вы объяснить и мне, и другим неспециалистам…
— Ну вот, пожалуйста. Зачем Булгакову понадобился роман в романе, роман об Иисусе? Булгаков находился в тяжелых психологических отношениях со Сталиным. Он был очень высокого мнения и, наверное, справедливо, о масштабах своей личности. Он был очень высокого мнения и о масштабах личности Сталина, уж извините. И даже до того, как я узнал это из его биографии. Именно эти высокие оценки потребовали от него того, чтобы описать свои взаимоотношения с властью. Но какой может масштаб быть выше, чем у Сына Божьего?
— Умею ли я Вас слышать? Прием — это те обстоятельства, которые! вынуждают писателя выбрать то или другое?
— Нет. Автор потом этим обстоятельствам подбирает адекватную форму.
— Нет, бесполезно мне что-нибудь объяснять. А какими приемами пользовались Вы?
— Сейчас в России такое время… Все говорят, что во многом выбор, который будут делать пожилые люди, побуждается ностальгией по своей молодости. Мне было бы интересно разобраться с тем, почему же над людьми так властвует время. Побудительный мотив, цель, фон — прямое публицистическое рассуждение или лирическое, пусть и не совсем внятное: мол, голосуете Вы не за коммунистов, а за воспоминания. А вернуться в свою юность нельзя.
— Вы довольны своей писательской работой?
— Я каждую неделю пишу колонки и знаю, что среди них были получше и похуже. У меня не было опасений, что они будут совсем уж плохи.
— Среди Ваших знакомых кто самые незабываемые люди? Юрий Рост немногим Вас старше, но смог вспомнить только умерших.
— К сожалению, я не был знаком с писателем, который произвел на меня самое сильное впечатление, кого я еще застал. Юрий Валентинович Трифонов. А сильное впечатление именно человеческое… Я не подвержен эдакому волнению от общения. Вот работа чья-то может оказать сильное влияние на меня.
— А свою неповторимость Вы все же ощущаете?
— Я ощущаю себя одним из многих людей, который занимается своей профессией. Один строит дом, другой делает ракеты, я — добросовестный беллетрист. Делаю доброкачественную беллетристику, „Невозвращенца“ я написал вовремя, ее вовремя издали, и это принесло мне некоторый успех. Конечно, я неповторим, как всякое Божие творение…
— Вам не кажется, что всякий человеческий мозг — это уже неповторимость, ведь здесь Бог…
— Да, конечно, неповторимость мельчайших чувств, состояний. Но думать о себе, как об исключительном творении я не умею.
— Приступов восторга нет — оттого, что в Вас есть Бог? Что Вы умеете думать?
— Да все умеют думать, не все умеют высказывать. Я средний советский интеллигент, „образованщина“, как говорит Солженицын.
— И не нужно детей учить в школе, что каждый из них — венец творения? Чтобы каждый день дорожили, помнили об этом?
— Мы все — венец творенья, а не каждая отдельная личность. Я верующий человек и довольно строго отношусь к таким вещам. Не Александр Кабаков — венец творенья, а человек. Я мании величия лишен начисто.
— Сделаю третью попытку… Чтобы ребенок не только умел думать, но и ежедневно ценил эту способность в себе — по-вашему, существование такого предмета — нелепость?
— Да куда он денется, он уже умеет думать. Этого не нужно.
— Но взгляните, на что жалуются? На правительство, цены… И чем гордятся? Автомобилем и воровством.
— Среди жалоб на правителей, погоду, цены есть размышления. Мои заметки — тоже о ценах, правителях, погоде. Как растянутые мемуары. Рассуждения о ценах ничуть не менее важны для человеческой жизни, чем рассуждения о космосе. Человек, чтобы быть человеком, должен соблюдать то, что заложено Богом. Он не может это не соблюдать, это заложено…
— Может и религии не нужно учить?
— Религии как дисциплине, тому, что называлось Закон Божий, неплохо было бы учить. Это мощная культурная основа для веры. А вере научить нельзя. Необходимо музыканта учить нотной грамоте, технологии музыки. Музыке научить нельзя, она либо есть в человеке, либо нет.
— Может заодно порекомендуете, чему нужно учить детей в школе, чтобы они не вырастали такими же пародийными людьми, как все прошедшие после Христа за две тысячи лет? Может, уроки бодрости, достоинства? Пофантазируйте.
— Ни к чему. Какая жизнь будет, таковы и будут дети. Можно научить в любой сфере только технологии — технологии музыки, технологии письма, счета.
— Священнослужители говорят, что человек проклят, изгнан из рая. Вы верите в это? Человек не может быть другим?
— Да, конечно. Если бы человек не был проклят, так и жил бы по-другому.
— И человек обречен терзаться во все времена?
— А если люди перестанут терзаться, они перестанут быть людьми. Абсолютно счастливое человечество — это не человечество. Так не может быть. Без драмы, без жизненной трагедии человек превращается в непонятно что.
— Коммунизм — это зло?
— Это страшная ложь. Во-первых, он не может получиться. Во-вторых, если получился бы, человечество прекратило бы свое существование.
— Стон в России поутихнет, когда выберут президента, за которого Вы собираетесь голосовать?
— Heт, этот стон раздается везде, не только в России. Человек не может быть счастлив.
— Не возражаете, если я как заглавием воспользуюсь Вашим предыдущим ответом, озаглавлю им интервью?
— Да, пожалуйста.
Вероника Долина КРОМЕ ДЕТЕЙ НИЧТО ДРУГОЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
— Ну, что? Пробежала я Ваши газетки. Вижу, что все Ваши интервью — это интервью с самим собой. Вы и со мной так поступите?
— Видимо, да. Я же себя хочу прославить… В отличие от всех Вас — знаменитостей, я ведь никому неизвестен… Вас не раздражает, когда Вас путают с эстрадной певицей Ларисой Долиной?
— Очень редко это бывает. Нет, не раздражает.
— А война в Чечне Вас раздражает?
— Нет, не раздражает. Это другое, я очень переживаю, досадую.
— А со славой как. Вы не объелись славы, она Вас не мучит? Ведь Вас узнают на улице?
— Бывает, но для моей жизни это не имеет никакого значения.
— А сколько ступенек еще нужно преодолеть, чтобы оказаться на уровне популярности Булата Окуджавы?
— У каждого человека должны быть, есть свои ступеньки. Думаю, у меня есть свои, зачем мне равняться…
— Получается, какой бы она ни была, от своей славы Вы испытываете максимум комфорта?
— Да, мне довольно хорошо. Все, что касается так называемой славы — это только приятное. Но у меня есть еще очень густая обыденная, бытовая жизнь, очень хлопотная. А там, где слава — все приятно.
— Вас ищут, просят: „Нет ли у Вас чего-нибудь новенького?“ Объясняться — это разве не хлопотно?
— Вы должны попытаться меня понять. Я ничего не знаю про славу. Так называемая слава — это совершенно не моя ипостась. Я немножко понимаю в области любви. Широкой любви.
— Ваш разговор с журналисткой Дардыкиной для „Комсомольца“ был Вам интересен?
— Не особенно, вопросы были остро тематические, „восьмимартовские“. Мне это не интересно. Я не работаю в сфере 8 марта.
— Вам непременно нужно было сказать, что Вы всегда были при мужчине?
— Это пустые подколки, Олег. Да, я живу с мужчиной всю свою взрослую жизнь. И здесь важен контекст. Но вообще фраза была моя в достаточной степени.
— В большинстве случаев мужчины были действительно божеством? Это было сказано Вами не для красного словца?
— Да, я так вижу.
— Вам хочется, чтобы еще разочек появилось божество?
— Нет, сейчас я не испытываю такого желания. Более того, осознанно я и прежде так не ощущала. Но судьба, как стихия, тащила меня иногда чуть-чуть дальше, чем я разумела.
— То есть, Вы всегда хотели, чтобы всякий роман был последним?
— Да, конечно.
— Но одновременно Вы всегда ждали, что вот опять неминуем разрыв?
— Да, конечно. Чего-то я все равно жду. Но это неважно, я могу желать себе новизны и ощущений разных. Можно писать чувствительные романсы, как я пишу с юности, но можно допускать и иронию, обрывчатость, памфлетность, чуть-чуть сатиры. Так что я могу допустить разное с собой.
— Как Вы думаете, фотографы, фотохудожники усиливают вашу привлекательность?
— Думаю, что скорее я сама умею хорошо сняться.
— А сколько раз можно любить? Сколько резервного места всегда есть в вашем сердце?
— Я не в курсе. Подсчетами не занимаюсь.
— Когда Вы порываете с мужчиной, это похоже на то, как мы хороним близких и как бы умираем вместе с ними?
— Зависит от контекста. Иногда, наоборот, бывает очень оздоравливающий процесс.
— Что Вам всего мучительнее наблюдать в людях?
— Многое. С годами я все больше ценю бережное отношение людей друг к другу, и мне все отвратительнее любые формы небрежности во взаимоотношениях.
— Одни мудрецы рекомендуют ежедневно думать о смерти, другие — не помнить о ней. Какой совет Вам по душе?
— Я думаю, что это очень интимно. Человек может готовиться, но не быть готовым, и наоборот.
— Вообразите, что завтра Вы умираете в полном сознании. Вы будете протестовать, возмущаться, бояться?
— Нет, погорюю только немножко. Соберусь, чтобы отчитываться о здешнем.
— А когда будете отчитываться, чего будет жальчее всего оставлять, кроме детей?
— Кроме детей, ничто другое не имеет значения. Если только не живы родители…
— Вы помните какую-нибудь строфу Вашего стихотворения, которым гордитесь?
— Я помню много своих стихов.
— Прошу вас, прочтите одно.
— Нет-нет, не буду. В этом есть специальный налет театральности, сейчас это неуместно.
— Когда мы будем прощаться, Вы поставите в своей книге „галочку“ на стихотворении, которое Вам больше всего нравится?
— Нет уж, сами ставьте все „галочки“, какие найдете нужным. Конечно, есть стихи, которые я особенно ценю, но это не есть важно.
— Вы уравновешенный человек?
— Нет, очень неуравновешенный.
— В чем это выражается?
— Ну, мне до чрезвычайности мало знакомо ощущение внутреннего покоя. Сколько живу, столько борюсь за завоевание крошечных участочков, где бы была какая-то зона покоя. Все это так трудно достижимо.
— Когда Вы все же покойны?
— Довольно физиологическое понятие. Я могу внутренне гармонизироваться.
— Женщин неудержимо влечет к себе зеркало… Как Вы себе объясняете это?
— Зеркало — это очень хорошая вещь… Такая волшебная вещь, которая до чрезвычайности полезна в жизни. Я люблю, чтобы оно было в кармане, в сумке. Машину ценю за бытовое наличие нескольких зеркал. Хотя я думаю, что мужчины тоже неравнодушны к зеркалам.
— Вы производите впечатление человека, который важничает, знает себе завышенную цену…
— А, боитесь чьей-то важности?
— Ужасно боюсь.
— А мышей боитесь?
— Нет. А почему Вы спрашиваете про мышей?
— А вон мышка побежала…
— Сколько Вы книжек опубликовали?
— Сколько-то книжек опубликовала… Пять, кажется.
— Так откуда эта кажущаяся мне важность, преувеличенное чувство собственного достоинства? Допустите, что я не ошибаюсь, и после объясните, отчего это? Детей много, многие Вас любили, или думаете, что ужасно умны, наконец?
— Ну, Олег, Вы меня хотите задеть как-то?
— Нет, хочу понять, за что Вы себя цените?
— Ну, это какое-то здравое чувство дистанции. Когда-то оно было инстинктивным, спустя годы — сознательным.
— Какие-нибудь студенческие словечки Вы до сих пор произносите?
— Никаких. У меня есть другие свои „словечки“, но я нечасто ими пользуюсь — в зависимости от ситуации.
— У Вас была подруга, которая была бы Вам дорога, так же как и возлюбленный?
— Сейчас уже нет. Было даже не в юности — на стыке отрочества с юностью!
— Вам вполне достаточно, что Вы связаны, перемешались, извините, с какими то очередным возлюбленным? Одинокой Вы себя не чувствуете?
— Это не имеет значения. Есть какая-то доля одинокости, но это давнее. Мне давно даже комфортно, когда я одинока. Это высокая радость.
— Я думаю, что Вы меня обманули. Вы не хотите поставить в своей книжке „галочку“ возле любимого стихотворения, потому что не знаете, какое любимое. Многие поэты жаловались, что им стыдно писать, когда есть великие, как Пушкин или Блок… Это мешает.
— Мне никто не мешает. Мне все помогают.
— Вы никогда не равнялись на великих?
— Нет, никакого равнения я не соблюдала.
— Все же, кто Вам кажется самым совершенным поэтом?
— Я считаю, что не может быть совершенного поэта. Поэт — это само несовершенство. Тем более, еще живущие.
— А гениальные бывают живущие? Назовите кого-нибудь.
— Ахмадуллина, только что исчезнувший Бродский. Нет-нет, их, конечно, не очень много.
— Кроме названных, Вы можете назвать всех великих русских поэтов этого столетия?
— Что, у нас экзамен? Ну, ладно. Пастернак, Мандельштам, Цветаева.
— Можете вспомнить какую-нибудь строчку Мандельштама?
— Помню, и не одну. Довольно много.
— Пожалуйста, произнесите.
— Ну, оставьте. У нас не экзамен.
— Скажите, Вы поэтесса, или Ваше призвание в том, чтобы родить еще несколько детей?
— Как захотим, так и сделаем.
— Бог о Вас заботится?
— Черезвычайно. Многажды. Это тонкие вещи, о них не хочется говорить. Но я всегда помню об этом.
— Вы читали „Розу мира“ Даниила Андреева?
— Перелистывала. Многое у меня утекает между пальцами, и я немножко не поспеваю. Мой старший сын подхватывает быстрее, чем я, и если он охватил, то у меня есть обманное впечатление, что это я прочитала, обдумала…
— Есть ли какая-то идея Вашей жизни, вокруг которой собирались бы факты Вашей биографии?
— Как учили в школе, идея гуманизма.
— А чем отличается Толстой от Достоевского — это ведь тоже школьное?
— Пустое… Слушайте, я могу поимпровизировать, но только к чему это в нашем разговоре?
— Его Величество Случай как-нибудь влиял на вашу жизнь?
— Если помнить о существовании Бога и дьявола, то случаю места уже не остается.
— Что бы Вы захотели спасти в пожаре жизни, если бы нужно было начать жить сначала?
— Если не считать детей, то гитару. Двадцать лет назад я этого не знала. Это та корова, которую фермерша должна схватить и вынести.
— Книгу Майи Плисецкой Ваш сын держал в руках?
— Я держала. Далеко в чтении не зашла, но первую главу пролистала с симпатией. Я думала, что там все иначе. Мне попадались фрагменты далеко не литературные. А что не есть литература, меня отталкивает. Я не люблю ни мемуаров, ни публицистики, ни многое другое, я не поклонник газет. А первую главу Плисецкой держу в памяти.
— Вам звонили знаменитые люди, хвалили Вас и просились к Вам на концерт?
— Да, конечно. Хочу обойтись без имен. Ни к чему. Моя жизнь чуть-чуть фермерская, чуть-чуть лесная, экзотичная. И потому московский общепринятый богемный словарь и словарь имен — это без меня.
— А лет через двадцать Вы не захотите написать, как Вы жили, не напишете прозу? Глядишь, и начнут Вам подражать?
— Думаю, через двадцать лет я буду нянчить внуков.
— На обложке книги Плисецкой сказано, что люди делятся на хороших и плохих, и хороших всегда было меньше, это подарок неба. А в Вашей жизни хороших было также меньше?
— Я с плохими почти не сталкивалась и не сталкиваюсь. У меня есть немножко слуха, интуиции, и я избегаю многого, хотя иногда вляпываюсь.
— Сколько Вам надо поговорить с человеком, чтобы понять его?
— Час, наверное. Иногда достаточно увидеть.
— Есть ли у Вас ощущение, что Вам нужно меня избегать?
— Ну, специально избегать Вас я бы не стала. То, чем мы с Вами занимаемся, Олег, это не есть интервью. Не думайте, что мне незнаком этот жанр. Я не вчера родилась… И то, что Вы излучаете, продуцируете — я немножко это знаю.
— Вы не хотите, чтобы это повторилось в Вашей жизни?
— Да, я не в восторге.
— Ладно, не волнуйтесь, я позвоню Вам только через год. А есть люди, с которыми Вы перезваниваетесь? Много их?
— Может в районе двух десятков.
— А среди них незаметные люди есть? Парикмахер или плотник.
— Да, конечно. Самые разные люди. Просто все это люди состоявшиеся. Я недоделков недолюбливаю.
— Была ли в Вашей жизни катастрофа, когда жизнь Вас выталкивала из себя, еще один шаг, и Вы говорите — лучше б я не дожила? Если была — по какому поводу?
— По поводу любви. Но вообще я очень трезвоголовая.
— А лет Вам сколько? Ответьте, Вы же экзотический, лесной человек…
— Здесь нет ничего страшного. Мне полных сорок.
— Ровно сорок… А лет пятнадцать назад я также не смог бы Вас увлечь? Объясните, пожалуйста, израильтянам, почему.
— Все очень просто, помимо всего прочего, я очень большой славянофил.
— Ну, скажите, что Вы видите во мне такого, что Вам не нравится? Тем более, что мои родители не евреи, я купил паспорт…
— Всякая резкость меня отталкивает.
— И что в другом человеке Вас привлекает?
— Терпимость, теплое внимание к человеку. У нас ничего с Вами не происходит из области искусства, даже маленького. У нас идет очень томительный малоэффективный поединок. С Вашей стороны — прессинг Вашей колючей индивидуальности. Мне это не очень интересно, не очень близко. Никакой прессинг мне не интересен.
— Вы нуждаетесь в минутах машинальной жизни? Несколько минут в день, когда можете ни о чем не думать…
— Да нет, очень редко.
— Удивительно. Вы такая цветущая, бодрая при восьмимесячном ребенке. У Вас какая-то экзотическая диета?
— Да нет, я одинаково люблю и мясо, и фрукты.
— О как Вы счастливо улыбнулись при этих словах… Скажите, а приливы счастья, когда не знаешь причину, бывают?
— Знаю я эту штуку. Несколько раз в жизни.
— У Вас на полке стоит Леонид Андреев. Вы прочли пару рассказов?
— Я большой читатель. Ваши подъедания в области литературы довольно смешны.
— А какой Вам рассказ Андреева очень-очень по душе?
— В свое время — „Рассказ о семи повешенных“.
— Сформулируйте, кто такой мещанин.
— Ну не знаю, в обиходном представлении, очевидно, человек с заниженными ценностями духа. Мне это совершенно не интересно. Каждый мещанин на самом деле.
— А композитор есть у вас, от которого Вы умираете?
— Страшно вибрирую, когда звучит Шнитке.
— Вы — свидетель страшной автомобильной катастрофы. Шум, крики, гудки. Кто-то бросается помогать, кто-то — бежит прочь, чтобы ничего не видеть, кто-то глазеет. Вы что-то четвертое для себя придумаете?
— Я побегу помогать, насколько смогу физически.
— Предположим, коммунисты или какие-либо другие изуверы пришли к власти. И запретили разговаривать с близкими, соседями, друзьями. Нарушителей не сажают, но штрафуют десятикратной зарплатой. И еще десятки таких указов, „увеличивающих благосостояние народа“. Но есть возможность уехать. Вы уедете, заберете близких?
— В зависимости от обстоятельств. Что-то подобное мы репетировали в жизни. На пороге каких-то решений уже оказывались. Ногу подтаскивали к порогу — мысленно — и отдергивали. Здесь много людей живет, как-нибудь договоримся. Это Родина, и я пока вижу большую разницу.
— Вы умеете, лишь писать и рожать? Или у Вас есть какая-нибудь еще профессия?
— Я кое-что умею. Играю на парочке музыкальных инструментов, печатаю, знаю пару языков, кроме русского'.
— Если я приглашу Вас к себе в Хайфу, Вы поедете? Я покатаю Вас на машине по стране, все покажу…
— Мне ничего не нужно совершенно. Но, конечно, я поеду. Всякое приглашение есть приглашение, то есть человеческое внимание.
— Что у нас за борьба, что за поединок?
— С моей стороны нет борьбы. Примерно все то, что за этот час Вы показали и рассказали, я из Ваших телефонных звонков услышала. У меня хороший слух. Я увидела Вас и теперь пожалела даже — никаких сюрпризов! Я профессиональный человек, и мне интересно все профессиональное. В Вас я не увидела профессионала какого-нибудь дела.
— Кто сказал: „Я тебя породил, я тебя и убью“?
— Не могу вспомнить.
— Это сказал Гессе. А Набокова, я думаю, Вы просто не любите. Он для Вас выпендрежный, холодноватый, а Вы такая теплая.
— У него тяжелый язык, хотя много народу им восхищаются.
— Давайте закончим разговор тем, чего уже касались. Мне кажется, Вы теперь вспомните что-то еще, что Вам жаль, кроме детей, оставлять на земле.
— Жалко живых душ, которые будут тосковать без меня. Но основная суть моя здесь реализована.
Борис Хигер МНЕ НЕТ АНАЛОГА НИГДЕ
— …А следующий кто у нас?
— Лановой Василий Семенович… Ну, этот человек мне хорошо знаком по фильмам, по высказываниям. Это очень прямой, очень конкретный человек, подчас очень эмоционально реагирует. Он всегда борется за справедливость. Не всегда дипломатичен. Если любит кого-то, отдаст ему все. Он не любит двойственных натур в театре, поэтому там он держится самостоятельно, ни с кем не дружит. Больше общается с женой, чем с коллегами. С ним тяжело работать. Он вносит свое. Он признанный актер, уровень у него достаточно высок, хотя нельзя сказать, что он лучше играет, чем другие. Ответственный. Терпеть не может говорить по телефону. Не выносит болтовни. Например, если дочь будет говорить по телефону, его будет это раздражать.
— А кто больше вносит своего в игру — Лановой или Юрский?
— Я думаю, что Юрский может больше вносить, чем Лановой. Он глубже, в некоторых вещах, Юрскому никто не может указывать. Некоторые роли он не может играть, которые сыграет Лановой. Ну, Павку Корчагина, например.
— А что за натура — Павел Корчагин?
— Очень настырный. Упрямый и принципиальный. Не каждый режиссер может найти героя под сценарий. Я же могу сразу выбрать, без проб. И в данном случае Лановой был подобран безошибочно.
— Кто больший философ — Шолом-Алейхем или Николай Островский?
— Шолом-Алейхем очень глубокий философ. Это был действительно уникальный человек. А Николай Островский мог описать только то, что пережил сам.
— С каким писателем мирового уровня Вы можете сравнить Шолом-Алейхема?
— Трудно сообразить… Это была такая уникальная личность!
— Помогу вам, назову несколько имен. Шекспир, Лев Толстой, Достоевский…
— Да, пожалуй, с Достоевским можно сравнить.
— А с Бернардом Шоу? Есть у Шолома-Алейхема вещи, которые можно поставить наравне с произведениями Шоу?
— Судя по именам, они, скорее бы дополняли друг друга. Но Шолом — это человек более внутренний, более душевный. Он не имел такой властности, как Бернард Шоу. Вообще-то я Вам вот что должен сказать… У нас в России отчества дополняют звуковым сигналом наше имя… Человек окликает другого человека, и на этот звук мы поворачиваем голову. В коре головного мозга есть точки, через которые зеленой волной, до лобных долей доходит сигнал… Я прошел весь этот путь и мне нет аналога нигде — ни в Америке, ни в Израиле, ни в Китае. Никто и нигде не может дать характеристику по имени, отчеству, дате рождения. Статистика мне дала уверенность в своей правоте. Я могу говорить о конкретном человеке, и при этом его как бы увидеть и всегда стараюсь уйти с доброй душой, не обидеть никого.
— Вы меня бы обидели, если бы отказались пустить израильтян-читателей „за свои кулисы“. Когда Вы говорили о Льве Аннинском, что Вы увидели?
— „Аннинский“ — не говорит ничего, а вот „Лев Александрович“ — другое дело. Все Александровичи (возьмите, к примеру, десяток) — все они очень вспыльчивые. Они обладают некими эмоциональными состояниями…
— Это плод Ваших многолетних наблюдений?
— Двадцать пять лет.
— Чьим опытом Вы воспользовались в своей работе?
— Предшественником моим был Флоренский, который писал о именах. Лосев также. Но они писали неконкретно, а я описываю человека совершенно конкретно.
— Вы допускаете, что если бы Флоренского и Лосева не было бы, Вы не заняли бы на планете эту верхушку?
— Когда я начал заниматься этой проблемой, я не знал об этих великих людях. Описав примерно пятьсот имен, я натолкнулся на Флоренского.
— Какой институт наградил Вас званием академика?
— Я закончил физкультурный институт в Харькове. А вот институт во Франкфурте-на-Майне закрытого исследования дал мне звание бакалавра за описание 200 немецких имен.
— Вас туда пригласили?
— Меня пригласили после выступления в передаче „До и после полуночи“ с Владимиром Кирилловичем Молчановым.
— Кто у нас следующий?
— Шалевич. Натура настойчивая, упрямая. Принципиален. Виктюк. Очень дипломатичен, вспыльчив, ревнив. Характерна добрая зависть. Рощин — импульсивный, настырен. Принципиален, не любит приспосабливаться ни к кому. Этуш. Широкий, юморист, под горячую руку не попадайся. Быстро сходится с людьми, но быстро и расходится. Фоменко. Натура очень неконкретная, не спешит. Всегда эмоционален в работе, взрывной, но через пять минут отходит. Тонко подходит к роли, не любит глупых актеров. Рейн Евгений Борисович. Импульсивный, упрямый. В молодости был очень влюбчив. Очень конкретный в действиях. Раскин Иосиф Захарович. Настойчивый, упрямый. Очень талантливый. „Захарович“ — означает, что, прежде чем что-то сказать, всегда долго думает. Небольшого роста, килограмм восемьдесят. Однолюб, очень предан своей семье. Яковлев Юрий Васильевич. Натура покладистая, уступчивая. Очень чувствительный. Никогда не создавал конфликтных ситуаций, на сцене, и в жизни. За свою доброту всегда страдал. Ульянов Михаил Александрович. Эмоциональный, взрывной. Всегда борется за справедливость. Горд. Никогда не приспосабливается, взяток не берет. Для дружбы выбирает друзей очень придирчиво. Очень конкретен.
— Где продаются Ваши книги?
— Во многих местах лежат.
— С какой наукой Вы могли бы сравнить ту науку, которой занимаетесь?
— И не надо сравнивать. Это психология.
— Нужно ли, чтобы Ваши книги были с такими лубочными обложками?
— Мне их никто и не показывал.
— Но Вам понравились обложки Ваших книг?
— Знаете, вот эти две девушки на обложках — нездоровы. Это однозначно. Они эмансипированы. А мужчина довольно обаятельный, физически здоровый.
— То есть, Вы больше радовались выходу книг, чем обращали внимание на их оформление?
— Ну, конечно!
Владимир Микушевич ЧЕЛОВЕКУ ИНОГДА ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ, ЧТО ОН ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ
— Боюсь, я еще не умею профессионально брать интервью.
— В Израиле есть множество моих читателей, и думаю, что им будет интересно читать любое интервью со мной. Надеюсь, они меня не забыли. Правда, надежды остается все меньше… Я до сих пор не видел Гроба Господня и всех святых мест. Осталась недописанной моя книга о Христе — чтобы дописать ее, я должен пешком пройти от Назарета до Иерусалима. Такой возможности мне не предоставили, но я объясняю себе это экономическими трудностями, которые переживает сейчас Ваше молодое государство.
— Владимир Борисович, если б Вам пришлось выбирать, чтобы прикрыть наготу между одеждой пророка или юродивого, что Вы предпочли бы?
— Платье преподавателя гуманитарной Академии. Как Вы полагаете, преподаватель гуманитарной Академии — юродивый или пророк?
— Скажите, верующий человек чаще себе задает вопросы или Богу?
— Это одно и то же. Потому что себе и Богу человек задает один вопрос: „Простишь ли ты меня?“ Это самый главный вопрос. Но чтобы задать его, ты должен знать, в чем ты виноват. Виноват ты во множестве разных вещей. Для человека главный вопрос, это его вина. И главное блаженство — в том, что кто-то его прощает. Наверное, это ответ юродивого с Вашей точки зрения? Пророк бы ответил иначе.
— Вы всегда или с недавних пор ощущаете на себе заботу Бога?
— Всегда.
— Я Вам не верю. Вы не могли бы привести пример этой заботы?
— Я ощущаю ее всегда. Вот сейчас мы с Вами говорим, и я ее чувствую. Как Вы думаете, почему Вы есть, почему Вы задаете вопросы, если мы состоим из атомов, которые могут распасться? Это и есть забота Бога о нас.
— Вы свою особость в детстве почувствовали?
— Я не чувствую никакой особости.
— Вы такой же, как все здесь собравшиеся или свой в любой аудитории?
— Здесь всегда собираются сложные люди, но, может быть, я немножко хуже.
— Как Вы относитесь к Аверинцеву?
— Аверинцев — блестящий ученый, которого я бесконечно уважаю. Он поддержал мою книгу, которая, может быть, без этого и не вышла бы. Но на мой взгляд, Сергей Сергеевич слишком много времени уделяет проблемам, которыми могли бы заниматься и без него. Для меня он, прежде всего, блестящий византинист, и бесконечно жаль, что он не написал тех книг по византийской культуре, которые мог бы написать и которые кроме него никто не напишет.
— Какой, по-вашему, общий недостаток у правителей всех времен и народов?
— Да, такой есть. Главный и общий недостаток всех правителей — что они пытаются править, не задаваясь вопросом, имеют ли они на это право. Когда правитель думает об этом, он приносит минимум зла, когда совсем не думает, приносит максимум зла.
— А Вы о чем должны думать, занимаясь тем, чем занимаетесь?
— Я скромный стихослагатель, как говорят в России. Рифмоплет, в конце концов, об этом и помню.
— Сколько раз в месяц Вы что-нибудь да печатаете?
— Журналы нынешние меня совсем не печатают.
— Я видел Ваши стихи в газете…
— В газетах иногда появляются.
— Какой Ваш ежемесячный доход?
— Затрудняюсь ответить. Я работаю в нескольких местах. Думаю, полмиллиона, иногда немного больше.
— Но на хлеб хватает?
— Не хватает!
— Но в театры, на концерты и выставки Вы все равно ходите?
— Хожу, только когда приглашают. А вообще вопрос о том, как мы ухитряемся жить, вести хозяйство надо задавать нашим женам. У всей страны надо брать интервью — как мы живем… Непонятно, должны же с голода умереть! Вот, видно, Бог о нас и заботится. Богоспасаемая страна, Олег Ильич!
— Тоска, страх, скука — кто из этих трех хищников, грызущих человека, страшнее?
— Пожалуй, одинаково. Впрочем, наверное, скука. Страх и тоска хороши тем, что не дают заскучать. „Однозвучный жизни шум“, — я согласен с Пушкиным.
— А как начинается эта строфа?
— „Цели нет передо мною, // Сердце пусто. Празден ум. //И томит меня тоскою // Однозвучный жизни шум“.
— Вы в юности тосковали сильнее?
— Да.
— А что это за тоска юности? Какие у нее оттенки?
— В юности человек острее осознает недостаточность своего существования.
— Вы хорошо уравновешенный человек?
— Нет, наверное. Если бы я был хорошо уравновешенный человек, вы, наверное, не задавали бы этого вопроса.
— Скажите, из Вас дружнее лезут Ваши пороки или добродетели?
— Пороки, конечно.
— Какой из Ваших пороков Вас сердит больше других?
— Претензия на то, что люди должны меня слушать. Они вовсе не должны. Они снисходительнее относятся ко мне, чем я к ним. Конечно, это порок — заставлять слушать себя. Ведь этим другим тоже есть что сказать.
— Вы давно ректорствуете?
— Недавно. Раньше мне было это запрещено.
— Вы следите за аудиторией — сколько людей думает о своем?
— Я и стараюсь, чтобы они думали о своем. Вы понимаете, то, что я говорю, должно стать своим, это должно совпадать. То, чем я делюсь, должно становиться своим.
— Простите ли Вы меня, если я Вам признаюсь, что Вы напоминаете мне компьютер?
— Никто еще не объяснил, что такое есть человек. Я предпочел бы быть компьютером — им быть спокойнее, приятнее. И компьютер работает более точно, чем я. Вообще-то, мы все компьютеры. И ангелы — Божьи компьютеры.
— Вы помните, что такое предрассудок?
— Я по-своему понимаю слово „предрассудок“. Метод нашей аудитории в том, что мы все понимаем слова, которые употребляем. И предрассудок, это то, что думаете вы, что думаю я. Мы говорим на одном языке. И главное в слове это то, что Вы под ним понимаете. Если мы с Вами начнем давать определение каждому слову, язык утратит свое предназначение, слова утратят смысл.
— Если люди живут вместе, друг друга не любят, но не расходятся, потому что имеют одну квартиру, машину, детей, — Вы не находите это предрассудком?
— Нехорошо отвечать на вопрос вопросом, но позвольте мне Вам все же задать его. А можно ли жить друг с другом не любя? Зачем же тогда жить вместе? Поделить все раз навсегда. А если не делят, живут вместе, значит, любят.
— Но таких семей ведь гораздо больше, чем таких, где любят?
— Я не согласен. Я считаю, что предрассудок, когда люди неизвестно из-за чего расходятся. В Писании сказано, что двое — одна плоть, и „еже Бог сочета, человек да не разлучает“. Тот же самый закон ведь наличествует и в израильской религии. В человеке очень много процессов. Желудок может противоречить мозгу. Так же может быть противоречие с женой, но если Вам вырвать мозг или желудок…
— Какое у Вас теперь выражение лица?
— Глупое, наверное.
— А зачем оно Вам понадобилось?
— В этом есть определенная хитрость. Из всех наших жизненных положений легча всего выходит Иван-дурак. С дурака спросу меньше.
— Давайте украдем из записной книжки Довлатова: „мещанин — это человек, полагающий, что у него все должно быть хорошо“. Вы не хотели бы дать свое определение?
— Мещанин — хороший человек. Мир держится на мещанах. Скажу другой афоризм: „Лучший способ осчастливить человечество — быть счастливым самому“. Больше всего блага в мире приносят мещане. „Я грамотей и стихотворец, // Я Пушкин просто, не Мусин, // Я не богач, не царедворец, // Я сам большой! Я мещанин“. Гете любил подчеркивать, что он мещанин. Если бы все были мещанами, не было бы войн — ни у вас, ни у нас. Мещане любят мир, они дезертируют. Они не совершают преступлений, убийств. Преступник не может быть мещанином, он теряет свой статус мещанина.
— Синоним слову „смирение“ подберите, пожалуйста.
— Святость.
— Вы интеллигентный человек?
— Heт, я не считаю себя интеллигентным человеком. Я именно мещанин. „Сам большой, да щей горшок“.
— Что значит „сам большой“?
— Значит, сам себе хозяин. Служащий человек — не мещанин.
— Вы помните, что мы с Вами только что украли?
— Все украли. Язык, на котором говорим…
— Я имел в виду афоризм из записной книжки Довлатова.
— Это уж Вы украли, я Довлатова не читал.
— Вы читаете одних философов?
— Не стоит читать писателей, если они к тому же не философы, и наоборот, философов, которые не являются писателями.
— Скажите, вечером Вы основательно едите?
— Что жена приготовит. Сообразно средствам. Если основательно приготовит, основательно съем. Знаете, у нас очень вкусная постная кухня. Сейчас пост, но постная пища дорого обходится. Приходится есть не совсем основательно.
— Как Вы ощущаете, дают ли Вам дополнительную силу, энергию Ваши занятия философией?
— Конечно, ощущал.
— В церкви Вы могли бы проповедовать прихожанам те же занятия?
— В православной церкви миряне не могут проповедовать. Даже священникам лучше этого не делать. Как православный христианин, я не буду этого делать. Священники начинают проповедовать — это некоторые новшества, но большинству священников это не очень удается. Это в протестантских церквях позволено. У нас же главное — литургия, „Господи, помилуй!“ — вот что главное в двух словах.
— Вы не могли бы перед этой аудиторией раздеться? Ваша душа о чем более всего болеет?
— Я Вам скажу. Очень большую боль причинило известие о том, что блокировали бухту Сухуми. Столько воспоминаний связано было с этим! Не могу привыкнуть к тому, что там сейчас идет война. То, что я пережил там, в кипарисовой аллее, и то, что сейчас там стреляют — это страшно. Я шел как-то по аллее, читал своему другу, грузинскому поэту, стихотворение, которое заканчивалось строчкой: „А наша твердыня — не Троя, а Троица“. Тут подходит к нам грузинский мужичок и говорит: „Вот нас тоже трое. Пойдем, вином угощу“. И он угостил нас таким превосходным домашним вином, что я без слез вспомнить не могу. Он говорил: „Ложись спать, проснешься, снова пить вино будем“. Звали его Илюша. И вот это место чудесных встреч, дружеских бесед — обстреливается! В данный момент для меня это самый страшный рубец.
— Вы, читая лекцию, учитываете, что далеко не все количество Вашей информации перерабатывается слушателями?
— Зачем учитывать — ведь каждый из лекции берет то, что ему нужно.
— Скажите, почему женщин так влечет к себе зеркало?
— Это женщин надо спросить. Женщины красивы, и им приятно видеть, как зеркало им показывает, что они красивы.
— У Вас дети есть?
— Сын. Может, еще есть. Но на этот вопрос я не отвечаю. На эту тему у меня есть стихотворение, которое заканчивается строчками: „Но не тебе узнать родную дочь, // Которая со мною слишком схожа“. Это самый точной ответ на Ваш вопрос.
— Вы согласны с утверждением, что „природа отдыхает на детях гениев“?
— Нет. Сын мой умнее меня. А что такое природа вообще? „Не слепок, не бездушный лик, // В ней есть душа, в ней есть свобода, //В ней есть любовь, в ней есть язык“. Тютчев. Природа никогда не отдыхает.
— Приведите, пожалуйста, любимую поэтическую строчку.
— Блок — „И невозможное — возможно“.
— Бывают дни, которые Вы бездарно проживаете?
— Все дни проживаю бездарно.
— А если небездарно, то как?
— Когда влюблен. Влюблен я постоянно.
— А Вы можете построить занятие, чтобы задавать слушателям вопросы?
— Так поступал Сократ. Не знаю, я никогда заранее не могу предугадать ход занятия. Кто придет, какое настроение будет у меня, у аудитории. В конце концов люди платят деньги, я должен обеспечить им что-то приятное.
— Мой сосед, милиционер, работает с проститутками. Он сказал мне как-то, что всех баб делит на проституток и тех, кто удержался от проституции. Но они еще хуже, потому что выпендриваются. По-моему, мой приятель — гений, как и вы. Разделите, пожалуйста, женщин на две половины.
— Проститутки на самом деле лучшая часть нашего общества. Они обычно становятся такими, потому что они лучше других. Сейчас, правда, это изменилось, потому что появились валютные проститутки. Но во времена моей молодости это были женщины, которые были лучше других. Для этого было множество причин, которые за три минуты не перечислишь.
— Они жертвуют как бы своей жизнью?
— Всякая женщина жертвует собой. Но к женщинам, которых называют проститутками, по-моему, еще и относятся несправедливо. Я говорю совершенно серьезно и искренне. Вы обращали внимание, что они первыми признали Христа? Только я вовсе не оспариваю Вашего высокого мнения об уме Вашего приятеля-милиционера.
— Вам понаслышке или биографически известно выражение „мой тип женщины“, „искра, пробегающая между мужчиной и женщиной“?
— К сожалению, биографически.
— Описать можете?
— Могу прочесть стихотворение, в прозе не умею.
— Скажите, как Вы думаете, что бывает после нашей смерти?
— Есть два ответа на подобный вопрос, данные великими людьми, которые мне близки. Флобер, например, говорил, что только дурак рассчитывает, что его будут читать после смерти. Я пишу потому, что мне это нравится. И другой человек, если не великий, то значительный, Борхес, говорил, что ему противна мысль, что его после смерти кто-то будет читать.
— Вы более дорожите общением с несколькими людьми, которые считают Вас гениальным человеком?
— Никто меня не считает гениальным человеком, надеюсь. Благодарю вас, но предпочту общаться с теми, кто не считает меня гениальным человеком.
— А каким? Заурядным, посредственным?
— Не знаю, но во всяком случае, если бы меня считали гениальным, мне было бы неприятно.
— Отчего Вы думаете, что бездарно проживаете свой день?
— Потому что я никогда не успеваю осуществить то, что должен был бы. На этот вопрос дал точный ответ Лев Толстой. Он говорил, что гладких, жуирующих писателей и мыслителей не бывает. Если человек мыслитель или писатель, то он все время чувствует, что он мог бы сказать то, что спасло бы всех людей, а не сказал еще. Я чувствую то же.
— Вы больше философ или верующий человек? Например, не просыпались ли Вы с благодарностью за то, что проснулись?
— Я только так и просыпаюсь, иначе я не просыпался бы. Я вообще не философ, я верующий.
— Вот Вас и в Израиле, и в Москве знает только узкий круг людей. Приставкина, Бондарева, Солоухина знают, а Вас — нет. Вы никогда не заботились о славе?
— Тот узкий круг, о котором Вы говорите, знает меня много лучше, чем широкая публика о людях, которых Вы назвали. Знают лишь их имена. Я предпочту, чтобы меня знали в моем узком кругу, но знали действительно.
— Можно ли к Вам обратиться как к специалисту по преступности. Вот марксисты, виновные в гибели миллионов, или убийца, зарезавший двадцать человек — то есть, нелюди, — нет ли в их деятельности элемента чуда, который присущ творчеству Моцарта, Пушкина?
— Я протестую против термина „нелюди“ — к сожалению, они люди, и все человеческое им не чуждо.
— Владимир Борисович, есть ли какая-то идея, вокруг которой группируются все события Вашей жизни?
— Это Бог. Но, правда, это не идея.
— Но, очевидно, Вы можете вывести и идею?
— Нет, идею Бога вывести я не могу. Бог — это нечто больше. Символ веры — он у всех одинаковый. Другое дело, для меня он может значить то, что не значит больше ни для кого.
— Подходили ли Вы когда-нибудь к черте, подойдя к которой, себе сказали: лучше бы я не дожил до этого? Какая-нибудь катастрофа, несчастье?
— Нет, не подходил к такой черте. В катастрофе человек зовет Бога на помощь. К черте подходит человек, жизнь которого пуста. А в условиях катастрофы даже неверующий просит Бога спасти его.
— А вопрос — зачем Вы появились и живете — Вас интересует?
— Нет. Меня интересует другое — вот я появился и живу. Живу, как живется. То, что Вы предлагаете, слишком абстрактно. Анализировать надо ситуацию, в которой находишься, чтобы никого не обидеть.
— Представьте, что по метеоусловиям планеты люди могут видеть звезды раз в сто лет. Вам повезло, и Вы можете их наблюдать. Вы будете смотреть на звезды? Сколько времени?
— Смотря какие дела у меня будут. Если нужно будет читать лекцию, я буду читать лекцию. Главные звезды видишь внутри себя.
— Скажите, Вам люди надоели?
— Нет. И потом, что такое — вообще люди? Некоторые конкретные люди надоели, другие — нет.
— Какой человек Вам делается любопытен?
— Которого я люблю. Это понять можно сразу, только встретившись.
— Вам не кажется, что Вы занимаетесь слишком усердно своим маленьким делом, в то время как умеете „глаголом жечь сердца людей“?
— Они и так обожжены слишком. Я стараюсь лечить ожоги. „Дневные раны сном лечи“, сказал Тютчев.
— Предположим, Вы идете на лекцию и видите страшную автокатастрофу. Вот три вида поведения — кто-то старается помочь, кто-то глазеет, кто-то в ужасе бежит. Что Вы сделаете?
— Пошел бы на лекцию. Там меня ждут. Если бы просто гулял, постарался бы помочь, сообразно условиям.
— Вы обдумываете обстоятельства смерти? Возмущены ею?
— Мне интересно, но отношусь спокойно. Наверное, это самое интересное событие. Но не могу говорить здесь, а то не о чем будет говорить на лекции… У меня есть впечатление, что я уже переживал смерть. На самом деле я только об этом и говорю. Но не прямо — если я буду все время повторять: Вы умрете, Вы умрете — слова эти утратят значение.
— Представьте, к власти пришли изуверы и сочинили соответствующие законы. Например, нельзя разговаривать с родными и близкими, а лишь с посторонними. В тюрьму не сажают, но штрафуют. Недовольным присылают визу на дом и оплачивают проезд. Вы здесь останетесь или уедете?
— У Бертольда Брехта есть афоризм: „Если правительству не нравится народ, пусть себе выберет другой“. Это же относится и к гражданину. Я себе другой народ выбрать не могу. Не знаю, уеду ли я. От самого себя не уедешь. Даже если я уеду, я никуда не уеду.
— Давайте я Вас похороню. Кстати, „я тебя породил, я тебя и убью“ — кто это сказал?
— Тарас Бульба.
— Никто из тех, кого я интервьюировал — артисты, или писатели — не могли вспомнить, что это Гоголь…
— Им о многом другом надо думать. Им надо думать, как бы угодить власти. Они больше, чем я получают. Поэтому они не помнят таких вещей.
— Так, представьте, Вы умираете. Что Вам жальчее всего оставлять?
— Женские глаза.
— Будьте добры, задайте мне несколько вопросов.
— По существу, я тоже задавал Вам вопросы, и Вы отвечали на них, вероятно; более полноценно, чем я Вам. Я полагаю, что аудитория теперь Вас знает лучше, чем она знает меня. Вы не заметили, что вопросы я Вам задавал в большей степени, чем Вы мне. Это мое скромное искусство.
— Вы полагаете, что одинаково говорят о себе и задающий вопросы, и отвечающий на них?
— Человеку иногда только кажется, что он задает вопросы. Вы мне исчерпывающе отвечали, благодарю Вас.
Бедрос Киркоров Я БУДУ РАД, ЧТО ВСЕ ПРОШЛО И Я ВИЖУ СНОВА
Девицы Филиппа:
Пусть будет радость спутницей твоей И сердце никогда от боли не заплачет!Твой балет. Они же — о Филиппе: эксцентричный, экстравагантный, энергичный, сексуальный, капризный, добрый, смешной, строгий, чуткий, непредсказуемый, противоречивый, упрямый — упорный до упрямства.
— Если судить по Вашему облику, Вы очень доверчивый человек. Но Вы себя знаете не только по облику, Вы доверчивый?
— Лицо обманывает даже умного. Отдаю Вам долг. Я сразу увидел Вас умным. А про доверчивость, если можно так сказать по-русски, моя — среднего размера, Вот у Филиппа — сумасшедший размер.
— Вам знакомы такие выражения: „гвоздь программы“ и „куй железо, пока, горячо“?
— (С радостным выражением.) Да, конечно! И люблю.
— Как Вы думаете, будет ли неизбалованный русский читатель, да еще массовой или бульварной газеты, получать удовольствие, если мы начнем бросать его из бани моих „серьезных“ вопросов в снег Ваших веселых ответов, или наоборот, когда я научусь у Вас задавать веселые вопросы, а Вы станете серьезно на них отвечать?
— Ну мне кажется, что удовольствие конечно от этих неожиданных чередований и перемен он получит.
— Тогда попробуем, из давно остывшего железа, выковать гвоздь нашего интервью. Скажите, это правда или легенда, что Филипп полюбил Аллу в восемь лет?
— (Убежденно.) Да, правда, я свидетель. Произошло это, когда он смотрел ее на „Золотом Орфее“. Полюбил ее песню „Арлекино“, полюбил ее творчество, а потом, видно, в зрелом возрасте, полюбил и исполнительницу.
— Я думаю, читателю будет интересно, скорее всего, когда он обнаружит нашу с Вами искренность. Вы так же считаете?
— Принципиально — да. Но Вы меня немного напугали бульварным читателем, и я хочу его напугать, как бы это ни трудно было. Но пугаю. Один умный писатель сказал, и я это люблю, не как артист, а по человечески: „Ценность того, что говорят — не зависит от искренности слов“. Так кажется правильно.
— Тогда я попробую немедленно разоблачить Ваши „ценности“ и если получится, вперед будете правдивым.
— (Счастливо улыбается.) Договорились. Интересно услышать.
— Только я могу это сделать, вооружившись острой темой политики. Это журналисту не надо вооружаться, а я скорее писатель, а вернее ни то ни другое. Знаете, за двумя зайцами… Мне кажется, что все 80 лет меня убеждала и власть и, мягко говоря, бесправные журналисты, что нельзя и шагу сделать, не думая о политике. И как видите, убедили. Вместо того, чтобы с Вами беседовать, возьму сейчас я вслух „подумаю“, например, о торговле оружием, с которой бедная родная наша власть борется прежде всего остального и чем энергичнее борется, тем больше там и сям оружия продается и покупается. С чем же она еще борется? Забыл. Ах, вот. Кровавая нефть, уплывающее золото, иностранные инвесторы, отечественные жулики. Новых 80 лет не хватит, чтобы перечислить, а тем более сообра…
— (Мягко перебивает. Выражение страдания, что перебивает.) Вы собирались меня разоблачать. Я не очень политику люблю… Ну, хорошо. Не умеете по-другому, разоблачайте как умеете.
— Извините, это почти все. Если Вы замечали, что ораторы, убеждающие народ в своей любви к нему… когда хотя бы однажды Вы понимали, что эти лжецы и кровососы — первые ненавистники доверяющих им людей, то зачем Вам быть на них похожим?
— (Утешительно улыбаясь.) Нет. У Вас лучше получается не разоблачать человека (видите, никак не могу это слово приручать), а давать бодрость. Дело в том, что у политиков одно на душе, а на языке другое. Но есть и хорошие, европейские. И даже Ельцина начало мне нравилось, а теперь нет. Но все равно любая политика — это хоть и не искусство, но об этом приходится думать. И все люди средних размеров ума или доверчивости — или что-то еще, любят всегда свое. Много будет чести политикам, если поменять для них убежденность или что-нибудь важное.
— Ну давайте о другом. Вы знаете, что у тех людей, которых коснулась смерть, было ощущение, как будто промелькнула вся жизнь. Представьте себе, что за час нашей беседы пробежит вся лента Вашей жизни. Вы будете рады или это Вас будет тяготить?
— Я буду рад, что все прошло и я вижу снова.
— Мы с Вами одного возраста, но этот вопрос не меня одного интересует. Вы мне можете сказать об ощущении всей Вашей жизни? Она промелькнула как один день или тянулась долго-долго?
— (Неуверенно.) Наверное, промелькнула. Да, (Уверенно.) очень быстро, просто мгновение.
— Вы знаете на своей шкуре пользу контрастного душа, или когда из бани в снег выпрыгиваешь?
— Да, я это делаю: от холодного в горячее. Но только здесь, в Союзе, в России. Очень хорошее ощущение.
— Каких Вы знаете своих предков, кого любите из них? О ком-нибудь сегодня вспомните впервые, себе на удивление?
— У меня был дед. Такой солидный человек. Он был крупный человек, два метра ростом, широкоплечий человек. Никогда не носил шляпы, не надевал пальто. Никогда не болел, он был спартантом. Я правильно говорю? Никогда не занимался спортом. Он был сапожником по профессии. Был очень разумный, у него до конца оставалась ясная память.
Моя мама тоже как-то взяла от него все это, тоже была разумной женщиной. Папа был более легкомысленным. Вот этих людей я вспоминаю. Я также вспоминаю бабку.
— Вспышка жизни, которая может быть промелькнет, как мы назовем ее — вспышкой счастья или каким-нибудь другим словом?
— Светло, светло, светло, но и шума было много. Было разочарование. Борьба была тяжелая.
— Вы согласны со мной, что у Вас очень открытое лицо, и, наверное, Вы этим гордитесь. Вы невольно стремитесь быть правдивым или Вами был дан обет Богу или самому себе?
— Самому себе? Это не припоминаю. Может, было в юности, когда мотался туда-сюда, врал что-то. Где-то обманывал в юности. Когда искал дорогу. В зрелом возрасте этого не было.
— Вы точно помните, что в юности сказали себе: „Я не хочу этого делать?“
— Ну, были моменты, когда определился, что по этому пути идти нельзя. Был друзья, которые пошли по этому пути. Друзья закончили плохо, так называемы школьные друзья.
— Согласитесь ли Вы, что какими бы правдивыми не становились люди, до конца не излечишься.
— Ну да, да.
— Я тоже такой „больной“, но давайте знать и прощать это друг другу. Ложь это когда подлость, когда ради корысти ты кого-то обманываешь. Вот что называется ложью в словаре Даля.
— Да, да.
— Скажите, а в возрасте 8 лет Вы себя помните, какой Вы были?
— Я был трудолюбив. Драчливым не был, но был очень непослушный. Я делал много таких вещей, за что и получал. Был темпераментный, не мог усидеть спокойно!
— Любимое Ваше занятие от 8 до 12 лет: футбол, рогатка, плавание?
— Нет, плавание любимым занятием у меня не было, хотя на море родился, но не научился плавать. Я очень любил заниматься уборкой, поддерживать порядок. Это сохранилось и по сей день. Меня мучит беспорядок в квартире.
— Теперь Вы даже, можно сказать, предпочитаете одиночество самой приятной беседе?
— Да, это меня больше устраивает.
— Тогда объясните, что Вам дает одиночество?
— Я уже 2 года в одиночестве. Оставаться в одиночестве меня вынуждает работа, потому что я сейчас готовлю концертную программу, буду выступать, хотя на пенсию вышел.
— Два слова, что это за концерты?
— Концерты, мои концерты, которые я пою.
— А может так быть, злые языки говорят, что Филипп так высоко поднялся от того, что это сделала Алла?
— Нет, он до этого был на высоте, до этого был популярный. Именно он сделал ей предложение, когда был звездой. Союз знал его уже. Когда он уже в Америке, Австралии, Израиле несколько раз был, в Германии.
— Может быть он ждал, ему было неловко? Может быть он и раньше предпринял бы какие-то шаги?
— Он до того момента не хотел открываться, пока не стал бы популярным. Иначе подумали бы, что она сделала ему славу.
— Допускаете Вы, что за счет популярности Вашего сына Вы сделаетесь более популярным со своими концертами?
— Может быть, да. Его знают уже больше, чем меня. (Весело.)
— Жаль, что „гвоздь программы“ может быть только один. Но будем его рубить на кусочки. Например, скажите, что Вы чувствуете, как сложатся его отношения с женой?
— Это только в руках Господа, одного Господа. Как сложится, никто не сможет предвидеть, что будет завтра. Вот пойдешь и кирпич упадет на голову… Никто не располагает, как бы сказать, сведениями, никто не может предначертать свой путь. Я не думаю, если бы предсказал философ, какой-нибудь гадальщик, что все так и будет. Обмануться в своих предсказаниях легко, поэтому что будет дальше — не знаю. Я знаю только, что они счастливы, и он и она. А как дальше будет это…
— У родителей чаще всего есть какие-то претензии, обиды» в 90 % случаев им не нравится выбор сына или дочери.
— Меня сто процентов устраивает. Лишь бы ему было хорошо.
— Мне кажется Вы видите пик, кульминацию счастья, но ведь счастье не бывает долговечно, так может ли случиться, что один из них похоронит другого?
— Это опять их дело.
— Это реальность или мечта на Ваш взгляд?
— Ну, нет… Это, знаете, трудно сказать. Кто кого похоронит. Может получиться он ее, или она его. Это все в руках Божьих.
— Вы верите, что каждый доживет до смерти другого?
— Нет этого предначертания.
— А Вы сами как были счастливы с женщинами, как в этом смысле сложилась Ваша жизнь?
— У меня были отношения очень хорошие. Свою супругу я любил и люблю еще. И дело в том, что ее нет, но все равно. У меня никогда не бывает такое, что я принимаю ее смерть. Жалею, что она так рано ушла, что так случилось. Но мне кажется, что одному мне будет тяжело, поэтому не знаю как сложится дальше, я за себя сказать не могу. Может увижу человека, понравится мне и я женюсь второй раз.
— А до того как Вы нашли вашу жену, Вы были влюбчивы, развратны?
— Разврат — нет, но влюблялся.
— Вы влюблялись?
— Влюблялся я. Они убегали, я убегал от них, они за мной гнались. Бывало.
— Вы не принесли горя никакой девушке, которую обманули?
— Нет. Я расставался по-хорошему.
— И в этом виноваты дед, мама, кровь какая-то?
— Нет, я просто никому не давал обещаний, что я женюсь. Давай ляжем, поживем, а потом бросить? Этого не было.
— Что Вас делало таким добрым и порядочным человеком?
— Я увлекался своим творчеством, своим вокалом. Например, я когда начал заниматься, мне педагог сказала: «Имей в виду за тенорами бегает очень много девушек, женщин. Это вредно для голоса, значит надо быть аккуратным». Я этого принципа придерживался. Поэтому не курил, не пил. Этих слабостей человеческих у меня не было.
— Где больше популярен Филипп, в Болгарии или Союзе?
— В Союзе, в Союзе популярен.
— Отчего так получилось?
— Потому что он начал в Союзе. Родился в Москве, учился в Москве, начал в Москве выступать. Я тоже начал в эстраде. Я до этого был классическим, пел оперные партии и тому подобное. Постепенно перестроился на эстраду. Здесь меня наибольше, чем в Болгарии узнали.
— Скажите, когда, наконец, была эта свадьба, и они решили жить вместе, здесь тоже Вам повезло, это все было у Вас на глазах или он подготавливал Вас?
— Нет, не подготавливал. Он поставил перед фактом. Когда уже пошел к ней, сказал 13-го обручаемся. Потом 15-го он поехал в Ленинград на гастроли, звонит мне и говорит: «Паспорт принеси мой, будем расписываться с Аллой», и поэтому я отнес паспорт и присутствовал на свадьбе, когда расписывались.
— Замечательно. Вы, наверное, были больше счастливы чем они, потому что любовь — это всегда и страдания, а Вы умеете не страдать?
— Да, да…
— Раз я узнал о Вашем горе, сколько времени у Вас нет жены?
— Два года с половиной.
— Как Вы думаете, когда Вы почувствовали, что зарубцевалась рана?
— Нет, еще не зарубцевалась. Еще открыта рана, да.
— Вы знаете, что все великие мира советуют не предаваться скорби. Инстинктивно умеете это делать?
— Нет, не слышал об этом, чтобы все великие стремились не предаваться скорби.
— Да, даже запрещают.
— Да, да, может быть. Я слышал о том, что если мы быстро их забудем, они быстро улетят в другие сферы, они их притягивают, их к себе со своими мыслями. Я это слышал. Пока это все трудно.
— Как бы ни был знаменит Филипп, как бы он ни был счастлив, расскажите, пожалуйста, о минусах его жизни.
— Минусы его характера — он очень доверчивый. Он сначала открывается человеку во всем. Хотя мы ему говорим, что этот человек не очень хороший. Он говорит — нет, для меня хороший, а когда уже его обманывают, только тогда он убеждается. До этого он не слышит нас. Были такие случаи, знаете, у каждого артиста, есть свой директор. Но у него были проблемы с такими директорами. Все его обманывали. Все говорили ему неправду. Говорят одну цену, дают другую, рассчитываются по-другому. Лучше бы сказали мне правду, говорит, я бы пошел на это. А когда узнает, что его обманывают, он не терпит.
— Когда Вы убеждаетесь, что опять он ту же ошибку делает, Вы позволяете себе сердиться, крикнуть на него?
— Нет, нет. Я вообще и сейчас не вмешиваюсь в его дела, вообще не вмешивался в его дела. Никто — ни мать, ни я, не вмешивались. Он сам очень разумно оценивает, что и как. Но иногда очень доверчиво относится к некоторым. Некоторые входят ему в душу, находят какие-то уголки, дорожки, а потом начинают его использовать. Но он с ними сам справляется.
— Вы верующий человек?
— Да, да…
— Но тем не менее случайностям отводите какую-то роль в жизни каждого человека.
— Да, да, да.
— Именно это случайность называется? А не подошло бы больше: дьявол. Вы также как в Бога в дьявола верите видимо?
— Нет, в дьявола я не верю, в черта не верю. Он отсутствует.
— Тогда от чего столько горя?
— Никому я плохого не делал. Когда мне плохое делают, даже тогда я плохое не делаю. Я оставляю, потом посмотреть, когда кто-то другой ему плохо делает. Я это вижу, этого человека. Вот он мне сделал, а вот сейчас получил не от меня, а от другого. Я это вижу.
— Как Вы тогда объясняете катастрофы, беды, болезни?
— Это промысел Божий. Это уже идет, видно, это Божье дело, как говорят. Это его. Все в Боге кроется. Все от природы, все это там. Никто не может определить — вот это завтра, вот это случится.
— И даже не надо об этом думать как он все это устраивает?
— Да, да.
— Так, «Гвоздики наши». Что Вы видите, наблюдая, кто у них лидер? Кто больше жалеет другого? Кто чаще бывает неправ?
— Ну, мне кажется, здесь может быть Филипп бывает иногда не прав, потому что он более молодой, более допускает ошибки. Она более разумная, она более разумно оценивает… Дело в том, что он очень, очень хорошо верит ей. И просто она влияет на оформление его характера, поэтому здесь трудно сказать.
— А Вы не жалеете, может быть слишком много опеки, может быть лучше, если бы он самостоятельно развивался?
— Он все самостоятельно делает свое.
— Отчего наши дети любят нас меньше, чем мы их, а часто просто ненавидят, избегают, стыдятся, стесняются. Филипп Вас любит меньше чем Вы его?
— Я думал об этом. Вот, например, я знаю мама моя за меня умирала. Я, конечно, ее любил тоже как сын, но видно меньше любил, а она за меня все. И вот так я сейчас чувствую. Это закон жизни. Бог это так сделал.
— И спрошу Вас, но многие люди не отвечают. Не насилуйте себя. Вы сильный человек, справились бы пережить самое страшное несчастье для отца — смерть сына? Вы будете жить?
— Да, да. Это вообще страшный вопрос. Я не знаю.
— То есть будете бороться, а справитесь ли не знаете? От того — что грех не только собой кончать, но даже и умирать?
— Да, конечно. Конечно.
— Слава, это избитое место, штамп, но слава портит человека. Славой называются медные трубы, после огня и воды. Пожалуйста, расскажите, как это отразилось на Филиппе.
— Слава, нет, мне кажется, что он не испортился от славы. Нет, он остался такой какой был, если только чуточку там что-то такое изменилось. Как говорится более капризный, или не капризный, я бы сказал требовательный. Нет, слава его не портила. Нисколько не испортила.
— Не вспомните ли Вы какой-то фантастический пример его отзывчивости, доброты?
— Вот 3 года назад он получил какую-то крупную сумму и решил эту крупную сумму дать церкви. Около стадиона на проспекте Мира есть церковь. Он узнал, что эта церковь нуждается в деньгах… И пошел туда и всю сумму отдал. 3 года назад это было 300 тысяч и столько он денег отдал. Огромные деньги — отдал туда этой церкви. И они точно сейчас реставрируют в данный момент, и тогда, когда, как говорил Филипп, получилось так, что мать отпевали в этой церкви. Видите как.
— А доброта в обыденной жизни?
— Да, он добрый, он добрый.
— Не вспомните, как он поступил совершенно необычным образом с кем-нибудь?
— Он многих прощает. Он не злопамятный. Он прощает, но, как сказать, другой человек поступил бы более резко, а он прощает. Он более мягкий в этом отношении.
— Скажите, он был свидетелем, откуда это идет? Вы никогда с женой не ругались?
— Нет, нет. Он это не видел ни разу, не видел как мы ругались. Он очень трудоспособный. Закончил с золотой медалью. Ни разу мы не говорили ему: садись, делай уроки или что-нибудь. Он очень старательный. Он хотел везде быть первым: в школе, в музыкальном училище. Стремился делать точно, хорошо, приходил и сразу садился делать уроки. «Иди поиграй — нет, пока не сделаю — не пойду». И вот так и был везде первым. Хочу прочесть его единственное стихотворение, написанное им в 12 лет:
«Падает снег и на улице холод // 1-ое января // Грустно становится // хочется думать // Годы пропали зря. // Годы летели, летели как птицы // Летели как птицы. — Куда? // Куда неизвестно, но быстро летели // Без совести и стыда. // Уже мне 12, полжизни прожито // 1-ое января. // Грустно становится, хочется думать // Годы пропали зря».
— Еще скажите, сколько людей неудачников, маленьких людей, у которых нет профессии, 90 % выбирают профессию случайно и ненавидят свою работу от того, что работа не любимая. В какой мере это у Вас, у Филиппа и у Пугачевой.
— Я о себе могу сказать. Я по работе — как бы люблю есть работу, а не она чтобы ела меня. Я люблю работать. Я люблю, чтобы я ее понимал, чтобы работа меня ждала. Я должен делать ее. И ее делая, я изобретаю, как лучше. И открываю какие-то ступени быстрого, хорошего порядка вещей, книг. В ходе работы я нахожу еще какие-то детали, которые меня радуют. Я никогда не проклинал работу.
— Последний вопрос. Что с лентой? Промелькнула Ваша жизнь?
— Вот мы долго чинили диктофон, починили, хотя кто-то вставлял палки в колеса. И в кружение, движение ленты жизни, так же мешая съемке, кто-то «вставлял палки», но она пошла…
Юрий Рост Я ВРАТАРЬ. ЛОВЛЮ И ПРОПУСКАЮ
— Юра, я Вам минут двадцать не буду верить. Вам это ничего?
— Это совершенно необязательно. Вы не священник, а Я к Вам не исповедоваться пришел.
— Как Вы думаете, это одной природы разочарование — любовное или когда друга теряешь? Одинаковую ли боль Вы испытываете?
— Никогда меня друзья не предавали, такого опыта у меня нет. Что касается боли, то, если разочаровался, то и боли никакой нет.
— Вы только держала в руках книгу «Роза мира» Даниила Андреева? Или прочли?
— Прочел, но не всю. И если Вы о ней что-то хотите спросить — предупреждаю, у меня очень плохая память. Читаю я достаточно много, но практически ни цитировать, ни читать стихи не могу.
— Андреев полагает, что дьявол также существует, как и Бог. А что Вы думаете?
— Я Вам скажу чужое, что мне нравится. Был один человек, его спросили: «Бог есть?» А было это, когда все, относящееся к религии, не поощрялось. И он ответил: «Бог — не знаю, а черти есть».
— Есть какая-нибудь идея, вокруг которой бы группировались все факты, события Вашего существования?
— Надежда, наверное.
— Не могли бы Вы сказать, на что Вы надеетесь?
— На Бога, прежде всего. Во-вторых, на жизнь. В-третьих, на дружбу и любовь.
— Вы ведь знакомы с Майей Плисецкой? Не могли бы охарактеризовать ее одним словом?
— И писал о ней, и снимал. Одним словом — думаю, подходит «великая».
— Вы не читали ее книгу?
— Нет.
— Обложку ее книги украшают слова: «Я вынесла из жизни нехитрую философию: люди не делятся на классы, на расы — они делятся на хороших и плохих. И хороших во все времена было меньше». Вы согласны?
— Не знаю. Мне попадалось очень много хороших людей. Поскольку я дорожу своими отношениями и чувствами, я общаюсь с хорошими. Поэтому мне кажется, что их не так уж мало.
— Если бы Вам пришлось как бы заново начать жить, о чем бы Вы тосковали, жалели, что не могли захватить с собой из прежней жизни?
— О незахваченной памяти.
— Представьте себе фантастическую ситуацию. По метеоусловиям нашей планеты люди никогда не видели, ничего не слышали о звездах. И вот однажды на одну ночь небо расчистилось, и люди увидели звезды. Будет ли для них это выдающимся событием?
— Безусловно.
— А Вы сколько времени проведете, глазея на это зрелище?
— Пока будут показывать, буду смотреть.
— Назову другие выдающиеся события — выход из тюрьмы, первая брачная ночь, рождение ребенка… Можете выделить для себя важнейшее?
— Я думаю, самое выдающееся событие — это рождение.
— Было ли в Вашей жизни страшное событие, когда жизнь выталкивала Вас из себя, жить не хотелось?
— Я жизнелюб, ценю этот подарок Бога. Пока не было такой ситуации.
— Вы никогда не стыдились своей журналистской профессии?
— Я горжусь работой. А профессией что гордиться или стыдиться?
— Как Вы относитесь к тем пяти-шести людям, которые считают Вас лучшим журналистом России?
— Я отношусь к ним, конечно же, хорошо.
— Вам приятно быть первым?
— Я не считаю себя первым. В свое время Менухина спросили, думает ли он, что он первый скрипач. Он ответил: «Нет, я второй». — «А кто же первый?» — «А, первых много». Я думаю, действительно, первых журналистов много. Я знаю с десяток.
— Есть у меня шансы стать первым журналистом Израиля?
— Если бы там не было других журналистов, и появились бы Вы — тогда смогли бы. У Вас интересные вопросы, но неясно, как на них отвечать…
— Но разве первый журналист не должен делать все иначе, чем другие, чем второй Юрий Рост, например?
— Если Вы будете заставлять себя делать все иначе, в конце концов у Вас будет получаться хуже, чем у всех других.
— Бедный я, бедный. Теперь представьте еще более страшное. На улице автомобильная катастрофа. Вот Вам три вида человеческого поведения…
— Да, понятно, идут дальше, глазеют, помогают.
— А Вы для себя четвертый найдете?
— Нет. Если я вижу, что могу помочь, помогу. Если нет, пойду дальше. — Многие видят по глазам, врет человек или нет, а Вы — замечаете?
— Никто не видит. Потому что лгущий человек контролирует и глаза.
— Предположим, к власти в России приходят изуверы. И первым делом запрещают общаться с родственниками, друзьями. С чужими — можно, с близкими — ни-ни. И еще десятки подобных указов: отмена праздников, религии и т. д. Не сажают, но штрафуют десятикратными зарплатами, мотивируя тем, что мы выходим через несколько месяцев на первый в мире уровень благосостояния. Правда, визу желающим уехать присылают на дом и оплачивают проезд. Вы уедете?
— Нет.
— Почему?
— Ну, не знаю. Здесь Родос, здесь и надо прыгать.
— Жаль, Вы отвечаете как все. Правда, в отличие от всех, не добавляете, что будете бороться…
— Я должен Вас спросить, что значит борьба? Будут ходить с флагом, браться за автомат, писать…
— Вам никогда не было стыдно за вою профессию, своего благополучия тоже не стыдились? Хотя вокруг столько обездоленных… Гонорары, публикации, фильмы. У Вас ведь «все схвачено»?
— У меня как раз ничего не схвачено. Я работаю, произвожу продукция предлагаю ее. У меня ее покупают.
— Все знаменитые актеры обязательно говорят, что им повезло. Вам тоже везет?
— Ну, элемент везения безусловно есть.
— А счет в банке?
— Есть. С прошлого года лежит пять тысяч.
— Долларов?
— Почему долларов? Рублей.
— И это все? Нигде в матрасе больше не припрятано?
— Нет. Я зарабатываю себе на жизнь.
— Вообразите, что Вы умираете в сознании. Что Вам жальчее всего оставлять?
— Жизнь.
— Могли бы Вы назвать талантливого телевизионного ведущего, который в отличие от меня умеет раскрывать собеседников?
— Молчанов. Умели разговаривать с людьми Каплер, Листьев. Думаю, более десятка людей.
— Вы брали интервью у десятков или сотен людей?
— Думаю, у сотен.
— Пожалуйста, назовите необыкновенных людей, за знакомство с которыми Вы благодарны судьбе?
— Назову тех, кого нет. Сахаров, детский хирург Францев, метеоролог Дьяков, трубочный мастер Федоров, художник Миша Чавчавадзе.
— Вы ловили себя на том, что для Вас маленькие, никому неведомые гении симпатичнее, чем знаменитые?
— Я ловлю себя на том, что слово «гений» стало слишком употребляемым. Гений это гений, он не может быть ни маленьким, ни большим. Если разговор идет о популярности, то другое дело. Для меня было важно, чтобы человек был достоверным, а не знаменитым.
— Что Вас привлекает в людях прежде остального?
— Не могу определить, разные вещи одинаково интересны.
— Что Вы предпочитаете отыскивать в людях — ум, доброту?
— Мы повторяемся. Я предпочитаю отыскивать то, что в них есть.
— Три интересных вопроса задайте, пожалуйста, себе и ответьте на них.
— Куда Вы спешите? — Я спешу к друзьям в бассейн, где мы играем в водное поло. Я старый ватерполист. — Зачем Вы туда едете, что Вы там потеряли? — Потерял в воде молодость и обретаю ее время от времени, встречаясь с друзьями. — В качестве кого Вы там играете, какая роль Вам больше подходит — нападающего, защитника? — Я вратарь. Я ловлю и пропускаю.
Муслим Магомаев НИ ОДНОЙ МИНУТЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ, НИ ХОРОШЕЙ, НИ ПЛОХОЙ, Я ВЫЧЕРКНУТЬ НЕ ХОЧУ
— Вы достаточно состоятельный человек, чтобы каждому гостю давать новые тапочки?
— А где, Вы полагаете, я ему буду давать новые тапочки?
— В Вашей квартире.
— Нет, где, в какой стране мира?
— Вот здесь, в Вашей московской квартире.
— Если я буду жить на западе, то я, может быть, каждому человеку покупал бы тапочки. Там, как Вы знаете, не очень приглашают в дом людей. Если бы у меня в полгода один-два человека были в гостях, я бы, наверное, покупал тапочки. Поскольку в Москве проходной двор, приходят и уходят, вот сейчас позвонили из журнала «Смена», материалы принесут, и каждому я буду давать тапочки? Так мне понадобится целая тапочная фабрика.
— У Вас достаточно средств, чтобы открыть тапочную фабрику?
— А зачем мне нужна тапочная фабрика?
— Ну, дивиденты будут капать…
— Нет, я не занимаюсь бизнесом.
— Кроме того, мне показалось, что Вы не хотите выглядеть смешным. Если в Москве об этом разнесется слух, Вам не нужна такая реклама?..
— Нет, почему. Давать каждому человеку новые тапочки — вполне возможно.
— Второй мой вопрос: помогите мне, что-то там про жизнь в коридоре мы успели поговорить. Я жаловался, сколько жизни могу отнять у Вас, а Вы сказали как-то очень хорошо.
— Что я ничего из своей жизни, ни одной минуты отнять не могу. Все мои.
— Вычеркнуть, так сказать.
— Да. И хорошие минуты, и плохие.
— Муслим, мне кажется, лучшее мое интервью будет с Вами. Я его не запланировал, поэтому оно будет лучшим. Скажите, в каком состоянии, когда я на Вас свалился, я застал Вас? Вот такая же ситуация у Пушкина: «Поговорю о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви». А теперь послушаем эмигранта, умирающего в бедности, нищете, Георгия Иванова: «Все туман. Бреду в тумане я // Скуки и непонимания. Ни с ученым или неучем // Говорить мне в общем не о чем». Я на Вас свалился, начинаю мучить. Чему Вы соответствуете? Эти сорок минут — пока я буду с Вами, соответствуют какому настроению, каю картинке? Пушкинской или Георгия Иванова?
— Я буду человеком среднего сословия, обывателем.
— Теперь идиотский вопрос, доведенный до абсурда. Попытайтесь серьезно или иронически, как хотите, по шестибалльной шкале, как оценивают фигуристов, оценить свои собственные умственные способности.
— Ну, у меня умственные способности очень нормальные. Не выдающиеся. Потом я думаю, что каждый человек, наделенный каким-либо талантом, мог бы достичь большего, если бы правильно развивался. Но мы склонны особенно в это не вникать, останавливаться на том, что достигнуто. Литература? Я себя много раз заставлял читать, например, «Двенадцать стульев». Я не понимаю этого юмора. Мне не смешно. Хотя я знаю, что люди просто валятся от смеха. Мне не смешно, такой у меня склад. Я люблю очень читать фантастику. Мне нравится то, что не связано с Землей, с нашей реальной жизнью, все, что творится там, где неизведанное, то, что под землей, под океаном, на небе, на других планетах. Меня это больше волнует. Поэтому я с удовольствием поглощаю фантастику.
— Ваши поклонницы и поклонники скажут: «Дурачина ты, простофиля», после того, как Вы не ответили на вопрос. Дайте все же себе оценку по шестнбалльной шкале.
— Ну как я могу? Все познается в сравнении. В сравнении с кем?
— С шестью мудрецами. Шесть мудрецов в одном тазу пустились по морю в грозу.
— Ну, если сравнивать себя с мудрецами — я могу поставить себе двойку.
— Замечательно.
— А по сравнению с нормальными людьми я могу поставить себе четверку.
— Хорошо, спасибо, это больше, чем я просил. Как музыкант, как певец — поставьте себе оценку.
— Как музыкант, как певец — в сравнении с кем?
— В сравнении с Нейгаузом, Тосканини, Шаляпиным.
— Тройку. Конечно, в сравнении с Тосканини, с Рихтером я себе как музыканту поставлю тройку. Но, простите, мне тогда не хватит баллов в этой шестибалльной системе, если я начну себе ставить оценку по сравнению с нашими некоторыми певцами, которые поют на сцене, и довольно популярны. Которые не знают, где нота «до» находится.
— Позвольте Вам подарить книгу московского хулигана, нафаршированную матом. Возьмете?
— Я буду учиться материться, на склоне лет хочется говорить нормальным человеческим языком.
— После того, как ответите на мой вопрос, не могли бы Вы тоже спросить: «А Вы, Олег, что думаете?» А я буду говорить искренно, что не могу с Вами соперничать.
— Когда мой водитель начинает мне говорить, что знаете, трамблер полетел, надо пойти и вот такую запчасть купить и называет ее, объясняет мне, куда вставить, я ему отвечаю: «Я же Вам не рассказываю, как надо партитуру оркестровую писать. Что Вы мне рассказываете, как в машине и чего. Я понятия не имею. Я, например, не хочу свой мозг засорять тем, как машина устроена, где у нее что стоит. Хотя есть люди, которые очень любят покопаться. Мой мозг не воспринимает этого, не хочет воспринимать. Мне надо сохранять свои клеточки для музыки, для партитур, надо очень много текста в голове держать, надо запоминать много песен, надо учиться играть на рояле, надо фонограммы писать оркестровые на компьютере. Поэтому заниматься машиной у меня нет никакой возможности».
— Вы осмелитесь в конце нашего интервью сравнить свои умственные способности с моими? Можно Я задам Вам этот вопрос последним?
— Мы совершенно разные люди.
— Прекрасно. Тогда свои музыкальные способности сравните с Моими способностями аналитика. Я учился на раввина. Как полагал руководитель школы, мозг раввина должен быть компьютером. Я Вам сейчас покажу, что я — компьютер. Следующий вопрос. Вот эта зашоренность, любовь к профессии, она Вас как бы не сделала лошадью, которая ходит вокруг мельницы с завязанными глазами?
— А Вы как думаете, почему некоторых ученых считают чокнутыми? Они могут идти, а у них будут подтяжки болтаться.
— Но это рассеянность.
— Он не знает, как штепсель воткнуть в розетку. Как это называть? Он слишком умен?
— Это гениальность.
— А мне кажется, что это однобокость, очень узко. Ничего не видеть, что дальше носа, а вот идти по своей профессии и ничего больше, дальше не знать. Великие есть пианисты — ты ему дашь ноты, и он сыграет гениально. А без нот не сможет сыграть на рояле по слуху «чижик-пыжик». Это как называется?
— Вы должны быть страшно рассеянным.
— Нет, я сосредоточенный. Вот чтобы вбить гвозди в положенное место на доске, надо быть очень сосредоточенным. Чтобы не попасть себе по пальцам. А я этим тоже занимаюсь. Вот это все дома я сам прицепил, вот эти штучки. Обои я могу наклеить. Плинтусы я здесь сам строил. Карнизы. Я за тех людей, у которых более широкий спектр деятельности, которые могут разбираться не в какой-то одной области, а могут все сделать, если захотят.
— Следует ли из этого, что Вы еще одной добродетелью обладаете, что Вы хорошо сбалансированный, уравновешенный человек?
— Нет, я совершенно неуравновешенный. Меня может вывести из равновесия все, что угодно.
— Например?
— Но это неважно. Я увлекающийся человек. Мне нравится что-то делать. Я делаю. Я могу и быстро забросить. Увлекся и бросил. И на этом все. Сейчас меня заставьте обои клеить — не буду. А одно время мне хотелось. Почему, я думаю, мой сосед может клеить, а я не могу, что у меня голова не так работает?
— А предрассудок, помните, что значит? Вы подвержены какому-нибудь предрассудку? И в других людях какой предрассудок непереносим? Например, люди продолжают жить с женой или с мужем, но живут из-за детей, из-за мебели и бог знает чего. Это предрассудок?
— То, что Вы сказали, это предрассудок, но который сохраняет детям жизнь. Не ломает, скажем так. Я готов считаться, не осуждать. Если, конечно, не живут как кошка с собакой. Что еще хуже для детей? Если живут нормально. Мало ли семей, в которых давно друг друга не любят, но в которых, как говорят, уважение появилось. Живут, ну и что. Пускай, себе на здоровье живут.
— Это замечательно, что Вы не знаете слова «предрассудок», но демонстрируете гораздо более цепное качество — искренность. Вы помните, Пушкин поет дифирамб обывателю: «Я мещанин…». Довлатов, наоборот, осудил: «Мещанин, это человек, думающий, что все у него должно быть хорошо».
— Сейчас это слово в моде. И многие считают наоборот, что мещане это хорошо. Мещане у меня ассоциируются со старой интеллигенцией. Вообще, с интеллигенцией больше. А я интеллигентов уважаю. Конечно, не какую-то инфантильную и конфетную, но, во всяком случае, хорошо мыслящую и на многое идущую во имя хорошей жизни, спокойной. Может, если было бы больше интеллигенции, то было бы больше мещан и было бы меньше войн.
— Что постоянно болит в Вашей душе? Или рубец на ней всегда перед глазами? Что это такое?
— Больше всего я не люблю неизвестность. Что дальше будет? А у нас сейчас и безысходность и неизвестность полная, впереди — чернота.
— Перенесемся в догорбачевское время, в застой. Тогда какая была самая сильная боль?
— Я так был рад, что закончился тот период у нас. Потому, что я один из тех артистов, которые из-за внимания властей очень переживали. Потому, что кто-то из властей меня любил, оттого что Брежнев любил и все главные, а неглавные меня терпеть не могли за то, что меня главные любят. И они старались все гадости, какие есть на свете, мне сделать. Более того, ездили с проверкой по моим гастролям, сколько я получил, не переполучил ли я на копейку больше, чтобы мне сделать гадость какую-нибудь, как делали не однажды. Я уж не говорю о том, что они решали, где петь, что петь, как петь, куда поехать. За границу не выпускали очень часто. И все это очень было противно. Нервотрепки были каждый день. Когда это закончилось, я очень обрадовался. Сейчас живется нормально. Платят нормально. Слава богу, деньги появились.
Можно себе позволить не унижаться, не иметь знакомых директоров магазинов, завмагов и так далее, всех противных людей, иной раз с которыми и за столом сидеть не хочется. А приходилось с ними поддерживать какие-то отношения. Кошмарное было время. Но, я не могу не отдать должное, что в этом времени не было такого, что сейчас творится. Был Афганистан. Был. Но, извините, чтобы на улице каждый день убивали людей, разборки были сплошные, и что боюсь за жену, когда она с собачкой выходит погулять, в садик, вот здесь вечером, и я в окно смотрю, как они гуляют. Хотя я знаю, что во всех странах так. Разборки везде есть. Взрывы в магазинах, сплошные теракты, это везде существует, но так, как здесь! Мы всех переплюнули.
— Два вопроса. Матрешка. Первый. Тютчев: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Роковые ли эти годы для Вас? Можно ли сравнить с революцией 1917 года? Революция ли то, что сейчас происходит?
— Ну, нет. Пока нет. Пока у нас Ленина нет. Ну, если только Анпилова Лениным назвать. Ну, я не знаю. Зюганов не будет новым Лениным. Зюганов, по-моему, такой же коммунист, как и я. А тогда время было скучное. Сейчас у нас телевидение интересное. Сейчас можно чем-то себя занять. В магазинах, в которые я хожу, все есть. Правда, не на что купить, но все равно есть. Интересны эти политические баталии, это все иногда раздражает, иногда смешит, иногда вводит вообще в безумие. Но в таком моменте мы живем. А самое страшное, что все это лично мне кажется игрой, в которую нас всех втянули и все заведомо известно. Та же Чечня, все эти игры политические, а мы сидим и болеем, как за матч, в котором уже запланирован счет, уже все оговорено, а болельщики сидят, оторваться не могут.
— То, что вокруг бедные несчастные люди, как Вам мешает это жить?
— Это больно. Это похоже, как будто Вы обгорели на солнце. Тут у меня есть свое мнение, что все равно это придется перетерпеть. Назад идти — это самоубийство. Во-первых, я совершенно твердо уверен, что люди, которые голосуют за коммунистов, ошибаются, думая, что если придут к власти коммунисты, то все сразу будет прекрасно. Это неправильно. Коммунисты при всем желании ничего уже сделать не смогут. Только агония продлится еще на много лет. Если перетерпеть, многие страны через это прошли, и мы пройдем. Только вперед, только к цивилизованному государству. Только к рыночной экономике. Правда, у нас не было бы бедных, если бы богатые были получше. Все-таки богатые должны помогать. Мы с Тамарой даже какие-то письма получаем — 2, 3, 4 человека, мы стараемся кому-то помочь. Если точно знаем. Вот женщина нам недавно написала. Даже справку о своей болезни прислала, что у нее нет денег на лекарство. Мы, конечно же, ей помогли. Мы, конечно, не бизнесмены и не миллионеры. А вот если бы бизнесмены, те, которые отправляют мешками деньги на запад, они бы занялись тем, чтобы помогли больным и нуждающимся, то они возросли бы намного в глазах других людей, их бы любили, ценили. Им было бы легче жить в государстве. А так деньги уходят неизвестно куда.
— Самый страшный вопрос. Когда нищие в метро просят, какую Вы доставали бумажку? Какую максимально?
— У меня был случай, который меня совсем вывел из колеи. В те годы, когда 500 рублей были огромными деньгами, какая-то старушка нищая, такая убогая, у меня были там, кажется четыре 500-рублевки и я ей дал одну. Она так на эту бумажку посмотрела, и вдруг залезла в какой-то мешок, и туда ее сунула, как будто это рубль. И мне открылся этот мешок, полный денег. Ну, конечно, даешь нищим и сейчас. Меньше тысячи не получается. У меня мелких не бывает. Но если я вижу, что это просто бичи или на водку явно не хватает, я ему не дам.
(Встает.) Извините, это конец. У меня самолет.
Олег Михайлов Я ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
— Помните Вы какую-нибудь беседу в своей жизни, которая не попадает под классическое определение: «Это все слова, слова?..»
— Однажды в 1960 году я проиграл в карты поездку во Владимир Василию Витальевичу Шульгину, находившемуся во Владимирском централе. Мало того, что его выпустили, когда я приехал, весь этот день, который мы провели вдвоем, он рассказывал о невероятных, фантастических, мистических событиях, сопровождавших его в течение всей жизни.
— Расскажите, кто такой Василий Витальевич Шульгин?
— Это человек, принимавший отречение последнего царя. Шульгин — один из руководителей последней Думы, крайне правый монархист. Антисемит, однако человек, который выступил в защиту Бейлиса, тем самым вызвав на себя совсем напрасный шквал. И несколько лет подряд в этот день к нему приходил еврейский мудрец, который благодарил его. Хотя он написал книгу «Что Нам в Них не нравится». Это был теоретический антисемитизм. Не физиологический, бытовой… Шульгин — это эдакая птица с длинным носом, почти без век. Умер он ста лет, как себе сам и предсказал. Писал романы. Говорил, что придумал название «Приключения князя Воронецкого», а потом этого самого Воронецкого нашел в летописях. Доказывал, что Гришка Отрепьев был никем иным, как царевичем Дмитрием… Шульгин оказался в старости никому не нужен. Сидел в одной камере с сыном Леонида Андреева, пережил его. Шульгин говорил, что с ним нельзя общаться тесно — чревато бедой. Но больше, чем Шульгин, для меня значил Зайцев. Он прожил девяносто лет, и был из последних могикан. Его главная мысль заключалась в том, что бессмыслицы в мире нет. Количество души в мире — величина постоянная. Возьмите Элладу. У каждого ее жителя было количество души, равное этой величине. А теперь представьте духовность, созданная той культурой (территориально находившейся в одном районе Москвы) должна быть разделена между всеми жителями планеты. Отсюда все полулюди, недолюди, нелюди и антилюди. Все эти существа, которых сразу не распознаешь и которые умело маскируются… Не говорю уж о женщинах, которые вообще не являются людьми. И это совершенно катастрофическая тяжба… Я знаю это на своем опыте…
— Ваш жизненный опыт — это продукция мозга, а мысли Ваши — не из воздуха?
— Да, мысль в воздухе. Кто-то говорил, что в спорах рождается истина, а на самом деле в спорах она умирает. Хотя воздух просто насыщен мыслями. Но все зависит от того, какие мысли. Есть мысли ядовитые, есть оплодотворяющие. Большинство мыслей тифозных, убивающих. Они спирохетичны. Они поддаются только тому анализу, который делают при сифилисе…
— Это Вы о собственных мыслях?
— Я говорю и о собственных мыслях. Человек отравлен, и принужден эту отраву в себе нести. Один человек сказал обо мне так, что я могу писать только на краю помойки. И это правда, потому что помойка для меня много значит. И поэтому я пишу роман «Пляска на помойке». Это даже не переводимо на другой язык… Я не думаю о смерти, хотя смерть думает обо мне и посылает сигнал. Я боюсь этого. Я боюсь трогать эту сферу. Я не того калибра, чтобы тронуть это. Смерть приходит вовремя, хочет человек этого или нет. Тогда, когда заканчивается музыкальный сюжет. Иного человека хватает на несколько музыкальных сюжетов. Вполне возможно. Иногда думаешь о человеке, как о прочитанной книге. Встретив свою первую жену через много лет, я узнал ее только тогда, когда она заговорила. И допрашивать даже собственную жизнь невозможно. Ты видишь во сне умершего отца, и понимаешь, что это опасно. Мы, только потому боимся прикоснуться к этому, что думаем, будто этого не существует. А это есть, и настолько близко, что оно дышит нам в правое ухо. Мы открещиваемся от этого — открещиваемся культурой, книгами. Пытаемся запутать то, чего запутать нельзя. Мы пытаемся уйти заячьими следами от этого охотника, у которого единственная пуля. Но эта пуля — для Вас.
— Вы что-нибудь знаете о последних годах жизни Набокова?
— Это совпало с моим охлаждением к нему. Павел Антокольский спрашивал у нас в редакции: «Кто лучший прозаик?» Я отвечал ему, что Набоков, «Ах, это тот, что написал „Лолиту“! Ну это же ужасно!» — «А Вы читали?» — «Нет», — говорит он. Но я сам вытеснил из себя Набокова. Вытеснил из себя, может быть, через религиозные книги. Через православие, через Шмелева, написавшего книгу, которая может лежать у православного человека вместе с Евангелием. Я знаю о последних годах Набокова вот что. Птица, именем которой он себя назвал, Сирин — в русской мифологии с женским лицом. Но она имеет и другой облик, другой смысл — ухающий филин. Гоголь написал: «Нос завострился, побежал из него клык, и стал старик-колдун». Вот это вот сличение фотографий Набокова производило на меня впечатление. Он превратился из Сирина одного в Сирина другого, Сирина-дубль.
— Кто из людей, по-вашему мнению, нуждался в Вас, радовался Вам?
— Ну, я, должен сказать, был облеплен людьми. Благодаря моей слабохарактерности я охотно поддавался на любое слияние, излияние и возлияние. Вокруг меня было огромное количество случайных людей. Одним нравилось мое якобы декадентское обаяние, другой что-то ловил родственное себе; я был безотказен, и к тому же мог дать денег.
— А взаимное, равноправное влечение, какой-то роман?
— Роман — всегда борьба. Вы говорите о равноправии, а равноправие — это смерть, застывание. Когда два человека, слившись, прильнут друг к другу — это как вольная борьба, где под кожей ходят мышцы, и кто-то побеждает другого.
— Это Вы о тютчевском «роковом поединке»?
— Я выбираю заведомое поражение. Меня тянуло в грязь и пошлость. Один мой друг говорил мне, что мне нужно было жениться на проститутке. Верно, именно это мне и нужно было. Но именно в этом я и проигрывал не только физически и сиюминутно, но и нефизически тоже.
— А за что именно борются мужчина и женщина?
— Я не хотел бы говорить об этом, исходя из косвенного опыта. Товарищ Мао Цзедун учил нас, что есть опыт прямой и есть опыт косвенный. То есть, моя куприниана, лениниана и так далее — все это одно. А мой прямой опыт заключается в том, и противоречит в этом и бунинскому, и купринскому, что поединок есть лишь борьба с собой. Помимо нее, есть и раздвоенность, и борьба друг с другом. Но в борьбе с женщиной, в самый решительный момент я отключался и пропускал свой самый решительный удар. Я был парализован. Я знал, что подхожу к контрапункту, могу потерять или не потерять ее и терялся. Женщина — это герметически закрытая монада, проникнуть в которую невозможно.
— Когда Вас покинула надежда, что может быть вечная любовь?
— Моя первая любовь — это девочка из подвала. Она была совершенно фригидна, и это меня еще больше возбуждало. Я сам толкнул ее на панель и она стала манекенщицей. Она жива, но ее нет. Она ничего не читает и не читала, даже роман о самой себе. Женщины вообще принципиально иначе устроены. Но я лишь догадываюсь об этом. Думаю, наши ощущение и восприятие женщины механическое.
— Она не была бы оскорблена Вашей книгой?
— О, нет. Она и оскорбленное достоинство — это не пересекающиеся явления.
— Что Вам снится?
— Ко мне приходят одни и те же сны. Постоянный сон — о квартире, в которой я хотел бы жить. Это не моя реальная квартира. Шопенгауэр сказал, что сон — это перепутанные страницы книги твоей жизни. Я думаю, это не так. Я думаю, это возможность своим «темянным оком» увидеть, что происходит там. Так, например, мне единственный раз снились Романовы — Мария Федоровна пела для меня. Я переживал, что непричесан, волосы растрепаны. Мне было неудобно. Я рассказал об этом сне знакомому. На следующий день он прибегает ко мне: «Олег, а ты знаешь, почему они к тебе приходили?» Оказалось, в эту ночь умер великий князь Владимир Кириллович. Такие случаи у меня еще были. Но я этого боюсь. Я хочу подольше остаться здесь. И не потому, что я боюсь смерти. Я боюсь всякого соприкосновения с тем миром. Открещиваюсь даже с помощью плохих романов. Я придумал много рассказов, под которые я засыпаю. Стремление убежать, укрыться.
— Поиски Вами второй половинки долго продолжались?
— Во мне смешалось столько кровей — польской, русской, французской и немецкой, татарской. Еврейской, насколько мне известно нет, но я не уверен. В общем, мы все братья. Настолько все тесно связано, что мы все одни… С утратой какой-то кадетской, юношеской свежести, когда с меня слетела вся романтическая позолота я перестал волноваться по этому поводу. Я был закодирован на совершенно определенный тип женщин. У меня никогда не было тяги к матери, что очень важно для мужчины. Он должен выучиться у более взрослой женщины этой «науке страсти нежной». Сейчас плоть моя угасает.
— У меня сложилось впечатление, что Вы человек свободный, неженатый…
— О, говоря так, я могу кого-то обидеть… Впрочем, в романе, который я сейчас пишу, я очень обижаю это существо. На всю катушку говорю то, что хочу, совершенно раскованно. Когда я женился, она была моложе меня на двадцать восемь лет. Это было недавно, шестнадцать лет назад.
— О каких людях мы могли бы с Вами еще поговорить?
— Людей довольно много. Кроме Зайцева, который считал меня своим другом, хотя разница в возрасте у нас колоссальная, кроме Корнея Ивановича Чуковского, с его замечательным ко мне отношением, кроме Храбровицкого, очень хорошего человека, литературоведа… Был еще Александр Алексеевич Селунский, капитан, совершенно необыкновенный человек. Родители его были уничтожены здесь. Он посылал мне книжки, и меня вызывали и спрашивали: «А Вы знаете, что эти книжки куплены на деньги ЦРУ?» Я переписывался почти со всей эмиграцией…
— Вы могли бы назвать имя человека, мерзавца, которому следовало бы торговать, а он пишет? Вы не постеснялись бы сделать это?
— Я могу назвать человека, которого называл своим другом. Я любил его. Он был проклят всей либеральной интеллигенцией… Он писал доносы. Но он много сделал в Институте мировой литературы для нас, тогда аспирантов. Это Эльсберг Яков Ефимович. Его все поносили, исключили под улюлюкание из Союза писателей.
— А знаете Вы какого-нибудь мерзавца, за которого Вам стыдно, что он тоже человек?
— Я таких не знаю. Это неправда. Это книжное. Таких людей не бывает. Хотя я часто обижаюсь на людей, это так.
— А человек, который Вас ненавидит — есть такой?
— Таких людей нет. Хотя могу предположить, что кто-то так думает, но определенно сказать не могу.
— Зайцев, Эльсберг, Чуковский… Кого мы не назвали?
— Мой учитель Гудзий. Леонид Иванович Тимофеев. Он был красный безбожник, один из РАППовских критиков в 20-е годы, а в 70-е у него висело распятие на стене, он перебирал четки — совершенно другой человек! Я думаю, в любого человека Божья капля может упасть.
— А человек, которого Вам хотелось бы слушать, запоминать? И Вы стеснялись говорить сами?
— У меня был однокашник в университете, совершенно блестящий человек. Я заставлял себя иногда на семинарах молчать, чтобы не говорить то, чего не знает он — у него было чудовищное самолюбие. Но я, к сожалению, страшный эгоист. Я, может быть, из эгоизма и себялюбия, стратегически проигрывая, получаю от этого удовольствие. Может, я не способен на восторг перед человеком и книгой, кроме Священного Писания. Остальное поддается критике разума.
— Что Вам также важно, как Христос? Может быть, истина?
— Я не знаю, что такое истина. Я знаю, что такое Христос. Истина — конечна. Дьявол — носитель истины, он разлагает с помощью истины нашу душу, разрушает нас духовно.
— А можете заменить чем-то истину?
— Только добром, больше ничем.
— Что за рефлекс в человеке — потребность в славе?
— Мне недоступно это. Я страдал всегда от отсутствия тщеславия. Слава необходима для жизненных услад. Я, минуя тщеславие, хотел перейти к усладам. Вот эти нарисованные двери услад перепрыгнуть невозможно.
— Вы себя лучше знаете, чем других?
— Некоторых других я знаю лучше, чем себя. В некоторых нельзя заблудиться. В других сидит Минотавр, и их я знаю меньше, чем себя. Я — некая точка, вокруг которой расположено человечество. С одной стороны, по упрощению, идет ускорение познания человека, с другой, по усложнению, затрудненность восприятия. Таких немного, но они неразлагаемы мной.
— Вы не поторопились сказать, что не боитесь смерти?
— В бытовом отношении я боюсь долгой и унизительной смерти. Не дай Господь этого никому. А если бы сказали, что умру тогда-то, оттого-то — я бы ужасно боялся. Но вся прелесть в том, что я не знаю.
— Отчего не следует бояться смерти?
— Может быть, у меня до сих пор очень сильное чувство жизни. У Бунина с самого младенчества было чувство смерти. У Куприна — напротив. Может мы более примитивны с Куприным. В нас больше животного начала. Может это неизрасходованность сил своих до конца. Может, мне, как обычному человеку, дано ужаснуться смерти только тогда, когда начнется легкое позвякивание косы о точильный камень. Нельзя искать объяснения в человеческой голове. Павлов требовал от Сталина, чтобы была сохранена церковь, в которую он ходил молиться. Хотя, казалось бы, что было физиологичнее, материалистичнее того занятия, которому он предавался.
— Видимо, Вы убеждены, что человек, найдя этому объяснение, начнет умирать?
— Он должен войти в очень плотный союз с дьяволом для этого. Вот Гоголь, в котором было столько закрытых грехов, того, что Розанов пытался описать, как сожительство с трупами… Гоголь умер, когда понял эту тайну.
— Как Вы оглядываетесь на прожитое?
— Я прожил жизнь, которой не было.
Артем Тарасов В 2000 ГОДУ Я ВЫЙДУ НА ПЕНСИЮ И ЗАЙМУСЬ РЫБНОЙ ЛОВЛЕЙ
— Вам не надоело знакомиться с людьми без нужды?
— Я изначально расположен к людям.
— Но ведь за пять минут Ваша благожелательность может иссякнуть…
— Вряд ли. Я человек внутренне очень воспитанный, что ли. В детстве мною занималась моя бабушка, старая княгиня.
— А в течение часа сможете подогревать в себе интерес, благожелательность?
— Интеллигентность не дает мне расставаться с людьми жестко, говоря: «Все, хватит». На Западе есть термин — «моральный шантаж». Нередко люди, которые ко мне приходят, стремятся к решению своих частных проблем. И я занимаюсь этим, хотя понимаю, что мне это не нужно, что я и так завален своими проблемами, а человека-то этого не знаю и его не приглашал. И тем не менее я продолжаю заниматься этим человеком… У меня всегда есть с собой деньги для этих людей. Десять долларов. Но для меня деньги не значат то же самое, что значат для людей, денег не имеющих. Деньги для меня — это промежуточный результат моей деятельности.
— Извините, я Вас буду перебивать. Вам нравится актриса Миронова?
— Очень нравится.
— К ней пришла молодая журналистка и стала говорить: «Ой, я такая идиотка! Вы такая замечательная, столько видели! Мне хочется спрашивать Вас о НЭПе, о сотне вещей, Вы столько всего знаете! А я спрошу вот что: как Вы себя чувствуете в вашем возрасте?» И Миронова ответила: «Я не могу уже выпархивать на сцену, как сорок лет назад. Но пока я Вам нравлюсь, я буду выходить. Пусть с трудом». Артем Михайлович, Вы столько всего знаете, но надоумили меня задать такой идиотский, больной для Вас вопрос. Скажите, достаточно Вам пяти минут моей болтовни, чтобы понять, хочется ли Вам профинансировать издание моей книги?
— Нет. У меня никогда нет свободных денег. Я не банк, который наживается на спекуляции.
— Даже если нужно будет всего два миллиона, а книжка Вам покажется прекрасной?
— Я же Вам сказал, сколько у меня денег в кармане. Вас ведь не устроит сумма в десять долларов? Другие деньги у меня вложены в дело. Книгу профинансирую, если Вы мне объясните, как мы на ней заработаем. Либо я пойму, что Вы из той же категории пользователей момента, которым наплевать на мои интересы… Чтобы вытащить деньги, я должен прекратить дело, в которое они уже вложены. Даже если она мне понравится, Вы должны попасть на тот момент, когда я получаю результат, и тогда я смогу рассмотреть Ваш проект. Но, скорее всего, этого не случится. По одной простой причине — количество проектов, которые в этих стенах предлагаются, во много раз превышают мои материальные возможности.
— Вы хорошо уравновешенный, сбалансированный человек?
— Я не думал на эту тему. Когда как. Иногда меня можно вывести из себя. Но у меня есть относительный недостаток — излишняя внутренняя интеллигентность. Она меня сдерживает часто от проявления эмоций.
— Как Вы думаете, наблюдателю более очевидны пороки Ваши или достоинства?
— Абсолютно не задумываюсь, как я выгляжу.
— Боюсь, большинству читателей будет очевидно, что Вы человек скупой. Генетически, несмотря на вашу респектабельную внешность.
— Это право каждого человека составлять собственное, независимое мнение о другом. Ни в коем случае не могу препятствовать этому.
— Но Вы стараетесь показывать незнакомым людям свои достоинства?
— Я просто естественно себя веду.
— А помните, что такое предрассудок? Какому-нибудь предрассудку Вы подвержены?
— Верю, как всякий в приметы.
— А в других людях какие-нибудь предрассудки Вас раздражают?
— Не люблю дураков, паразитов — и моральных, и материальных (их целая каста). Люблю тех, кто строит свою жизнь сам, и сам пользуется плодами своего труда.
— Если супруги живут в ненависти и не расходятся, это предрассудок?
— Если продолжают так жить, то это глупые люди. Умные обсудят ситуацию и найдут выход. У меня умная, хорошая супруга, у нас не бывает сложностей, мы пытаемся понять друг друга.
— Она понимает вас, когда Вы восхищаетесь другой женщиной, может, даже увлеклись ею?
— У нас возникает достаточно более интересных тем для обсуждения, чем эта.
— Лучше признайтесь, предпочитаете не отвечать на этот вопрос?
— Нет, действительно, эти темы не присутствуют в нашем обиходе.
— Вы допускаете, что можете изменить жене?
— Да, наверное. Телесно.
— Вы постараетесь, чтобы она об этом не узнала?
— Стараться не буду ни в коем случае. Со мной это может быть крайне редко, хотя бы из чувства брезгливости. Скрывать что-то, обсуждать подобные темы — повторяю, нет, у нас есть занятия поинтереснее.
— В ком страх сильнее — она боится Вас потерять, или вы?
— У нас нет такого страха. Мы вдвоем решили жить вместе счастливо.
— Сколько лет Вашему браку?
— Восемь лет. Возраст уже достаточный, и не хочется исканий и всего остального.
— Если все же это произойдет, Вас пугают хлопоты? Это хлопотно…
— Не могу думать об этом по заказу.
— Вам нравится Довлатов?
— Читал, но очень давно. Теперь я вообще мало читаю, в основном книжки в мягких переплетах и биографии, например, известных предпринимателей.
— Вспомните кого-нибудь из великих поэтов прошлого.
— Надсон.
— Я имел в виду XX век.
— Гумилев.
— Он великий поэт?
— На мой взгляд, хороший поэт.
— А русский прозаик XX столетия?
— Мне нравится Платонов и, как ни странно, Астафьев.
— Он тоже гений, Астафьев? Или большой писатель?
— А я не понимаю, что значит великий, или гений. Он мне очень близок.
— Но Вы же гений в бизнесе. Ксатати, кто еще, помимо вас?
— В бизнесе я совершенная посредственность. Вот Вы гениальный журналист?
— Наверное, да. Потому что журналистикой я занимаюсь только месяц, а уже напечатался в центральных газетах. Впрочем, точнее будет сказать, гениальный проходимец.
— Вот, пожалуйста. Гениальность — это самооценка, не так ли? Вы себя сами так оцениваете.
— Фигуристам выдают баллы — высший шесть. Вы себе за Ваши умственные способности сколько поставите?
— Сначала я вернусь к прозаикам, тут у меня своя, строгая шкала оценок. Если фигуристов оценивают, насколько точны их движения, и существует точный, объективный критерий, то к писателям применима только чувственная система оценок, то я чувствую, что у меня есть к этой профессии способности, не более того.
— Какие бизнесмены, по Вашему мнению, заслуживают такой же оценки?
— Я очень высоко ценю часть из «новых русских». Убитый Илья Митков. Он в двадцать шесть лет сделал два банка — «Прагма-банк» и «Диа-банк» и был застрелен. С моей точки зрения, он был гениальным предпринимателем.
— Вы допускаете, что и Вас могут убить?
— Безусловно, есть постоянное осознание риска.
— Есть ли у Вас ощущение, что Бог о Вас заботится?
— Бог или черт.
— Вот я и хочу Вас спросить.
— Я точно знаю, кто меня охраняет, если уж Вы хотите в астральную плоскость погрузиться… Дух моей бабушки, которую не похоронили. Она была если не колдуньей, то уж медиумом очевидно. Последние годы ее жизни для нее существовал только один человек, ее внук. То есть, я. Она была очень сильным человеком. Она меня до сих пор охраняет. Те экстрасенсы, с которыми я общаюсь, удивляются — «что за поле тебя окружает!» Я защищен, и даже от психотронного оружия, если таковое существует. Бабушка моя была сожжена, пепел развеян. Она — везде.
— До какого возраста Вы хотите дожить?
— Моя жизнь спланирована. В 50 лет, в 2000 году я выйду на пенсию и займусь рыбной ловлей или вообще работой, связанной с рыбой. Это мое хобби. Может, вложу деньги в океанариум и сделаю прибыльное дело.
— А помогать ближним? Строить больницы, приюты?
— Вы можете мне назвать какого-нибудь известного бизнесмена, который реально занимался бы благотворительностью только потому, что чувствует потребность в благотворительности? Я знаю их довольно близко… Вот Фонд Сороса — благотворительный фонд?
— Я не знаю…
— А я знаю. Он только за-ра-ба-ты-вает сотни миллионов долларов, побочным путем, делая много пользы для России.
— Если многие бизнесмены похожи на вас, то это патология. Уродство, как и то, что многие артисты умирают заживо. Таких еще я видел только в Онкологическом центре. Артисты умирают либо оттого, что проживают чужие жизни, либо от звездной болезни. Они жертвуют жизнью. Так же и бизнесмены. Их доходы должны «крутиться», пользоваться же ими будут только внуки… Я считаю, что это патология.
— Никто не думает о внуках. Человек, у которого деньги в кубышке, который наворовал их на своем рабочем месте — таких ведь очень много в России, и при этом он, живя на кубышке, ничего не делает, только ворует — вот он, по-моему, должен испытывать муки совести. За то, что не занимается благотворительностью, не издает чужие книги… Ведь он наворовал, сидит на деньгах и ничего не делает полезного. А бизнесмен все время работает, деньги все время в процессе. К тому же вероятность придти к пенсии без копейки такая же, как и хорошо заработать…
— А мне кажется, что бизнесмен, прикрывающийся словами, что чем больше будет богатых людей в стране, тем уровень жизни будет выше, так же врет, как и нищий, просящий милостыню.
— Нет, это чистая правда. Богатый бизнесмен, живя в нормальной стране, платит большие налоги. Чем больше богатых людей, тем больше налогов получает государство. В США, например, миллионер и бедняк платят налоги совершенно по различным принципам. И заботиться о людях должно государство, фонды, черпая из полученных налогов. Знаете, кто много занимается за рубежом благотворительностью? Жены богатых бизнесменов. Бизнесмен занят, он не может входить в такие проблемы. И как бы вкладывает деньги в свою жену.
— И все же, бизнесмен, заботящийся о процветании государства — это лживый образ.
— Бизнесмен вовсе не заботится о процветании государства. Это должно происходить автоматически.
— Мне кажется, автоматически ничего не происходит. Обогащаетесь только вы. Я даже считаю, что здесь, кроме лжи, презрение к людям.
— Я с Вами не согласен. Абсолютно неважно, откуда деньги поступают в государственную казну. Важно, как потом государство их использует. Если кто-то кладет их в карман и еще, сволочь, не занимается благотворительностью, а живет, паразитируя на зарабатывающих эти деньги — вот он паразит. Он должен хотя бы благотворительностью заниматься. А я действительно очень занят. Мне неоткуда взять денег. Самый бедный человек, это тот, кто занимается активно бизнесом. У него есть оборотные средства, средства для инвестирования, расширения проектов. У него есть куча проектов, которыми он буквально болен — не хватает на них ни средств, ни времени. Это страшная мука. Это как рождающийся ребенок, которому ты не можешь дать жизнь. Он также дорог, как, например, книжка вам. Почему я должен дать деньги Вам и не воплощать в жизнь мою идею? Вы мне можете это объяснить?
— Я должен перед Вами извиниться. Чтобы придать моим словам искренности, я возражал Вам так эмоционально. На самом деле это, конечно же, была провокация. Я думаю, что Ваш взгляд на эти вещи — очень цивилизованная точка зрения…
— Странно, я совершенно не заботился о том, чтобы произвести впечатление…
— Довлатов сказал, что мещанин — это человек, считающий, что у него все должно быть хорошо. Придумайте свою формулировку.
— В моем сегодняшнем понимании, современный мещанин — это тот, кто кичится своим положением и стремится его продемонстрировать всеми способами. Бывает, мне звонят некоторые мои коллеги в Лондон и просят заказать номер в гостинице. Я заказываю номер люкс за триста фунтов в день, а приехавший мне говорит: «Ты что, не знаешь, кто я теперь? Неужели в Лондоне нет номера за тысячу восемьсот в день?» Я нашел такой номер, пентхауз. Это — мещанин до глубины души. И Жириновский — мещанин. Я видел его выходку в аэропорту, где он требовал первоочередного обслуживания. Я стою в очереди, хожу нормальным путем. Я никогда не ору, не требую никаких привилегий. К сожалению, вокруг очень много людей, болеющих эдакой звездной болезнью. Много западных стран живут на новых русских, которые живут только в тысячных номерах, ездят только на шестисотых «Мерседесах»… Это мещане.
— А если попрошайка гениальный, которому удалось, несмотря на все заслоны, к Вам проникнуть? Вы ведь живете в бункере, как Гитлер в конце войны… Вы дадите ему десять долларов, которые зачем-то всегда имеете? Были такие случаи?
— Только что у меня были представители Российского флота, которые просили триста пятьдесят тысяч долларов на благотворительную акцию. Они хотели проехать со спектаклем театра Ленинского комсомола «Юнона и Авось» по маршруту Николая Резанова. При наших подсчетах оказалось, что им необходимо больше — девятьсот тысяч долларов. Необходимо снять корабль «Иван Франко». И я нашел им эти деньги.
— Вы извлекли их из какого-то дела?
— Нет, я нашел им путь, как получить деньги.
— Вам это принесет доход?
— Нет.
— Бизнесменам это не понравится?
— Вот это мне совершенно неважно.
— Но Вы изменили своему правилу — деньги должны приносить деньги?
— Я Вам с самого начала сказал, что я массу времени трачу на подобные разговоры. Мы разбили проект на лоты, написали привлекательную программу, и я уверен, что уже сегодня они эти деньги наберут, этой программой обработают банкиров… Это привлекательная программа для мещанского сознания наших банкиров. Они будут думать, что дали деньги в самый выгодный проект.
— И все же, кто-нибудь у Вас выпросил десять долларов?
— Ну, конечно. Я даю всем, кто работает — кто моет окна, продает газету. Попрошайкам — нет.
— Давайте я буду первый и уеду на такси.
— Это не очередная провокация?
— Вы дайте и узнаете. Лев Толстой провожал жену на вокзале в Туле. А одет был неважно, и какая-то старушка бросила ему пятак. Он перекрестился, взял деньги и долго хранил пятак. Я больше похож на попрошайку, которого еще не было у Вас, или на Льва Толстого, если буду беречь вашу милостыню?
— Если Вы завтра спросите, сколько у меня денег, я Вам отвечу — ноль. И еще неделю у меня будут пустые карманы. Через неделю опять будет десять долларов. Вы возьмете эти деньги, оставив меня без копейки, оттого, что вначале Вам хотелось поехать на такси?
— Тогда я не буду брать, если Вас оставлю без денег… Ваша жена сколько времени проводит перед зеркалом?
— Мне кажется, немного. Я никогда не обращал внимания. Она не работает, но занимается творчеством. Она фотохудожник.
— Почему женщин во все времена так магнетически влечет к себе зеркало?
— Женщины принципиально отличаются от мужчин, они совершенно другие существа. Другие принципы, характеры.
— Ваша жена попала в Ваш тип женщины?
— Да.
— Искра какая-нибудь трещала между Вами и какой-нибудь девицей?
— Я влюблялся самым серьезным образом с младшей группы детского сада. Всех, в кого влюблялся, помню. Моя детсадовская любовь, Таня, мне снилась в сказочных снах, где она была принцессой, а я ее спасал…
— Я думаю, интервью с Вами напечатают сорок две газеты… Именно с Вами. Не с Рейном, учителем Бродского, не с артистом Виторганом. И все потому, что Вы богатый человек. Вам неприятно, что редакторам Вы интересны именно из-за Вашего богатства, а не из-за того, что Вы умны, талантливы, красивы? Не стыдно за них?
— Капитал, который у меня есть, создан руками и головой. Вам было бы обидно, что Вы написали три книги, а не две? Самый богатый человек мира, султан Брунея, владеет 37 миллиардами. Как султан, он не должен заниматься предпринимательством. Нефть качается, а он богатеет. Его спросили: «Вам приятно, что Вы самый богатый человек мира?» А он ответил: «Да что вы, я знаю богаче себя по крайней мере десять-двенадцать человек, с которыми общаюсь». Я видел и других богачей — президент компании Mcrosoft, доход которой — семь-восемь миллиардов в год, или человек, коллекционирующий виллы в каждом штате США. Он не успевает их посетить, но собирает. Хотя я не ставлю его на одну доску с собой, но мы оба богаты своей деятельностью. Я знаю богатейших пенсионеров, они занимаются поездками, встречами, туризмом, но не благотворительностью. Жены — да. Бизнесмен-благотворитель — таких не видал. Прикрываются благотворительностью — да. Один мой знакомый только что родившемуся в Московском зоопарке слоненку положил в год пятьдесят тысяч долларов пожизненно. Это благотворительность? С учетом того, что вокруг нищие актеры, поэты, ученые…
— Как Вы думаете, дьявол как и Бог тоже «заботится» о человеке?
— К сожалению, я думаю, что половина человечества не относится ни к дьяволу, ни к Богу. Держатся в середине. Ни от Бога, ни от дьявола — от посредственности. Все, что интересно, талантливо — либо от Бога, либо от дьявола.
— Можно сказать, что это поэтическая метафора… А Ваша позаботившаяся о Вас бабушка — она не метафора?
— Знаете, когда она умерла, у соседки через две стены сама собой вспыхнула большая коробка спичек. В тот самый момент. Соседка поняла, что что-то случилось, и бросилась к ней.
— Вы допускаете, что про спички хотя бы — это выдумка — Ваша или Вашей соседки? Выдумка, в которую Вы поверили?
— Это не выдумка. Это из той сферы, которая не познана. Сфера эта позволяет верить в мистическое половине человечества.
— Вы верите в летающие тарелки? В инопланетян?
— Есть люди, более или менее чувствительные к этой мистификации. Некоторые действительно не только верят, но и чувствуют нечто аномальное.
— А сами Вы, пока не увидите, не поверите?
— А я видел.
— Расскажите, пожалуйста, что Вы видели.
— Это было просто аномальное явление. Когда мне было шесть лет, меня мама выгнала ночью из дома. Я вышел на улицу и увидел огромный огненный шар, который спустился с неба и заслонил небосклон. Он был раз в двадцать больше луны. Я заплакал. Не знаю, как не стал заикаться после этого…
— Скажите, Вы мистификатор «по жизни», как говорит шпана?
— Да нет, какой же я мистификатор? Скорее, манипулятор.
— Есть ли какая-нибудь идея, вокруг которой все факты, все события Вашей жизни «манипулируются»?
— Идеи одной, наверное, нет. Знаю, увлечение есть — рыбная ловля.
— Хорошая замена идее. Должно быть, Его Величество Случай «как хочет» (еще одно словечко) обращается с Вами?
— Конечно, случаи управляют, но я стараюсь их предупреждать. Ведь случайности — это пересечение закономерностей. Учитывая закономерность, в которой я нахожусь, я стараюсь предсказать случайности.
— Некий психолог Хигер так Вас охарактеризовал: Вы любите семью. Будто бы для Вас это стержень, главное. Еще, что любите больших животных, больших собак. Он угадал?
— Нет.
— Он наговорил семь верст до небес, но последнее. Он сказал, что Вы еще любите, жалеете пьяниц. Он в этом тоже ошибся?
— Абсолютно.
— Все с ним ясно. Но Вы все же жалеете пьяниц? Давали бы им по десять долларов?
— Мне довелось как-то долго беседовать с бездомным в Лондоне. Было время, и я как-то присел на Пикадилли-серкус. Мне после этой беседы никого не жалко. Он мне сказал: «Ну что ты! Меня такая жизнь абсолютно устраивает. Я за день зарабатываю столько на подаяниях, что мне хватает на еду. Мне дом не нужен. Я сложу свой рюкзак, спальный мешок и завтра окажусь в Париже»…
— Простите, перебью. Вы здесь не ловите себя на зависти — он свободен, а у Вас — тяжелый крест?
— У людей, попавших в тяжелую ситуацию, должно появляться желание изменить ее. Если эти люди не способны ее изменить, то они вызывают жалость. Но многие любят находиться в таком состоянии. Они совершенно не нуждаются в жалости…
— Я опять перебью. Мне Вас хочется пожалеть. Мне кажется, Вы тянете хоть с любовью такой воз, что можете надорваться… Вам никогда не хотелось изменить ситуацию, стать самым обычным человеком?
— Я пытался изменить ситуацию, но не смог этого сделать. Я пытался ничего не делать два месяца. Я поселился в Испании, ничего не делал. Но больше этого срока не смог. Жизнь, которую я веду, — естественна для меня.
— Майя Плисецкая вынесла на обложку книги слова: «Из своей жизни я вынесла нехитрую философию. Люди делятся не на расы и классы, а на хороших и плохих. И во все время хороших было меньше». Вы согласны с ней?
— Нет, не согласен. Вот почему: нет плохих и хороших людей. Безумно сложно определить, хороший или плохой тот или иной человек.
— Выведите, пожалуйста, свою философию.
— Я могу сказать Вам что-нибудь эдакое цветистое — для интервью. Но, если напрямик, я из жизни не вынес никакой философии. Когда выйду на пенсию, сяду у аквариума и напишу свою первую книгу. Думаю, она наполовину будет состоять из философии.
— Возьмите меня в помощники?
— Это будет 2001 год. Ищите, где у меня будет океанариум. Если нормально все будет, то это будет Россия. Если плохо будет здесь, то ищите меня в Хайфе или Иерусалиме. Найдите меня и поговорим.
— Блок: «Чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар…» Что Вы вынесли из пожара жизни?
— Свою позицию. Я никогда не давал ей сгореть.
— Формула этой позиции?
— Независимое суждение. Есть то, что я люблю и то, что не люблю. И я не смешиваю то и другое. Есть принципы, по которым я строю жизнь.
— Вам не близко выражение: «Соль жизни в противоречиях»?
— Конечно, движущая сила — в противоречиях. Борьба и единство противоположностей, по диалектике. Но дело в том, что жить и осмысливать жизнь — разные поведенческие формы. Я больше живу, чем осмысливаю. Надеюсь, что когда-нибудь буду осмысливать. Сейчас больше полагаюсь на интуицию.
— Но воображение еще не стерлось окончательно?
— Все меньше и меньше удается работать творчески…
— Давайте проверим. Вообразите, что по метеусловиям планеты звезды можно увидеть раз в сто лет. И вот выпадает такая возможность. Но завтра рано утром у Вас важная встреча. Сколько времени Вы стали бы смотреть на звезды?
— Конечно, смотрел бы столько, сколько бы это доставляло мне наслаждение. Вряд ли всю ночь.
— А с каким событием по важности Вы сравнили бы это зрелище? Может, первая брачная ночь.
— По крайней мере, нестирающееся из памяти.
— Вы подходили к черте, переступив через которую, человек говорит себе: лучше бы и умер? Жизнь Вас выталкивала из себя?
— Нет.
— Что же, всегда у Вас в банке был огромный счет?
— Причем здесь счет?
— А чем Вы застрахованы?
— Мечтой. Когда нет события, которое приносит удовлетворение, человек мечтает о нем. Человек верит, что это когда-то случится.
— Кто-то умный сказал: «Человек начинается с горя». А для вас? Когда Вы можете сказать: «Это человек».
— С порядочности.
— За какой срок Вы съедаете пуд соли, чтобы разобраться, порядочный ли человек, умен ли, глуп ли?
— Как правило, в этом я не разбираюсь. Каждого я встречаю с позиции, что этот человек порядочный. А потом нередко убеждаюсь в противном.
— Вы верите, что я ничего не изменю в интервью?
— Не думаю об этом. Меняйте, если хотите.
— Вы позволяете мне изменять текст? Сделать Вас умнее, привлекательнее или глупее? Как мне захочется?
— У меня есть опыт общения с журналистами. Они уже проделывали все это. Что толку Вам запрещать? Вы все равно сделаете, что захотите, если Вы непорядочный человек…
— Вы не нуждаетесь в том, чтобы несколько минут в день жить машинальной жизнью, ни о чем не думая?
— Я умею включать правое полушарие и отключать левое. Это нужно уметь всем мужчинам после тридцати лет сознательно.
— Вы ежедневно это делаете?
— Когда не нахожу какого-то решения. Иногда несколько часов так бывает. На рыбалке всегда.
— Из тысяч мелькающих в Вашей голове ощущений, когда Вы не работаете, многие непонятны вам?
— Большинство ощущений не осознаются как нечто, что нужно понять. Я и не пытаюсь себе их объяснить.
— Бывают ли у Вас приливы беспричинного счастья?
— Да, довольно часто.
— Вы оказались свидетелем чужого счастья. Растворитесь целиком в этой счастье или нет?
— Бог меня миловал и завидовать и радоваться чужому счастью.
— Изуверы, пришедшие к власти, издают идиотские законы. Идеологи доказывают, что это для нашего же блага. Ельцин или Зюганов подписывают закон: нельзя разговаривать с близкими. Назначаются высокие штрафы за нарушение этого закона и подобных ему, и через несколько месяцев наша страна выйдет на высший в мире уровень благосостояния. Но при этом визы недовольным высылаются на дом. Уедете или останетесь?
— Уеду. Приспосабливаться не собираюсь.
Александр Струнин НИ НА КАКОГО ЗЕМНОГО ЧЕЛОВЕКА УПОВАТЬ НЕЛЬЗЯ
За какое время Вы съедаете с человеком пуд соли? За месяцы, годы или через несколько минут Вы составите обо мне впечатление?
— Меня интересуют не цифры, а слова. Все зависит от ситуации.
— Скажите, на сколько ступенек по лестнице надо взобраться, чтобы считать человека другом?
— Снова Вы меня толкаете к цифрам. Я могу рассуждать лишь о цифрах, какие упоминаются в Священном Писании. Ну, хорошо — на шесть ступенек. Это апокалиптическое число упоминается Иоанном в Апокалипсисе. Также Соломон получал каждый год 666 талантов для строительства храма. Это число, от которого люди озверевают. Но бывают разные ситуации. Бывает, когда попав в экстремальную ситуацию, Вы чувствуете — рядом друг.
— За последние десять лет кто-нибудь стал Вашим другом?
— За последние десять лет, пожалуй, нет.
— И все же Вы допускаете, что мы поднимемся хотя бы на первую ступеньку? Или даже не найдем лестницы?
— Говоря о дружбе, подразумевают разное. Есть такие понятия, как симпатия, расположение, приятельство. Я считаю, что друг — одно из важнейших понятий среди драгоценностей жизни. Это человек, на которого можно всецело положиться. Ваше «второе я». Дружбу, как и любовь, ниспосылают свыше.
— Вы еще верите в чудо, что встретите друга?
— Да, верю. Я встречаю людей с открытой душой, и надеюсь, что вот, наконец-то, Бог пошлет мне друга или ученика.
— Друг — больше, чем жена?
— Есть три добродетели: вера, надежда, любовь. Но любовь выше всех других добродетелей. Помните, что в Писании сказано: «Из них Любовь в наиглавнейшая». Жена — главный мой друг.
— А Вы не беситесь от жиру, говоря, что мечтаете о друге?
— Вовсе нет. Недавно у меня появился знакомый, который приходил ко мне и беседовал, многое в наших вкусах совпадало. И вдруг он исчез. И отнял у меня надежду… Человек многогранен…
— Есть люди, у которых есть джип, особняк. Большинство из них купят еще один особняк, еще один джип. И есть среди них единицы, которые предпочитают лишние деньги отдать нищим. Видите разницу между ними?
— Я плохо отношусь ко всем без исключения глупцам. Не люблю их и не собираюсь между ними производить градацию. Они сами посадили себя в тюрьму. Сами ставят себе железные двери, прорезают в них глазки, нанимают вертухаев, ставят себе на окна решетки. Но при плохом к ним отношении, я их жалею. Вот стихотворение. Оно короткое, не бойтесь. «Богатому». // «Купец-богач, скажу любя // Хоть ты весь мир скупил, // Поверь, я не сужу тебя, // Хочу, чтоб Бог простил // К блестящему тянулся ты, // Как малое дитя, // И душу в море суеты // Ты опустил, шутя».
— В молодости я злился, когда в картинной галерее видел людей, стремящихся прежде прочитать табличку, а не рассмотреть картину. Мне они казались дураками. Вы видели таких людей?
— Вероятно, таких большинство. Но точнее назвать их любителями ярлыков.
— Но в зрелом возрасте я стал ловить себя на том, что, когда слушаю прекрасную музыку, мучаюсь оттого, что не знаю композитора. Я как бы оказался похож на тех людей, в галерее. Вы, слушая любимую музыку, переживаете, если не знаете композитора?
— Если музыка любимая, то композитора я знаю. А если не знаю, постараюсь узнать, но переживать не буду.
— А в картинной галерее Вы вначале прочтете имя художника, а потом будете разглядывать картину?
— Дело в том, что надпись на картине мельче, чем сама картина, поэтому сначала я смотрю на картину. И к картине подойду, если пойму, что она мне нравится. У меня есть знакомый художник. Я однажды спросил, почему он назвал одну их картин «Вечные ценности»? А он ответил, что вообще-то это картина называется «Белый охотник». Но потерялась этикетка и нашлась другая, похожая по шрифту с такой надписью. Так что надпись иногда ничего не значит.
— Расскажите, как Вы берете Ваших свинок и с каким настроением идете на Пушкинскую площадь…
— У меня написана об этом статья, я Вам ее дам.
— Спасибо. И все же — такой независимый человек, как Вы, должен каждый день ублажать людей. Большинство читателей будут думать, что Вы несчастный человек, оттого, что у Вас такая вторая профессия.
— Если они придут ко мне на Пушкинскую, я их разубежу. Таких ко мне подходило множество и почти всех мне удавалось переубедить. Жалели и меня, иногда и свинку. И тогда я говорил, что это животное получает зарплату в зеленых, в отличие от вас. Зеленые — это травинки, которыми перевязаны мои стихи.
— А встречались ли Вы с хамством?
— Да, но мне легко удавалось хамов ставить на место. Например, кто-то матерился и я объяснял, что на Земле бывают разные источники. Бывают чистые источники, из них хочется пить, из грязных не захочет пить никто. Ко мне люди подходят, потому что я источник слов чистых. А хамов я так останавливаю. У тебя, говорю, представь, два тюбика — с зубной пастой и с гуталином. Если нажать на пасту, какой цвет ты увидишь? Белый. А тюбик с гуталином? Черный. Что у тебя внутри, то наружу и лезет. Вот так. «Кто злое слово припас для поэта, ждите ответа… Ждите ответа… Ждите ответа…»
— Всегда ли это срабатывало, Саша? Ни разу никто с кулаками не лез?
— Нет, такого не было. С властями сложные взаимоотношения были. Но никому из милиции я не плачу. А когда сталкивался с рекетом, то говорил примерно так: «Прежде чем гадать стать, мне дает урок рок, деньги мои красть — страсть, пастуха не тронь, волк. Колесо Фортуны верть, вправо — браво, влево — смерть. Кто у гадателя украл, отправится в вал. Готов ли ты взять деньги гадателя?»
— И они уходили?
— Уходили. Они суеверные. Это было пару раз. Подходили и говорили: «Мужик, надо делиться». Тем более, не знают, сколько с меня взять. И не объявляют цены. В конечном итоге, я думаю, настоящих бандитов интересуют торговцы.
— Саша, мы с Вами не похожи на персонажей рассказа Чехова — следователя и извозчика, которые друг друга боятся?
— У меня страха нет, а что надо бояться?..
— Ну, страха, что дружба не получится…
— Это судьба. Конечно, мне хотелось бы иметь еще одного друга в Израиле. Я к этой стране отношусь непросто.
— Кто, по-вашему мучается больше — кто уехал или кто не смог уехать?
— Я больше жалею тех, кто уехал и не может вернуться. Не случайна поговорка — «Где человек родился, там он и пригодился». Этот человек вырвал корни. Помните, чем наказал Бог Каина — неприкаянностью, а не смертью. Нас всех привязывают невидимые нити к одному месту. И когда человек рвет эти нити, уезжает в чужую страну, он чувствует холод, окружен невниманием. Раньше он грелся от всего — от дерева, растущего у ворот, кирпича, который был связан с его детством. Его питали соки этой земли. Земли, где он родился и вырос. Родины. И какую бы догму мы не выдвигали, но Родина для человека — одна.
— Уезжающий думает, что у него там будут друзья…
— Если друзей нет здесь, не будет и там. Это внутри человека, а не снаружи.
— Подберите три синонима для слов «жизнь» и «смерть».
— Для слова «жизнь» — «явление на свет», «воплощение души», «движение к совершенству». Для слова «смерть» — «разделение на душу и тело», «освобождение от тела», «приобщение к вечности», «предвкушение Суда».
— Я думал, Вы фальшивите, когда берете Библию, как костыли. Сейчас вижу, что это не так. Кто из поэтов XX столетия Вам наиболее близок, кем Вы восхищаетесь, кто Вас вдохновляет?
— Пушкина я воспринимаю вне времени, по векам не раскладываю. Есенин, Маяковский, Хлебников, Блок.
— Вот Блок говорит Вам из могилы: «Торопиться не надо. Уютно. // Здесь, пожалуй, надумаем мы. // Что под жизнью беспутной и путной разумели людские умы»… Восторг чувствуете?
— Мне на эту тему нравится больше другое стихотворение. «Пускай умру, печаля мало. // Одно страшит мой ум больной: // Боюсь, чтоб Смерть не разыграла Обидной шутки надо мной. // Боюсь, чтоб над холодным трупом // Не пролилось горячих слез, / / Чтоб кто-нибудь в усердьи глупом // На гроб цветов мне не принес // Чтоб молчаливою толпою за ним не шли мои друзья, // Чтоб за могильною доскою // Не стал любви предметом я. // Чтоб все, о чем мечтал так жадно,// И так напрасно я живой, // Не улыбнулось б мне злорадно // За гробовой моей доской».
— Чьи же эти скверные стихи?
— Добролюбов.
— Строки Ходасевича: «Мне каждый звук терзает слух. // И каждый луч глазам несносен…» Это тоже не про Вас, не для Вас?
— Да, это не про меня. Каждый луч мне приносит радость…
— Есть у Вас стихотворения, которые выражают Вас лучше других?
— Я пишу стихи, чтобы выразить себя. Все мои стихи — это и есть я. В какой-то степени.
— Представьте, что Вы уже признанный, великий поэт…
— Я не стремлюсь быть знаменитым. Я говорил уже, «чтоб вызрел из певца пророк, для этого ведь нужен срок». Это не самая высокая стадия развития относительно слова.
— Представьте, «Литературная газета» рассылает анкету. Если Вы пришлете три фотографии, наиболее Вас верно выражающие, Вас премируют кругосветной поездкой. Как Вы сфотографируетесь?
— У меня есть уже любимые фотографии. На одной — я в мрачной избе, выгляжу строгим, за спиной — деревенский иконостас. На второй я сфотографирован рядом с лошадью, но очень необычно. Я похож на Стрельца — лошадь отвернула голову, и голова у лошади моя. Третья снята фотокорреспондентом «Московского комсомольца». На фото вокруг меня вся моя семья, морские свинки и крысы.
— Скажите, Саша, кто-нибудь из знаменитостей к Вам подходил погадать?
— Я же не спрашиваю фамилий, а только имена. Несколько раз у меня гадала Наталья Трауберг, известная переводчица с английского. Потом оказалось, что я знаком с ее сыном и даже был свидетелем на его свадьбе.
— Как правило, все люди охотно показывают дорогу, когда спрашиваешь. Немногие подают нищим и все бывают оскорблены, если милиционер требует предъявить документы. Приведите, пожалуйста, свои три примера того, что Вы делаете охотно, как вступаете в контакт, и отчего бываете оскорблены.
— Очень много ситуаций, когда я охотно вступаю в контакт. Например, с человеком, близким мне по духу. Я выхожу из храма, и он выходит из храма. У меня есть любимый священник, и я радуюсь, когда я его вижу. А если он ко мне обращается — сам я не смею — то я очень рад.
— Вы со мной беседуете — это похоже на случай, когда Вы выходите из храма?
— Нет, конечно.
— На что похож наш разговор с Вами? Какая это работа? Любимая? — Нет, я не люблю выставляться.
— Не знаете, от Бога я или от дьявола?
— В Бога я верю, но не в дьявола. Когда я смотрю на небо и вижу солнце, то воспринимаю его как источник света и жизни. Но сколько бы я на небо не смотрел, я не увижу там источника мрака. Вот почему я верю в Бога и не верю в дьявола. Дьявол — это человек, который сам себя низвел до животного состояния. А мог бы стать подобным Богу, потому что создан по образу и подобию Божию. Мог бы стать источником света, а стал подобием источника мрака. Низвел себя до зверского состояния.
— Какое знакомство, контакт Вас оскорбляет?
— Я действительно очень переживаю, когда меня называют «жидовская рожа», Некоторые шизофреники, проходя мимо, так говорят.
— Если бы Вы были евреем, это Вас больше оскорбляло бы?
— Думаю, что так же. Я ужасно не люблю все эти деления, а особенно национально-религиозные.
— Почему, не понимая результата нашей беседы, Вы готовы говорить со мной как угодно долго? Почему Вы стремитесь к этому?
— Я не стремлюсь. Вы просите, и я иду навстречу. Был такой пророк Исайя, очень жесткий человек. Он говорил: «Проклят тот, кто уповает на человека». Уповать следует только на Бога, но не на человека. Ни на какого земного человека уповать нельзя.
Роман Виктюк Я НЕ ПОЙДУ НА СВАДЬБУ ДАЖЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
Чтобы Роман Григорьевич убедился, что наша беседа не окажется пустой тратой времени, я вынужден просить режиссера перенестись в одну из интимных областей его быта или внутреннего мира, в гигантскую, уже разбросанную им по планете, костюмерную Его Величества зрителя, в крохотном уголке которой я сподобился часом раньше побывать, и где на моих изумленных глазах шили и, я убежден, продолжают шить, взявши работу домой, в транспорт, в постель… Где с отвращением или с восторгом шьют ему в подарок фантастические костюмы от андерсеновского королевского платья или рубища пророка, до кружевных лохмотьев юродивого или нищего. От тесноты ли фойе, из-за вихря ли окружившей меня очереди (все же более короткой, чем буфетная), я успел записать всего с десяток «впечатлений о Виктюке», хотя все опрошенные выполнили мое условие: «не более трех слов». И были эти впечатления строго противоречивы, но с первым звонком очередь страждущих так же мгновенно растаяла, как и возникла. Я спросил Виктюка, не хочет ли он прочесть эти несколько строк? — «Нет, нет, — отвечал он нетерпеливо, с изысканной вежливостью. — Если можно, потом». Я понял, что надо начать с другой интонации.
— Жаль, я так старался. Надеялся ввести Вас в заблуждение, убедить, что следующий мой главный и самый ничтожный вопрос вовсе не мой, а зрителя. Уж очень неловко его задавать. Но видно не судьба, да и на мякине Вас не проведешь… Много и многими уважаемый или презираемый Роман Григорьевич, кто Вы, пророк или юродивый?
— Но разве можно об этом говорить? И, простите, даже спрашивать? Всем хотелось бы быть пророками, никто сознательно не хочет быть юродивым. Я думаю, гордыня одно из самых страшных прегрешений человека. Кажется, что во благо, а все наоборот. Если человек впадает в структуру гордыни, начинается болезнь, подобная заражению раковой клеткой всего организма.
— Не следует ли из Вашего ответа, что Вы хорошо сбалансированный человек?
— Между тобой и миром, душой и телом не может быть равновесия изначально. Если нет этого разрыва внутри, творческий человек не состоится. Он на этом разрыве держится. Если точнее, то я — неожиданно для себя переворачивающийся айсберг. Без этого в творчестве не может быть гармонии. А вообще-то, все зависит от того, каким рождается человек. Если с поющим сердцем, то и звучит мелодия света. Если с воющим… (протяжно огорченно разводит руками). Но когда мелодия в тебе угасает, ты сразу становишься стариком.
— Вы подвержены какому-нибудь предрассудку? И заодно расскажите о предрассудке, Вами непереносимом в других.
— Мой предрассудок — белая зависть. К Висконти, Прусту, Мамардашвили, Малеру, Бежару, Наталье Макаровой, ко всему кругу людей, являющихся моими духовными родственниками.
Непереносима же мной черная зависть. Даже неизреченная. Она разрушает завидующего человека. Любая мысль для меня действенна. И, увы, все выживание строится на защите от стрел злых мыслей. Как ни странно, людям с космическим возрастом выживать труднее. Для меня важен космический возраст и земной. И если тебе 19 в вечности, то ты всегда в начале пути. Тогда для тебя все в поиске. А поскольку истину найти нельзя, а можно только стремиться к ней — то стремятся люди с поющим сердцем. Теперь очень много рождается со старческим сердцем, прагматиков. Это — трагедия сегодняшних дней.
— Давайте следующий вопрос украдем из записной книжки Довлатова. «Мещанин — это человек, думающий, что все у него должно быть хорошо». Только спрячем эту кражу в журналистский фантик, за которым леденец «горячих точек страны», «планеты». Простите меня и прикоснитесь к больным точкам Вашей души.
— Есть только одна больная точка. Если верить, что мы были изгнаны из рая в результате конфликта с природой, то 40 тысяч лет тому, как мы здесь в изгнании. Но если тоска по раю исчезает, исчезает и свет в душе. Этот свет оттуда, откуда мы приходим и куда идем. И кстати, коллектив артистов должен быть заражен этим светом — потеря этой тоски — катастрофична. Но мы ее теряем. Жизнь, суета заедают. Массовая культура нашего плебейского мира, и лишь единицы людей выстаивают в борьбе, объединенные этой тоской.
— Как Вы думаете, присуще ли Вашему лицу какое-нибудь самое популярное выражение, знакомое большинству людей, с которыми Вы общаетесь? А после расскажите о самом распространенном призыве, читаемом Вами на лицах тех, с кем Вас сводит судьба.
— Увы, в большинстве случаев, когда люди глядят на тебя, это глядит Нарцисс и видит свое отражение. И Нарцисс чахнет у себя на глазах. Но небо просвечивает сквозь тебя, когда тебя не покидает вера. В эти мгновения ты как икона, в тебе тогда нет отчаяния, одно желание постижения тайны мира. Остальные видят, как меняется их оболочка, и людей не волнует воздух, а волнует вопрос сморщенности оболочки. Тогда телом занимаются и бегут к косметологу, натягивают кожу, а света глаз не замечают.
— А почему особенно женщин столь магнетически влечет к себе зеркало, неприспособленное передавать света глаз?
— Я бы не посмел так огульно утверждать. Я чаще знал женщин, влекущихся к Зазеркалью. Думаю, даже — это резко необъективно. Ну, не могу себе представить перед зеркалом Раневскую, Бирман, Гарбо, Уланову, Плисецкую.
— Ну, и я просто не мог не вспомнить о том, что великим людям, при виде которых толкают друг друга в бок, я навсегда предпочитал маленьких гениев, умирающих в безвестности в раннем возрасте. Вот, например, я курю у лифта с одним милиционером, много лет работающим с проститутками. И когда однажды я спросил у него, что он думает о женщинах, с какой-то молодецкой и печальной удалью он ответил: «Всех баб я делю на проституток и тех, кто удержался от этого занятия, но они еще хуже оттого, что вые… (выпендриваются)». Пожалуйста, уступите мне, хотите иронически или как мясник, но тоже разрубите всю прекрасную половину человечества.
— А зачем рубить? Это искусственное разделение, не имеющее отношения к женской сердцевине. Общество виновато, что они должны торговать не душой, но оболочкой. Вот женщина, разделяющая ложе, может себе позволить не торговать ни тем, ни другим. Нет, это великая профессия. Недаром Христос простил блудницу. Это не продажа, когда женщина при этом сохраняет сердцевину, это ее единственное спасение, чтобы выжить. Правда, выживают или нет — зависит от индивидуальности. Никто же не осуждает даму с камелиями…
— Не хотите ли Вы «обратить свой взгляд глазами внутрь» и рассказать о Ваших женщинах. Как Вам знакомы, только понаслышке или биографически популярные словечки: «мой тип женщины» или злополучная «искра», пробегающая между мужчиной и женщиной, которую они «после» славословят, даже если возненавидели друг друга?
— Во-первых, половой акт — это первый признак узнавания друг друга. Это луч, фокус, где концентрируются все свойства характера. И если человек обычно умеет как в коконе, защитить себя от мира, то единственно в сексе он приоткрывает свою тайну. А что до «моего типа», то это значит, что я вижу свет, а дальше — преломление света, и движет этим экзерсисом движение рук, танец мук, танец ласк, а не похоть. Если же искра была, тогда и вся увертюра будет правильной. Секс — подтверждает! или опровергает идею предназначения. Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда — все эти истории не кончаются семьей оттого, что общество враг любви. Закон, противится свободе и любви.
— Поскольку мы успели коснуться двух проблем — пола и общения, я спрошу у Вас вот о чем. Постигающие нас житейские разочарования или душевная мука, сопутствующая решению этих двух важнейших вопросов человеческого существования, все эти бесчисленные разочарования по будто бы разным поводам — не одной ли они природы? И если одной, какой Ваш страх сильней — потерять любимую или друга?
— Самое высокое из разочарований, когда дружба не получилась. Тело насыщается, а дух — нет. Общаясь с духом, мы общаемся с тайной, а не с оболочкой. С другом мы едины в двойной молитве к Богу. Молитва — это просветление души, благодарность, что день прожит во благо. Ни в коем случае не жаловаться, не просить. Ничего потребительского.
— Я вспомнил один из Ваших афоризмов, которыми в автоответчике Вы приветствуете своих потенциальных собеседников: «Бездарно прожит тот день, который мы провели не рассмеявшись». Не видите ли Вы в этом утверждении преувеличения или противоречия, в связи с только что произнесенными Вами словами?
— (Улыбнувшись). К сожалению, ни противоречия, ни преувеличения не вижу.
— Как Вы полагаете, Бог о Вас думает?
— Это зависит от меня, как я о нем думаю (решительно).
— А в какие-нибудь чудеса верите? Например, оставите своего тяжелобольного ребенка домработнице, чтобы в церкви просить о ребенке перед мироточащей иконой?
— В чудеса верю, но категорически не на житейском или театральном уровне. Театр в жизни мне не нравится. Когда священник отправляется в засуху на молебен и берет с собой зонтик — это не вера, а игра. Но театр не цель, а средство постижения: тоски об утраченном рае. Чудо же то, что мы живем. Это жизнь — добро. И к мироточащей иконе не пойду. Я верю или нет. А показать себя перед иконой или иконе — это для «новых» марксистов, которые гадают, где выгоднее. А зачем гадать, когда все известно. Вы принимаете мир Божий или не принимаете. От гадания молитва не возникнет, а начнется только раздвоение.
— Может мне показалось, и Вы не давали мне повода, а все же позвольте к Вам обратиться как к специалисту по «выдающимся марксистам» и прочим феноменальным преступникам. Не полагаете ли Вы, что все они рождены не дьявольским планом, как думал Даниил Андреев, но Божьим промыслом? Не присутствует ли и в них элемент чуда, присущий творчеству Моцарта, Пушкина и подобных им?
— Всем людям дано ощущение чуда. И дифференцировать по профессиям или наклонностям означало бы обеднять человека. Мысли Паскаля столь же высоки, как мысли проститутки. Перед Богом, а мы к нему придем на главную исповедь, все равны. И неизвестно, кто из нас будет ему интереснее. Поэтому и у Данте мысли самоубийц заключены в кору дерева.
— Не видно, чтобы Вы понимали, какое чудо Ваш ответ. Долгие годы я только бился понять, а Вы своим ответом взяли да и сформулировали мимоходом главную или единственную идею моей жизни. Но «сапожник без сапог», и вряд ли Вы вспомните какую-нибудь другую идею, вокруг которой так же, как происходит у вас грешников, собираются все события Вашей внешней и внутренней жизни?
— Да, такой идеи нет. Но я мог бы окружить не идею, но ангела-хранителя. Ведь все известно от рождения. И мы проходим уже обозначенные точки. Такая своеобразная топография недаром гравируется и на плите. Две даты, а между ними путь души, но не тела.
— Помните, как часто Вы переносили нашу встречу (часто и бережно — всегда на завтра). И однажды я взмолился и спросил: «Завтра уже точно?!» Вы невозмутимо ответили: «Если не будет войны.» Теперь к нам в гримерную без конца и бесстрашно кто-то заходит, что-то у Вас спрашивает и вообразите, что обстоятельства не дали бы нам закончить беседу. Тогда я остался бы при убеждении, что Вашей жизнью управляет Его Величество Случай, провоцирующий головную боль полководцу, и оба они проигрывают Бородинскую битву. И хотя мне соблазнительнее думать о Вас просто как о непредсказуемом человеке, все же спрошу, какую роль в своей жизни Вы отводите случайностям?
— Случай может помешать или подтвердить предназначение. Моя мама приходила беременная на «Травиату», и после мне рассказывали, как я пытался вырваться. Уже тогда — свернуть с дороги. Путь в это разбросанные точки. Это полет во сне и наяву. Это совершенно неверно — пытаться одним словом определить свою «жизнь». Настолько неверно, что — жизнь — заберите в кавычки. Зигзаг полета с самолета, или прыжки обезьяны. Но самое интересное, когда полет в одном месте. Вместо того, чтобы летать на Луну… Летайте позже, а прежде найдите краткий путь до дома, где живет чужая душа.
— Призову на помощь и Блока: «… чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар». Теперь решусь спросить, что Вам удалось самого драгоценного вынести из пожара жизни?
— Это умение умирать. Не зависящая от людей каждодневная подготовка души. Она должна быть прозрачной, свободной от шлаков, пронизывающих нас ежедневно.
— Давайте поговорим о другом пожаре, сжигающем шлаки души. Вообразите звездное небо, превращающееся в такой пожар, если по метеоусловиям планеты люди могут его увидеть один раз в сто лет. Мне кажется для многих из них это будет одним из важнейших событий жизни, как брачная ночь (первая или самая счастливая — третья), выход из тюрьмы, когда есть куда вернуться, и так далее. А Вы окажетесь среди большинства или меньшинства счастливцев, наблюдающих это событие?
— Звезды будут для меня одним из подтверждений ежедневно свершающихся чуда и тайны.
— А помните Вы самые страшные минуты жизни, когда она Вас выталкивала из себя, когда Вы подходили к черте или оказывались за ней, там, где говорят — лучше бы я умер?
— Не помнить в нашем-то государстве, где было запрещено просто жить?! Но я знаю, что это было дано мне во благо. Благодарение Богу, что я выдержал и это испытание.
— Есть такое выражение: «Человек начинает с горя». А с чего начинается человек для Вас?
— С возложения на себя креста поиска истины, поиска себя в истине. А помощью в этом возложении бывает свет в начале и конце этого тоннеля. Источник — только небо.
— А Вы никогда не нуждаетесь в том, чтобы не думая о свете, путешествовать по этому тоннелю машинально? Собирая грибы, валяя дурака, играя в карты, хотя бы десять минут в день?
— Машинально? Упаси бог. Эта панацея для ленивых душ, жизнь на автомате автопилоте. Час такой жизни убивает десяток лет.
— Но из тысяч мелькающих за день в Вашей голове ощущений бывают же какие-то Вам непонятны? Все откладывают разбираться в них… А Вы как поступаете?
— Не только бывают. Все сигналы именно такие. И я не позволяю себе их откладывать — это способ жизни.
— А приступы, приливы безотчетного счастья, знакомые каждому человеку, когда весь с душой, потрохами (не про Вас будет сказано) превращаешься во что-то сияющее?
— Приступ счастья? Никогда. В самом слове счастье есть час. Это точка, через которую нужно проскочить без остановки, чтобы не победила гордыня.
— Мне страшно. Если Вами восхищаться, то не иначе как через презрение себе. Ну хорошо, а чужое счастье?
— Я не пойду на свадьбу даже своих детей. Хотя бы потому, чтобы не просчитывать длительность их пребывания в этом состоянии. Если продлится два года — это замечательно. Любовь долго не гостит на земле.
— Чувствую, что Вам интересно страшное и все же хочу Вас подготовить примером катастрофы, свидетелем которой Вы были тысячу раз. Для Вашего удовольствия я искромсаю ее на три сопутствующие ей эпизода. Вы торопитесь, идете по тротуару на репетицию. Вдруг на шоссе страшный скрежет тормозов, грохот сталкивающихся машин, и Вы ближе остальных прохожих к этому кошмару. Одни побегут помочь вытащить трупы, другие убыстрят шаги, третья окажутся зеваками. Предвкушая, что Вы заговорите о каком-то экзотическом 4 виде поведения, спрашиваю, что же с Вами будет?
— К великому счастью, у меня не было подобных ситуаций. Не знаю (сокрушенно).
— Заупрямились, Роман Григорьевич, воображать страшное. Ну, да бог Вас простит. Ведь это про Вас, помните? «Луна плывет среди небес. Заглянет в облако любое, его так пышно озарит, и вот уж перешла в другое, и то недолго посетит». Тогда я попрошу Вас допустить нечто более страшное и злободневное. Некие еще живые, вновь пришедшие к власти изуверы начинают издавать излюбленные или бесчеловечные законы, естественно сдобренные более изощренным христианским соусом и поэтому более привлекательные не только для рабов или лакеев, но и для подавляющей массы народа. Допустите, а после скажите, Вы не эмигрируете, если это будет проще, чем теперь?
— Трудное положение. Ведь мне придется выбирать. Между домом в Карпатах, где я мог бы работать с детьми. Театральной студией в Италии, куда меня пригласили. И продолжением борьбы, в сущности еще не законченной. Борьбы за выживание (Печально).
Анатолий Алексин Я ПОЧТИ ВСЁ ХВАЛИЛ
— Я досыта налюбовался Вашим добрым лицом в лифте, за ужином и думаю, Вам жестоким кажется такое стихотворение: Каким бы полотном батальным ни являлась // Советская сусальнейшая Русь, // Какой бы жалостью душа не наполнялась, // Не поклонюсь, не примирюсь со всею мерзостью, жестокостью и скукой // Немого рабства. Нет, о нет! Еще я духом жив, увы, еще не сыт разлукой. // Увольте, я еще поэт. Это Владимир Набоков, 1944 год. Правда, заносчивые стихи? Вы ведь тоже знали, что живете в самой жестокой стране, — но Вы прощали?
— Меня вызвал редактор ночью и сказал: «Толя, мы разгромили немцев, а у тебя какая-то немецкая фамилия (фамилия отца — Губерман). Борман, Эйхман». Я поспешил его успокоить — я еврей. Но его это не убедило. Поэма моя была набрана, но с «немецкой» фамилией она бы не пошла. Я вспомнил, что актерский псевдоним моей матери — Алексина. И мое любимое место — Алексин. Вообще, я очень люблю русскую природу, как и Россию вообще. Россия — моя жизнь, я считаю, что это самая духовная страна, высокодуховная страна.
— Получается, что Вы не приемлете этого стихотворения? Вы отторгаете его?
— Есть два вида отношения. Я принимаю это, потому что это талантливо. Но это не то, что я люблю, не то, что составляет суть моей любви к высокой литературе.
— А к Губерману Вы как относитесь? К его «гарикам»?
— Очень одаренный человек, необыкновенно талантливый. Более того, первый признак таланта — непохожесть — а он не похож ни на кого.
— Непристойности, цинизма не ощущаете в его творчестве?
— Вы хотите выявить мою точку зрения, а подсовываете мне, простите, излишне снайперские вопросы. То, что он пишет, очень интересно. Самобытность — банальное слово, но именно оно объясняет чудо его гариков. Это его открытие. Когда-то Паустовский, которого я очень люблю, сказал: простота гораздо сложнее сложности в литературе, и путь в литературе идет не от простоты к сложности, а от сложности к простоте. Кстати, для Паустовского самая великая строчка в мировой поэзии была такая: выхожу один я на дорогу… В этом ничего нет, и в этом есть все. Дорога, мироздание, одиночество, надежда… Волшебная расстановка слов доступна лишь гениям. Вот, например, пушкинская мысль о судьбе человеческой: и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет… И — все. Все понятно, ясно. Но если бы я прочитал что-то такое, что может развратить душу, повредить нравственному миру человека, испортить его вкус, я обязательно высказался бы.
— Вот четыре строки Губермана о молодежи: «Я молодых в остатках сопель боюсь, трясущих жизнь, как грушу. В душе у них темно, как в ж… А в ж… зуд потешить душу». А Ваши герои, какие они? Как освещены?
— Героем моих книг всегда была семья. Примат общечеловеческих истин в литературе, которую я люблю, очевиден. Я старался быть верным этому примату. Семья, мама, дети, отец, бабушка — каждые из них — это разные эпохи, отражают их. Поэтому семья и все, что в ней происходит — для меня главное.
— Многие писатели удивлялись разнице между замыслом и воплощением замысла. Ваши герои были Вам также непослушны?
— Да, они подвластны писателю только на первых страницах. Когда они обретают черты подлинной жизни, когда обретают характеры, они подчиняются своим характерам, той походке, которая свойственна им в жизни. Писатель как бы перестает повелевать своими героями.
— Это, наверное, не главная трудность писательства? А какова главная?
— Главная трудность и, вообще, главное в литературе — это воссоздание человеческого характера. Только через воссоздание характера может быть представлена эпоха. Манекены ничего воссоздать не могут. Высшее достижение гения — это создание характеров нарицательных. И в этом самый загадочный писатель на земле, Гоголь, равных себе не имеет. Потому что Чичиков, Хлестаков, Коробочка, Ноздрев и Плюшкин…
— Мне кажется, самые великие писатели не могли описать человека таким, какой он есть на самом деле. Может быть, это в самом деле невозможно?
— Писатели, которых я называю посланцами Бога на земле, не просто воссоздавали человека внешне. Это был и настоящий рентген. Но в каждом герое, наверное, присутствует сам писатель — почти всегда. Особенно в тех, которых принято называть олицетворяющими сами произведения.
— Вы тоже добавляли себя своим героям? Доброты, света, идеализировали всякий раз? Вас отторгало человеческое безобразие, Вы не хотели с ним считаться?
— Быть может и так. Каждое истинно художественное произведение (я говорю не о своих произведениях) — всегда за что-то и — против чего-то. Десятки проблем, конечно, в каждой книге, но есть нечто главное. Поэма «Полтава» — не о победе над шведами, а о предательстве. Она о том, что людям свойственно верить предателям. А когда предательство оказывается явным, у тех, кто хотел упредить предательство, не оказывается головы на плечах. И здесь от трагедии Кочубея недалеко до трагедии 37-го года.
— Что же Вы прибавляли своим героям?
— Моя жена, она — еще помощник и друг, прочитав мои рассказы, говорит, что в них очень много от характеров, жизни моих друзей, моей семьи. Это всегда вторгается в произведения. И еще вторгается то, что я всего более не приемлю. Правда не может быть банальной, если она правда. Но больше всего я ценю добро. Добро — понятие, имеющее многие и глобальные измерения. Победа в Великой Отечественной войне — победа добра. Больше всего я в людях не приемлю — зависть, которая чаще всего бывает источником всех пороков. В зависти никогда никто не признается. Другой порок — неблагодарность. Мы пустили в обиход подлейшую поговорку: ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
— Вы один из безумцев, о которых сказано: если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой… А кроме этого главного сна о жизни, который Вы видите постоянно, есть ли сны, другие — навязчивые?
— О да, это очень точный вопрос. Есть навязчивые сны. Я многое пережил в своей жизни. Сын врага народа, обыски и допросы, арест дяди, доносы, война, но не это мне снится. Странно, но мне снится, что я должен решить задачу по геометрии с применением тригонометрии. И я знаю, что этого не будет никогда.
— Я надеюсь, что у Вас появился иммунитет против моих каверзных вопросов. Позвольте опять коварство?
— Что с Вами поделаешь. Но я и сам боюсь обидчивых людей. Обидчивость — одно из самых тягостных качеств людей. Я почти никогда не обижаюсь. Когда речь идет о наветах, я вспоминаю 37 год, когда наветы на долгие годы решили участь моей семьи. И тогда я испытываю не отвращение — ужас.
— Вы не похожи на религиозного человека. Простите за обидное, быть может, предположение. Так ли это на самом деле?
— Я верующий человек. Это началось 1 ноября 1941 года. Несколько эшелонов с десятками тысяч рабочих и инженеров были направлены на выполнение задачи, которая казалась невыполнимой. Огромное пространство, бараки, палатки, холод, дождь. Мама тяжело заболела — спасти ее не мог никто. Нет медицинской помощи вовсе. Я опустился на колени, прямо в лужу, в которой стоял и взмолился. Ровно через десять минут нашли врача — один инженер привез с собой жену-врача. У нее оказались медицинские инструменты, и она сделала маме в абсолютно антисанитарных условиях операцию, после которой та прожила много-много лет.
— Женщины самим своим существованием (помните в Талмуде: «сосуд греха») не подрывают Вашей потребности в вере?
— Больше всех людей на свете я любил маму. Одна из последних книг, которая вышла в России, называется «Прости меня, мама». Все, что я сделал, написал — благодаря ей. Отношение к матери — пробный камень всех человеческих достоинств. Евтушенко написал, что лучшие мужчины — это женщины. Я согласен с этим. Хорошая женщина — лучше хорошего мужчины, но плохая женщина — хуже плохого мужчины. Женщинам нередко свойственно проявление крайностей. Если женщина самоотверженна, то это видится мне самоотверженностью беспредельной, но если она способна на зло, то бывает очень изобретательна и в этом. Шаляпин говорил, что все, что он творил, он творил ради женщины. Мне кажется, это свойственно только творцам-мужчинам.
— Пока мы говорили о Вашей доброте. Знакомо ли Вам противоположное чувство?
— Я старался помогать очень многим людям. Не всегда был разборчив. Знаю, что творить добро людям плохим — это творить зло.
— Свойственно ли Вам каяться?
— По своему характеру я самоед. Очень часто вспоминаю случаи, когда был неправ, виноват.
— Среди писателей на 1000 человек сколько насчитывается настоящих?
— Я не могу и не хочу отвечать на такие вопросы. У меня такой характер. Не хочу с Вами ссориться, но у нас такие разные характеры… Не могу давать оценку и своим повестям. Для меня существует только одна оценка — оценка читателя. Я понимаю писателя, который «пишет в стол» в тоталитарное время, но в относительно безопасные времена — это как изобретать лекарство, которое никто не будет принимать, или печь хлеб, который никто не съест. Писатель живет для читателя. Я печатался в «Юности», очень любил «Новый Мир», но своему журналу не изменял. Журнал не позволял себе никаких методов привлечения читателя, кроме литературных. А тираж был 3 миллиона. Я получал тысячи писем читателей, напечатал 20 повестей. Письма помогали мне жить, даже когда было очень трудно.
— У Мандельштама есть строчка, написанная в 1934 году: разрешенных писателей я бил бы по голове… 1934, 1974, 2004 — значения не имеет… Вы протестовали бы, прочтя эту строчку?
— Нет, Мандельштам на все имеет право. Но он не задавал этот вопрос другим, а беседовал с собой. Ничего из того, что произносил Мандельштам, нельзя пропускать мимо ушей и мимо разума. Но он не заставлял отвечать меня на вопросы… Недавно в «Аргументах и фактах» появилась очень дорогая для меня статья. Там есть такая строчка: если сейчас прочитать повести Алексина, они могут показаться диссидентскими. У меня нет ничего, что соприкасалось с политикой, я никогда не прославлял строй — никогда. Ни одной строкой. Я писал о том, что существует в жизни каждого человека и что в жизни каждого человека является главным — о семье: мама, папа, дети.
— Давайте поговорим о психологии творчества. Где Вам жал ботинок? Ощущали Вы себя великим писателем? Почему Вы не можете сказать свободно: да, были полосы, когда я хотел невозможного — рвался в гениальные писатели?
— Конечно, я просто считал, что рваться в гении бесполезно — либо ты гений, либо нет. Это от Бога. Гейне написал, что художник без честолюбия обречен. Этот внутренний двигатель, который существует у каждого человека. Для меня существовало всегда несколько законов. Первый — никогда не воспринимай чужой успех как личное горе.
— Никто не хочет идти к среднему хирургу и среднему парикмахеру. Но все средние писатели — как, например, несколько десятков тысяч членов Союза писателей, убеждены, что имеют право на существование. И хирурги, и писатели знают, что к ним не хотят идти, идут от безысходности. В то время как средние писатели ничего подобного знать не хотят и говорят, что мы — хранители культуры?
— Я не буду отвечать на Ваш вопрос. Если я такой уж средний писатель, то зачем Вы пришли ко мне? Ваш вопрос лихой, в Вас есть честность и талант — безусловный. Бывает интервьеры и интервьюеры-художники. Вы интервьюер-писатель. Не лучше ли Вам написать обо мне?
— Кого Вы читали с более теплым чувством — великих, либо своих коллег и конечно, приятелей, например, Евтушенко, кстати, которого на дух не переносил Бродский?
— А Толстой не выносил Шекспира. У писателей есть талант и есть характер, который может совершенно не соответствовать его перу. Гениев я не встречал, хотя был знаком со Стейнбеком, Шукшиным. Я не понимаю людей, которые не принимают писателей, которых не принимать, на мой взгляд, нельзя. Их можно не любить. Евтушенко — не средний писатель. Он оригинален. Он один из моих самых любимых поэтов. Роль его в русской современной поэзии, на мой взгляд, очень значительна.
— Я почему-то вспомнил, что для Толстого самым значительным писателем был Монтень. Книга «Искусство жить достойно» была его настольной, но я готов свой вопрос поднять до евтушенковского размаха: Вы ощущаете, что жили достойно, при том, что вероятно, не соблюдали заповедей, ни православных, ни торы?
— Монтень говорил: «Человек, утверждающий, что он всегда говорил только правду, лжет». Конечно, лгут все, но важны масштабы этой лжи.
— Берберова рассказывает о Набокове, что он был заносчив, мог уничтожить, размазать по стенке всеми уважаемого Зайцева…
— А мне даже перестали давать книги во всех издательствах на внутренние рецензии, потому что я почти все хвалил. У меня такой характер. Евтушенко, человек, которого как бы сейчас не топтали, он написал «Бабий Яр»… У меня вкус очень банальный. Конечно, каждый может любить или не любить любого писателя. Кроме четырех исключений. Если человек не любит Пушкина, Лермонтова, Толстого и Чехова — мне с ним неинтересно разговаривать. Но по контексту разговора с Вами я вижу, Вы могли бы и Трифонова назвать средним…
— Мне кажется, в России Вы были чрезмерно добры, встречаясь со сколько-нибудь одаренным человеком, а за границей это был какой-то другой восторг при столкновении с выдающимися людьми?
— Да, пожалуй. Мне повезло, я встречался со многими великими людьми. Например, Феллини, Марк Шагал. Всех их объединяла необычайная простота, доступность. Какая-то ясность. Им не надо было доказывать, что они талантливы, гениальны. Это знали все. И они вели себя просто, человечно, понятно. В хорошем человеке всегда остается что-то от детства.
— Вы в Израиле лечитесь?
— Да, моя болезнь неизлечима, но ее можно попридержать. Это сделали израильские врачи.
— А Вы ощущаете себя евреем?
— Да, конечно. Мои мать и отец — евреи, и я всю жизнь писал себя евреем. Я никогда этого не скрывал, как не скрывали и родители. Хотя по-еврейски они не только не говорили, но и не знали ни одного слова. Но я русский писатель и могу быть только русским писателем.
— То есть, Вы не ощущали себя евреем, как Бродский, Мандельштам?
— Да. Ни в одной из моих книг, поставленных по ним пьес и фильмах эта проблема не поднималась.
— Что по-вашему ощущают евреи, когда рвутся сюда — рвутся в Израиль, чтобы зайти в супермаркет, или потому что ощущают себя евреями? Что это за ощущение, как Вы думаете?
— Очень разные мотивы. Почти каждый говорит, что уехал ради своих детей. Я в это верю лишь отчасти. Каждый уезжает и для себя и, увы, от себя тоже.
— Что Вас заставило уехать? Вы поехали не для того, чтобы себя почувствовать евреем?
— Нет. Я впервые в жизни выступил на встрече Бориса Ельцина с интеллигенцией 16 апреля 1993 года в Бетховенском зале Большого театра. Я говорил о фашизме. Об антисемитизме впрямую я не говорил, но это подразумевалось. Ельцин меня поддержал, многие русские деятели культуры — тоже. Но назавтра Хасбулатов, назвавший наш вечер «встречей с безродной интеллигенцией», собрал другую встречу. С теми, кого он считал родной интеллигенцией. Мое выступление показали по TV, транслировали по радио и напечатали сокращенно в «Литературной газете». После этого мне стали звонить по ночам, каждый день. Обещали вздернуть на фонаре. Я привык к ночным звонкам — в дверь. В1937 году забрали отца, в 50-м — дядю. Потом я испытал гонения в 1953 году — во времена «дела врачей». На выставке рисунков английских детей в книге отзывов появилась запись — «вот как рисуют дети в свободной стране». Подписи — Лев Кассиль, Анатолий Алексин. А я на этой выставке даже не был. Мне пришлось объясняться в КГБ. Потом пришел донос в Союз Писателей, что мы с Кассилем организовали сионистский центр в Союзе и травим русских писателей. К их чести никто не только не подтвердил этого, но они гневно отрицали. Я верю в то, что во все времена, всегда, в самые чудовищные времена находились люди, которые противостояли этим ситуациям. Вот пример. Моя жена по отцу — еврейка, по матери — дворянка. Ее отец, сын банкира, приехал из Германии строить социализм. Достраивал он его, естественно, в Магадане. Когда его везли в Магадан, на какой-то таежной станции он выбросил сквозь решетку написанное на папиросной бумаге письмо своей жене. Он писал, что ни в чем не виноват. Это письмо, выброшенное в тайгу, в снег, в никуда — дошло до адресата. Таких случаев было много. Значит, были люди, которые нашли его и имели смелость отправить. Если бы это было сделано неосторожно, эти люди получили бы минимум по 15–20 лет без права переписки.
— В каком году Вы уехали из Москвы?
— Я уехал в августе 1993 года. Когда начали раздаваться звонки, я пошел в одно из соответствующих заведений — сообщить об этом. Мне сказали: «Ну, что вы? Какие у нас сейчас фашисты! Зачем устраивать шум на всю страну». Это все меня как-то душевно возбудило.
— Излечи себя сам. «Стихи и звезды остаются, а остальное — все равно». Что остается для Вас и тогда Вы со всем справитесь?
— Любовь к добру и к каждому проявлению добра; любовь к литературе. Любовь к земле, на которой я родился и завещал себя похоронить. Любовь ко всем хорошим людям. Огромное счастье встречать на земле хорошего человека, человека, верующего в добро и Господа. Для меня Бог — это простота и ясность. Вот одни из моих любимейших строк Чехова: «Он был таким верующим, что идя молиться в засуху о дожде, брал с собой зонтик, чтобы на обратном пути не намокнуть».
Николай Караченцов БОЖЕ МОЙ, СУМАСШЕСТВИЕ, КРАСОТА, УБИЙСТВО
— Интуитивно помните, что такое предрассудок? Ваши предрассудки?
— Насчет предрассудков я бы не сказал, но я достаточно суеверный человек и обращаю внимание на разного рода события, на которые не надо обращать внимания.
Например, если все будет срабатывать хорошо, кто-то каждый день будет вешать халатик на этот гвоздик. Что-то такое есть и у меня. Но это суеверие, а не предрассудок. Предрассудков я как-то за собой не замечал.
— Предрассудок, Вами непереносимый в людях, есть какой-нибудь?
— Я могу быть нетерпимым к разного рода поступкам, допустим, к проявлениям беспардонности, хамства и так далее. Но вообще-то предрассудок — это вещь интимная, и, если человек находится в плену, как говорят, затараканенный, такой-сякой — это его личное дело, я не буду его за это ругать, винить, корить… Если он на чем-то зациклен — буду относиться к нему не то что с большим уважением, но это его личное дело, так он сложился.
— Вера в Бога — это тоже нечто интимное, на Ваш взгляд?
— Я продукт своего общества, к сожалению. Мы атеисты, я говорю «мы» о большинстве. Естественно, есть и истинно верующие люди и дорога к Богу сложна, а я не знаю ни ритуалов, ни молитв наизусть; я просто рад теперь, что могу ходить в церковь, рад, что, может, у меня душа там успокаивается, я рад, что могу там подумать о чем-то своем. Хотя назвать себя истинно верующим человеком я не имею права.
— Вы сказали «теперь». Что, раньше, когда это было предосудительно, Вы…
— Не то, чтоб я этого боялся, просто у меня не было тогда тяги, я не так был воспитан.
— Вы в некотором роде жертва моды?
— Ну да, я жертва социальных условий, я бы сказал. Мода — это не совсем то.
— Мне кажется, что мы уже начали понимать друг друга. Рискну — украду из записной книжки Довлатова: «Мещанин — это человек, думающий, что у него все должно быть хорошо». Прикоснитесь к больным точкам Вашей души. Что болит, всегда болело или страшные рубцы остались?
— Я готов быть искренним, но не очень люблю расхристываться. Потому что, если это действительно больная точка, мне кажется, человек не должен ее переносить на других. Если эти болячки меня тревожат, я сам должен с этим справляться. Я сейчас имею в виду, как Вы понимаете, форму поведения в обществе. Когда приходит человек и начинает на всех вешать свое — это нехорошо, а если есть действительно болевое, шрам на сердце, то это настолько свое, настолько интимное, что мне не хотелось бы, чтобы об этом знало много людей. Как бы мы с Вами искренне ни говорили, все равно, я так думаю, до дна душ ныне не докопаемся, все равно будет слой души, которого мы не коснемся, потому что он лично мой. А что касается мещанства из книжек Довлатова… Это остроумная книга и там очень много смешного. Он человек социально заостренный, поэтому то, о чем он сказал, наверное, есть в каждом человеке и не только в мещанине. Болевые точки в нашем обществе, как и государстве — простите за глобальность, тем не менее отражаются на нас на всех, просто по-разному проявляются, в зависимости от положения человека в обществе, материального достатка, а также его интеллекта. Поэтому, когда я включаю телевизор или открываю газеты, естественно, на меня обрушиваются те несчастья и события, которыми больна страна, — это не может пройти мимо меня. Я так же за это переживаю…
— Вы были знакомы с Довлатовым, видели его?
— Нет.
— У Вас не осталось после чтения впечатления, что он близкий Вам человек, знаком Вам?
— Это перебор — нет. Тем не менее он вызывает у меня симпатию.
— С кем из русских классиков, гениальных прозаиков этого столетия случился этот анекдот, то есть, кто сделался Вам близок?
— Ну, это по-разному. Наша профессия дает нам возможность читать книги. Волей-неволей я должен прочесть хотя бы то, что играю. Хоть не хошь. Потому бедный артист знает и Достоевского, и Толстого, и Чехова, и Островского, и так далее, и так далее. Вот. А если говорить о XX веке, то по-разному жизнь откладывала отпечатки на мою душеньку. Знакомился, поскольку надо было знакомиться, с Шолоховым, а потом я открывал для себя мир Маркеса, и тогда получал просто наслаждение от того, что предложение — в страницу, получал удовольствие от того, как оно соткано… И за этим стояло очень многое… Потом… я не знаю… вдруг открыл для себя Курта Воннегута, а потом вдруг открыл, скажем, для себя прозу Шукшина — заново перечитывал и открывал в рассказах даже какие-то неожиданные вещи. Сейчас читаю сразу две книги, если Вы знаете такого автора Бушина, его критические заметки начинаются с расследования произведения Окуджавы «Путешествие дилетантов», и я взялся за эту книгу и вот начинаю параллельно читать и сравнивать…
— И они были близкими вашими людьми?
Николай говорит по телефону.
— Мне уничтожить Ваши телефонные ответы? Или «украсить» ими интервью?
— Я понимаю Ваше желание, но лучше стереть. Ничего предосудительного в этом разговоре нет, но это, как читать чужие письма…
— Вы склонны мне доверять, Вам кажется, что я сотру… или…
— Я верю людям.
— Спасибо. Я конечно же сотру. Итак, насчет близких…
— Я погружался в этот мир, значит, наверное, я жил в них какое-то время.
— Как Вы думаете, присуще ли Вашему лицу какое-нибудь самое популярное выражение, знакомое большинству людей, с которыми Вы сталкиваетесь?
— Ну, я просто знаю, что мое лицо достаточно подвижно, как у людей моей профессии. И, наверное, в силу оптимизма чаще улыбчивое. А что касается того, насколько это верно, надо, видимо, спросить у людей, которые чаще со мной общаются.
— Как окрашена Ваша приветливость? Обаяние, приветливость, доброжелательность? Еще какую-то краску вспомните?
— Ну, не знаю, может, еще доля самоиронии присутствует… Вообще у меня несколько ироническое осмысление происходящего.
— О чем говорят лица людей, с которыми Вы сталкиваетесь?
— Вопрос довольно сложный опять же в силу моей профессии. Потому что многие люди реагируют на мое лицо, и их глаза радостно удивлены, что они увидели человека, которого видели сто раз на экране — видят живьем. Это ощущение, с одной стороны, приятно, потому что я знаю, что нахожусь на определенной ступени иерархии — лестницы актерской; с другой стороны, есть ощущение животного за решеткой которого разглядывают, особенно дети, они бывают беспардонны, могут подойти и смотреть вообще вот так вот, улыбаться и хихикать, и тогда я не знаю, как реагировать, тоже какие-то рожи корчу в ответ.
— В зеркало часто Вам хочется взглянуть — что там?
— Ну, я часто смотрю на себя в зеркало, потому что должен гримироваться, поэтому смотрю как, ну, на предмет работы. Как на инструмент, грубо говоря.
— Как Вы думаете, почему так магнетически влечет зеркало женщин?
— Думаю, это подсознательное желание понравиться, попытка увидеть то, что должен увидеть представитель противоположного пола в этом лице, дабы ему понравиться… И вот она смотрит: вот так вроде хорошо… А у меня это уже привычка в силу профессии, лицо уже сильно потаскано от этой жизни, от раздражения, от грима и так далее…
— Не захотите ли «обратить свой взгляд во внутрь»… И рассказать, как Вам знакомы, только понаслышке и биографически, популярные словечки: «Мой тип женщины» или злополучная «искра», пробегающая между мужчиной и женщиной, которую они славословят даже когда возненавидят друг друга?
— Тип женщины? Наверное, у меня такого типа нет. И я не очень люблю мужчин, которые это рассказывают. Мне кажется, мы тем самым обижаем и принижаем даму, если говорим о… Ну, понимаете о каких вещах. Я не очень люблю мужчину, который прибегает и рассказывает о женщине, сидящей за стенкой, что он там с ней делал, и как она себя вела. Мне кажется, тем самым он унижает и ее и себя. Более того, мне бы хотелось, чтобы за взаимоотношениями мужчины и женщины стояло понятие «таинство»… Чего-то интимного, чего-то сугубо личного, только для двоих…
— Постигающие нас разочарования, мука любви или дружбы — все эта разочарования по разным, кажется, поводам… И тем не менее какой Ваш страх сильнее — потерять любимую или друга?
— Я думаю, и то и другое — большая потеря. Хотя для меня это разные вещи, приблизительно как: «Кого Вы больше любите — ребенка или женщину?», «Кого Вы больше любите — Родину или цветы?», приблизительно такого качества вопрос: «Кого Вам больней потерять — друга или любимую?», «Что Вам больнее потеряй — руку или ногу?» Одинаково больно, только природа этой болезни разная. Потому что мужчина — это одно, женщина — другое. Потеряв женщину, разочаровавшись в ней или увидев ее предательство, превращаются в Отелло, лезут на стену, плачут, рыдают, кусают локти. Потеряв друга, люди зажимаются, слезы внутри. Отсекают. Становятся суше, если столкнутся с предательством. Это бывает горько, но, наверное, много таких случаев, довольно жестоко у себя самого отсекать…
— Вы склоняетесь к тому, что это боль разная по качеству, по силе?
— Зависит от масштаба, от того, насколько тебе дорог был этот человек.
— Как Вы думаете, Бог заботится о Вас, чтобы меньше было этой муки? Не ловили себя на том, что Вас Бог бережет?
— Я задумывался об этом… Может, в какой-то степени и берег. Оберегал, хотя и были в моей жизни разочарования…
— Опять Вы мне не давали повода, и я обращусь к Вам как к специалисту по выдающимся марксистам и прочим феноменальным преступникам. Не предполагаете ли Вы, что они рождены не дьявольским замыслом? Не присутствует ли в «деятельности» этих нелюдей некий феномен чуда, присущий творчеству Моцарта, Пушкина и подобных им?
— Вы коснулись, мм… разговора такого… темы злодейского таланта. Значит, у кого-то это получается мелковато, у кого-то, если Бог его одарил, грандиозно и тем страшней масштабы зла. И если говорить, насколько закономерен продукт черта или Господа Бога, я в этом не мастак разбираться. Если касаться религиозных проблем — я в них плаваю, честно признаюсь. Исчадие ада, ужас. Не знаю… Слава Богу, я теперь знаю, что не надо всю жизнь сдавать взносы в партячейку, ходить на собрания, носить комсомольский билет и так далее. Можешь сам себе выбрать то, что хочешь.
— Ваш ответ — чудо. Долгие годы я старался понять, а Вы своим ответом взяли я сформулировали мимоходом главную, или единственную, идею моей жизни.
— Сильно завышаете, дяденька, меня. Ну?
— Сапожник без сапог… Вряд ли Вы вспомните другую идею, вокруг которой, так же как происходит у нас, грешников, собираются все события Вашей внешней, внутренней жизни.
— Ну, это не идея. Я в принципе работоголик, и я благодарен судьбе, что себя угадал. Мне нравится заниматься тем делом, которым я занимаюсь. Нравится — это наверное, не то слово — болезненно нравится. Я не могу без этого, это как наркотик. И я знаю людей, которые отсиживают, отрабатывают, ждут суббот и воскресений, ждут, когда пробьет пять часов, можно бежать из-за стола. Я же, напротив, бегу скорее в театр, на сцену, на репетицию, на съемочную площадку и все вокруг подчинено этому. Потому что та работа, которой я занимаюсь, и предмет рассмотрения моей профессии есть человек. А интереснее трудно представить себе.
— Достаточно точна аналогия с наркотиком? Он убивает человека. Вас работа тоже убивает — Вы это понимаете?
— Мы родились для того, чтобы каждый день убивать себя. Вопрос в протяженности этого события — или моментально по башке, или в течение ста лет. Поэтому — да, наверное. В какой-то степени работа меня сжигает. Но поскольку приходится проживать жизнь разных персонажей, я и получаю что-то дополнительно. Не хочу сравнивать себя с Фениксом, но тем не менее есть тот интерес, который дает человеку возможность существовать дальше. И естественно, каждый день сокращает жизнь. Вопрос о ее насыщенности. Тогда мы говорим, что он прожил длинную красивую или длинную бездарную жизнь — она оказалась короткой, потому что была пустышкой.
— Аналогии с наркотиком не получилось. С одной стороны, работа убивает, с другой — дает Вам силы жить…
— Не будем сравнивать с наркотиком, потому что я нечасто пользовался и не знаю, что такое наркотик. По книжкам только.
— Как управляет Вашей жизнью Его Величество Случай?
— Ну, Вы знаете, поскольку моя профессия, условно говоря, случайна… Я не живописец — взял холст, и вот ему захотелось, и он начинает себя выражать на этом холсте. Нет, я должен выразить то, что уже один художник, по имени писатель, драматург написал, потом другой художник, по имени режиссер, увлекся именно этим материалом, более того, ему в лоб влетело предложить одну из ролей именно мне, а никому другому. И надо, чтобы эта цепочка состоялась, иначе я не буду заниматься этой именно ролью. Желательно, чтобы это произошло в тот момент, когда я могу это делать, потому что некоторые роли поздновато играть, какие-то — рановато. В том, чтобы это сошлось, должна быть доля везения, удачи, случая. В книге «Три Дюма» Моруа первый том заканчивается тем, что Дюма фантастически повезло. Оц заканчивал пьесу в трактирчике. Именно в ту секунду туда вошла звезда театра с меценатом, они увидели пьесу, схватились — и дело пошло. А дальше Моруа пишет такую фразу: «Каждому человеку жизнь предлагает минимум десять случаев изменить свою жизнь, и только один Дюма этим воспользовался.» Давайте будем этому следовать.
— Не решаюсь тут же задать свой вопрос, Блока призову на помощь: «Чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар», — теперь спрошу: «Из пожара жизни что самого драгоценного удавалось Вам вынести? Пусть это будет философия. Не сумеете?»
— Рождаются банальные ответы типа: любовь, восторг творчества, радость жизнеощущения, что живу, слышу, чувствую, улыбаюсь — не более того. А то, что жизнь — это пожар, это очень красиво. Будем тянуться к этим образам…
— Теперь помогу Вам встать на цыпочки… Вообразите, что звездное небо по метеусловиям планеты мы, люди, можем видеть один раз в сто лет. Вообразите, что Вы счастливец, живущий в этом поколении… И Вы вышли на улицу, чтобы потом детям, внукам рассказывать… Как Вы думаете, для большинства людей это будет важнейшее событие жизни?
— Для большинства людей будет событием важнейшим. Для меня это будет просто важным событием. Из разряда того, как если бы я видел солнечное затмение. Всю жизнь я жил без звезд, и в этой беззвездной жизни будут какие-то иные точки, интересы и так далее, и так далее. А потом свершится в моей жизни единственный день, я посмотрю, но не сумею до конца оценить тот восторг, что я вот вижу это. Потому что для этого события нужно быть определенным образом подготовленным. Даже если я буду готовиться всю жизнь — сейчас произойдет, сейчас произойдет, сейчас произойдет! Оценить довольно трудно. Я редко испытывал это в жизни. Помню, когда попал в Венецию, в какое-то мгновение чувствовал, что у меня по лицу гуляет идиотская улыбка — ведь это чудо, этого не бывает в жизни. Я это вижу, я здесь, Боже мой, сумасшествие, красота, убийство. Но потом я подумал, ведь всего этого могло и не произойти со мной, если бы я развивался не таким образом, каким развивался до того дня, если бы я не закончил определенного института, если бы не общался со своей мамой. В рассказе Рея Бредбери (не помню, как он называется) каких-то людей с планеты Земля занесло в иную цивилизацию, где все время идет дождь. И только раз в семь лет на два часа солнышко появляется, и все дети этого момента ждут. Среди этих детей была одна девочка, как пария. Ее родители приехали позже, она видела, что это такое — солнышко, она очень этого ждала. И дети ее на эти два часа заперли в чулане. Сами радовались, кто-то про нее забыл, кто-то вспомнил, потом стало стыдно. К сожалению, Олег, должен уже расстаться. (Смотрит на часы. Встает.) Съемка.
Андрей Битов ЗА ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ РАБЫ
— Ваши пороки и добродетели: достаточно ли это сбалансировано, уравновешено, как Вы думаете?
— Думаю, да.
— Объясните, что такое, по-вашему, уравновешенный человек.
— Если Вы видите, что я не безумен, значит, я сбалансирован.
— Что Вам интересней: слушать, как отвечают Ваши друзья или будете тосковать, что я не Вами занят исключительно?
— Мне интереснее их слушать.
— Почему? Скажите так, чтобы я Вам поверил!
— Для меня жизнь — состояние текста, а когда я сам говорю — это не состояние текста, я сам внутри него, понимаете? А так — я монтирую, как и Вы, только это не публикуется, а комкается, бросается в мусорную корзину.
— Вы только интуитивно помните, что такое предрассудок, или могли бы дать определение?
— Процитирую, потому что это сказано замечательно Баратынским: «Предрассудок, ты обломок давней правды // Храм упал; но руин его потомок языка не разгадал». Будто бы специально насчет моего вранья. В принципе, я как бы не вру никогда. Но это означает, что я вру всю жизнь. Вот что это означает. Поэтому куда мне деться… ведь я — это не совсем я. Вот если я пишу, это пишет же не Битов Андрей Георгиевич, это пишет автор, у него еще есть герой, а у героя есть ситуация… Я недаром начал с того, что я не знаю, кто я такой. И это меня так занимает, что я поэтому и пишу.
— Если я буду выплачивать Вам доход, который Вы имеете со своего президентства — Вы мне отдадите это место? А Вы сидите и пишите?
— Я Вам отдаю его немедленно, потому что я действительно не получаю ни копейки! Вы поверить не можете?!
— Мы можем оформить это юридически? Вот завтра давайте поедем…
— Юридически оформляем в любой момент, и Вы не получите ни копейки, я Вас предупреждаю. Я не могу распорядиться этим местом, так что я поехать не могу, но это — напрасная трата времени. Я готов отдать Вам президентское место, поедем, ради бога, — но мне жалко времени.
— Я Вам за потраченное время заплачу, предположим, 40 долларов, да, я привезу Вам 40 долларов.
— Слушайте, я не за деньги работаю! Вы говорите, что не видели такого кретина, а я Вам говорю, люди за деньги не работают. За деньги работают рабы, а люди работают, потому что работа в них работает, а если я буду в это время писать, я Вас пошлю на… — или сделаю вид, что меня нет.
— Осенью будут выборы, я остаюсь в России, и Вы меня порекомендуете на Ваш пост, если мы не разругаемся за этот час?
— Проголосую за Вас с радостью, потому что наш Клуб достоин такого президента.
— Кроме вранья, свойственный Вам предрассудок, от которого Вы хотели бы избавиться?
— Предрассудок заключается в том, что может быть у меня этого нет, а я считаю, что это есть, на том стою. Достоинство, честь и точность.
— Непереносимый Вами предрассудок в людях?
— Глупость, может быть.
— Когда мужчина и женщина делят квартиру, мебель, посуду, ненавидят друг друга, но не хотят расставаться — это не предрассудок?
— Вот Вам афоризм, сказанный моим другом, великим ученым и одновременно персонажем моих книг. На вопрос, что такое симбиоз, он сказал, что никакого симбиоза нет, а есть взаимное паразитирование. Вот по-моему и есть та ситуация, о которой Вы говорите.
— Вы знаете, что Библия запрещает произносить слово «дурак». Талмуд — нет. Судя по Вашему ответу, Вы — иудаист. «Глупость» Вы сказали.
— Дело в том, что глупость бывает очень многообразной, также как и любовь, и есть глупость, которую я поцелую в любое место, а есть глупость агрессивная, самодостаточная. Глупостью я считаю лишь уверенность, отсутствие движения сомнения — ну не глупость ли?..
— Давайте следующий вопрос украдем из записной книжки Довлатова. «Мещанин — это человек, думающий, что все у него должно быть хорошо». Только спрячем ату кражу в журналистский фантик, за который леденец «горячих точек страны», «планеты». Есть зоны Вашей души, которые постоянно болят, на что даже смотреть больно?
— У лингвистов модно слово «психопоэтика». Где-то — в Германии, кажется, вышла книжка обо мне. Она называется «О памяти и забывании». Мне кажется, что механизм, который патологически или под влиянием обстоятельств, то ли еще как-то, но столь много мною эксплуатировался, что все больные точки практически зарубцованы или проигнорированы и, поскольку меня этот вопрос занимал и раньше (в других терминах), то скажу о механизме человека — пережить и забыть. Представляете, мы ведь должны как метеорит, входящий в слои атмосферы, мгновенно сгореть, если бы не вступали в постоянную сделку. Вступаю и я, если жив и с Вами разговариваю.
— Чем ожоги лечат? Маслом растительным — каким лекарством? — Нужно помочиться.
— Когда Вас выбрали президентом Пен-клуба, хорошо ли Вас…, с головы до ног? На Ваши раны, ожоги…
— Почему? Нет… У Вас какие-то ложные представления об этом. Не было предварительной компании; уходил Рыбаков, выдвинули три кандидатуры. За меня проголосовали в 15 раз больше человек, чем за остальные две.
— Присуще ли Вашему лицу какое-нибудь самое популярное выражение, знакомое большинству людей, с которыми Вы общаетесь? Когда Вы знакомитесь — не с другом, с соседом говорите, а с новым человеком?
— У меня очень неподвижное лицо — был порез,[1] но у меня еще есть предрассудок — мне кажется, что я естественный человек.
— Вы умираете, предположим, Вас сбила машина и Вы умираете в полном сознании. Какие чувства Вами овладеют? О чем будете думать, сожалеть. О лучших строчках, которые не успеете записать?
— Нет, мои друзья хорошо ответили на это. Может быть, мне было бы стыдно за прожитое, но я не хотел стыдиться бы в последнее мгновенье. Умереть с достоинством. И есть такой псалом — не псалом, — спиричуэлз, где негритянский голос поет: «Господи, господи, я не готов, возьми меня, когда я буду готов». Человек и живет так, чтобы подготовить себя к этому моменту без позора. Есть такие точки, когда охватывает чудовищный стыд, что не дай бог начинать умирать в этот момент а ты в этот момент по уши в жалкости, в низости, в ущербе, в позоре. Но и в этот момент, я думаю, Бог протянет руку и ты почувствуешь свою жизнь не такой пустой. Но в принципе, в любой момент надо быть готовым.
— Толстой в последние годы своей жизни плакал, встречаясь с людьми — от радости, умиления. Есть в Вас что-то похожее — когда глядите на человека — возвышенно настроенно, что-то похожее на слезы, слезливость?
— Я часто плачу. Кстати думаю, ничего хорошего в этом нет, потому что это последствия операции и не полный порядок… Я не хотел бы рыдать, как Горький… Но, как только я полностью приближу к себе ситуацию, я нахожусь в состоянии, близком к плачу. Пока я держу Вас на дистанции, Вы говорите: «Будьте собой»; нет, конечно, я на поводке Вас держу, но если позволю, то я зарыдаю просто, хотите, прямо сейчас?
— Фиг Вам. Как Руслан правильно сказал, глядя на людей — можно грустить, тоску испытывать, плакать необязательно. Вот я в Америке сижу в каком-то вроде дома творчества, пытаюсь сочинять, достаю книгу с полки. Начинаю читать в каком-то месте. Про Цветаеву, книга по-английски. Я не такой уж обожатель этого поэта, хотя знаю, что она гениальна, и вдруг меня начинают душить слезы… Ведь такой судьбы, как я вдруг понял — нельзя… Или же там же по американскому телевидению впервые исполняется церковная музыка Рахманинова, попутно дают информацию — кто такой был Рахманинов, мелькают мезонины, платья, какие-то фотографии, усадьбы — и опять вот такое — как же можно было, как же можно… И если сколько-нибудь представить себе хоть какую-нибудь судьбу человека, выстоявшего… Конечно, будешь плакать — Толстой прав…
— У Набокова — вышел некто с собакой гулять, и неизвестно, кто кого ведет на поводке. Про нас тоже так можно сказать?
— Нет, я Вас не веду.
— Ну, может, я Вас веду…
— Нет, Вы для меня палка.
— Скажите, пожалуйста, если я-таки подарю Вам альбом, 20 долларов который стоит, Вы мне…
— Не дарите мне, лучше я его куплю. Вы много о долларах говорите…
— А если подарить, то что Вы могли бы мне подарить? Взамен…
— Мне легче было бы подарить Вам свою книгу, если Вы мне понравитесь… в такую же стоимость…
— А есть Ваша книга такой же стоимости? Вы ее оцениваете сами?
— Нет, не я ее оцениваю… Даже здесь берут по 10 долларов…
— Спасибо. Премного благодарен. Кто говорил «премного благодарен», помните?
— Многие вежливые люди до катастрофы.
— Если бы я Вас больше не раздражал, Вы на меня не кричали бы… Тогда напишите мне сегодня же рекомендацию в члены Союза писателей?
— Ради бога…
— Почему женщин столь магнетически влечет к себе зеркало, неприспособленное передавать света глаз?
— Я пытаюсь разгадать чисто для себя, потому что она человек, она смотрит в зеркало — а человек — существо, которое не знает, что оно такое, и поэтому зеркало это не просто инструмент для марафета. Зеркало — это неприятное лицезрение. Я уже много лет не вижу себя в зеркале, потому что не хочу сталкиваться с этим существом. Женщина — человек, и она хочет убедиться, что она есть.
— Великим людям вроде Вас, придумывающего афоризмы, я всегда предпочитал маленьких людей, маленьких гениев, умирающих в безвестности, в раннем возрасте. В Москве я курю у лифта с одним таким гением, три года назад он был милиционером, сейчас он майор, работает с проститутками. Не знаю, как он с ними работает, но несколько дней назад я спросил у него, что он думает о женщинах. Он ответил, что всех баб делит на проституток, и на других, которые удержались от проституции, но они еще хуже, потому что — вые… Разделите тоже прекрасную половину человечества — на равные, неравные части, иронически, как угодно…
— Я могу только процитировать. Одна наша приятельница, нами очень любимая, она как теперь это называется — делает макияж, визажист международного класса, она мне рассказала терминологию, как все парикмахерши определяют женщин. Все женщины делятся на миссок, мурок, крысок и кастрюль.
— Это лучшее разделение, что Вы процитировали, или…
— Самое лучшее.
— Михаил Рощин мне ответил на этот вопрос — зачем иронически? — на женщин, которых я имел и которых пока не имел. Не более удачное определение?
— Нет.
— Андрей, обратите «свой взгляд глазами внутрь»… Кстати, чье это выражение?
— Это общее…
— Это «Гамлет»…
— Что же, до него это никто не сказал? Это такая чушь приписывать язык авторам или героям. Это большая чушь, потому что все, что может сделать автор, — это одна сотая процента языка…
— Достаточно ли точное сравнение: сейчас Вы себя ведете — мы пикируемся, я хочу Вас унизить, продемонстрировать Ваше невежество, а Вы похожи на боксера, который упал, которого нокаутировали, а он приподнимается чтобы, крикнуть зрителям…
— Я «Гамлета» прочитал в первый и единственный раз, когда мне было сорок лег чего мне стыдиться? Я не дочитал еще ни одного из евангелий… Я любую цитату не узнаю…
— Мое сравнение неточно? Моя метафора с боксером: мне заплатили и я упал. Боксер кричит зрителям…
— Мне не заплатили, и я не упал. Может, мне стыдно, что меня компрометируют тем, что поставили против меня боксера ниже меня классом?
— Итак, «обратите взгляд»… Вам знакомы только понаслышке или биографически популярные словечки «мой тип женщины», «искра, пробегающая между мужчиной и женщиной».
— Это клише… Об этом я много писал… Думаю, что есть какое-то лицо, лицо — как тайна, которая тебя гипнотизирует. Можно искать это лицо, потому что за этим лицом скрывается тайна… «Тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты…» Тайна — это маска, значит, и лицо — это маска, значит, как-то все это и происходит… Однажды был случай очень замечательный, я запомнил его. Пожалуй, я расскажу его Вам… Мне одна девушка очень нравилась, я в это время — редко это у меня бывало — год был в каком-то ведомстве. Вот в коридоре я ее встречал, и каждый раз что-то такое чувствовал. Ну, я был молод и по этой части. Вот, чувствовал, чувствовал, чувствовал, но так ничего и не происходило. Потому что нельзя… там, где живешь, но у меня случился какой-то такой внезапный адюльтер, и я просыпаюсь утром под незнакомым потолком, на незнакомой подушке и лицо рядом со мной, которое мне на секунду показалось лицом той девушки. Я понимал, что это не она, но это зафиксировалось у меня — момент близости и это лицо. А потом через день я встретил эту девушку в коридоре, смотрим друг на друга — и вдруг она густо покраснела. Понимаете, не потому что я на нее посмотрел, а потому что происходит нечто, так говорят: грешить в мыслях, а это такой еще самый безгрешный вариант «грешения в мыслях» — то есть я не собирался, а само получилось. Но это передается всюду и поэтому мы ходим со своей грязью внутри башки и думаем, что ничего не происходит, что на лбу ничего не написано. А у Вас все написано на лбу…
— Не хамство ли спрашивать у старика — не импотент ли он? Квалифицируйте мой вопрос…
— По-моему, просто это не воспитанно, невежливо и — не знаю, это что-то другое — это просто парвеню…
— Не были бы Вы мне благодарны, если я не задавал бы Вам эти вопросы? Или можно?
— Ну, ради бога… Мы же приняли Ваш стиль…
— Живете ли Вы с женщинами? Приняли стиль?..
— Вот это слово «живу»… Я не люблю его, потому что с женщинами я сплю.
— Значит, еще спите с женщинами. Ужас. Вот против смерти Вы не протестуете, а ждете с благоговением…
— Почему же это я не протестую? Я боюсь ее хуже смерти. Просто я страх может быть презираю, больше чем смерть. Вот последнее, что я написал, это такое «эссе» — теперь это называется; «Текст как смерть». Так что…
— Что такое импотенция — придумайте сравнение. Отчаяние или что, на что да похоже?
— Импотенция совсем не отчаяние, это удовольствие. Я не вижу в этом никакой беды.
— Если смешать все в одну кучу — все привязанности, совокупления, близости, романы — что это за куча — свалка, помойка, скорбь?
— Нет, если бы я посмотрел на свою кучу, мало кого бы отбраковал, нет, нет, это все было прекрасно.
— Разочарования — разного порядка, если мы разочаровываемся в друге, в дружбе и — в женщине? Можно ли сравнивать?
— От опыта, интеллекта зависит — не очаровываться тем, чем не надо очароваться — тогда и разочарования не будет; но именно тогда, когда ты достаточно требователен и точен и тебя окружает только не разочаровывающий тебя мир — тогда это может быть очень больно.
— Вы сможете вспомнить, Бог заботился о Вас, думал как в последние дни?
— Каждый день.
— Сегодня?
— Сегодня, как и всегда я открываю книжку на нужном месте…
— Когда Вы поймали себя на этом осознании, что Бог о Вас заботится? В детстве?
— Я не знаю, все ли это делает Бог — это такое полное обозначение, но есть более рабочее понятие — ангелы… Ловить себя я стал тогда, как стал более сознательно верить (потому что я думаю, ведь человек рождается верующим), когда я стал сознательно верить, и мог отпадать от веры — то тогда это пространство становилось пустым, черным, материалистическим, страшным — и вдруг видел, как мне подают знаки, сигналы, в общем, какие-то доказательства…
— Мироточащую икону Вы видели когда-нибудь?
— Нет.
— А допускаете ли, что это не священники делают, а может, она сама…
— Допускаю. Но в чудеса я верю более круто, чем на уровне материальных доказательств.
— Вот Вам сосед позвонит, а у Вас тяжело… У Вас есть ребенок?
— Да, у меня полно…
— Тяжело заболел ребенок, прибегает сосед, сосед узнает, что Ваш ребенок болен — говорит, что рядом мироточашая икона, она многим помогла. Вы оставите ребенка на попечение кого-нибудь и пойдете просить о здоровье ребенка икону?
— Когда человек молится, то молитва его будет услышана все равно. Главное, как он молится. Могу молиться здесь, в углу, и буду услышан.
— Даниила Андреева «Розу мира» держали в руках? Какие страницы, какие главы Вам скучны были?
— Ну, я не всю ее прочитал. Я вообще не читатель… Я прочитал сколько-то, пока не представил себе весь мир, а потом не стал читать, потому что я не фундаментальный человек, который должен все прочесть…
— Патологии, клиники в авторе Вы не позволяли себе увидеть? Что он безумен?
— Да, видел я это конечно. Видел я в то же время, что он абсолютно открыт.
— Он подробно описывает уровни ада… Концепция такая, что кроме Бога нечто суверенное — дьявол. Вам это близко, Вы также думаете, что не только Бог — творец, но и дьявол?
— Нет. Никогда. Дьявол — самораспадающаяся структура, я не верю в это также, как в сионский заговор или массонов… Не может быть организованное зло.
— Вы не допускаете, что после моей диверсии против лучших актеров, писателей — что у меня отнимут пленки, задержат вылет…
— Понятия не имею.
— То есть ничего о них не знаете.
— Сколько я езжу — а я езжу с 1986 года, как меня выпустили — нет… поняли не имею.
— Есть какая-нибудь идея, вокруг которой нанизываются все факты, события Вашей жизни?
— Может быть, судьба…
— Значит Вы — фаталист?
— Я не думаю о предопределенности судьбы, я думаю о том, что кое-какие вещи наверняка предопределены, но не так индивидуально, как мы надеемся. Мы все хотим себе польстить. Но судьба, я верю, это сочетание поведения и обстоятельств, которые все-таки от тебя не зависят, но могут совпасть с уникальностью твоего единственного «я».
— Его Величество Случай как-то более властно, чем судьба управляет Вашей жизнью?
— Это к вопросу о судьбе. Случай и есть ее механизм. Случай должен стал неслучайным, и тогда все в порядке. Или ты сумеешь случай нарисовать, не искажая линию… Но есть и такие случаи чудовищные, которые трудно прорисовать. Но это касается таких вещей, которые и вслух-то произносить неохота — то, что касается близких, здоровья и прочего. А в остальном очень многое в нашей власти.
— «Игра в бисер» Гессе — она дольше гостила в Ваших руках, чем «Роза мира»?
— Меньше.
— Она показалась Вам скучнее, недоступнее?
— Что же — буду себя разоблачать — я не читал эту книгу. Мне жалко, что плохой читатель. Я все думаю, если Бог отпустит мне долгую жизнь — я все допишу — текст ведь конечен — и буду читать.
— Вам не стыдно, что Вы Нарбикову похвалили, предисловие написали?
— Она не такая дура, как Вам кажется, а потом мне не стыдно — я не писал никакого предисловия. Это была внутренняя рецензия, которая была направлена на то, чтобы прочитали и отнеслись внимательно. Внутренняя рецензия это не обычный текст. Когда я прочел это в виде предисловия, я был очень рассержен, потому что я отношусь внимательно к назначению текста. То есть меня подставили в каком-то плане. Это была внутренняя рецензия с пережимом, чтобы заставить пройти…
— Вы хотели бы видеокамеру иметь когда-нибудь? Она бы радовала Вас?
— Удивительное дело, мне все время некогда… Камера у меня есть.
— Если я вдруг потеряю, Вы мне дадите на недельку свою камеру?
— Дам.
— Почему Вы мне дадите камеру?
— Потому что буду верить, что вернете.
— Вы хотели помочь также Габышеву и гордитесь, что помогли ему, потому что книжка понравилась многим?
— Не поэтому. Я просто горжусь, что пробил это дело.
— Писатель из него получится? Он еще что-то написал?
— Из него уже получился писатель, потому что он написал эту книгу. И окружающие его тексты очень любопытны… А что, Грибоедов писатель, что ли? По Вашим оценкам, или Виктор Ерофеев? Я не сравниваю Габышева с ними, но этого достаточно.
— Когда Вы предполагаете, что Вы выскочка, карьерист, то Витя Ерофеев гораздо более выскочка?..
— Мы с Вами договорились, что не переходим на личности. Вы нарушаете мое условие. Я сказал, что это не трусость, это позиция — про живых я не говорю.
— Хорошо. А про покойников?
— Про покойников можно говорить. Если я писал критику, то я писал только положительную критику — потому что мне интереснее раскрыть что-то замечательное, что другие не видят, чем выдавать фишки или расценки.
— Вы будете мне благодарны, если я поймаю Вас на вранье?
— Да.
— А почему Вы будете мне благодарны?
— Потому что я себя воспитываю.
— Будете совершенствовать себя, как Лев Толстой, до семидесяти восьми лет?
— Никогда не поздно.
— Андрей, скажите, в рекомендации Вы соврете, что читали мою книжку, хотя только держали ее в руках? Напишите, пожалуйста, что я юморист замечательный…
— В рекомендации в Союз писателей я сам найду эпитеты.
— Вы держали в руках книгу Майи Плисецкой «Моя жизнь в искусстве»? Обложку ее книги украшают такие слова: «Из жизни я вынесла бесхитростную философию: люди не делятся на классы, на расы. Люди делятся на хороших и плохих. И — хороших во все времена было меньше». Вы тоже считаете, что хороших было меньше?
— Вы знаете, на моем веку хороших было больше, потому что я не имел дела с плохими. Да… Больше было хороших…
— Призову на помощь Блока: «… чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар». Теперь спрошу, когда Вы спасались из пожара жизни, что Вы старались вынести из него?
— Сейчас это не получится сформулировать. Если бы были живые люди — то живых людей.
— А метафизическое добро — какое?
— Метафизическое — раньше я имел всегда рукопись, то что в работе — хранилась в чемоданчике, чтобы можно было удрать. Неоконченная рукопись — я схватил бы ее.
— В чем все женщины сходились, упрекая Вас?
— В жадности.
— Недостаточно зарабатываете, да?
— Ни в чем меня они не упрекали, пока не доходило до ссоры. Ссора же — не упреки, а оскорбления. Перечислить же все оскорбления… я не в силах. Может быть обобщая, недостаточно чувствую и вижу других людей…
— Вы можете бросить общий упрек женщинам?
— Общий упрек, который могу бросить — является и их единственный достоинством и признаком: они другие.
— Утомляемость, усталость — как Вам знакомы?
— Как и Вам.
— Вообразите, что по метеоусловиям планеты люди сорок тысяч лет имеют возможность видеть звездное небо один раз в сто лет. Вы — живущий в этом поколении в течение трех часов увидите звезды. На Ваш взгляд, для большинства это будет событием, одним их выдающихся событий жизни или десятистепенным? Увидели, поговорили, в газетах почитали…
— Вычтите из этого так называемые mass media… С помощью их все отнесутся к этому как к выдающемуся событию. Независимым человеком останется тот, кто напьется от предчувствия раньше и упадет в канаву. А все остальные будут смотреть и для всех это будет событие в жизни.
— Что такое выдающееся событие на Ваш взгляд? Перечислю: посадили в тюрьму, выпустили из тюрьмы, есть прописка — нет ее; есть дом — нет дома, брачная ночь, рождение ребенка. Что-нибудь добавите?
— Рождение детей, смерть родителей.
— Вы вышли в 11, до какого часа будете смотреть на звезды? До двух часов?
— Один раз в жизни? Все время буду смотреть.
— Придете домой — сразу спать ляжете?
— Как-то глуповато это все, но мне кажется, что я вообще не лягу, я пить буду после этого.
— Андрей, как Вы думаете, я на самом деле такой глуповатый, невоспитанный или большинство своих вопросов я позаимствовал у поэтов, писателей, прочих придурков… На какую часть это мое изобретение? Сколько моего, сколько чужого?
— У Вас опыт есть? Сколько интервью Вы провели?
— 31-е.
— (Разводит руками. Молчит.)
— Вы помните страшные минуты, когда жизнь Вас выталкивала из себя, еще миг — и человек скажет себе — лучше бы я умер?
— Были минуты отчаяния, скорее — ужасного омерзения. Но я слишком хорошо знаю — на то Божья Воля, и сам я этого не сделаю. Так, чтобы мне жить не хотелось было в крайней степени отвращения, омерзения, уныния. А ведь теперь я истолковываю это как грех. Надо как-то выкарабкиваться из греха.
— Вы рады, когда не надо ни о чем думать, когда живете машинально? Пять минут, десять… Нуждаетесь ли Вы в этом? Как часто это случается с Вами?
— Конечно, нуждаюсь. Выпить — хорошо, но алкоголизм — плохо. Также есть бездна способов уходить от реальности — смотреть TV или читать детективы, но постепенно накапливается отвращение к себе, уход связан с неуважением к себе, и когда это отвращение к себе накапливается, становится слишком большим — возвращаешься к сознанию… Когда сознание отдыхает, не значит, что его нет. Оно работает… Я не считаю потерей времени ничего, кроме… уныния.
— У меня с собой бутылочка коньяка, выпьем по рюмочке? Я соврал, нету. Это святое, или Вы меня прощаете?
— Если бы душа горела, то это было бы оскорблением. Но поскольку я не нахожусь в состоянии похмелья, то… Если бы в этом состоянии облома — можно и морду набить.
— Вы кому-нибудь дали пощечину в жизни?
— Мне кажется это таким театральным жестом.
— Простите меня пожалуйста. Простили Вы меня?
— Принимаю Ваши извинения. А прощать — Бог простит.
— Вы идете по тротуару… Очень опаздываете. Слышите — машины сталкиваются, страшный грохот. Бегут люди — помочь, кто-то зеваки, третьи — убегают, потому что непереносимый кошмар. Вы найдете что-то четвертое? Как Вы воспринимаете чужую боль, трагедию?
— Если не нужна помощь, пройду мимо. Я старательно не делаю то, что делают другие. Конечно, я буду думать — в зависимости от картинки… Буду стараться помочь, если могу помочь. Опоздание тут ни при чем.
— Приступы, приливы счастья, когда не знаешь откуда, бывают еще?
— Да.
— В этом месяце было? Вспомните.
— Последние три недели были связаны с таким количеством смертей, что они перекрывали… И тем не менее бывали моменты, что я чуть не на колени падал от счастья…
— Опишите это состояние.
— Мы говорили об иконе, о молитве… Я чувствую недовольство собой, уныние, безнадежное состояние — и вдруг мне подается явный знак, и снова я обретал ток жизни. Душа жива, я реагирую на все правильно — и уже не нахожусь в том состоянии, которое меня угнетало. Есть и философия чуда — не только в виде плачущей иконы. Вы видите, что все — чудо, чудо, чудо — и вы счастливы.
— Андрей, кто из Ваших друзей радовался бы, участвуя в этой беседе? С Вами, без Вас?
— Очень много людей… Но если верить Вам, что интервью покажут всему Израилю, то, может быть, многие и там обрадовались бы. Это обстоятельство перевешивает Вашу личность довольно сильно.
— К власти пришли еще живые изуверы. Начинают издавать законы гораздо более страшные, чем 80 лет были. Люди дружно голосуют. Идеологи более изощрены. Например, запрещено разговаривать с близкими людьми, а лишь с незнакомыми — сколько угодно. За нарушения — штраф. Праздники отменят… Месяца через четыре наша казна так пополнится, что мы выходим на самый высокий уровень благосостояния, обгоним всех. Народ поверил, проголосовали. Голосуют за все другие указы. Одно новшество — визу недовольным будут присылать домой, дорогу оплатят. Вы, конечно, останетесь?
— Я постараюсь оформить всем визы, не буду верить, что такой закон может действовать, и спокойно буду разговаривать, и все будут разговаривать… Не сразу пробегу через границу, а когда увижу, что надо спасать семью, тогда да. Пока не убивают — буду здесь.
— Вам повезло, Вы умираете в сознании. Что жальче всего оставлять из всех прелестей мира?
— Саму жизнь.
Юрий Никулин ПОТОМ МЕНЯ ПОСТРИГЛИ И Я СКАЗАЛ СЕБЕ: «Я БУДУ ЖИТЬ ДОЛГО»
(Осторожно, вкрадчиво). Юрий Владимирович, я поговорю несколько секунд, хотя какой-то генерал Вас дожидается в приемной.
— Ничего, ничего, я уже предупредил секретаря, что у меня врач. Подождет генерал.
— Несколько дней назад я беседовал с поэтом Рейном и некстати спросил у него: «Что это Бродский по радиостанциям всего мира говорит, что Вы были его учителем? Небось должен Вам кучу денег или отбил девицу и таким образом отдает долг?» И Рейн ужасно разнервничался. Если я Вас попрошу, позволите мне для моей домашней коллекции снять Вас видеокамерой, Вы не начнете психовать?
— (Доброжелательно). Психовать не буду, а просто не позволю. Я не могу понять, почему Рейн вспылил? Когда мне задают вопрос, я всегда ставлю себя на место человека, который меня о чем-то спросит… И мне сразу становится ясно, как поступить. Думаю, Вы меня простите. Потом я только что подумал, что если бы Вы так рассказывали про меня… Могу даже рассказать анекдот, и Вы поймете, почему я не разрешил Вам.
— Нет, анекдоты, я надеюсь, Вы мне подарите, я Вам просто верю и прощаю. Совсем нет секунд на анекдоты. Вот Вам анекдотический вопрос — Вы бросили курить?
— Да. Я бросил курить. Это было в 1995 году.
— А мне позволите закурить?
— Конечно. Я даже нуждаюсь еще в дыме. Странно… Но знаете что я скажу, я даже иногда люблю хорошо выпить. А когда запрещаю себе, но нахожусь в компании выпивающих, то пьянею быстрее этих счастливых людей.
— Что у Вас за алхимия, есть какой-нибудь секрет, которым Вы пользуетесь, заставляя людей улыбаться?
— Я не задумывался над этим. Первый раз в жизни мне такой «умный» вопрос задали. Жалко, что я в себя не заглядывал, в какую-то нужную скважину и не подготовился к ответу. Просто это может быть мой стиль? Может быть это натура такая. И я стараюсь чаще всего все обратить в шутку и чтобы от моего ответа больше было улыбок, чем озадаченных лиц, серьезного вида, рассерженного. Вот у Вас очень серьезное лицо.
— Я не допускаю, чтобы Вы никогда не проваливались, вместе с натурой, стилем, потрохами?
— Да. Сейчас я Вам скажу. Это было, когда я уже в цирке отработал 15 лет. И я считал, что я законченный профессионал. Мы гастролировали по всем странам мира и везде имели успех. И вот приехали в Японию. И вышли при полной тишине зала, сделали первую репризу… И также в тиши ушли… (Шепотом, с ужасом.) Потом у нас был еще один выход, и никто опять не смеялся… Мы были в страшном угнетении. Не могли понять, почему у нас нет никакого контакта со зрителями. Были уничтожены все трое. А трое — это — я, мой партнер и моя жена. Она нам помогала и участвовала в отдельных репризах. Совершенно молча мы вошли в комнату где гримировались, и я рассказал анекдот… (Изображая робость, смирение) Может разрешите, Олег, рассказать Вам его?
— (Огорченно и великодушно кивая.) Да, да, пожалуйста.
— Один еврей спрашивает у другого: «Ты знаешь, кто такой Эйнштейн?» Тот отвечает: «Это теория относительности». «А что это за теория?» Теория относительности такая: «Вот если Вы, Рабинович, всю ночь ласкаете женщину, молодую красивую женщину, Вы всю ночь ее ласкаете, то Вам кажется, что это одно мгновение. Но с другой стороны, Рабинович, если Вас голым задом на одну минуту посадить на раскаленную плиту, Вам будет казаться, что это вечность. Понятно?» «Абсолютно», ответил Рабинович. И когда я рассказал этот анекдот, мы захохотали и не могли остановиться, пока не уехали из Японии.
Но Вы, наверное, хотите узнать, почему не смеялась публика на этом странном представлении? На арене там был очень высокий барьер, который сделали наши конники. А зал был не амфитеатр, а просто прямой. И публика нас видела по пояс… Первая реприза была у нас со змеей, которую мы дрессировали, которая на нас бросалась. Поэтому публика не видела эту змею за барьером.
Дальше опять шла история с яйцом, которое исчезло, когда мы садились на табуретку. И на второй день мы вытащили наши репризы на барьер. И все пошло. Они нас просто не видели.
— Помните Петьку, который спрашивает: «Василий Иванович, а вооруженными силами планеты справился бы командовать?»
— Да, да. Образования не хватит, — ответил.
— Вам удавалось развеселить стадион?
— Я ненавижу выступать на стадионе. Ужасно, когда певцы известные выступают под фонограмму. Разевают рот, неживые голоса… Вообще в этом есть какое-то унижение. Я говорю про аудиторию большую.
— Мое печальное лицо не мешает Вам улыбаться?
— Никогда мне это не мешало. А если человек начинал со мной шутить первым… Тут у меня рот поползет до ушей. Он меня заражает, если улыбается. Иногда я сам делаю пробную вещь — рассказываю анекдот, и уже вижу, как человек реагирует.
— Давайте откроем окно. Так надымил, мне совестно.
— Нет, нет. Я сразу почувствую себя неважно. Начну кашлять. Но это кашель, который остался у меня от курения. У меня прокуренные легкие, 40 лет я курил ровно. Две пачки в день сигарет. Я потом мысленно рисовал себе картину, вот я месяц не курю, я мысленно складывал эти пачки сигарет в блоки, и у меня появлялось на столе три блока, шесть блоков. Был момент, когда я увидел стол, заваленный пачками сигарет. Но это я себе придумывал и начинал ликовать, понимая, что брошу.
— И что, вот так любите дым, и ни одной сигареты не выкурили за год?
— Нет, в шутку, я курю. В порядке строгого исключения, потому что я знаю, что… Первое время я думал, что, если я брошу, я не смогу писать.
— А я закурил в тюрьме. Стыдно в этом признаваться, я был там всего полгода. До суда. И еще в Сухуми. Через решетку видел море.
— И море шумело вдобавок?
— Нет, очень далеко…
— Жаль. Даже самый отдаленный шум как-то поддерживал бы Вас дополнительно. Если можно, за что же Вас?
— Тогда Набоков был запрещен, и на пляже я неосторожно дал почитать в Париже изданного Набокова и заодно покараулить штаны с бумажником мужчине, оказавшемуся КГБшником. В Москву вернулся через полгода без штанов и Набокова.
— Забыли перечислить кошелек. Сколько Вам было лет?
— (Сокрушенно) 50.
— Я Вам расскажу, что я видел после зарубежных поездок. Я пользовался тем что меня никогда не осматривали. И я тайно провез всего Солженицына. Мы его называли «Короленко». И мой друг спрашивает: «Ну, ты привез „Короленко“?» «Да как же, конечно». Эти книги читали только у меня дома. И я давал только тем кому доверял. Я удивляюсь на Вас! Вам 50 лет, неужели у Вас не хватало мудрости не доверяться первому встречному?! Вы думаете, я не рассказывал анекдоты? Против Сталина? Не рассказывал анекдоты политические в армии? Я рассказывал но у меня было человека два-три, с которыми я мог общаться.
— А я вот вспомнил, за воротами тюрьмы меня ждала жена, прилетевшая из Москвы на крыльях, но я не видел ее лица. Я вынес с собой из камеры крыс, вшей, лица уголовников. Мы шли вдоль моря, и его я не видел. Что-нибудь подобное было с Вами?
— Я Вам скажу. То же самое! Когда 7 лет я не был дома (из них 2 года войны), я вообще не верил, что буду сейчас в Москве. Помню был месяц май. Я шел, в какой-то трамвай вцепился со своим мешком вещевым и чемоданом деревянным. Это, как вышел из тюрьмы. Но может быть была и двойственность. У меня оглушенно сердце билось, радость меня переполняла безумная, и я подумал про себя — вот так умирают от радости. Когда я пришел домой, я две минуты не мог говорить. Собака у меня была, семь лет меня не видела, она меня узнала, она бесилась прямо. Давайте, я заодно скажу, что у меня есть жена, с которой я живу (можно не считать разных перерывов?) уже 40 лет. У меня один сын, у меня трое внуков.
— Вот Вы так странно курите-не курите, а я должен Вам поверить, что Вы никогда не были дополнительно влюблены?
— У нас есть такая шутка: как называется мужчина, который с женой прожил всю жизнь и никогда ей не изменял? Как называются такие люди? Ответ. Одномандатные.
— (Недоуменно.) Это связано с выборами?
— (Терпеливо.) И словом манда. Оно здесь используется… Чапаев держит экзамен в академию, ему задали вопрос: «Какие документы Ленин подписывал не читая?» Он задумался, а Котовский, Вы помните его, кто это был? Он высокий человек, совершенно бритый, с голой головой. Котовский ему подсказывает «Мандаты».
— Ваши анекдоты где-нибудь можно купить?
— (Гордо.) Нигде не продаются. (Хитро успокаивая). Но не волнуйтесь. Я Вам подарю.
— Вам никогда не приходило в голову бросить цирк, перестать сниматься, а только рассказывать или инсценировать анекдоты?
— Тогда я был бы режиссер, да? Я подумаю. Это было бы ужасно трудно.
— Зная, понимая бесконечное количество анекдотов… Не похожи ли Вы, не ощущаете ли Вы себя путником, бредущим сквозь вьюгу.
— Нет, очень мрачно. Совсем не так, никакой трагедии. Они появляются у меня ассоциативно, к случаю. Меня отец учил рассказывать анекдоты. Самые лучшие анекдоты, когда они по ассоциации или к случаю. И как этого не понимают люди, ну, например, читающие лекции?! Как это может украсить, заставить внимательно слушать. Есть изумительные анекдоты, звучащие во все времена, У меня сердце с утра болело. Я шел в цирк и настроение у меня было ужасное. Потом меня постригли и ничего, я сам себе сказал: «Я буду жить долго. Особенно после стрижки».
— Вот Вы сами сбились на трагизм. Я Вас заразил. Шли сюда, пришли в свой второй дом.
— В кои-то веки начнешь говорить о вечном… Вот Вы мне подарили книгу, это приятно, книги для меня самое ценное. Я подумал, у меня будет эта книга, фотографии Ваши дивные. И радость о ней. Раньше радость была, знаете, достал колбасу или сосиски охотничьи, которых сейчас уже нет. А радость, оттого, что напомнили мне об Израиле? Что ее тоже сбросить со счета? Мне было так приятно, когда я оказался в Израиле. Я неделю там провел. Ко мне подходили на улице… И в общем, я был потрясен.
— Совместная работа с какими артистами Вас также потрясла?
— С Гурченко мы снимались, да. Ну, во-первых, этот фильм плод гениального режиссера, им была выбрана гениальная артистка. Я люблю ее. Она одна из лучших артисток. Я знал ее судьбу. Она написала чудесную книжку. Фильм назывался «20 дней без войны». Автору Симонову сказали: «Зачем Вы берете на роль героя Никулина? Он антигерой». Он ответил: «Вот такого героя я себе и представляю». Симонов показал мне 5 актрис, которые должны были играть эту женщину, с которой я за 20 дней командировки в Ташкент переспал. И я нашел себе довольно симпатичную, молодую, и такая она у меня была мимолетная… А оказалась на всю жизнь — Гурченко.
Я расскажу, что делал гениальный Герман. Там сцена происходит в международном вагоне времен войны еще. (Из красного дерева с туалетами внутри). Вот как раз в поезде с ней мы должны были познакомиться. Он снимал… Ну, Герман ненормальный режиссер. Снимали пол вагона. Взяли павильон, будто бы сидим в купе… Сзади вертелись барабаны, как будто проплывают там поля, степи, а мы, значит, должны сидеть, разговаривать. Люди трясут вагон, чтобы мы немножко качались. Он сказал: «Дайте мне вагон». Достал вагон где-то, который пригнали в Ташкент. В этом вагоне, это была зима, на улице минус 11. Он в этом вагоне, где проходили съемки, выбил стекла, и в этом холоде мы снимались.
— Но это же садизм…
— Садизм, да. Но потом я понял, что так бы мы не сыграли никогда. Он добился. Ведь фильм его, всякие маленькие детали, все это здорово. Так вот, а это был вагон такой более менее теплый. Он когда беседовал с нами, то говорил: «Вы должны готовиться, будет любовная сцена. Вы должны быть ближе, так сказать, больше познакомиться». Мы с ней были очень мало знакомы. Я с ней соприкоснулся в первом своем фильме, где Гурченко играла героиню. Это был фильм «Девушка с гитарой», где я играл эпизод. Я видел ее со стороны, она была уже звезда. Командовала там. И… утром, рано утром нас там будили на съемку, в шесть утра, я подошел к ней, я стоял в прохладном вагоне в одной майке и трусах. И говорю: «Доброе утро». Она говорит: «Что Вы в таком виде?» Начинаю сближаться.
Ну, потом там момент, когда я ее несу на руках в постель, и она должна говорить: «Какие у тебя сильные руки». Когда во втором дубле не получилось что-то, она говорит: «Какие у тебя сильные руки». Она говорит тихо, этого никто, не слышит.
Анекдот, кстати, о Германе, когда он набирал массовку по 2000 человек, орал как самый несчастный, что эта картина разорит его, надо платить за все, всем. Это для него была беда, когда один режиссер набрал массовку, бой. Идет война. И он говорит: «Вы меня разорите», ему ответили: «Не волнуйтесь, я приказал настоящими патронами».
— Я вчера беседовал с Караченцовым. Не вспыхнете ли анекдотом о Николае?
— Нет. Караченцов хороший.
— Вы слышите, наверное генерал скандалит…
— Да, может быть, дорогой Олег, простите меня, я очень сожалею, что обрывается беседа, позвольте мне надписать Вам свои книги и благодарю Вас.
Олег Битов Я ПЕРВЫЙ, КТО ПОСМЕЛ СКАЗАТЬ ПРАВДУ О БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЕ
— Я боюсь за свой дрянной диктофон. Если не выдержит напряжения нашей беседы, Вы позволите, мы ее закончим на Вашем? И вообще не дадите его на неделю?
— Я бы дал, но он неисправен.
— Вами шумно интересовались спецслужбы нескольких стран. Если бы Вы подозревали, что я в маске журналиста подослан к Вам, все равно дали бы диктофон?
— Смешное говорите. Поскольку он все равно не работает — какая мне разница. — А что касается спецслужб, то в этих организациях я знал людей всего спектра человеческого интеллекта — от полных идиотов из службистов — до людей высочайшего разума. Последних больше во внешней разведке. Вы — не оттуда, во-первых, потому что не могут мной сейчас заинтересоваться, по крайней мере после семилетнего перерыва; во-вторых, когда видишь много таких людей, начинаешь подмечать некую профессиональную общность между ними, некие чисто профессиональные черты — общие. И, может быть, опережая дальнейшие расспросы — скажу, что я пришел к выводу, не очень оригинальному, но выстраданному. Между спецслужбами отечественными и западными по существу нет никакой разницы, и там и там мало кто кого интересует. Всех интересует, укладывается ли эта личность в ту или иную разработку, схему, которая им нужна или дорога. И тут не могу не попенять всем тем, кто мечтает о времени, когда в спецслужбах отпадает необходимость. Полагать, что при демократии спецслужбы не нужны — чисто наив.
— Будете ли Вы себя ругать, если вдруг убедитесь, что я все же оттуда?
— Если допустить, что это так, хвалил бы Вас, что Вы хорошо исполнили профессиональный долг, Вас ругать было бы не за что. А себя, конечно, мог бы ругать за то, что не разобрался, не раскусил.
— Не хотите рискнуть? Давайте заключим пари — если Вас через год вызывают в органы и показывают эту пленку, Вы выиграли 500 долларов, если нет — Вы довольный высылаете мне в Хайфу перевод.
— Подобное пари не входит в программу нашей беседы, а является импровизацией, причем не лучшего свойства.
— Спасибо, поставили меня на место. И самое время Вам представиться.
— Олег Битов. Или Олег G. Битов, как говорят на Западе, сокращая мое отчество — Георгиевич. Понятие отчества, сколько им не объясняют толковые словари, ни до кого не доходит, абсолютное большинство ошибок англоязычных писателей сводится к этому. К Набокову обращались бы либо «m-r Nabokoff», либо «Vladimir». Американцы очень легко переходят на имена, достаточно посидеть с ними один вечер. Большей степени фамильярности не знает никакой другой язык.
— А Ваше любимое произведение у Набокова?
— Набокова я бы не отнес к любимым писателям. «Лолиту» — выделяю, и простер свое любопытство до сравнения английского варианта, первоначального и русского текста и совершенно согласился с автором — тот спустя время попытался его не перевести, а заново написать по-русски. Действительно, язык у него «заржавел» — более он таких попыток не предпринимал. Русская «Лолита» скучнее английской, более неуклюже написана.
— Писатель двадцатого столетия, в котором Вы нуждаетесь более, чем в других?
— Булгаков. Из поэтов — сложнее, поэзия в большей степени воспринимается в зависимости от минуты, настроения. Могу назвать двух нобелевских поэтов — Пастернака и Бродского.
— Скажите, какое-нибудь лекарство Вы принимаете систематически?
— Прежде всего, антиаллергики. Мгновенно действует кокаин — иначе, чем на кокаине меня нельзя оперировать. Я имел несколько раз в жизни это удовольствие. Кайф был, привыкания — нет.
— Булгаков, Пастернак, Бродский— не оказывают ли на Вас подобное лечебное воздействие?
— Для мгновенной поправки настроения я прибегаю к книгам, которые знаю чуть не наизусть, — братья Стругацкие «Понедельник начинается в субботу». Еще «Три мушкетера» в переводе 1940 года, и третье — Кот Бегемот, то есть шутейные куски. Также не исключаю Ильфа и Петрова — достаточно все богато, дает почти мгновенное обезболивание.
— Можно ли сравнить… У Вас есть жена, которую Вы любите, двадцать лет с ней живете, ссоритесь с ней и живете достаточно счастливо; а эти книги — как любовницы, с которыми Вы жене изменили?
— Условно точное. Потому что Бегемот это тоже Булгаков. Вообще считайте, что у меня гарем, где грани между женой и любовницей не существует.
— Но я не полностью представился. Итак, журналист-переводчик, который 11 лет назад вдруг оказался героем мировой сенсации, суть ее напоминать не буду, предоставляю это Вам. Но следствием явилось то, что примерно с год я входил в категорию людей самых знаменитых — рубрика «People». Эта известность носила двусмысленный, а может и скандальный характер. Как бы «слава с душком» — то ли он украл, то ли у него украли. В последующем я старался доказать, что я на том не кончился, и среди последующих публикаций — а в «Литературной газете» я проработал еще 8 лет — есть такие, которыми я горжусь больше гораздо, чем в ту пору.
— Вы в «Литературную газету» вернулись героем, все оказывали Вам уважение? Или опять нечто с душком?..
— Большая половина пыталась делать вид, что вообще ничего не случилось. В то же время в газете остается и был очень большой процент людей старшего поколения, что кстати является причиной ее теперешнего достаточно плачевного состояния. Люди не могут переступить через себя. И в этом смысле школа сталинского воспитания работала против меня. Ибо, во всяком случае, я вел себя не так, как надлежало бы вести себя в любых обстоятельствах пионеру Павлику Морозову. Я плыл по течению. А из водоворота — любого — можно выплыть лишь по течению — это сказал не я, а мой юрист.
До конца, до последней запятой я и сам в этом не разобрался. Сначала, когда я исчез, освещали в печати сочувственно по отношению ко мне и резко — по отношению к спецслужбам. История эта началась и была неким следствием начала второй холодной войны. Я умудрился прилететь в Италию в тот самый день, когда мы сбили южнокорейский лайнер. И по условиям кинофестиваля я еще целую неделю об этом не знал, а начал узнавать это только тогда, когда резко негативная реакция Запада достигла уже очень…
— Так что именно с Вами случилось?
— Стукнули меня. На затылке шрам… А потом поставили в условия, когда вернуться я уже не мог. Должен сказать, что я с этим смирился, даже и обдумывал, как объединиться с семьей уже там, жил вполне обеспеченно и не было бы «второй серии» моего возвращения домой. На возвращение меня спровоцировали западные спецслужбы, которые стали меня усиленно втягивать в так называемое «Дело Антонова» — о покушении на папу Римского. Что я на самом деле думал, что делал — это мало кого касалось. Если бы в Венеции было хоть советское консульство все было бы иначе. Через двое суток я оказался в Великобритании. Наши не имели никакого отношения ни к похищению, ни к возвращению. Когда я вернулся, они мною очень интересовались. И я думаю, я им помог. В результате процесс-то по делу Антонова был выигран.
— Они предлагали Вам что-нибудь за помощь? Вы, конечно, отказались…
— Не уверен! Если бы как следует мне привернули бы руки к лопаткам, то допускаю. Но гадать, что если бы да кабы… По-человечески словами — это входит в ритуал… Я никогда не знал ни должностей, ни даже фамилий людей, с которыми общался. На Западе визитки в большом ходу, но большой вопрос, соответствует ли фамилия данной человеку при рождении. При каждой операции выдается полный набор документов, в том числе визиток, с фамилией, соответствующей этой операции.
— С какой другой Вы сравните профессию разведчика — по мере отвращения ли, восхищения ею?
— С профессией киноактера, только в титрах имена не упоминаются. А что касается отвращения — не знаю… Те, которые проливали кровь и те, с которыми я имел дело — очень разные люди. Я думаю, что если на карту будет поставлена профессиональная карьера и даже профессиональный успех, то очень многие из не способны ходить по трупам. В принципе я считаю, что эта профессия без далекого будущего. Надеюсь, хотелось бы думать. Побаивался, даже — как бы не случилось и со мной, думаю, помог и возраст. Про некоторых думаю — как же ты такой умный, туда попал — не вырвешься. В то же время они проявили заботу о моем здоровье, обследование закатили по высшей категории; до поры проявляли большое внимание.
— А есть профессия, которая внушает Вам ужас?
— Палач.
— Вы допускаете, что в ближайшие годы их вновь вынудят стать палачами? Возможно это для России?
— В России все возможно, к сожалению. Вся логика истории учит, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку, и сталинщины больше не будет, даже если коммунисты победят на ближайших выборах. «Державники» — эти могут, но пока что не вижу реальных шансов их прихода к власти. В 1985 году таможня изъяла из моей фонотеки всего Окуджаву и Высоцкого. Сейчас — ничего не отбирают.
— Если они все же придут к власти и начнут издавать ужасные законы, Вы уедете или останетесь жить в России?
— Это зависит от очень многих обстоятельств. Однозначного ответа нет.
— Как Вам нравится программа «Времечко»?
— Как правило, целиком ее смотреть не могу, а кусочками — бывает.
— Каким Вам человеком кажется Новоженов?
— Я не так давно печатал интервью с ним, редактировал, и очень боюсь, что чисто личного впечатления не получится — одно наслаивается на другое. Я очень удивился, увидев его в кругу юмористов — человек совершенно не этого типа, скорее, занудный, чем юморной.
— Вам не кажется, что у него маленькая мания, что он считает себя очень умным человеком?
— Я видел очень мало людей, заведомо считающих себя дураками.
— Один из них сидит перед Вами. Вы этого не видите?
— Извините, это поза. То ли постоянная, либо экспромтная, извините, Вы похожи на человека, не уверенного в своих силах и возможностях. И если Вы человек, не уверенный в себе на самом деле — это пройдет. У меня на протяжении нашего общения не возникает к Вам неприязни. И радости, что познакомился с человеком необычайным — тоже нет.
— Назовите, пожалуйста, три имени людей, с которыми Вы через полчаса это почувствовали.
— Понтер Прасс — один из величайших немецких писателей. Генрих Белль, который подкупил меня своей простотой и заинтересованностью в беседе. Георгий Тараторкин. Ему был интереснее другой человек, чем он сам. Впрочем Вашу заинтересованность я тоже чувствую. Но с Тараторкиным мы сидели, немножко пили водку, разговаривали за жизнь, за религию, за искусство. Это была беседа, двух, смею думать, интеллигентных людей. И поэтому элементы некоего самоанализа — как я ему кажусь и т. д. — думаю, взаимно отсутствовали.
— Если Вы еще выдержите 20 минут, то во имя чего?
— Я все-таки верю, что как бы Вы потом ни обрабатывали, сокращали текст — смысла Вы не исказите. Хотя некоторыми своими работами я горжусь больше, чем тем, что будет в Вашей эпопее. Я, например, первый, кто посмел сказать правду о Берлинской стене. Это было за полгода до ее крушения, еще при Хоннекере. Правда, материал в мое отсутствие был сильно порезан (я был в отпуске). Эта стена стояла у меня колом в горле с момента, как я ее увидел. Еще в 1989 году я сумел об этом рассказать и усеченный материал все равно перепечатывался и комментировался. Был чешский журнал (вроде нашего «Вокруг света») — попросили разрешения на перепечатку; я с ними длительно дружил, предложил им полный текст. Поставили в номер полный текст, иллюстрации, датированный в ночь 8–9 ноября; 9 ноября стена рухнула. Представляете?
— Скажите, по Вашему мнению, Бог помогает в равной степени людям выдающимся и обыкновенным, даже вовсе бездарным?
— У меня такое впечатление, что в этом смысле Всевышний поступает со всеми, как азартный игрок. Если дал крупный шанс, должен осадить этого человека в дальнейшем. И наоборот.
— Кому он скорее должен помочь — Вам, выдающейся личности, или мне, человеку незаметному?
— Вам. Вы подтверждаете высказанный мной выше тезис о некоем Вашем комплексе неполноценности. В любом случае важнее, чтобы он поселился в Вашей душе.
— И все-таки Вы надеетесь, что скажете нечто значительное, или уже сказали… слова, выражения, метафора…
— Случайность если только поможет, потому что я сегодня не в форме. С утра я просыпаюсь обычно не сразу и очень медленно встаю. Но бывают хорошие дни когда к середине дня я, что называется, набираю обороты и маховик душевный начинает крутиться ну, как будто это ему не стоит никаких усилий.
— Вы в России знаете каких-нибудь журналистов выдающихся, звезд, которые умеют спрашивать, а Вы испытываете наслаждение?
— Интервьюеры блестящие? Трудно сказать. Очень нравится, как это делает Владимир Познер. Отт — не отдаю ему лавров — он сворачивает в пошлость. Юрий Рост — вот кого бы я назвал, хотя не был свидетелем. У меня жутко напряженный график, особенно на субботу-воскресенье.
— Подскажите, как мне с ним беседовать, чтобы не впасть в ошибку?
— Юра — человек достаточно самоуверенный, между Вами есть нечто общее. С ним Вам надо бы беседовать совсем по-другому. Он даже более агрессивный. Хотя бог его знает. Если я хотя бы один раз был свидетелем…
— Познер, Юрий Рост. Третьего нет в России?
— Нет, почему же. В «Литературке», в ее гвардии Рост далеко не единственный.
— Из названных двух — я обоим уступаю в ведении беседы — и Познеру, и Росту?
— Откровенно — не знаю… И потом надо судить по печатному тексту…
— А теперь скажите мне, пожалуйста, о брате. Вы никогда не считались славой?
— Никогда. Отношения у нас нормальные. Не то, что мы когда-то заключали некое соглашение, но мы как-то молча пришли к соглашению, что ни дел друг друга, ни наших отношений мы не обсуждаем. Это было давно. Такой разговор начала покойная мама, которая умерла в 1990-м, и при всем том присутствовала; поэтому все это железно и никакому пересмотру не подлежит. И даже, я бы сказал, независимо от того, как ведет себя Андрей.
— Скажите, а может он в беседе со мной нарушить это обыкновение?
— Это мне неизвестно. Я только знаю, что его в Америке донимают и пытаются припереть к стенке, в Германии относительно меня неоднократно. И ни разу от этих договоренностей он не ушел.
— Ваша жена знает, что Вы меня ждали сегодня, если она спросит, ну как поговорили?..
— Я отвечу, — обыкновенно. А знаете, чем я занимаюсь вечерами? Я играю в компьютерные игры и не боюсь в этом признаться. Я не признаю стрелялок-догонялок, а играю в логические игры — в шахматы, в преферанс, в последнее время — бильярд, разгадываю головоломки.
— Вы одинокий человек?
— Я довольно одинокий человек.
— Совсем ни одного человека нет в Москве, которого Вы зовете, в ком нуждаетесь?
— Иных уж нет, а те далече. Есть те, кто хочет со мной общаться… Но «Согласие есть продукт при непротивлении сторон» — сказано в одной великой книге… Такого человека, которого бы я был бы тоже рад видеть всегда — нет, правда есть собака.
— Вы не исключаете, что если у Вас будет мой телефон в Хайфе, Вам вдруг захочется позвонить?
— Нет, не исключаю. В последнее время не знаю откуда только мне не звонят, до Гавайских островов и Новой Зеландии включительно. Но это не только мне, а жене и особенно дочери. Дочь вышла замуж и эти ее звонки… Мы совершенно перестали этого бояться. Я понимаю, что довольно дорого. И я скорее не исключаю, что мы без записи посидим с Вами и разопьем чего-нибудь, пока еще можно, Почему-то мне кажется, что наше общение не последнее. Но если моя мечта сбудется, и я окажусь в Израиле — хоть у меня не один и не двое знакомых, я наверняка на Вас выйду. А вот в Америке я позвоню по единственному телефону.
— Мне следует воспользоваться тем, что Вы на пике возможной откровенности… Скажите, Вы себя в десятку лучших журналистов Союза включали?
— В десятку лучших переводчиков — безусловно. Известность журналиста скоротечна; был период, наверное, да. Сейчас я работаю в маленьком и малоизвестном журнальчике и вряд ли имеющем глубокую перспективу. Если скажу, что от скуки пошел я сюда, это было бы преувеличением. Я редактор отдела, он назывался очень смешно «Культура и увлечения»; просто просидев три недели дома, я понял, что мне скучно.
— Вы берете взятки от желающих напечататься? И какая Ваша зарплата?
— Никогда. А зарплата в среднем полтора миллиона.
— Вы могли бы здесь взять, если были бы взяточником?
— Здесь — нет. Потом у меня есть серьезный литературный заработок — переводы, прежде всего.
— Где Вы отказывались от взяток?
— Раньше предлагались взятки за публикации. Смешные были цифры, потому что не было точного курса доллара. Тысчонку давали, полторы. По тем временам большие деньги.
— Знакомы ли Вам — по личным ощущениям или понаслышке — выражения «мой тип женщины», «искра, пробегающая между мужчиной и женщиной»?
— Искра — да. Всегда чувствую, почти мгновенное тяготение, притом чаще всего в случае, когда не без взаимности… Вообще-то поздно мне говорить на эту тему. Две мои жены — абсолютно разные и по физическому типу, и по внешности. А вообще про женщин мне нравится анекдот.
Идут русские по Парижу, смотрят: какая женщина! — триста франков. Другая — дороже, ну и так далее. И кончается репликой: «Есть порядочные женщины, но очень дорого».
— Разочарования, которые постигают нас при попытках сближения между людьми — разочарование в друге или женщине, что сильнее?
— Конечно, разочарование в дружбе, потому что ощущаешь силу предательства. Если обманывает женщина — это не предательство, а нечто другое, хотя моя нынешняя жена — очень хороший друг.
— Почему Вы не считаете нужным рассказывать обо мне жене, не дожидаясь, спросит ли она?
— Я не то, что не хочу. Просто знаю, в каком она выжатом состоянии приходит домой. И сплошь и рядом мы мало что успеваем обсудить. Часто общаемся по телефону. Многое взяла на себя, не подпускает к машине. Она моложе меня на 13 лет — это очень существенно.
— Бог о Вас думает? Когда последний раз Вы ощутили, что вот — Бог Вам помог?
— У меня был совершенно страшный автомобильный инцидент… Спасения не было — но остались живы и мы с женой, и цела машина, как это случилось — я не знаю. Гололед, скорость 100 км, и нас несло на другую машину…
— Вы Даниила Андреева читали «Розу мира» — всю или частично?
— Не всю. Скучновато.
— Вы разделяете мнение Андреева, что помимо Бога-творца, есть еще и дьявол — тоже творец?
— Дьявола человек создает себе сам.
— Случай не управляет ли Вашей жизнью?
— Еще как, вмешивается, когда его не ждешь — и с плюсом, и с минусом…
Владимир Стеклов ТОЛЬКО ИЗРЕДКА НАМ ДАЮТСЯ ОТРЕЗКИ НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ
— Разве Вы не замечали, когда Вы один, Вы умнее, стереоскопичнее? И тем не менее Вы любите разговаривать с другими. Отчего?
— Мне не хочется разглядывать только свою цветную душу бесконечно. С некоторых пор я стал избегать внутренних монологов. Я постоянно среди людей и наверное, я бывал неадекватен в своих поступках для окружающих. А виной тому были внутренние монологи с самим собой, моделирование различных ситуаций. Я критичен к себе и считаюсь с мнением окружающих. Я закомплексованный человек и болезненно реагирую на оценки со стороны не только в профессии, но и в жизни, в быту. Более того, это даже острее и больнее воспринимается, чем профессиональные оценки.
— А что такое любовь?
— То, что происходит между мужчиной и женщиной, это не в области разума, а в области чувств. В области разума нет никаких объяснений, доказательств.
— Вам было бы приятно, если бы в случае Вашей смерти, о Вас вспоминали и жалели так, как жалеют о Евстигнееве, Леонове?
— Не знаю, но думаю, что там другая система координат, шкала ценностей. Совсем другие мерки. Там я очень изменюсь.
— Слова «я есть — смерти нет, меня нет — смерть есть» неточны. Многое думают, что смерть — еще прижизненное событие.
— Не знаю, поверите Вы мне или нет, но я думаю это меня до сей поры не занимало и не занимает.
— Не любите говорить о смерти?
— Нет, не о смерти, а об оценках, которые я получу или не получу.
— Вы помните, сколько человек думают о Вас, что Вы самый родной, самые необходимый, лучший собеседник?
— Слишком мало. В лучшем случае пятеро.
— Кто из них думает о Вас, что Вы, прежде всего, умны, что Вы интеллектуал?
— Я думаю, что они в первую очередь станут оценивать не мои интеллектуальные и даже не профессиональные способности. Будут думать и вспоминать как о родном человеке, и конечно, в превосходных степенях, потому что для всех нас близкие люди это все.
— Вы юноша были другой? Ведь Вам 47, это пора зрелости.
— С трудом могу вычленить свое «я» — оттого, что занимаюсь оборотническим делом. «Профессией» это занятие я называю с опаской. У меня есть совершенно твердая уверенность, что я мутировал, как личность. В зависимости от среды, литературы, общества, и особенно моей профессии происходит изменение. Со мной это произошло. Я вступаю в очень близкие и непростые отношения с теми существами — не скажу «персонажами», — которых мне приходится играть. Они в меня входят — и в моих словах нет позерства.
— Вы хорошо говорите, легко. Хотели бы Вы, чтобы Вам слова давались с усилием?
— Я думал много над вопросами, которые Вы мне задаете.
— Многие — и обыватели, и мудрецы — полагают, что актеры — люди второго сорта, пожертвовавшие жизнью, обезличивающиеся. Проклятая профессия, как дело проститутки… Они смертельно измучены, уставшие. Вы признаетесь в этом? У Вас были приступы отвращения к работе?
— Что значит, были? Они постоянно присутствуют. Существа, которых играешь, моделируют в чем-то твои поступки. Я постоянно занимаюсь заимствованием. И многое актеры часто говорят цитатами из ролей. Я знаю, что это проституитивная профессия. Но я пытаюсь, работая на профессиональной сцене, показать, что это прекрасная профессия. Хоть и жестокая, и беспощадная.
— Вы гениально сыграли в «Поминальной молитве» еврея, не будучи евреем. Как Вам удалось сделать то, что не предполагали ни Шолом-Алейхем, ни Захаров… Вы не ощущали, что Вы играете один, играете лучше остальных?
— Нет, у меня нет комплекса полноценности. Это не совсем мой спектакль. Я вошел в уже готовый спектакль вместо ушедшего Евгения Павловича. «Поминальная молитва» делалась специально на него. И я ощущал себя неким кожзаменителем.
— Примеривали ли Вы какую-нибудь другую профессию?
— Если для хлеба насущного, то можно найти дело. Я могу профессионально водить машину, заниматься мелким ремонтом — в быту мне это доставляет удовольствие. Но всерьез… Я не могу сказать, чем бы стал заниматься, потому что, даже не занимаясь своей работой, я в любую минуту в этом. Случись что, я ничего бы, наверное, не делал. Лучше бы я паразитировал на ком-то. Моя профессия не просто дает мне хлеб насущный, я этим живу.
— Предположим, у Вас есть большое состояние. И не захотите Вы на сцену. Чтобы Вы делали? Рыбу бы ловили?
— Да. В карты бы шлепал.
— Покажите мне меня, как я допрашиваю Вас…
— Я не умею. Это особая школа, особое воспитание. Не оттого, что не хочу. Я, наверное, никогда бы не смог держать куда-нибудь экзамен или показываться кому-то.
— Вы были развратным человеком в юности?
— Почему — был? Я не думаю, что все, что связано с чувственной стороной, все прекрасно.
— Значит, было что-то, чего Вы стыдились после? Групповой секс, или что-нибудь в этом роде?
— Каждый человек что-то держит за душой, какие-то тайные желания… Когда есть любимый человек рядом, то все хорошо — между любящими все позволено. Тут можно до бесконечности придумывать, что мы с женой и делаем. Вот если рядом нет такого человека, то начинаются и фантазии, и ложь…
— Что Вы больше любите — женщину или работу?
— Работу.
— А что остается еще, помимо любви к работе и к женщине?
— Хорошо бы себя полюбить.
— Кого Вам больше жалко? Себя или людей?
— Я не могу рассуждать о вселенной вообще. Жалко близких. Не могу я достаточно серьезно относиться к человечеству, мол, «пойми и прости».
— Можете показать, как Ваша жена ведет себя на кухне, что говорит?
— (Показывает). Она старается угадать, что мне хочется. Мне больно говорить об этом, потому что жена далеко. Она довольно известный врач, и сейчас уехала на практику в Вашингтон. На целый месяц. Поэтому мы только перезваниваемся.
— Вы хотели бы поумнеть? Страдали ли Вы, что недостаточно умны?
— Да, страдал.
— Какой самый умный человек, которого Вы встречали?
— Не самый умный, но умница. Он живет сейчас в Израиле, режиссер Портнов.
— Расскажите о своем отношении к зрителям.
— Раньше меня беспокоила обратная связь. Прошел спектакль, аплодисменты — и разошлись, каждый сам по себе. А как бы понять, что и как. И являлись люди странной профессии — критики, которые все объясняли. А сейчас меня это не занимает. Не то, чтобы я с удовольствием играл бы в пустом зале. Но меня перестало занимать, нравлюсь я или нет. Я знаю, чтó надо.
— Это о Вашей жене сказано: «Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться»?
— Мы накануне отъезда очень сильно поругались. Когда я услышал, как хлопнула дверь лифта — мне показалось, что какая-то крышка хлопнула. Я подумал, столько времени ее не будет! Мне хватило несколько секунд осознать, что надо сделать… Я напялил на себя, что успел, выскочил — но увидел только хвост уехавшей машины. Было воскресенье, машин мало, водители избалованные, все отказываются. Остановилась, наконец, машина — водитель спрашивает: сколько? Я — сколько скажешь… Погнали в Шереметьево-2. Погода ужасная, дорога скользкая. Приехал гораздо раньше, ходил два часа сорок минут, искал ее, беседовал с таможенниками раза два. Передумал все — что-то с машиной случилось, или еще что-то. Молил Бога и дьявола, чтобы только прояснилось бы, что случилось. Так и не нашел. Потерянный поехал домой. Я не спал, считал часы, минуты, спрашивал по телефону, сколько летит самолет… В восемь утра был звонок из Вашингтона. И когда я услышал ее голос, я подумал, что это самое замечательное, что вообще случается. Мне казалось в зале аэровокзала, что, если я не выматерюсь, не затопаю ногами, у меня внутренности лопнут… Сейчас мне кажется, что это эмоциональная подпитка, зарядка. Думаю, для чего-то это нужно. Даже не понимаю, отчего я это рассказал… Но тогда я жил, а сейчас проживаю. Жизнь была — вот тогда. Только изредка нам даются короткие отрезки настоящей жизни.
Владимир Солоухин ПОСЛЕ БЕСЕДЫ СО МНОЙ ВЫ ВЕДЬ НЕ СТАЛИ КО МНЕ ХУЖЕ ОТНОСИТЬСЯ?
— Владимир Алексеевич, такая страшная средневековая тюремная решетка вделана в вашу дверь, я уже 10 минут в себя не приду…
— Эта решетка плод воображения моей жены. Я не виноват. Вы звонили, я ведь тут же Вас позвал. Вот чаем угощаю. Хотя у меня все качества характера сливаются тоже хаотически: от материнского наследства до всякого мусора. Это только в деревне — цельные натуры. Да и то всякие попадаются.
— Ладно, я моська, никому не известный, начинающий журналист, мечтающий прославиться… Но Довлатову зачем понадобилось над Вами издеваться?
— У Довлатова спросил, и он ответил, что мол это апокриф. Ну, апокриф, так апокриф. А в действительности было совсем не так. Проходили мимо нашего строя в кремлевском полку Сталин и Черчиль всего навсего. Оба маленькие. Иосиф Виссарионович ухмыльнулся. А книги у меня стали выходить только через несколько лет.
— Что отчетливее властвовало, управляло Вашей жизнью — судьба иди случай?
— Ну мне трудно решить. Давайте я Вам помогу, а Вы разберетесь сами.
Я демобилизовался. Саша Соколовский увидел меня с вещмешком. Мы вспрыснули. «Пойдем, я тебя устрою». Если бы на 15 минут позже я его встретил, то трудился бы всю жизнь на заводе. С одной стороны это был случай, но с другой стороны меня уже знали и ценили Луговской и Антокольский. К господу я обращаюсь только со словом благодарности. Я издал семьдесят книг, во многих странах мира побывал. Пришвин не перешел к следующей стадии: «Я — и деревня». Также он не писал остро политических книг. А я написал о Ленине, о революции, о религии.
— Может, Бог о Вас заботится?
— У Эдит Пиаф есть выражение «Меня всегда в критические минуты выносило на нужную дорогу». Я был в литературном объединении задолго до «появления в моей жизни» Сталина. Туда приходили Сельвинский, Кирсанов — я был всегда в форме, а мое имя было у всех на устах.
Вижу Ваше удивленное лицо, ну вот Вам причина моей везучести: пошел в «Огонек» — там написал «Владимирские проселки», а после меня взяли в «Новый мир». Меня как бы несло по оптимальному руслу. А вначале не было у меня ни кола, ни двора, но работа дала мне какую-то материальную основу. Хотя тут не совсем везенье, что-то видимо было в книжке.
— А Ваше лицо знаете какое теперь? Нет, лучше расскажите о самом популярном выражении Вашего лица?
— Я никогда не думаю, как выгляжу. У меня есть дурная привычка закрывать глаза. Я не фотогеничен. У меня не было масок. Я никогда не делал карьеры. Вот недавно приглашали в Политехнический. Мной интересовался сам Лужков, хотел меня видеть на столетии Есенина.
— Какие у Вас взаимоотношения с зеркалом? Только функциональные?
— Только в глазах человека, которому я не понравился, я вижу зеркало. Никаких зеркал я не знаю.
— А почему женщин столь магнетически влечет к себе зеркало?
— Женщины очень зависят от мужчин. Правда, бывают и мужчины, которые холят свой усики. У них тоже присутствует элемент кокетства, видимо те и другие устроены одинаково. Женщина слишком сложное существо, чтобы я толком ответил. Женщина — инструмент. Но есть и другие инструменты — красота природы, религия, дальше — искусство.
— Хотя бы предрассудку какому-нибудь подвержен праведник Солоухин?
— Предрассудок… Это суеверие, секты. Выдти на улицу и бить всех в морду. Посмотрим в словаре, как толкуется слово «предрассудок». Презерватив есть, а предрассудка пока не вижу… Вот, наконец-то: «Предрассудок — мнение, предшествующее рассудку, мнение не освоенное критически».
Никаких национальных предрассудков у меня не было. Костя Ваншенкин — еврей, Поженян — армянин, а большие мои друзья. Только негодник пьяница оскорбляет мои национальные достоинства. Ни с немцами, ни с неграми ничего подобного у меня не было. Здесь у меня заглушка.
— Вы сказали, что к Богу обращались с благодарностью, а для людей какие-нибудь слова накопились, или опять заглушка?
— Обращение зреет. Что-нибудь похожее на обращение Фучика.
— Как Вы относитесь к религиозным чудесам?
— Митрополит Виталий мне показывал мироточащую ветку, но я отнесся к этому смутно. Об иконах — это книга об искусстве, а не о прославлении чудес.
— Вообразите сказочную страну, куда Вы приехали и с изумлением обнаружили, что люди с запасом времени выходят на улицу, чтобы удовлетворить свое и чужое любопытство, вообразите, что в этой стране принято разговаривать с незнакомыми…
— Если не называют своего горя, я односторонне участвовал бы в этом процессе. И если бы не заглядывали в мой кошелек.
— Уже несколько недель пресса, телевидение успокаивает публику, мол, не волнуйтесь, коммунисты власть не захватят, все у Вас будет хорошо. Но вдруг станет хуже, чем даже в старые, страшные времена, а визу недовольным пришлют домой и проезд оплатят в любую страну, Вы уедете?
— Все равно не уеду. Это равноценно тому, как колхозных поросят выпустить в лес. У него (поросенка) уже атрофирован инстинкт борьбы за существование. Сейчас всех выпускают из свинарника и у людей началась ностальгия по нему. Я окажусь беспомощным. Я не смогу на Западе устроиться, как устроился здесь.
— А что такое «устроенный» человек? Или лучше другое спрошу. Скажите, с чего для Вас начинается человек?
— Скорее с ума.
— А если Вы идете по тротуару, торопитесь домой, жена суп уже разливает, и вдруг грохот, скрежет тормозов, кровь, все в двух шагах от вас. Как Вы поступите?
— При катастрофе не знаю. Но допускаю, что если мафиози стреляют, я не брошусь загородить собой кого-то.
— На прощанье, задайте мне вопрос, вместив в него все свое любопытство к моей особе.
— Вот мы с Вами, Олег Ильич, разных национальностей, но после беседы со мной Вы ведь не стали ко мне хуже относиться?
Игорь Кваша ПРО УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ ЗНАЮ
— Начну ни к селу, ни к городу. Я вчера был на концерте Розенбаума. Он Вам симпатичен?
— Симпатичен. Но я не очень понимаю его увлечения воинственной темой некоторого романтизирования войны. Может, я ошибаюсь, потому что у него есть очень страшные песни, которые мне нравятся. Песни Высоцкого нравятся мне больше. А Вам, что, больше нравятся песни Розенбаума?
— Я люблю одних великих поэтов: Мандельштама, Георгия Иванова или Ходасевича…
— А почему Вы о Розенбауме заговорили?
— Потому что он гениальный артист. Я не мог слушать его песни по магнитофону, читать сборники его, а когда попал на концерт — то увидел, что он гениальный артист. Всякий артист — в Костромской ли провинции, выпускник ли училища — все они по определению гениальные люди. Это жертвующие собой существа, несбывающиеся, не реализующиеся. Как преступники, проститутки, чиновники, военные — все мученики… Вот разболтался. Вы мне лучше не задавайте вопросов. Скажите, могли бы Вы придумать пять-шесть вопросов и задать себе самому?
— Нет…
— Почему Вам это сложно? Неудобно, скучно? Объясните, почему для Вас это невозможно?
— Что?
— Придумать самому себе вопросы и ответить на них в моем присутствии.
— Потому что себе задаешь самые сокровенные вопросы. А в Вашем присутствии надо учитывать интересы Вашей газеты, которых я не знаю.
— А в рубрику «Разговоры о сокровенном» не хотите?
— А Вы верите в сокровенный разговор в газете? Вы, вот такой напористый, энергичный?
— Да, я верю, что люди будут когда-нибудь говорить о сокровенном, не стесняясь. Чтобы газеты изменились — не пошлость, не глупость, не злобу дня печатали. Через сколько лет — через двадцать или сто — не знаю.
— Давайте договоримся, что, поскольку я очень плохо себя чувствую и сегодня первый день без приступов таких, которые нам не давали бы говорить. Хотя всю ночь я промаялся до шести утра, — но полчаса, сорок минут с Вами поговорю. Так Вы считаете, что получасовой разговор может быть сокровенным? Как Вы это себе представляете?
— Если Вы мне расскажите вот о чем… В стихотворении Пастернака кто-то умирает и говорит, обращаясь к Богу: «Кончаясь в больничной постели // Я чувствую рук твоих жар // Ты держишь меня как изделье // И прячешь как перстень в футляр». Пожалуйста, об этом стихотворении, об этих четырех строчках…
— Здесь проще говорить о Пастернаке, чем об этом стихотворении. Мне кажется, что поэзия не просто словоговорение, словосложение в особом порядке, это же нечто особенное, вообще поэзия… И поэтому мне кажется, что поэты — настоящие поэты — они все-таки явление от Бога, как вообще все искусство, но поэзия — в каком-то таком суммированном проявлении.
— У Вас есть ребенок?
— Есть.
— Сколько лет?
— У меня уже взрослый ребенок, у меня уже внуки!
— Кто у Вас в мире есть еще кроме жены, внуков?
— У меня в мире — друзья.
— Почему Вы друзей в этот ряд ставите, как это получилось?
— Ну потому, что они мне очень много давали в жизни. Это на чувственном уровне меньше, чем жена, дети. Да, конечно, меньше. Я не могу променять внуков и ребенка на друзей. Но это очень много.
— Сколько их наберется? Десяток? Пять человек друзей? Самых-самых… Друзья часто меняются, текучесть большая, как в кадрах… Из теперь живущих?
— Теперь у меня трагический период. Они все почти за границей.
— Звоните кому-нибудь?
— Ну, естественно. Я звоню.
— Сколько их? Три, четыре, пять?
— Ну, наверное, три. Вы как будто не слышите, что я говорю. Потому что я говорю, что друзья — не на животном, чуственном уровне. Это хотя сопоставимо, но не идентично. Потому что некий ряд этого, совершенно животного ощущения, когда — это мой ребенок, наверное, то, что дано человеку, как продолжение рода, как моя рука. Откуда это появляется, почему ребенок похож, почему у него родинка в том же месте, почему у него походка такая же, это же…
— Я так ничего и не понял. Какой траур скорее сведет Вас в могилу — потеря жены, ребенка или друга?
— Я про это и говорю. Конечно, близкие даны тебе на божественном уровне. Неразделимые с тобой. А с друзьями мы можем поссориться и разойтись, это будет болезненно, это будет трагично, иногда это обеднит жизнь, но…
— Игорь, поздравляю, все другие знаменитости умничали и говорили: «Конечно, друзья, что такое жена и родственники…»
— Я говорю наоборот.
— Поэтому гордитесь. Мне это ближе. Хотя им я говорил, что мне ближе то, что они говорят. Я провокатор, я лгун, я мерзавец.
— Как потеря ребенка может с чем-нибудь сравниться?
— Вот такое выражение: «Во всякой личности создается космос, что творят все художники мира вместе». Ложится на душу, верите Вы в это? Преувеличение, по-моему.
— Нет, не верю. Чего стоит один Пастернак. Я действительно считаю, что поэзия и музыка — более высокие виды искусства, чем театр. Его не отношу к такому высокому проявлению. Это тоже божественное проявление, но не такое высокое, как поэзия и музыка.
— Гениальные актеры, по-вашему, были, будут, есть в театре? Во все века?
— Да, будут. Но больше поэтов и композиторов. Театр вторичен.
— Назовите известных Вам.
— Вы знаете, в чем дело… В последнее время на каждой презентации, которые у нас проходят, все говорят это слово, оно сейчас затаскалось. Я не знаю, кто из современников гениальный, а кто не гениальный. Я видел проявления гениальности у Смоктуновского в «Идиоте». В БДТ. Вот это было гениальное исполнение, я это видел.
— Вы хотите ограничиться этим? Давайте ограничимся.
— Вот и я хочу…
— Сколько раз Вы говорили себе, как Пушкин, подпрыгивая: «Ай, да сукин сын! Ай, да молодец». Вы себя называли гениальным?
— Никогда. Мне очень приятно, когда так говорят, но я очень скептично к этому отношусь. Я не очень верю. Поэтому когда Вы, например, мне это говорите, внутренне я улыбаюсь.
— А если я докажу, что я солгал, Вы будете мне благодарны? Привыкли за брань, за критику благодарить? Или не умеете этого?
— Нет, почему, мне она всегда интересна. Не знаю только, почему я должен благодарить.
— Ну, Бога благодарят за болезни. Вы знаете, что некоторые религии…
— Ну, я до такого совершенства еще не дошел.
— Хорошо, тогда о другой благодарности. Игорь, Вы считаете, что Вам небо подарило Вашу жену Таню?
— Да.
— Если бы Вы думали по-другому, Вы, конечно, соврали бы в диктофон?
— Ну не знаю. Но этот ответ был искренен.
— На прощание спрошу, Вы не скучали, говорили с удовольствием?
— Про удовольствие не знаю, но не скучал.
Булат Окуджава МНЕ ПОМНЯТСЯ ЗАЕЗЖЕННЫЕ СТРОЧКИ
— Булат Шалвович, Вы теперь выздоравливаете и говорить Вам приходите чаще с самим собой, поэтому начну со злободневного. Помните лермонтовское «Выхожу один я на дорогу». Но дальше: «И звезда с звездою говорит». Скажите а если бы сочинилось у него как-нибудь так, что звезда сама с собой говорит. Как Вы думаете, все равно это стихотворение было бы шедевром?
— Честно говоря, в отличие от Пушкина, который грандиозное явление, Лермонтов, на мой взгляд, просто прекрасный поэт.
— А кто из поэтов XX века — Ваши любимые?
— Бунин, Блок, Набоков, Пастернак, Мандельштам. Ахматова и Цветаева — обе прекрасны. Но Ахматова — мой поэт, а Цветаева — не мой…
— Один только раз позволю себе Вас проэкзаменовать. Помните наизусть какие-нибудь строчки Набокова?
— О нет, я не помню. Я даже своих не помню.
— Вам никогда не казалось, что пристрастия, которые мы накапливаем за жизнь, достаточно случайны или вызваны нашей неповоротливостью, ненужной занятостью. Совершенный человек, наверное, может встряхнуться и все станет на иные места… Например, в один прекрасный день Вы идете по улице и думаете: «Я изменю свою жизнь».
— У меня такого не бывает. Это моя жизнь.
— Но Ваши пристрастия ведь менялись?
— Да, конечно. С детства я любил Пушкина. Так сложилось. Может быть, меня так воспитали, но десятилетиями я любил его. И в один прекрасный день, как Вы говорите, я его открыл. Это бывает не только у меня. Рождается ребенок, его приучают любить, и он любит. Только став взрослым, сознательным, он понимает почему любит.
— А Бунина Вы любили с детства?
— Я из семьи пламенных большевиков. Меня тайком водила в церковь нянька. И однажды, прознав про это, ее выгнали.
— В Бога Вы веруете, открыли его для себя?
— Нет. И сейчас это было бы искусственно для меня. Я думаю, что есть логика развития природы, и это называется Бог. А Бог как существо…
— Ни один умный человек так и не думает…
— Как раз многие люди думают именно так. А существование нравственного закона реально, но оно совершенно объективно.
— Что Вас больше всего поражало в жизни, чему Вы не переставали удивляться?
— Горькое и печальное. И к концу я ощущаю зло в большем количестве, чем раньше.
— Сталкиваетесь чаще?
— Ощущаю больше. Сталкивался и раньше, но полагал, что это случайное явление, что добро преобладает. Но сейчас я понимаю, что зло от злобы.
— У Вас есть дети?
— Да, два сына.
— И внуки?
— Да, внуку тринадцать лет.
— Вы ловили себя на том, что к внуку относитесь более нежно, чем к сыновьям?
— Так сложились обстоятельства, что с внуком я общаюсь редко, к сожалению.
— Вспомните, пожалуйста, эпизод, когда уговаривали себя перешагнуть через что-то?
— Было такое, но не хочу вспоминать.
— Как кончаются Ваши обиды, печали? Вам удавалось помнить в несчастье о том, что все проходит?
— Да, конечно.
— Скажите, размышляли Вы когда-нибудь о самоубийстве? Что Вас могло бы удержать от этого поступка?
— По природе я легкомысленный грузин. Меня совершенно не волнует мое будущее, меня волнует сегодняшний день. Исходя из этого я и живу. Я не задумываюсь никогда о смерти, хотя прекрасно знаю, что она предстоит. Никогда также не задумываюсь, что обо мне скажут, как оценят. Я живу и это мое счастье. Когда меня спрашивают, в чем мое счастье, я отвечаю: «В том, что я живу».
— Одни мудрецы рекомендуют думать о смерти, другие — нет. Случись такая оказия, чьим доверенным лицом Вы захотели бы быть?
— Во-вторых. Не хочу об этом думать.
— А если бы Вас пригласили быть доверенным лицом Ельцина?
— Я бы отказался, потому что мне это несвойственно. Я — доверенное лицо себя самого.
— Как Вы себя ощущали в музее Чуковского, где я Вас увидел? Вам было уютно?
— Да, потому что мы общались, давно не виделись. Если бы я знал, что туда приедет публика, было бы иначе. Я знал заранее, что придут люди, мне симпатичные.
— Не могли бы Вы вспомнить эпизод, когда кувыркались вниз головой?
— Нет.
— Какие любимые истории любите пересказывать близким? Чем-нибудь они объединены?
— Они объединены мной. Человеком, знания и опыт которого ниже опыта Земли, и в связи с этим который довольно смешон.
— Скажите, сколько примерно времени, лет или дней потрачено на то, что Вы выступали, ездили… Вы не жалеете об этом?
— Нет, не жалею. Мои песни — это хобби. Проза и стихи — настоящее. Мной заинтересовались, и я стал напевать стихи. Средством заработка это не было, просто доставляло удовольствие.
— Никогда не говорили себе: «Не надо было этого делать?»
— Говорил. Само положение выходящего на эстраду человека мне совершенно не пристало. Но трудно было отказываться, да и приятно было, что я интересен. Так я стал известным бардом, хотя не имею на это права. Некоторые стихотворения я напевал — процентов тридцать — под гитару. Не специально пишу под пение, наоборот. Я знаю других подлинных бардов, для которых это профессия.
— У Пушкина: «Но строк печальных не смываю». Отыщите у себя нечто такое, о чем Вы определенно жалеете, вспоминаете с ужасом?
— Ужасные поступки были, но такое ужасающее, чему бы я посвящал свое время — нет. Я доволен не собой, но своей жизнью. Так, как сложились обстоятельства.
— А собой отчего не довольны?
— Я не умею себя анализировать.
— Давайте я Вам помогу. Какие черты, особенности собственного характера Вас не устраивают?
— Мне мало что нравится в себе. Но то, что дано мне свыше — я не могу в этом раскаиваться. Размышлять о себе — хорош я или плох, хорошо или плохо делаю — нет, не буду.
— Что есть любовь? Сон, болезнь?
— Объективный биологический, химический процесс.
— Но тогда это чувственность.
— Нет, все равно что-то вырабатывается в человеке, и он выражает себя таким образом.
— Вы имеете в виду любовь до гробовой доски?
— Все зависит от состава химических веществ в человеке.
— Вы знаете примеры такой любви?
— Да, знаю.
— Свою жизнь, видимо, тоже Вы не оценивали, но интуитивно понимаете, какой она была?
— Да, конечно.
— Простите, мы говорим дольше условленного. А на прощание все же Ваше любимейшее собственное стихотворение, хоть пару строк…
— У меня нет таких стихов. Все они очень несовершенны. Помнятся мне другие строчки — заезженные. Те, которые часто цитируются.
Бенедикт Сарнов Я НИ В ГРОШ НЕ СТАВЛЮ СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ
— Большинство актеров, с которыми мне приходилось беседовать, утверждают, что находят в себе черты характера большинства сыгранных ими персонажей. Расскажите, а как складывались отношения знаменитого литературоведа Сарнова с близкими ему писателями.
— Вас, наверное, интересуют знаменитые…
— Вовсе нет. Это может быть дорогой Вам человек, более близкий, чем писатели.
— Людей таких очень много. Я немолодой человек, жизнь меня со многими сводила, и среди них были очень яркие. Один из самых ярких — Виктор Борисович Шкловский, мой учитель. Необыкновенным, интересным человеком был Борис Слуцкий. Не знаю, имею ли я право сказать, что мы с ним дружили — во всяком случае были близки. Знал я Эренбурга, Маршака, Паустовского… Замечательным, совершенно необычным человеком был другой Шкловский — Иосиф Самуилович, знаменитый астрофизик. Среди моих друзей, людей, с которыми меня сводила судьба, были люди неизвестные или малоизвестные. Например, Валя Петрухин. Это был физик, мы познакомились в Дубне. Мы проезжали с ним по всей стране 9 тысяч километров в течение месяца. Это был феноменальный человек. Он был хулиганом, автомобильным хулиганом. Он садился за руль после бессонной ночи всегда трезвый и давал такую скорость! Он делал жуткие, страшные трюки на дорогах, например, проезжал по краю пропасти… Он не мог кончить хорошо, погиб при трагических обстоятельствах.
— Как он умер?
— Он выбросился из окна в Дубне. Он сжигал себя, горел на грани двух состоянии — эйфории и депрессии. Валя Петрухин для меня — яркое воплощение такого русского характера — бесшабашного, совершенно непредстказуемого. Другой человек, сыгравший большую роль в моей жизни, тоже из Дубны — это Саша Воронель. Сейчас он живет в Израиле, где создал свой журнал. Жена его говорила, что ему тесно в рамках физики, оттого, что он человек гуманитарных наклонностей. Много с Шуриком, как мы его называли, спорили — это было чисто словесное общение, сшибки, споры… Его способ мышления и наши споры приучили меня к тому, что истина амбивалентна. Я ведь был воспитан в очень догматическом ключе, как и все мы. Я обязан ему новым взглядом на истину. Может, это свойство его личности, а может, это связано с его профессией, с тем, что он физик. Не случайно же все крупнейшие открытия XX века связаны с релятивистскими идеями. Другой мой собеседник и приятель — художник Илья Кабаков. Сейчас он один из самых знаменитых русских художников в мире. В его искусстве я мало что понимал. Когда он начинал рассуждать о картинах, своих или чужих, его можно было заслушаться. Он пел как соловей. У него это было на грани игры, он как бы играл идеями. Я очень скептически относился всегда, да и сейчас тоже, к разным ультрамодернистским течениям в искусстве. Я, скорее, консервативен. Илья показал мне изображение какой-то круглой табуретки со штырем, на который было надето велосипедное колесо. И заявил, что это величайшее произведение XX века. Я готов был уже иронизировать, но он начал говорить. И речь его была так захватывающа, это было так неопровержимо, что я на какое-то время поверил, что это величайшее произведение XX века.
— Он был лучшим оратором, которого Вы слышали?
— Нет, что Вы. Я счастливый человек и таких встречал на своем веку немало. Здесь в Переделкине неподалеку находится дача Корнея Ивановича Чуковского. Я знал и его, и его недавно умершую дочь Лидию Корнеевну. Они были замечательными людьми. Насколько похожими внешне, настолько разными людьми. Лидия была воплощением душевного риторизма, это был очень строгий, несгибаемый человек. Корней Иванович — совершенно другой: пластичный, артистичный, открытый, готовый общаться с очень разными людьми. Он был абсолютно чужд риторгизма и строгой моральности оценок. Он знал, кто чего стоит, кто что представляет собой. Поверхностному взгляду могло показаться, что он даже был неразборчив в своих симпатиях и знакомствах. Он был редким человеком в своем обаянии и таланте общения. Самым необычным для меня было его отношение к детям. Оно не соответствовало типажу, созданному в литературоведении — эдакий «добрый дедушка Корней». В нем не было никакой благостности… Для него дети, были как источник, питательная среда, из которой он черпал душевное здоровье. В его дневниках написано, что он ощущал себя человеком с комплексами, затравленным, нелегко переживавшим все перипетии отношений с литературными кругами, правительством и так далее, и дети были как бы его подпиткой.
— А из какого источника пьете Вы?
— Я менее сложный человек, чем Корней Иванович. В моей жизни не было сложностей, которые сильно исказили бы мой внутренний мир. Я более гармоничный, и в этом смысле более примитивный. У меня не было ни депрессий, ни бессониц, которыми мучался всю жизнь Корней Иванович. Я погружаюсь в книги, и к счастью для себя не утратил способности получать удовольствие от книг не самого высокого пошиба — детективов, научной фантастики.
— В музыке Вы так же всеядны?
— Ну, знаете, с музыкой у меня плохо. Мой отец был музыкант, и как всякого еврейского ребенка меня в детстве учили музыке и воспитали стойкое отвращение. По-настоящему ценить музыку я так и не научился. Люблю Баха, безумно люблю русские романсы, цыганщину, но к симфонической музыке я глух. Я просто ее не понимаю.
— Скажите, при Вашей всеядности чтения есть кто-то для Вас, кто лечит — из великих прозаиков XX века?
— Литература высокого ряда, великая литература, особенно русская — она не лечит, не дает отдохновения. Она тревожит, мучает, терзает, раздирает… Если говорить о XX столетии, то один из самых мрачных пессимистов и ипохондриков в русской литературе, читая которого я получаю наслаждение — это Зощенко.
— Он мрачнее Платонова?
— Зощенко по мрачности своего отношения к миру сопоставим только со Свифтом, потому что он отрицает мир тотально, но читая его, Вы смеетесь. Платонов — другое дело. Зощенко — скептик, человек неверующий, ценностей у него немного. Ему принадлежит такая замечательная устная фраза: «так называемые „хорошие“ люди хороши в хорошее время, в плохое они плохи, в ужасное — они ужасны». Вот взгляд Зощенко. А с другой стороны, Платонов, писатель, безусловно, художник с чертами гения, но читать его мне тяжело. И возвращаться к нему тоже.
— А другие писатели, увидеть которых даже на чужом столе Вам было бы приятно?
— Очаровательный писатель Булгаков… Есть писатели в русской литературе которые находятся вне рядов — Гоголь, Достоевский, Толстой. В XX веке таких нет.
— «Не сравнивай, живущий несравним» и все же европейское литературоведение дружно полагает, что Набоков продолжает этот ряд…
— Ну, пытаются «продолжать» все. Но я в русской литературе XX века ценю выше других Зощенко, Платонова, Бабеля и Булгакова.
— И ни одного из эмигрантов?
— Набокова я бы, пожалуй, назвал. Очень крупный писатель. Еще я высоко ценил и любил раннюю прозу Пастернака, чего не могу сказать о его «Докторе Живаго». Так же назову автора «Тихого Дона». Не хочу сказать «Шолохов», поскольку не верю в то, что автором был он. Роман, конечно, испорчен, испорчен, искажен. А первых четырех я назвал в той последовательности рангов, которую представляю себе.
— Вы говорите сейчас как литературовед или как читатель, который радовался и страдал вместе с писателем?
— Я не делю себя таким образом. Я считаю, что главное свойство для литературоведа — это сохранять способность быть непосредственным читателем. На мой взгляд, Булгаков занимает четвертое место, и со значительным отрывом. Я очень высоко ценю Бабеля. В двадцатые годы ходила эпиграмма: «Под звон кавалеристских сабель от Зощенки родился Бабель». Бабель все же идет в русле открытий, сделанных Зощенко. Но Булгаков дает больше радости, больше гармонизирует, чем вышеназванные, потому что мир Булгакова — это мир, где царят вечные ценности. Там рукописи не горят, каждый получает то, чего достоин, это мир, в котором можно жить. В мире Платонова жить невозможно.
— Какой мир для Вас был более реален — книжный или тот, в котором Вы должны бриться, спать, есть?
— Были периоды, когда я жил в каком-то полусне, в детстве, юности. Но, конечно, мир, в котором мы живем, первичен. Хотя я книжный человек, очкарик, я достаточно чувственный человек.
— Я предлагаю Вам четыре сравнения для жизни — лабиринт, лес, колесо, сон. Что можете предложить Вы?
— Я думаю, что жизнь несводима к таким сравнениям. По-моему, извините, это схоластика.
— Когда Вы хоронили близких, то, помимо переживания, скорби, не приходила ли в голову мысль — как это хлопотно?..
— Нет, насчет «хлопотно» — это не то слово. Но, конечно, было бы прекрасно, если бы человеческое существование заканчивалось безболезненно, неким растворением в воздухе.
— Вам никогда не хотелось растворить Ваших знакомых в воздухе Ваших мемуаров?
— О некоторых людях я писал — об Эренбурге, о Шкловском, но это были статьи. Я не думал пока о мемуарах. Правда, я стараюсь воплотить один замысел — но, скорее, это зарисовки. Чувствую свою вину перед Борисом Слуцким. О нем бы я хотел написать мемуар, но все время что-то отвлекает.
— Что Вас больше удивляет — сходство всех людей без исключения или различие. На чем Вы себя чаще ловили?
— Вы же сказали словами Мандельштама «не сравнивай, живущий несравним».
— Как Вы думаете, восхищение какими-то людьми не делают ли наши воспоминания о них менее достоверными?
— Константин Георгиевич Фраерман говорил, что когда он пишет, то врет, все не так было в отдельном случае. Но все вместе выглядит именно так. Он был большой выдумщик, много выдумывал. Есть другой талантливый поэт, занятный, особенно в позднюю пору, Георгии Иванов. Его воспоминания основаны на вранье. Цветаева написала гневное опровержение. Хотя он и написал кучу вранья, создавая казалось бы, ложную картину — человек представлен, Вы видите его.
— Вы не допускаете, что в Вашем рассказе о писателях многие из них будут неузнаваемы?
— То, что я рассказываю, это не портрет адекватный, не фотография Паустовского, Чуковского — это мой ракурс. Я очень бы хотел сказать несколько слов об Эренбурге. Хотя бы очень разрушить представление о нем, которое сложилось. О нем было много споров на протяжении всей моей жизни. Валентин Николаевич Плучек, режиссер, талантливый человек, в одной беседе поливал его со страшной силой — не идеологически, что сейчас модно, а человечески. Как тип ума, как тип характера. Как человека, который все время против… Я пытался его защитить, а потом спросил себя — почему я пытаюсь его защищать? Я понял, когда я стал читателем, взрослым человеком — была пустыня вокруг меня. И торчал в этой пустыне один человек. Это был Эренбург. И судить Эренбурга, отрицать Эренбурга меня научил сам Эренбург. Он помог выработать высокие критерии долга писателя, литературы, которым, может он сам и не соответствовал или перестал соответствовать. Я был студентом Литературного института, мы были большие снобы, его как прозаика не признавали. В институте было и жлобье, все было. На встрече с нами он рассказывал о своем понимании искусства — у него довольно высоким оно было — и он привел банальный может быть эпизод, но чем-то важный для него. Эпизод про Бальзака, которому стало худо. Слуга закричал, зовя на помощь. Бальзак сказал: «Вы ничего не понимаете. Только что умер отец Горио». Когда он рассказал эту историю, в зале раздался смех. Кому-то история эта показалась комической. Я сидел близко и увидел, как побелели его губы. Он сказал: «Вы смеетесь, значит, Вы не писатели». Потом я с ним познакомился и было много встреч, разговоров. И я понял. Говорили, что он умный, скептик, «Илья-пророк» его называли. Чепуха это все. Он был человеком, влюбленным в искусство. Романтиком даже. И он был оскорблен глуповатым смехом в зале и хотел оскорбить нас всех в ответ.
— Вам, вероятно, кажется примитивным взгляд, что всякий выживший приспособившийся при советской власти — художник ли, математик ли, это человек, унизивший свое человеческое достоинство? Вы ведь тоже сгибались много лет, десятки лет?
— Вы знаете, в конечном счете это, конечно, так. Жизнь нас всех исказила. Я жил в более счастливое время, потому что Сталин умер, когда я был еще молодым человеком. Моя взрослая, зрелая жизнь пришлась на послесталинское время. Как говорила Ахматова, это были времена более вегетарианские. Понимаете, когда я говорю об искажении, то подразумеваю искажение двоякое. Если ты сопротивляешься, изгибаешься, противостоишь прессу — это тебя тоже изменяет.
— Добившиеся успеха заплатили многим, тем чем не может платить человек свободный?
— По-разному.
— Я только что говорил с Натальей Ивановой. И она защищается, вспоминая об Эзопе. Мол, мы все были Эзопами.
— Дело не в том, что кто-то был Эзопом, кто-то не был. Нормальный человек развивался нормально, не лукавил с собой, не придумывал идеологию и концепцию, защищающую и оправдывающую свое блядство. Маркс говорил, что идеология — это иллюзия класса о самом себе. Человек живой и интеллектуально честный сам с собой старался, чтобы идеология его была адекватна. Почти все мои друзья были такие. Один мой знакомый, правда, не могу сказать, что близкий, был даже трижды Герой Социалистического Труда. Это Сахаров. Он был признан, он добился большого успеха. Он не всегда, между прочим, думал одинаково. У него были иллюзии. Он даже дал в руки этим бандитам водородную бомбу. Я слышал из его уст гениальную историю. Когда Сахаров был вторым человеком на первом испытании водородной бомбы (первым был человек, отвечавший за военную часть), эксперимент закончился удачно, с их точки зрения, и завершился банкетом. Сахаров, которому в тот момент было, кажется, тридцать два года, встал с бокалом, сказал, что хочет выпить за то, чтобы это страшное оружие массового уничтожения никогда не было бы пущено в ход. И тогда маршал Неделин, который был главным человеком на мероприятии, рассказал анекдот. Лежит в постели попадья и ждет, когда поп придет исполнять свои супружеские обязанности. А поп молится, бьет поклоны: «Господи, укрепи и наставь. Господи, укрепи и наставь». Попадья не выдержала: «Пусть укрепит, а наставлю я сама». Ответил блистательно, простонародным языком. Твое дело дать нам бомбу, а уж решать, пустим мы ее в ход или нет, нам. Я хочу сказать, что у Сахарова были свои иллюзии, и может до конца дней он сохранял свои иллюзии. Так, до смерти он оставался сторонником атомных электростанций. Я понимаю его аргументацию. Он говорил, что угольные электростанции загрязняют атмосферу, легкие и, может быть, также опасны. Он говорил, что человечество подошло к атомным электростанциям более сознательно. Но при этом он игнорировал общество, в котором мы живем.
— Вы можете сказать, что не погрешили против совести?
— Я бы не стал так решительно утверждать, что не погрешил. Во-первых, я очень из ранних. Мое отношение к режиму сложилось очень рано, в юности. Я не могу сказать, что оно было так уж осознанно, как в зрелые годы. Я печатался. А человек, который печатался в этой стране, можно сказать, не только не выражал себя полностью, но и вообще не выражал себя всегда. В статьях и книгах я выглядел гораздо более глупым, чем на самом деле. Есть и другие грехи. Трусость. Я молчал, когда не надо было молчать. Но это поведенческие грехи. Сам я собой бывал часто недоволен.
— Можете дать характеристику Войновичу, во при этом уложиться в три минуты?
— Я люблю этого человека и нарисовать его портрет за три минуты… Задайте конкретный вопрос.
— Я бросил читать его Чонкина оттого, что несколько страниц книги мне показались вульгарными, пошлыми. Правда, у меня очень плохо с чувством юмора. Даже когда всенародный любимец Жванецкий появляется на экране, я не могу видеть его…
— Но Жванецкий очень талантливый человек. Недавно он выступал по телевизору и ему задали вопрос: «А что, собственно, вы имеете против Зюганова?» Он ответил: «Вы занете, собственно, все, что я имею, я имею против Зюганова». Это не остроумно, это органически талантливо. Это особый жанр. Как у Окуджавы, стихи которого хуже, чем песни, которые он поет. И тексты Жванецкого ничего не стоят, пока он сам это не воспроизводит. Что касается Войновича, то Чонкин это редкая удача. В мировой литературе остаются персонажи (сознание человеческое так устроено)… Наташа Ростова, Пьер Безухов не могут так сохраниться в памяти человеческой, как Гарпагон, Плюшкин, Хлестаков, Чичиков. Чонкин — это образ именно такого качества. Это образ очень редкой пластической выразительности, это не сложный психологический характер, но то, что в большей степени может рассчитывать на долговечность. Писатели, которые дают радость, наслаждение, это гармоничный Булгаков. Я обязательно хочу назвать еще такого писателя — Довлатов. Это писатель редкого обаяния.
— О Войновиче Вы хотите написать?
— Я уже писал, может еще напишу.
— Бывает желание перечитать себя? Любите что-то свое?
— Это очень трудно. Всегда начинаешь думать, что надо было как-то еще иначе написать. Чаще бывают поражения. Я принадлежу к литераторам, которые воруют сами у себя. Тогда я действительно заглядываю в свои тексты.
— Опишите ужас, который охватывает Вас при ощущении, что Вам отказывает мозг?
— Но я знаю, что сейчас я просто устал, а завтра утром, отдохнув, я опять смогу работать. Кажется, Хеменгуэй сказал, что надо подождать, пока в колодце наберется вода. Не надо скрести по дну. Великие русские писатели были, по-моему, великими потому, что они были дилетантами. Литературным поденщиком был Достоевский, а Толстой, например, жил в имении, мог отвлечься, заняться школами, выдумать религию. Я читал Марка Твена, так он пишет, что поступал проще, когда чувствовал истощение, откладывал книгу, брался за другую работу.
— Как Вы будете ощущать приближение смерти?
— С огромным протестом. Единственное, с чем не могу примириться, это смерть. Во-первых, не хочется умирать. Во-вторых, интерес огромный к тому, что будет завтра. И, наконец, жалость, страшное сознание, что ничего не успел, ничего не сделал. Столько недоделанного, а мог бы… Много лет назад было глупое ощущение что все впереди. И много лет я жил с этим убеждением.
— Как часто Вы ловите себя на том, что ни о чем не думаете? Ждете это ощущения?
— Нет, все время что-то крутится.
— Удивлялись ли Вы какому-нибудь своему поступку? Как я мог это сделать?
— Было, конечно.
— На прощанье еще раз признаюсь, что всегда стыдился своего скверного чувства юмора и, может быть, только ради смеха попрошу Вас: напишите мне рекомендацию в Союз писателей.
— Нет. Во-первых, я давно уже от руки не пишу. А, во-вторых, я не читал, что Вы пишите. Дайте мне Вашу книгу и я напишу рекомендацию, даже если она мне не понравится. Именно потому, что Союз писателей ни в грош не ставлю.
Игорь Кио УВЫ, Я НЕ ВСТРЕЧУ ГЕНИАЛЬНУЮ ЖЕНЩИНУ
— Наконец-то допил Ваш невкусный чай. Или он фальшивый, вовсе не индийский, или я рвусь в беседу с Вами как лошадь на манеж. Привыкайте к моей неблагодарности.
— Пожалуйста. Вы же задаете тон беседы.
— Приятно наблюдать, как безболезненно Вы привыкаете к моему деспотизму. Не потому ли безболезненно, что знаете толк и гипнозе?
— Дело совсем не в этом, а в том, что на протяжении всей жизни я был крупно пьющим человеком. А последние семь лет я не пью совсем. Из соображений здоровья — не могу… Поэтому раньше я раскрепощался, расслаблялся, был контактнее и так далее. После того, как я перестал это делать, я замкнулся и стал более закрытым человеком. Скажу Вам больше, в таком трезвом состоянии скучно жить…
— Не можете вспомнить гениального человека — «маленького», гениального человека — сторожа, лесника… Он не стал, как вы, выдающимся профессионалом он дворник или охранник, но жить ему интересно, в отличие от Вас?
— Я встречал много людей, жизнь такая, что… Вот гениально сказал один футболист, выпивая в бане с утра. Выпив рюмку, он сказал: «Вот, хорошо, с утра выпил и весь день свободен».
— Нет, благодарю покорно. Давайте говорить о знаменитостях. Например, Вы были знакомы с Райкиным. Было ли в нем нечто противоположное звездной болезни, что-то здоровое, что Вас умиляло, трогало? Непосредственность это или детскость, или что-то третье?
— Я один раз был свидетелем случая, который навсегда запомнил. Аркадии Исаакович был очень мрачным человеком в жизни. Редко улыбался. Был весь в себе и когда находился в обществе, то никогда не шутил, не был душой общества, а старался не привлекать к себе внимания. В отличие, кстати, от Вас, Олег. Одним словом, был человек закрытый. И я вспоминаю в этой связи историю, случившуюся в 1958 году. В Москву приехал французский цирк, который работал на Цветном бульваре. И в этом цирке были буффонадные клоуны, довольно известная цирковая такая семья. Братья Фраттелини. Это были удивительные артисты. Ведь комик, как правило, не имеет какого-то особенного реквизита, даже особого репертуара, но что бы ни делал комик Божьей милостью — все будет смешно. Этих Фраттелини советские критики пытались ругать на страницах газет, отталкиваясь от их номера, суть которого была довольно странной — они били друг друга по морде 30 минут. Били по морде, валяли дурака, но, поскольку они были клоуны от Бога, — это было безумно смешно. Однажды на одно из представлений пришел Аркадий Исаакович. И я на всю жизнь запомнил именно такого Райкина, который от хохота падал со стула, у которого была истерика, который… Которому, вот еще чуть-чуть, от этого смеха могло быть плою, и нужна была бы помощь врача. И такого Райкина, мне кажется, никто, кроме меня, не помнит.
— Игорь Эмильевич, Вам уже интересно беседовать со мной, или пока только допускаете, что может стать интересно в любую минуту?
— Ну почему же, не волнуйтесь, уже получаю удовольствие.
— Может, Вы меня мистифицируете, но себя ведете, как христианин. Сами себя таким сделали или кто-то помог?
— Не могу сказать, что я — человек, убежденно неверующий или наоборот, но как-то воспитан в христианском духе.
— Вам никогда не казалось, что все религии мира как бы ассистируют величайшему фокуснику — Господу Богу?
— Нет, я так не считаю. Просто я оказался вне религии. Не было религиозного воспитания, ни еврейского, ни православного, никакого…
— Ну, хорошо, о религии, Боге у Вас смутное представление, и слава Богу. Ну, а проповедники всего мира такому специалисту мирового класса, как Вы — не напоминают ли они фокусников?
— Не знаю… Наверное, нет. Мне кажется, что это люди, которым присуща доброта, прежде всего. Многие из них искренно хотят нести что-то светлое. Я воспринимаю это так. И, согласитесь, Олег, грустно, когда эта потребность иногда переходит в фанатизм…
— Ну, а доброта, отпущенная природой Игорю Кио, на что Вы ее тратите, не боитесь израсходовать преждевременно?
— Сложный вопрос. Можно ли поконкретнее?
— После того, как делаете добро, не ждете благодарности? Не ощупываете результат?
— О себе всегда трудно говорить. Но я, например, получаю удовольствие от того, что могу сделать что-то хорошее для людей, которых люблю. Да, я получаю от этого удовольствие.
— Не думаете ли Вы, что Ваша профессия — самое красноречивое выражение, доказательство Вашей доброты?
— Нет. Я не думаю так, потому что не считаю себя артистом, реализованным до конца.
— А как мужчина, в любви Вы себя реализовали до конца? Вообразите, что Вы на манеже и разрубите скопище всех женщин, которых Вы знали, на две половины…
— Ну, я теряюсь, по какому признаку кромсать… Правда, не знаю, но всю жизнь женщины для меня делились на две категории. На тех, которые представляли для меня интерес и на не представлявших. Этот ответ может быть банален, но…
— Какая большая половина — та, что Вам нравилась? Привлекла Ваше внимание?
— Олег, Вы что, с ума сошли?
— Спасибо, спасибо, мне немножко легче, не я один говорю гадости. Ваш тип женщины, «искра», пробегающая между мужчиной и женщиной, испытали Вы это на своей шкуре?
— Естественно.
— Что же за тип Вашей женщины?
— Надо сказать, что он не менялся. Тем более странно, потому что проходит определенный возраст и наступает следующая какая-то фаза развития. Естественно, смотришь на жизнь другими глазами, на женщин в том числе. Но есть какие-то важные для меня основополагающие женские качества. Прежде всего, женственность, мягкость, сексуальность. И чтобы не напоминала мне Маргарет Тэтчер.
— Если с возрастом Вы делались добрее, совершеннее, то это заслуга женщин?
— Да, возможно! Хотя достаточно редко это было. Два раза в жизни.
— В чем Вы изменились более всего?
— Ну, тот, кто меня знал пьющим, а сейчас знаете непьющим, скажет, что я совсем другой человек. Но Вас интересует что-то более важное, наверное? Тогда скажу, что добавилось цинизма, какого-то более трезвого восприятия жизни. Скажу, что восторженного поубавилось. Хотя добавилось в жизни каких-то теплых тонов, становишься меньшим оптимистом и большим реалистом. Увы, я привык к мысли, что не встречу гениальную женщину.
Александр Городницкий РАДИ БОГА, ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН ЭПИГРАФ
— Вы седой морщинистый, знавший толпу знаменитостей, не пора Вам садиться за воспоминания?
— Я уже написал воспоминания около четырех лет назад. И их переиздавали потому что они, неожиданно для меня, вызвали интерес. Я получил очень много писем, откликов на них, подчас совершенно противоположных.
— Как я Вам завидую. Во-первых, Вы уже издали и так серьезно относитесь к своей книге, а я только собираюсь издать сборник интервью, и во-вторых, мне это так скучно. В-третьих, когда бы не было необходимости в заработке я бы не завидовал Вам. Вы поймете, отчего мне скучно, если я спрошу Вашего разрешения… Позвольте мне эпиграфом к этой книге взять Вашу песню об атлантах, держащих на себе небо российской культуры?
— Я совершенно не воспринимаю всерьез Ваше заявление, будто Вы скучая собираетесь издавать такую замечательную книгу, не верю Вашему сообщению, что Вы стремитесь прежде всего заработать. Также я не согласен с Вашей исходной посылкой об истуканах. Но ради Бога, если Вам нужен эпиграф…
— Надеюсь, это крошечная неприятность Вашей жизни, знакомство со мной, лгуном и злодеем. Расскажите мне теперь о самых крупных своих катастрофах?
— Неожиданный вопрос, не берусь сразу что-то вспомнить. Наверное, смерть близких людей. Катастрофой стала смерть моего отца, хотя я любил больше мать, да и смерть отца была ожиданной — он умирал от рака легких. Я понял, что умерла часть меня, более значительная, чем осталось.
— Если Ваша жена исчезнет, что с Вами будет в Вы опуститесь или снова женитесь?
— Я все время боюсь, когда вообще что-то или кто-то исчезает, боюсь даже, когда что-то неожиданно появляется. И представлять этого не хочу и не могу, потому что для меня это означает прекращение жизни. Но чтобы как-то ответить на Ваш вопрос — признаю, что я писал скверные стишки раньше и если что-то стал писать приличное, это благодаря жене.
— Вы не замечали, что умершие люди становятся для нас как бы более живыми?
— Нет. Смысл потери отца заключается в том, что я понял, что так и не узнал, каким он был. И теперь не узнаю. Это в значительной степени относится и к другим людям.
— У Вас столько песен, пронизанных историей земли, а советские полководцы Вас когда-нибудь интересовали?
— Нет.
— А полководцы прошедших столетий?
— Да, я увлекался почему-то Ганнибалом и Бонапартом. Меня привлекали полководцы, которые в конце-концов проигрывали. Они были такие гениальные, и все же в конце проигрывали. С Суворовым я примирился потому, что он умер в такой опале.
— Кого из поэтов Вы любили сильнее других?
— Мы выбираем поэтов по уровню своей образованности. Для меня это был Александр Блок.
— Вспомните какую-нибудь строчку из Блока, любимую.
— «Дом, улица, фонарь, аптека…» Да, и еще я не назвал Киплинга. Начитавшись стихов Киплинга, я пошел в Горный институт, выбрал эту профессию. Да и какую карьеру мог выбрать в пятидесятые годы еврейский мальчик, когда еще витал ужас «космополитизма»…
— Вы часто не спали ночью, оттого, что работали?
— Я уже не помню.
— Зато Вы помните Лидию Чуковскую, Слуцкого, Самойлова.
— Я считаю, что все перечисленные Вами люди были счастливы, и это было преимуществом перед другими людьми. Они — те из немногих людей, которые формировали общественное сознание в то смутное время. Очень многим в себе я обязан этим людям. Лидия Чуковская была еще известна и тем, что в ее присутствии нельзя было поступить нечестно, она была нравственным мерилом.
— Какую часть своих мыслей Вы успели обнародовать? Какая часть остается невыраженной?
— Думаю, что ничего не осталось.
— А что-нибудь прячется за Вашими стихами?
— Мои стихи были очень плохие. И в них, и за ними стояло плохое качество.
— Когда Вы умирать будете, оттого что Аня окажется рядом, Вам легче будет?
— Да, конечно, мне хотелось бы, чтобы любимые люди ушли позже меня. Чтобы мир остался нетронутым.
— Как Вы чувствуете, какое примерно число женщин в мире, с которыми Вы могли бы жить?
— Думаю, что ни с одной.
— Когда Вы наконец прославились, Вам была слава уже не нужна, было уже поздно, как Довлатову?
— Я не считаю себя знаменитым.
— Вам вольготнее жить при капитализме?
— Мы не живем при капитализме, так же, как не жили при социализме. Мы жили в идиотской авторитарной системе, которая подломилась. Вот в Швеции социализм, Миттеран во Франции построил социализм… Я был рабом, не ощущая этого, и в этом самое страшное. Мы считали себя безумно богатыми. Нас воспитали в непонимании отсутствия свободы.
— У Вас есть дети?
— У меня есть сын от первого брака, который живет в Иерусалиме. Он очень верующий человек. Я много лет с ним воевал, считал, что он ничего не понимает, что я теряю сына. Теперь я понял, что все иначе. И еще я хочу поправиться о Галиче. Галич жил благополучно, но в нем вдруг проснулся замечательный поэт и борец в самое опасное время. Я не думаю, что он продолжал быть счастливым человеком. Мне очень жаль его трагического ухода. Это имя, к сожалению, практически уже ушло.
— А с Высоцким Вы были знакомы?
— Высоцкий — это совсем другое дело. Театр Высоцкого пошире, чем театр Галича. Но то и другое — театры. Еще — Окуджава.
— Кто из них самый остроумный человек?
— Самый остроумный был Самойлов. Он был человеком очень легким, он написал целую шутливую книгу в стихах, совершенно блестящую. Вспоминаю такой случай. Напротив него жил знаменитый скрипач Пикайзен. Самойлов мне говорит: «Представляешь, Саша, приходит он после концерта домой. Я думаю, вот, сейчас стопочку рванет, расслабится. А он ест булочку, запивает кефиром и еще сам себе на скрипочке играет перед сном. Ему мало! Да не Пикайзен он, а просто Айзенпик!»
— Придумайте свое сравнение, пожалуйста. Мне кажется, что как ветераны надевают ордена в праздник, и так Вы — вспоминаете о дружбе с великими людьми…
— Думаю, что нет. Я вспоминаю не для того, чтобы похвастаться. Это похоже скорее на ностальгию. Как говаривала Раневская: «Я такая старая, что еще помню порядочных людей».
— Кто из них мог бы вспомнить о дружбе с Вами в разговоре с корреспондентом?
— Самойлов я думаю, Эйдельман.
— А Вы ни о ком еще мне толком не рассказали — ни о Самойлове, ни об Эйдельмане, Чуковской.
— Я слишком тепло к ним отношусь. И потом, у меня есть книга воспоминаний…
— Понятно. Берите в библиотеке и читайте. Давайте тогда попробуем поговорить о живых. Может, получится… Возглавлять колонну, конечно, нужно Битову, президенту Пен-Клуба.
— Дело в том, что Андерй Битов для меня — ностальгия по молодости. Да он гораздо более значителен, чем его современники. Когда мы учились в Горном институте (он моложе меня), он пришел вместе с поэтом, потом художником, трагической фигурой — Виньковецким. Я стал понимать на живом примере, что существует литературная ткань прозы, существуют писатели-стилисты (Набокова еще не читали). Битов для нас, моего поколения, был первым серьезным писателем.
— Вы никогда не хотели быть еще и литературоведом?
— Нет. Просто я рассказываю только то, что ностальгически помню про свою юность и своих друзей. Что же касается «Пушкинского дома», то это открытие в российской литературе. Раннего Битова я знал хорошо и любил его. Позднего Битова знаю меньше.
— Как выглядит Битов, как смеется? Он выше Вас ростом? Жизнерадостнее?
— Он живет неподалеку. У него очень трудная судьба. Он очень тяжело болел и вряд ли жизнь его баловала. Сейчас он очень знаменит, но слава никогда еще не делала людей счастливыми. Так что я хотел бы пожелать ему здоровья и удачи в том, что он делает.
— Когда Вы говорите, — то кто из Вас лезет или виден другим отчетливее — поэт или ученый?
— Это не так. Я дилетант и там, и тут. Стараясь успеть всюду, я не преуспел по-настоящему ни в чем. Я не переоцениваю себя.
— Но любите себя, прощаете себе раздвоенность, поощряете ее даже?
— Да, безусловно. Потому что мне всегда кажется, что в соседней комнате происходит самое интересное.
— И машину Вы, конечно, умеете водить?
— Умею, но плохо.
— Опять плохо… Что-нибудь Вы научились делать хорошо? Где, когда, в какой стихии Вы живете хорошо?
— Я с завистью вспоминаю фразу, сказанную Хемингуэем о Фицжеральде: «Он ничего не умеет делать хорошо. Он не умеет хорошо водить машину, стрелять из ружья, любить женщину, быть счастливым. Он умеет только хорошо писать рассказы. Вы считаете, этого мало?» Если бы я написал хотя бы одну такую песню, я бы чувствовал себя счастливым. Но этого я тоже не умею. Так что я не могу сказать, что я что-то умею. Но, может быть, оценки — не моя задача? Пусть это делают другие…
— Может, Ваш приятель Юра Щекочихин?
— Он рыцарь без страха и упрека. Я горжусь тем, что мы с ним знакомы. Он человек пьющий и несгибаемый.
— Ничего не получается. Давайте попытаем счастье на женщинах. Ваша коллега Долина Вероника…
— Из следующего поколения авторов песен Вероника мне наиболее интересна. Сейчас она уже мать многих детей, поменяла несколько мужей. И мне нравится, как она это делает, потому что всегда остается хозяйкой положения. У нее мужской, бойцовский характер. Она говорит много глупостей на сцене и, может быть, в интервью. И гораздо умнее, чем тот имидж, который создает. Я считаю ее талантливым поэтом. У нее есть несколько настоящих песен, а это очень много. Хотя много есть песен, написанных в соответствии с имиджем («Мужчина — это совсем другое животное»), но это уже жеманство. Манерность может быть манерой искусства. Потому что если такая талантливейшая поэтесса, как Белла Ахмадуллина может сделать манерность основой своей прекрасной поэзии, то почему нельзя этого сделать в авторской песне? Я очень симпатизирую Веронике Долиной и считаю, что она может еще много хороших песен написать.
— Есть чертеж, есть потом здание. Есть ноты, а потом музыка. Скажите, как соотносится (помните, у Чехова: «Даже когда птица ходит, видно, что она может летать…») — Вот Вы что-то знаете, о художнике, Вы читали его книгу, слышали музыку или видели картину и потом видите этого человека и накладывается ли…
— Очень часто не накладывается. Это очень точное наблюдение. Я не согласен с чеховским заявлением. У него другое мировоззрение. Ему хорошо было говорить: «Если в первом действии ружье висит, то в третьем оно выстрелит». Да ничего подобного. Мы знаем с Вами тысячу примеров, когда ружье висит, да до него не дотянуться, и трагедия кончается, а ружье остается висеть на стене. Это концепция человека логического, начала века, который верит в разумность всего окружающего. Да, если птица летает, то может быть и видно, как она стремительна в полете. Но самая красивая птица, которую я видел, летать вообще не умеет. Это страус эму. Поэтому я не считаю этот тезис справедливым.
— Итак, Вы видите себя как бы в трех ипостасях. Средний ученый, средний поэт, и, давайте добавим, средний муж. Когда будете читать это интервью в газете, Вы будете себя узнавать?
— Не знаю, меня это мало волнует. Главное, чтобы кто-то меня узнал в интервью из тех, кто знает меня хоть в одной ипостаси. Потом о терминах. Я не считаю, что может быть средний ученый. Может быть средний инженер или средний научный работник. Я не считаю себя ученым. Да, я доктор, профессор и действительный член Российской Академии естественных наук. Но считаю себя научным работником. И среднего поэта не бывает. По сравнению с Пушкиным Батюшков — средний поэт, да? Либо — поэт, либо не поэт.
— Против Вашего утверждения, думаю, что дальше Вы заговорите как слабый средний или большой ученый. Давайте условимся, что музыка получается из нот, здание из чертежа, стихи из сора и так далее. А Вас я прошу ответить, решить чем я теперь занимаюсь — пытаюсь ли мелодию Вашего существования перевести в ноты или занят каким-то более плодотворным делом, ну, например, аранжирую музыку, которую в Вас слышу?
— Мне трудно что-то об этом сказать. В детстве я думал, что у меня звучный, хороший голос, а услышал его в записи и был разочарован. Точно также я ужасно не нравлюсь себе по телевизору. Чудовищно себе со стороны не нравиться. Так что какую бы задачу Вы не ставили себе…
— Вы любите, сочиняя песню, ввернуть какую-нибудь метафору?
— Метафору? Да. Вот недавно, всадил слова моего любимого Сенеки: «Если судно никуда не плывет, ни один ветер ему не попутный». Только не подумайте, что я продолжаю отвечать на Ваш предыдущий вопрос.
— А сами Вы часто людям задаете вопросы?
— Нет. Моя жена Анна не даст соврать, что я не люблю даже спрашивать на улице как проехать. Не люблю входить в контакты. Вот журналист из меня точно не получился бы.
— Вы поверхностный человек или глубокий и сложный?
— (Городницкий молчит, отвечает жена). Совсем не поверхностный. Очень глубокий.
— Тогда скажите несколько слов о бездонном Сарнове.
— Недавняя его передача о Багрицком. Он очень интересный, блестящий, тонкий ценитель литературы. Но лично я с ним не знаком.
— Думаю, что это знак, когда заговорила Ваша жена. Давайте вернемся к женщинам. Вот Наталья Иванова, услышав, что я иду к Вам, нагрузила меня приветами…
— Наташа Иванова — женщина с твердым, энергичным характером. Давным-давно, когда меня нигде не печатали, отовсюду гнали, она, тогда юная и прекрасная, напечатала мои стихи, отнеслась ко мне с вниманием. И я не могу относиться к ней объективно, я ее люблю. Она человек решительный, резковатый, но с точным вкусом. У нее недавно вышла прекрасная книга о Фазиле Искандере. Она видела весь мир, все страны, вошла в международную десятку или пятерку людей, которые все обсуждают… Что бы она ни делала, она не потеряет ни правоты, ни человеческой красоты. Она неплохо играет на фортепьяно, и однажды аккомпанировала мне на одном моем импровизированном концерте.
— Как Вы думаете, сколько человек Наташа Иванова могла бы прокормить?
— Думаю, что немного. Она не похожа на человека, который способен что-то накопить. Я рад, что слава и успех достались именно этому человеку, который знает разные стороны жизни.
— Придумайте сравнение, на что похожа Ваша память? На кучу чего?
— На кучу обломанных конструкций, из которых уже ничего не создашь. Конструкции города, который ты любил. Конструкции мира.
— Что в мире Вам было интереснее, чем люди?
— Пожалуй, ничего.
— Кто из Ваших знакомых в этой узости от Вас отличался?
— Я не знал таких людей. Видимо, это жесткие политики, ученые, полководцы… Те, для кого люди были мусором, строительным материалом. Я дважды встречался с великим философом Мерабом Мамардашвили. Думаю, что посчитаюсь с Вами колкостью, если скажу, что его интересовали прежде всего остального — люди.
— А кого Вы назовете великим прозаиком XX века?
— Не берусь определять, кто великий или невеликий. Но более близок мне, как я уже говорил, Киплинг.
— Набоков, по вашему мнению, великий поэт?
— Он великий писатель. Его поэзию отдельно я не воспринимаю.
— Есть, по-вашему мнению, загадочные вещи на свете?
— Безусловно, есть. Я верю в магию чисел, в то, что существовала Атлантида. Верю еще и в астральное ее существование. Важной научной посылкой я считаю теорию катастроф, которую, кажется, поддерживал один Кювье. В дискретность цивилизаций тоже верю. Я жалею, что уйду из жизни и не узнаю разгадки всего этого. Но я боюсь и не люблю предсказаний. Веря во многое, я не желаю знать своего будущего. Того, когда и как умру.
— Ваше жизнелюбие напоминает мне бодрость Юры Роста. Что Вы думаете о нем?
— Юра Рост — замечательный журналист. Он плавал на кораблях, спускался на дно океана, как и я, что сближает. Человек бесстрашный, всегда попадает в странные ситуации. Обладает замечательной интуицией в науке, а это большая редкость для журналиста. Человек решительный, немногословный, порядочный.
— От Вашего жизнелюбия у меня рябит в уме. Но кого-то из своих друзей Вы любите сильнее других?
— Вопрос из разряда: «Кого Вы любите больше — маму или папу?» Люблю по-разному. Очено любил Натана Эйдельмана, которого нет теперь с нами.
— Ваше мнение о Розенбауме, которого я хоть и наугад, но смело включаю в список Ваших друзей?
— Он один из самых ярких наших эстрадных артистов и, как говорит Окуджава, «выступальщиков». Он человек большого сценического обаяния. Хороший голос, прекрасные музыкальные данные. Его жанровые стилизации очень незаурядны, он человек очень одаренный.
— Когда Вы в последний раз расставались с женой, то насколько?
— На две недели, когда уезжал в Германию.
— А что Вам вспоминалось, когда Вы думали о ней?
— Не берусь конкретизировать. Как говорит Жириновский, «однозначно» целиком.
— Ну и как в финале не поговорить о Фазиле Искандере…
— У нас очень странно смешались понятия национальности и культуры. По-видимому, национальность человека — это его культура, его язык. Искандер — прежде всего русский писатель. Возможно, только произойдя от абхазки и перса, можно с такой остротой воспринимать русский язык. Видимо, интересна судьба русского языка, который переваривает в своем горниле авторов разного происхождения, делая их замечательными поэтами, прозаиками. Вообще новые интересные открытая нас ждут на стыке наук, культур, языков. Фазиль Искандер — интересный пример того, как человек с совершенно другими генетическими корнями становится органично русским писателем по пластике, по стилю. Но что самое удивительное в Фазиле, его улыбка. Он же не сатирик. Но его легкий юмор страшнее иной сатиры, Я прочел одну фразу из «Сандро из Чагема», напечатанного в цензурном виде еще до перестройки, и ужаснулся — как же могли такое пропустить! Совершенно крамольные вещи. У Фазиля два лица. Он пишет чудесные стихи. Без улыбки отстраненно-трагически. Две интересные ипостаси одного художника.
— И на прощанье что-нибудь о Губермане. Мне показалось, что Вы с ннм слегка перемешались.
— Мне трудно говорить о Губермане, потому что это один из самых близких моих друзей. Он человек сдержанный, взвешенный, но не знаю в такой ли степени, как я.
Семен Липкин ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ЕЩЕ ГОД Я СОГЛАСЕН
— Вам жалко, что оборвалось пение?
— Мне жалко, что я уже забыл, пока слушал Вашего кантора, зачем Вы пришли.
— Позвольте мне, как фокуснику, второй вопрос вытащить из стихотворения Ходасевича: «Входя ко мне, неси мечту // Иль дьявольскую красоту, // Иль Бога // Если сам ты Божий. // А маленькую доброту, // Как шляпу, оставляй в прихожей». Чем Вас может обрадовать гость? Я, например?
— Я не подготовлен к таким ответам. Вы хотите поговорить о Ходасевиче? Но у меня нет материалов. Вообще мне не нравится такая манера разговора: «Вам говорит Ходасевич…» Если Вам интересно мое мнение о Ходасевиче, так и спрашивайте.
— Любое стихотворение Ходасевича не увлечет Вас? Давайте я прочту другое стихотворение…
— Мне это не интересно.
— Давайте тогда пересчитаем Ваших баранов… Вы были знакомы с Мандельштамом, с его женой, с Ахматовой, с Цветаевой?
— Да.
— Вы столько раз рассказывали об этом в газетах, друзьям и так далее. Осталось ли что-нибудь, что Вы не выскребли?
— Я все написал.
— Кого еще из фантастических людей Вы можете вспомнить?
— Я немного был знаком с Волошиным, был у него в гостях. Знаком был с Андреем Белым. Но с этими общался очень мало.
— А кого-нибудь не из знаменитых, но гениальных людей Вы знали?
— Гениальных больше не знал. И, кстати, у нас обесценено понятие «гений» и «великий». Мы называем начало века «Серебряный век» потому, что начиная с последних лет XX века по 21 год, до смерти Блока и расстрела Гумилева — в это время у нас было несколько великих поэтов. Почему же «Серебряный»? Гении остались в XX веке, в Золотом веке — Пушкин, Лермонтов, Тютчев. Гениев в XX веке не было. Но были великие, в том числе Ходасевич.
— Но у Вас нет материалов, чтобы беседовать о нем…
— Вы знаете, какую роль сыграл его дед?
— В чем?
— В антисемитизме. Отец Ходасевича был художник-фотограф.
— А Вам не скучно рассказывать?
— Нет, я готов Вам рассказать. Хотя меня уже не интересует наша беседа, но Вы ко мне пришли — значит Вам что-то от меня нужно. Вы пришли ко мне с такой стороны, что я согласился с Вами говорить.
— У Вас высокомерие прямо Набоковское. Вы что-нибудь знаете о надменности Набокова?
— Давайте не тратить времени. Слушайте и записывайте. Я расскажу интересное еврейской аудитории. Отец Ходасевича был поляк, мать — еврейка. Отец его матери, Брафман, опубликовал книгу «Вильнюсский кагал». С этого момента началось литературное антисемитское движение в нашей прессе. Но сам Ходасевич, наоборот, был юдофил. Он изумительно перевел классиков еврейской поэзии. Иврита он не знал, переводил по хорошо сделанным подстрочникам. Он переводил великих еврейских поэтов — Бялика, Черняховского, Шнеура. Особенно ему удался Саул Черняховский. Я видел в Израиле улицы, названные именами этих поэтов. Расскажу немного о Черняховском. Он родился и жил в Херсонской губернии, где жили евреи-земледельцы. Поэтому вся его поэзия еврейского земледельчества. Это очень оригинально.
— Скажите, об этом нет в Еврейской энциклопедии? Или еще где-то?
— Давайте прекратим этот разговор, если Вам неинтересно.
— Просто я подумал, что можно было бы сделать сноску для читателя газеты. Лучше скажите мне, Вы ведь помните у Фета: «Не жизнь жаль, а жаль того огня…», — что Вам жаль оставить на земле, уходя?
— Я не готов ответить на этот вопрос.
— Кто из перечисленных Вами великих поэтов относился к Вам всего нежнее?
— Ахматова.
— Как именно выражалась эта нежность? Можно подробнее…
— Я так понял Ваш вопрос, что Вас интересует, кто был ко мне добрее. С Цветаевой я провел один день и больше ее не видел. К Осипу Эмильевичу я пришел в восемнадцать лет. Был знаком с ним долго, вплоть до его ареста и после его возвращения. Но я был очень молод. Не все понимал, что он говорил. С Ахматовой я познакомился поздно, мне было уже лет сорок. Хотя она снисходительно относилась к моей работе, хвалила ее, но ее отношение было отношением к взрослому человеку, отцу детей.
— Вы смотрите телевизор?
— Да.
— Вы, наверное, ловили себя на том, что Вам трудно вспомнить, что Вы видели вчера? А, может, воспоминания о великих поэтах такие же затуманенные?
— Нет. Я иногда мысленно с ними беседую.
— Есть ли среди теперешних Ваших знакомых не менее достойные собеседники?
— Я очень болен и мало бываю на людях. Есть поэты, которых я ценю. Некоторые из них являются моими собеседниками. У нас есть двадцать-двадцать пять одаренных поэтов. Особенно ценю Чухонцева, Кублановского и Рейна. С ними беседовать мне очень приятно. Еще есть здесь, в Переделкине, замечательный мой знакомый огромных разнообразных знаний. Ученый, лингвист, поэт. Это Вячеслав Иванов. Я знаю его с детства. Его называют Кома.
— Жена его также Вам симпатична?
— Да, я хорошо знал ее маму — Орлову.
— Это все старые знакомые. А допускаете Вы, что завтра с кем-то впервые увидитесь и почувствуете, что человек Вам сделался дорог или интересен.
— Да.
— Если бы на Вас свалились, предположим, двадцать тысяч долларов, вы бы разделили их между двадцатью известными Вам поэтами?
— Я разделил бы между детьми.
— Поэты не стоят того или дети дороже?
— Не стоят.
— Какими удовольствиями Вы дорожите? Вот Вы просыпаетесь — деревья солнце, ничего не болит — продолжите этот ряд…
— Самое большое удовольствие, когда я что-то напишу.
— И когда Вы последний раз что-то написали?
— Месяц назад.
— Можете пересказать, о чем Ваше последнее стихотворение?
— Могу назвать тему. Я задумался о Каине. Что за существо это было и постарался в стихах передать это. Человек-братоубийца. Бывает, убивают матерей. В нашей уголовной хронике то и дело рассказывается, как пьяная женщина убивает мать или детей… Я писал как бы и об этом.
— Существование добродетелей обусловлено наличием пороков, по мнению Толстого. Вы можете это подтвердить на примере Ахматовой, Цветаевой я Мандельштама?
— Мне трудно ответить потому, что я перед ними преклонялся. Я был мальчик когда с ними познакомился. И слишком понимал и понимаю, что мои стихи по сравнению с их творчеством — ничто.
— Но Вашим теперешним местом в русской поэзии Вы довольны?
— Нет, я не сумел сделать всего, что хотел.
— Вы в себе ощущали силы, которые не реализовали?
— Понимаете, я об этом не думал. Я думал о другом. Что я не выразил всего того, что чувствовал в разные годы своей жизни. В детстве, во время войны.
— Кто себя выразил полнее — Набоков или Пушкин?
— Пушкин-гений, а Набоков — великий писатель. Сравнить кого-либо с Пушкиным невозможно.
— А с кем можно его сравнить из западных поэтов, писателей?
— Шекспир, Гете.
— А из англичан?
— Шекспир — англичанин!
— Вспомните еще удовольствия теперешнего Вашего положения.
— Хорошая погода, сердце не болит, жена чувствует себя прилично, хорошую книгу прочел.
— Скажите, пожалуйста, самоубийство — грех? И что еще Вас отталкивает в этом поступке?
— Мне жаль самоубийц. Самому уйти из жизни добровольно… Жизнь — счастье, даже в гетто. Дал Бог жизнь — живи. Я не осуждаю, но мне жаль такого человека.
— А наслаждения Вам тоже известны?
— Чтение.
— Давно умерший писатель, книгу которого Вы держите в руках, не кажется ли Вам более живым для Вас, чем окружающие Вас в доме творчества люди, не похожи они на привидения?
— Это люди, рожденные отцом и матерью, они заслуживают уважения. Они не привидения.
— Но Вам интереснее читать книгу?
— Среди писателей, живущих здесь, разные люди есть — молодые и старые, талантливые и нет, глупые и умные.
— Если бы судьба поставила Вас перед выбором — спасти жизнь человека или музейные ценности, картинную галерею…
— Если бы такая проблема стояла передо мной, когда я был молод, силен и действительно мог кого-то спасти, я, конечно, спас бы человека.
— Самое большое удовольствие Вы испытываете от чтения какого прозаика?
— Я могу назвать нескольких, одного мне трудно выделить. Прежде всего, очень люблю прозу Пушкина и Лермонтова. Сам я написал две книги прозы и ориентировался на эту прозу. Очень люблю Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова.
— В XX столетии никто из прозаиков не приносит Вам такого удовольствия?
— Я люблю нескольких писателей XX века.
— У Вас много детей?
— Четверо.
— Вы кого-нибудь любите из них больше, чем других?
— Да.
— Можете рассказать, как получилось, что Ваш любимый ребенок более любим, чем другие?
— Я не хотел бы на этом останавливаться.
— Вы согласны, что дети нас не любят, даже когда хотят, не умеют любить родителей?
— Не согласен.
— Ваш любимый ребенок отвечает Вам взаимностью?
— Да.
— Как Вы заслужили эту любовь, Вы знаете, почему он Вас любит?
— Ко мне все дети относятся хорошо, я на них не в обиде. У нас с женой хорошие отношения с детьми. Со старшей дочерью были трудности, потому что я развелся с ее матерью и женился на другой. Один из сыновей мне наиболее близок.
— Как Вам необходима музыка? Вы не чувствуете, что умрете через несколько дней, если не будете слушать музыку?
— У меня порок — я не очень хорошо слушаю музыку. Только ту, которая навеяна детством. Люблю русский романс, еврейские народные песни, которые пела в детстве мне бабушка. У меня примитивный музыкальный вкус. Я очень люблю живопись и немного понимаю в ней.
— Последний вопрос. Чего Вам всегда недоставало в жизни?
— Моя жизнь, литературная жизнь, сложилась трудно. Я из Одессы приехал в Москву в 1929 году. Печататься было трудно, потому что были очень высокие требования. И вот меня, в мои семнадцать-восемнадцать лет сразу напечатали толстые журналы!
— Простите, я Вас перебью. Умоляю, ни в коем случае никакой биографии! Так чего Вам недоставало?
— В 1932 году, в год коллективизации меня перестали печатать и двадцать пять лет не печатали.
— То есть, если бы печатали, Вы бы обладали всем, что желаете?
— Не знаю, чего бы мне недоставало, если бы меня печатали…
— В чем причина Вашего жизнелюбия? Из какого источника Вы пьете?
— Сейчас, как раньше пели комсомольские песни, часто стихотворцы упоминают слово «Бог». Я с детства религиозен. Мой отец был социал-демократ, меньшевик и в Бога не верил. Я поступил в хедер против его воли. С детства был верующим неизвестно почему. Вера в Бога — вот мой источник.
— Какое я на Вас впечатление произвел? Дайте мне характеристику.
— Впечатление необразованного человека.
— Постараюсь подучиться, а Вы будете здоровый, такой же веселый и умный — тогда снова поговорим через год?
— Ради того, чтобы прожить еще один год, согласен.
Виталий Вульф ВЫ ГОВОРИТЕ ГЛУПОСТИ
— Для громкого начала, скажите, Вы сами себе еще не надоели?
— Нет.
— Вы не будете возражать, если какой-нибудь великий поэт моими устами будет задавать вопросы?
— Как он мне может задавать вопросы?
— Сейчас объясню. Вот стихотворение «Гостю»: «Входя ко мне, неси мечту // Иль дьявольскую красоту // Иль Бога, если сам ты Божий, // А маленькую доброту, // Как шляпу, оставляй в прихожей. // Здесь, на горошине Земли // Будь или ангел, или демон, // А человек? Иль не затем он, чтобы забыть могли»… Здесь с десяток вопросов…
— Я не увидел ни одного.
— Когда к Вам кто-то приходит, что Вы хотите, чтобы он принес с собой?
— Никогда не задаю себе такого вопроса.
— Может, чтобы он был естественным?
— Человек всегда должен быть естественным.
— Когда Вы к кому-то приходите, Вы что несете с собой, кроме естественности?
— Я только естественный. Никогда не занимаюсь таким расщеплением поступков, сознания. Не общаюсь с тем, кто мне неинтересен.
— А кто Вам интересен?
— Минуточку. Это просто прием, а не вопрос. Прием, не очень плодотворный для серьезной беседы. Человек должен быть естественным, хотя это самое трудное. По роду моих занятий мне приходится иметь дело с большим количеством людей, но мало людей приходит ко мне в дом. Я не очень подпускаю к себе. Я избирателен, наверное, кроме того, мне просто некогда…
— Кроме Вашего дома, что-нибудь объединяет людей, которых Вы пускаете к себе?
— Это просто круг близких друзей, с которыми я соединен много лет.
— Вы можете и теперь еще подружиться с кем-то?
— Да, почему бы и нет.
— Благодаря каким-то качествам человека?
— Это никогда нельзя определить. Контакты, которые возникают между людьми, невидимы миру. Возникают в силу самых разных ситуаций и условий. Бывают короткие дружбы, которые возникают и исчезают.
— Самая длительная дружба у Вас с кем? Или это слишком интимно, как религия?
— Нет, почему же. Есть люди, с которыми я дружу более тридцати лет. Галя Волчек, мой близкий друг. Леня Эрдман, директор театра «Современник».
— У них есть общие черты характера?
— Нет, в характерах ничего общего. Но есть общий круг интересов. Они занимаются искусством, живут в мире театра, и театр составляет средоточие их интересов. Поэтому мы как-то проходили вместе все эти годы.
— Осмелитесь Вы назвать имя человека, если он есть, который популярен, умен, весьма достойный, а Вы его не переносите? Дружбы которого Вы не искали?
— Надо прямо сказать, я вообще не искал чьей-то дружбы. Вопрос не вполне понятен. Среди моих друзей не может быть людей, мне несимпатичных. А среди людей, которые, также как и я занимаются искусством, но мне несимпатичны, такие, разумеется, есть.
— Представьтесь, кто Вы. Расскажите о себе.
— Не люблю говорить. Как-то очень трудно… Я театральный переводчик, эссеист, литератор, ведущий телевизионных программ, доктор наук, профессор…
— Искусствоведения?
— Нет, я доктор исторических наук. Много перевел в своей жизни пьес, более двадцати. В этом сезоне, наверное, в Москве идет пьес девять в моем переводе. Я написал довольно много больших книг, четыре крупные работы. Очень много статей за жизнь. Работаю на телевидении пять с половиной лет.
— А какой у Вас характер?
— Сложный.
— Кроме Волчек и Эрдмана — еще кто-нибудь Вам близок?
— Таких близких, как они, наверное, нет. Еще Наташа Завальнюк.
— Вы не знаете, что думает о Вас Волчек? Каким Вас видит?
— Никогда не спрашивал. Главное не то, что я думаю о них или что они обо мне думают. Главное, что я их люблю и они любят меня.
— Давайте попробуем катаньем, когда мытьем не получается. Что есть такого в Волчек, чего нет в Наташе?
— Нет, я не могу отвечать на такие вопросы. Они слишком абстрактные. Все люди разные, разные по характеру. Что я буду спрашивать: «Как ты ко мне относишься?» Если бы плохо относился, не дружил бы. Или наоборот. Я могу сказать одно, что такая постановка вопроса неточна и неверна.
— А я заключаю, что Вы очень скрытный человек. Ничем другим я не могу объяснить, что Вы, имея трех необыкновенных друзей, не умеете самому себе и мне заодно сказать, чем они отличаются?
— С какой стати, давая Вам интервью, я должен давать характеристики трем людям, которых Вы не знаете? Я их люблю очень, и этого достаточно.
— Почти убедили, но объясните вот что. Недавно я слышал, как Вы по телевидению прекрасно рассказывали о балерине Нине Тимофеевой.
— Об этом — пожалуйста. Я специально ездил в Израиль и делал передачу о ней. Я помню, как она танцевала. Я был большим поклонником ее таланта. Она — человек трагической судьбы. В 90 году она уехала — не в эмиграцию, а по контракту.
— Ваш рассказ будет напечатан?
— Нет. Книга — это совсем другой жанр.
— Вы записываете все то, что рассказываете?
— Нет, никогда. Потому что я, во-первых, написал. И потом устный жанр и письменный — разные вещи. Если человек выступает по телевидению и рисует чей-то портрет, то это устный рассказ, подчиненный законам устного жанра. А когда я буду писать, например, о Нине Тимофеевой, то это литературный портрет, который будет совершенно не похож на устный.
— А учиться мастерству нужно одинаково долго — и устного рассказа и письменного?
— Вопрос о мастерстве — тема совершенно другая.
— Вам не хочется тратить время на то, чтобы понять нечто Вам неизвестное?
— Я делаю то, что умею и достаточно много умею. Но также я учусь новому как каждый человек, который профессионально занимается каким-то делом.
— Мне казалось, что это так легко, все артисты написали свои воспоминания.
— Это не значит, что они написали хорошо. Воспоминания — не всегда литературные произведения.
— Вы в ужас приходили от каких-нибудь воспоминаний? Ширвиндта или Гурченко?
— Ширвиндта не читал, а «Аплодисменты…» Гурченко очень хорошая книга.
— Значит, есть и хорошие, несмотря на то, что они берутся не за свое дело… Может, за них кто-то пишет?
— Я не знаю. Не уверен. Что касается Гурченко, то уверен, что нет. Я знаю Гурченко, и ее голос очень слышен в этих воспоминаних. Сейчас прочел замечательные воспоминания Козакова о его жизни в Израиле, напечатанные в «Знамени». Воспоминания называются «Третий звонок». Замечательно написано.
— А о своих книгах Вы то же самое можете сказать?
— Вы пришли ко мне, понятия не имея о моих книгах. Поэтому задаете мне такой бестактный вопрос.
— Простите. Вы пишете не о том же, о чем рассказываете?
— Нет. Вы должны понять эту разницу, объясняю ее Вам еще раз. Это удивительно, я беседую с человеком, который не знает ничего из моих литературных занятий. Прежде, чем придти ко мне, Вам нужно было прочитать хотя бы последнюю мою книгу — «Идолы, звезды, люди». Она вышла в издательстве «Искусство» в 1995 году. Тогда бы Вы не задавали мне такого вопроса. Эта книга — эссеистские портреты людей искусства — западных и наших. О половине из них я рассказывал на телевидении, но с литературным рассказом это не имеет ничего общего. Потому что на телевидении важна интонация, пластика, манера. Все — как ты сидишь, как смотришь, голосовая модуляция. А когда ты садишься за письменный стол, твои очерк подчинен другим законам.
— Каким законам сидения за столом Вы подчиняетесь?
— Законам литературного мастерства. Когда ты строишь литературный портрет человеческий, в котором ни твоя звуковая модуляция, ни заразительность какая-то не играет роли. Только слова…
— А в каком по счету браке, по-вашему мнению, супругам гарантирован успех. Сколько раз Вы были в браке?
— Один. Давно разведен, и жизнь моя довольно сложная в этом плане. Все зависит от понимания друг друга. И от внимания каждую данную секунду. Нельзя рассчитывать на то, что хорошо сегодня, значит, хорошо будет и завтра. Внимательность иссякает незаметно. Иногда не иссякает.
— Послушайте стихи: «Грубой жизнью оглушенный, // Нестерпимо уязвленный, // Опускаю веки я. И дремлю. // Чтоб легче минул, // Чтобы, как отлив отхлынул, // Шум земного бытия. // Лучше спать, чем слушать речи // Злобной жизни человечьей, // Малых правд пустую прю. // Все я знаю, все я вижу, // Лучше сном к себе приближу // Неизвестную зарю. // А уж если сны приснятся// То пускай в них повторятся // Детства давние года. // Снег на дворике московском, // И в Петровско-Разумовском // Пар над зеркалом пруда.» Неизбежно Вы сталкиваетесь не только с талантливыми людьми. Они вторгаются в Вашу жизнь. Куда, ведь не в сон, Вы прячетесь от них? От меня, например?
— Я ни от кого не прячусь.
— То есть, Вас люди не мучат?
— А кто они?
— Люди, которых Вы видите на улице, в метро?
— Я не езжу в метро.
— Вы что, на самом деле совсем не видите обычных людей, не догадываетесь, что они злые, обездоленные, пьяные, несчастные?
— Почему Вы так решили? Откуда Вы знаете, кто обездолен, кто счастлив? Толпа очень разнообразна в любом городе, в любой стране.
— Опять спрошу, Вас никогда не отталкивали люди?
— Мало ли что бывало в жизни. Вы же спрашиваете про сегодняшний день. Я очень занят, и могу сказать одно — моя работа и сложившаяся жизнь привели к тому, что я достаточно независимый человек…
— Когда-то это называлось «башня из слоновой кости»…
— Причем здесь башня из слоновой кости? Это реальность. Я не завишу ни от кого и занимаюсь тем, чем хочу. И меня никто не заставляет ничего делать.
— То есть, других людей, кроме нескольких друзей, как бы и нет? Все остальные — это призраки, привидения, снующие вокруг?
— Олег, очень странный разговор… Почему призраки? Я отношусь к людям с добром…
— Но Вы же слишком заняты?
— Хорошо, каких людей Вы имеете в виду?
— Ну вот мимо Вас в грязных ботинках идет обездоленный человек…
— Да почему он обездоленный? Откуда Вы знаете? Неужели грязные ботинки — признак обездоленности? Что за бред?
— Да, Вы правы, ведь в метро Вы не ездите. А там у всех лица замученных людей…
— Да почему же все? В Израиле я видел полно измученных лиц… Ненавижу эти разговоры. Они вызывают только раздражение.
— Может, в самом деле «человек рожден для счастья, как птица для полета»…
— Если Вы хотите, чтобы я давал Вам интервью, задавайте мне конкретные вопросы.
— Вы когда-нибудь держали Ходасевича в руках?
— А Вы как думаете?
— Я думаю, что да. В восторге не были?
— Он очень большой поэт.
— А кто у Вас любимый поэт XX века?
— Марина Цветаева.
— Не вспомните две-три строчки?
— «Тоска по Родине — разоблаченная морока. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть…»
— А Вам все равно, где не быть одиноким?
— Нет, я люблю Москву, и больше нигде не хотел бы быть.
— Родина — это город? Слово «Москва» — это всё?
— Я не люблю таких общих вопросов. Я человек, проживший достаточно непростую жизнь перед тем, как пришел к той жизни, которой живу сегодня. Я много поездил по свету, поработал за границей. Довольно долго жил в Америке. Могу сказать, что без Москвы мне жизни нет. Хорошо я чувствую себя только в Москве. Все понимаю, переживаю много сложностей, никогда не было спокойного периода общей ситуации. И тем не менее, люблю Переделкино, этот дом. Это моя культура. мой язык. Хотя я свободно владею иностранным языком. Здесь мне все родное. Я все про это знаю, понимаю эту жизнь.
— Состав крови зависит от языка?
— Нет. Я еврей по национальности, но еврейским языком не владею. Русская культура — моя культура, самая близкая, я в ней вырос. Никогда не думал, какой я национальности, пока об этом не заговорили.
— «Пробочка над крепким йодом // Как ты скоро перепрела, // Так вот и душа незримо жжет и разрушает тело.» Вы ведь себя изучили настолько, чтобы знать — Ваша душа тоже разрушает Ваше тело?
— Я не понимаю вопроса. Что значит себя изучать? Человек реализует себя работе. В деле. Мое счастье заключается в том, что я занимаюсь делом, которое люблю. Я человек достаточно самодостаточный, который реализовал себя в деде. Моя личность в этом. Это моя жизнь. Мою жизнь нельзя оторвать от того, что делаю. Как нельзя оторвать жизнь Гали Волчек от театра «Современник», или жизнь Вали Гафта и Лени Эрдмана от их дела.
— Это стихотворение Вы не понимаете или не принимаете?
— Это стихотворение написано Ходасевичем в 1921 году в сложную, кризисную для него пору…
— Для него или для России?
— Для Ходасевича.
— А может, он добросовестнее себя изучал, чем Вы?
— Это совсем другая жизнь. Почему Вы мне Ходасевича приводите в пример?
— Тогда была революция, сейчас война в Чечне…
— Ну и что? Всегда где-то идет война. Я что, должен идти, принимать участе в этой войне? Что за глупости Вы меня спрашиваете? Я не понимаю этого изучения. Мое изучение в деле. В том, что я пишу, говорю, рассказываю, делаю. Не задавайте мне глупых вопросов, Олег. Я этого не люблю. Это ерунда и я сейчас прекращу отвечать. Мне непонятна вот эта манера стихотворного вопроса. Первый раз я с этим столкнулся и, надеюсь, последний. Думаю, что это непродуктивно — опрокидывать стихи 20-х годов на 1996 год.
Платон Набоков ОТКУДА ЖЕ ЭТИ ПЕСЬИ ЛИКИ
— Если бы давали орден тем, кто сидел в лагерях, Вы бы носили его?
— Никакого ордена никогда ни взять, ни носить не мог бы.
— Но Вы так охотно стали мне рассказывать о том, как сидели в лагерях. Зачем Вам это нужно?
— Очень просто. Во-первых, Вы еще не включили диктофон. И потом мой рассказ был замешан на юморе и это как визитная карточка, от которой нельзя отказаться.
— Как обжора объедается, поглощает то, что не нужно его желудку, так в человек слушает чужую речь, которая в большинстве случаев не перерабатываем мозгом, Вам так не кажется?
— Я думаю, когда люди беседуют, то каждый говорит сам для себя, чтобы понять себя самого.
— Вы до сих пор себя не изучили?
— Бог миловал.
— Как Вы думаете наш мозг — не самая ли совершенная часть человеческого организма?
— По-видимому, да. Видимо, с медицинской точки зрения тоже. Если человек близок к кончине или фиаско, то происходит мобилизация всех сил, и всякий узнает о себе, что он и кто он. Перед тем, как Берии объявили, что его сейчас арестуют, он писал на бумаге: «Тревога… тревога… тревога». Извините, что вспомнил имя ублюдка. Перед медициной все равны. Как и перед смертью…
— Скажите, в гробу Вы хотите лежать непременно с бородой?
— Вот борода мне надоела, в этом году сбрею.
— Воображайте дальше, не останавливайтесь, как Вы будете выглядеть?
— Не сказал бы, что мне все равно… Как святой, наверное. У всех покойников лицо — умиротворенное… Хотя, нет. Если вспомнить лагерных погибших, да и на войне тоже… А в миру — другое дело. Да и мастера придают покойникам нужное выражение, наводят марафет.
— Мне кажется, при наступлении смерти человек кроме того, что мучается, еще наблюдает какие-то интереснейшие вещи…
— Я считаю, что это будет совершенно с других позиций — с позиций, которые в этот мир не входят.
— Вы ждете момента смерти без страха, без возмущения?
— Без страха и без возмущения. В остальном я хотел бы скрыть свои ощущения, как потаенное, о чем не нужно разговаривать. Потому что те, кто туда заглядывают, — преступники. Разговаривать, рассуждать можно. Но кто занимается оккультными науками, пытается заглянуть в ощущения умирающего человека…
— Набоков это хорошо описал в рассказе «Соглядатай». Что же он преступник?
— Рассказ — это другое.
— Другое или нет, но понятно, что Вы не хотите об этом. Давайте о другом… Кто Вам первый объявил, доказал, что Вы — родственник Владимира Владимировича?
— Никто не доказывал. Это было семейное предание, тайное. Правда, речь шла большей частью о Владимире Дмитриевиче. Это он заслонил собой Милюкова, когда в него стреляли… Он же нес скипетр при коронации Николая. Дело в том, что родовые предания оставались. Старшая мамина сестра Ольга перед смертью сказала мне, что Владимир Владимирович является моим родственником через отца. Я тогда работал на телевидении, уже отсидел. Стихи же я писал с четырнадцати лет. Еще до моего ареста в Литинституте в 1943 году я получил письмо из Австралии — у меня вышла книжка фронтовых стихов…
— Вот видите, Вы заговорили о себе, я Вас тут же перебиваю. И вообще, Вам обидно, что Вами интересуются, начали интересоваться лишь как далеким родственником гения?
— Вы правы — это несколько досадно. Многие путают, заблуждаются, называют даже братом… Я много езжу по стране, читаю свои стихи, вступаю в полемику, а я умею доказать, когда прав. И, конечно, при всех вопросах о родстве я отвечаю, что мне было бы приятнее, если спросили бы о моих стихах, моих мыслях. Но — дань предкам я не могу не отдать. Не могу не отдать дань великому дару.
— А другие Ваши любимые писатели в XX столетии?
— Кроме Набокова — Булгаков. Но, конечно, не его журналистская деятельность…
— Можете три слова сказать о «Мастере и Маргарите»?
— Это э-п-о-п-е-я любви и творчества. Право быть писателем — и право любить. Власть и искусство — бесконечная вражда.
— Скажите, а художник мучается больше, чем какой-нибудь пастух?
— Безусловно. Я пережил уже период, когда мне было страшно больно… Когда я думал, что надо с этим покончить. Такое было со мной по выходе из лагеря… Слава Богу, оборвалась веревка. А потом наступил период, когда я понял, что я должен просто любить — вот и все.
— Никак не могу поверить, что до сих пор Вам любопытны люди…
— Да, это так, но я сразу могу понять человека — интересен он мне или нет.
— Как Вы думаете, есть ли на планете замена Вашей жене?
— Наверное, могла бы быть замена, но у меня не было бы при знакомстве твердого ощущения — вот на этой женщине я женюсь, она будет матерью моих детей. Знаете, как я женился? Женат я уже почти тридцать лет. Шел я в Абхазии по берегу моря. Смотрю, лежит на берегу девушка. А я говорю: «Я на ней женюсь». И женился — через два месяца.
— Вы ощущаете на себе заботу Бога?
— И заботу, и преследования.
— Вы могли бы насчитать троих встреченных Вами в жизни самых замечательных людей?
— Искусство — живопись, музыка, поэзия — также существуют для заполнения какого-то пустого пространства, также живы. Я люблю поговорить с умным человеком, но поговорить с Пушкиным иногда интереснее.
— Правильно ли я заключаю из Вашей уклончивости, что композиторы, писатели — для Вас более живые собеседники?..
— По-видимому, это идет издалека, от древних. Это воспитание нашего миропонимания. В скифских курганах похоронены не только владыки, но и их боевые кони, ближайшие друзья, жены, рабы. Их убивали. Когда наши войска взорвали Днепрогэс, вода со страшной силой хлынула вниз. И обнажила многие захоронения… Я приехал на Украину собирать народную молву о войне, о подпольных Движениях Меня послал Фадеев.
— А Вы хорошо помните Фадеева? Мне кажется, он был преступник, как Дзержинский?
— Вы очень точно сравнили. Я видел посмертную маску Дзержинского, она очень напоминала мне живого Фадеева. Может быть, я грешу против него. У меня был племянник, который был женат первым браком на дочери Фадеева. Я не знал об этом тогда. На следствии мне сказали, что обо мне Фадеев дал положительный отзыв… Но я не выполнил его заказ… Я узнал, что такое «Молодая Гвардия». Это все были страшные сказки. В лагере я встретил женщину, которую Фадеев облыжно назвал предательницей. Эта несчастная женщина столько вытерпела — в лагере ее били, едва не застрелили охранники за то, что она выдала Молодую Гвардию. Потом ее реабилитировали, она вышла на свободу, но в какой город она бы не приезжала, везде за ней следовала лживая молва.
— Знаете, я говорю с Вами и вот на что это похоже. Будто оператор снимает фрески в церкви, необыкновенной красоты, затем камера скользит в разрушение — в какие-то щели, горы мусора… Крыса прошмыгнет… Называемые Вами имена и события Вашей жизни связаны между собой, как иконы в церкви и крысы в ней…
— Да, пожалуй… И многие другие Набоковы подверглись преследованию и были уничтожены. Дядя Дмитрий исчез в огне войны, исчез дядя Павел, ушедший с Добровольческой Армией. Мой отец был крупным коммерсантом и занимал крупные должности. Его отец, Евдоким Иванович был главой Крестьянского банка (отделения Азово-Черноморского банка). Я видел дедушку единственный раз, когда мне было полтора года. Ох, можно еще долго вспоминать… Страдалица, неосуществившая свой талант, свой дар, моя мать Анастасия Евгеньевна Криштофович. Я не назвал еще имен своих друзей — назвал лишь имена родственников, да и то не всех Не могу не вспомнить своих лагерных друзей, которые меня спасали, боролись, участвовали в восстаниях, писали стихи, помогали ближним. Которые тоже говорили — кодла, падла, оно же быдло, и ничего с этой сволочью не сделаешь, они как были стукачами, так и останутся — в лагере или на свободе. Товий Николаевич Пешковский спас мне жизнь, первый, кто прочитал мне в лагере стихи Сирина. Доктор Георгий Беленький, судьба которого схожа с моей — расстрелян отец, мать, сам прошел войну и был посажен… Леонид Михайлович Мальцев, попавший в плен в первые месяцы войны из ополчения, брошенного на поле боя. Четыре года проскитался по фашистским лагерям, знал множество языков… Да… А про церковь — я не верю в церковь и часто вижу, что церковь является конторой…
— Вам семьдесят три года. В каком-нибудь возрасте Вы почувствовали спад умственных способностей, ослабление памяти? Когда Вы ощутили, что Вам трудно и сострить, и новую строчку написать, и анекдот вспомнить?
— Я всегда жил двойной жизнью подъема и спада. Меня подтачивал не возраст.
— За упокой мы поговорили, давайте во здравие.
— Те, кого я назвал, остаются для меня живыми. Во здравие назову своих детей — Ивана, Максима и жену Ирину.
— Кто из Ваших друзей Вам близок особенно, как родственник?
— Все мои друзья уже там. Ну, вот Пешковский. Я почти помирал, а он, ходивший вокруг да около, спросил: «А Вы не родственник ли Сирина?» Эти же вопросы задавали мне на Лубянке. Там, впрочем, обо всем знали даже лучше, чем я сам…
— Простите, вшивый о бане, снова спрошу, когда Вы впервые прочли Владимира Набокова?
— Это была книга берлинского издательства, вышедшая в 1927 году — «Защита Лужина» и рассказы. Прочел я ее после войны. В конце 42-го года после ранения я поступил в Литинститут.
— Вы помните свое любимое стихотворение, которым гордитесь?
— Да, безусловно.
— Вы гордитесь им, как наслаждаетесь поэзией Владимира Набокова?
— Поэзией наслаждаюсь — меньше, чем прозой. Но вот мое стихотворение «Молчание»: «Не верь ни другу, ни жене, // Ни матери родной. // В испепеляющем огне // Не будь самим собой. // Душой скитайся одинок, // Пусть плещет через край. // Но истины святой глоток // Бумаге не вверяй. // Сказав однажды в небеса, // Что жизнью правит ложь, // Ты переделаешься сам, //И сам не разберешь, // Как проболтаешься во сне, //И выдашь все мечты, //И скоро в собственной жене // Врага узнаешь ты. // С тобой деливший кров и кровь // Окопный старый друг // От нескольких правдивых строк // Придет в такой испуг, // Что выдаст ради живота, // Спасая свой приют, // И увезут тебя в места, // Где пляшут и поют, // И проклянет старуха-мать // Зачатья чудный миг…» Но довольно…
— Вам приходилось когда-нибудь гадать — изменила Вам женщина, или нет?
— Да. Это было ужасно. Я был дико ревнив. Одна из женщин меня предала — самым страшным образом.
— Прочтите, пожалуйста, стихотворение, которое кажется Вам не менее сильным, чем будоражившая Вас та ревность.
— «Я перед сном мечтал уехать. // Стихи, даст Бог, прочесть В.Н. // Доизмечтавшийся, как нехоть // Уснул и слышу из-за стен: // „Что привезешь оттуда, милый // Дружок мой, — сахарный рожок? // Росистый ландыш, звон унылый? // Стихи — себе ж под новый срок? // Сиди уж там, шлифуя фразу, // Да не надейся на авось, // Жестокосердия заразу //И ввек не вылечить, небось. // Интеллигенция России // Что там, что тут — обречена. // Как ни терпели, ни просили, // Глуха к отверженным страна. // Твой ферзь зажат в жестоком споре // Хоть мог быть выигрыш роковой. // Уплыть и может, выплыть в море, // Хвоста запутав за собой. // Конечно, тайно к пароходу // Пристану ночью, как балласт. // Как пароходы, все проходит, // Родство, желание и власть“. // Нет, Вы напрасно, // Не из лести — мне родственны душою Вы. // Чтоб в старой бричке ездить вместе — // Я сожалею, но — увы!»
— Скажите, а если Вам сообщат по телефону, что Вы получили Нобелевскую премию? Вы поверите или положите трубку?
— Сам Бунин положил трубку, когда ему позвонили по этому поводу.
— Бунин не ответил, оттого, что слишком этого ждал. Вообразите, что Вы ответите, и поверите, а деньги возьмете?
— Половину бы я отдал. Другую половину возьму, чтобы построить нормальный быт своим детям. Я единственный раз только получал в жизни гонорар, больше — никогда. Мне однажды приснился сон. Сергей Есенин сказал мне, что он табуретки делает получше любого плотника. Также и я считаю, что честно работаю.
— Что Вам всего интереснее решать, к чему возвращаться?
— Мне нужны море и небо…
— Можно ли Вам, теперь вольному путнику, сделать больно, когда в Вашей жизни уже был лагерь? Давайте проверим. Если бы, например, я сказал Вам, что я в Вас разочарован? Больно ли Вам было бы?
— У нас профессиональный разговор с Вами, как у журналиста с журналистом. А от боли иммунитета не бывает. Я работал на телевидении, и мне даже обещали второй срок после высылки Солженицына, когда я не выдержал и выступил. Мне пришлось уйти с телевидения.
— На прощанье поучите меня брать интервью. Задайте мне несколько вопросов.
— Скажите, Вам, как человеку, личности — на хрена нужно разматывать тему духовности, искренности в российской нынешней культуре?
— Может я заболел. Кошка или собака в болезни ищут полезную траву, но я, будто обезумевший пес, грызущий деревяшку, надеюсь встретить человека, который не ударит в грязь лицом, не будет смешон или глуп. И всякий мой собеседник, пока я с ним говорю, мне таким кажется…
— А Вы думаете долго прожить? Успеете излечиться?
— Ох, не знаю! Врачи советуют вставать из-за стола, когда еще голоден. Из большого спорта — тоже уходят полные сил. А из жизни следует тоже уходить вовремя?
— Не совсем верно… Впрочем, если бы это не было грехом…
— Женщина — сосуд греха. Мне всегда казалось, что в отличие от мужчины, женщина выглядит смешной, когда увлечена работой. А Вы как думаете?
— Смотря, какой работой она будет заниматься. Дети, кухня — совсем другое дело. Вот когда она занимается своей работой, чтобы заработать на жизнь — тогда действительно так. Правда, один из Набоковых, Иван, влюбился в проститутку в уехал за ней в Сибирь. Его вычеркнули из жизни родные, Вы не найдете его имени нигде. Лев Николаевич положил этот факт в основу своего «Воскресения».
— Так Вы на кухне любуетесь женщиной? Каким ее состоянием, лицом?
— В любой момент можно любоваться женщиной. Когда видишь ее освобожденной, когда женская натура остается сама с собой, она светлеет. Я задам Вам последа вопрос. Кто привел знаменитую фразу их Библии: «и лики у них будут песьи»?
— Не знаю.
— Бунин. В статье после присуждения ему Нобелевской премии. Это только кажется, что теперь время другое… Откуда же эти песьи лики?
Валентин Дикуль ГЕНИАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕ НУЖНА МОЯ ПОМОЩЬ
— Представьте себе, пожалуйста, ситуацию. С неким всеми уважаемым известным человеком случилось несчастье. Все сгорело, пропало в пожаре и сам он пострадал — предположим, ослеп. Нужны на операцию деньги. Какую сумму Вы могли бы ему одолжить?
— Ничего не дал бы ему. Потому что в состоянии ему помочь без денег. Я сделал бы так, что правительство оплатило бы ему операцию. Или Филатов сделал бы операцию бесплатно.
— Представьте себе другую ситуацию. Вы познакомились с никому неизвестным человеком, и понимаете, что он — гений. Он либо художник, либо математик, либо кто-то еще — это неважно. Ему нужно несколько тысяч долларов, чтобы обрести известность, прославиться. Вы захотели бы прославить гениального человека?
— Прославить — нет, тем более деньгами. Думаю, гениальный человек рано или поздно прославит сам себя, ему не нужна моя помощь.
— Видимо, напрасно говорят — помоги таланту, бездарные пробьются сами. Должно быть, это сказано для красного слова. А в Вашем рассуждении есть смысл, оттого что Вы производите впечатление искреннего человека.
— А зачем прятаться? Я терпеть не могу двуличности, когда говорят одно, а делают другое.
— Это Вы меня пристыдили. Чтобы Вас подготовить, я говорил одно, сделаю другое. Не могли бы Вы вложить деньги в издание сборника моих интервью, когда они покажутся Вам фантастическими и коммерческими, то есть в дальнейшем принесут доход Вашему центру?
— Нет, сейчас не мог бы. И если Вы пришли ко мне говорить о деньгах, то я не могу поддерживать этот разговор…
— Извините, последние несколько слов… Так Вы отказываетесь, допускать, что эта книга будет любимым чтением не только интеллигенции, но и парикмахеров, шахтеров, тысяч людей, которых Вы спасаете и которые будут считать, что Вы жадный человек? Это Вас не страшит?
— Ничего страшного. Думаю, поймете и Вы, если я Вам объясню ситуацию. Я просто отдаю все свои средства во благо больному человеку. Все, что Вы видите — залы, электроника, оборудование — все куплено на мои собственные деньги. Несмотря на то, что у меня государственное учреждение. Я коплю — копейка к копейке — и покупаю необходимое. Сейчас я собираю на диагностический аппарат. Он стоит миллион восемьсот тысяч долларов.
— Убедили. А Вам нравится «Мастер и Маргарита»?
— Да.
— Пришла к Вам его жена (после его смерти она так и делала) просить денег на издание «Мастера». Вы ей тоже не дали бы?
— Помог бы издать. А деньги дал бы на какой-нибудь, может быть, менее нужный медицинский аппарат, но не на издание книги.
— Вы не согласны, что всякая гениальная книга «лечит» не меньшее количество народа, чем Ваше учреждение? Вы согласны?
— Да, но не ту категорию больных, которых бросили все — и государство, и власть, и все страны, бросили. Эта люди никому не нужны. Вы пришли беседовать со мной, даже не вникнув в то, чем я занимаюсь. Так вот, это категория больных, на которых никто не тратит ни единой копейки. С ними случилось несчастье, их спасли от смерти — и все. Они сидят в инвалидной коляске или даже лежат влежку. Но ведь их нужно поднимать на ноги, возвращать к нормальной человеческой деятельности. У них здоровые, умные головы, но помощи ждать неоткуда. Для них мне не жаль ничего. Но на другое я денег не потрачу. Не потому, что я жадный, нет. Но я просто осмысливаю, куда вкладывать деньги и как. Десять раз гениальному человеку я даже ста долларов бы не дал. Но вот Вам, например, даю интервью бесплатно. Не попрошу денег, но при этом буду помнить, что деньги эти я мог бы вложить в медицинский аппарат, который так необходим больным людям.
— А что, у Вас в России уже платят деньги тому, у кого берут интервью?
— Да, существует такой порядок: за консультацию, интервью и все остальное следует платить…
— А если мы расстанемся друзьями, то Вы и посмотрите мой позвоночник бесплатно?
— В России для иностранцев консультация стоит сто пятьдесят долларов, реабилитация — три тысячи пятьсот долларов в месяц. Плюс консультация. Но Вас приму бесплатно. Как всех своих соотечественников.
— Видно, самому Богу хочется, чтобы на посторонние дела Вы не тратили бы ни копейки. Скажите, где Ваш источник жизнелюбия, бодрости?
— Я не только занимаюсь лечением больных данной категории, руковожу не только этом центром — я еще работаю в цирке. Там я приношу кому-то удовольствие, да и мне это дает радость. Это мечта детства, которую я пронес через всю жизнь. И еще — скажу очень откровенно: это не слова, не журнальные фразы — когда поставишь больного человека на ноги, то это утраивает твои силы. Вы бы видели — когда мы ставим больного на ноги, сбегается весь центр смотреть, как этот больной сделает первые шаги. Медики, сестры, которые даже не занимались лечением этого больного, — плачут…
— Скажите, если Вы в эти мгновения себя чувствуете волшебником, гением, пусть бессознательно — то не потому ли, что цените свою жизнь, как чужую?
— Не хочу ничего надумывать, скажу одно — после того, как я ставлю больного, я сам бываю еле живой.
— Но при этом помните, что совершили чудо?
— Это не чудо, это работа. Мы говорим, что чудо делает сам больной, мы только показываем ему путь. Мы не занимаемся экстрасенсорикой, не машем руками… А совершенно иначе смотрим на это. Не гордимся собой и так далее. Мы чувствуем, что должны помочь больному. Мы не обещаем человеку, что он непременно пойдет, но все делаем для этого.
— Какое у Вас образование?
— Высшее педагогическое.
— Вы не думаете, что интеллигенция в России уничтожена? Осталась либо иллюзия, либо самомнение.
— Нет. Интеллигенция есть. Те, кто мыслят. Это не стадо баранов, которое идет, куда ведут. Хотя большинство — серая масса.
— И вот те или другие смотрят на Вас, и думают, что Вы похожи на мужика… Вы умеющий читать глаза, мысли людей — сталкивались ли Вы с таким к себе отношением?
— Будь ты мужиковатый, но, если ты хороший специалист, цениться будут твои руки, твоя голова.
— Про Сократа пишут, что он был очень некрасив, но был умнейшим сред людей…
— Я Вас перебью. Вы не задаете вопроса, но, видимо, подразумеваете… Вот про девушку говорят: «Какая красавица! Какие ноги, какое тело». Не в этом красота. Не во внешности. Внешность очень обманчива. Нужна внутренняя красота, чистота, а не красивые черты лица.
— Пожалуйста, допустите, что Вы светлый и красивый человек. Откуда это — гены, от родителей, или сами сделали себя таким?
— Я вырос без родителей. Отец погиб, мать умерла. Мне было два года.
— А довольны ли Вы своими детьми? В них есть этот свет?
— Да, доволен. У меня дочь. Я ей не помогаю, она добивается всего самостоятельно. Тем же путем, трудно. Легко ей ничего не дается. Она готовит в цирке танец на проволоке. Самый тяжелый жанр…
— Толстой хотел, чтобы его дети зарабатывали своим трудом. Вы этого же хотите?
— Да, конечно.
— Вы не оставите ей наследство?
— Все, что мы заработали, все это принадлежит семье.
— Если Вы вдруг умираете, Вы позаботитесь о том, чтобы все накопленное ушло на продолжение Вашего дела, а крохи лишь — семье?
— Моих средств так мало, что о них и говорить-то не приходится.
— А те миллионы долларов, которые Вы собираете?
— О чем Вы говорите? Эти деньги собираются для нашего центра. Это не может остаться семье. То, что собирается на аппаратуру, оборудование — оседает там, растет процент на аппаратуру по договоренности. Когда мы выплатим только пятьдесят процентов цены, мы сможем пользоваться ею. Никто не принесет и не подарит… В России такое время, что государство за тебя думать не будет — выживай и думай сам.
— Вы оптимист? Вы полагаете, что Россия возрождается?
— Рано или поздно возродится, но, думаю, позже, чем полагают.
— По пословице, «гром не грянет — мужик не перекрестится». Какие у Вас отношения с Богом?
— Я крещеный, не посещаю церкви, но верю. Никогда не вступаю в споры — есть Бог или нет.
— Вам свойственно Вашу юность ругать? Вы жалеете, думаете, что можно было сделать что-то лучше, что-то иначе?
— Если бы я заново родился, я прожил бы также. Если исключить несчастье, которое произошло со мной в детстве.
— Сколько вам было лет, когда это произошло?
— Четырнадцать. После того, как я восстановился, я много отдал для того, чтобы доказать, что могу вернуться к нормальной жизни и работе.
— Как врач, на какое место Вы бы поставили отношения человека с другим полом — как от этого зависят гармония, здоровье в человеке?
— Я очень поздно познал женщину и не могу выстроить такой ряд. Думаю, что это должно быть разлито гармонично все в целом. Не что-то первое, что-то второе.
— Если человек живет развратно, если он — циник, живет случайными связями. Он разрушается?
— Зачем его исправлять? Если он так живет, значит, иначе не может. Вы только принесете ему несчастье, если отнимите у него его образ жизни. Пускай. По-другому он жить не сможет. Человек живет, стремясь получать удовольствие. Для чего жить, если не получать удовольствие? Оно может быть в работе, в стихах, в писательстве, в женщинах, в вине. Даже вредную привычку нельзя бросать резко, это будет во вред себе!
— Пожалуйста, скажите, с какой вашей вредной привычкой было трудно расстаться?
— Самая вредная — перегрузки, которые я несу. Я не хочу с ними расставаться, но это действительно серьезно вредит мне. Полная нагрузка в цирке сильно вредит здоровью.
— Вы позволяете себе спать столько, сколько хотите?
— Это невозможно. Я ложусь в час, в половине второго, а в пять, половине шестого встаю, чтобы в семь быть здесь, на работе. Сплю пять часов. И знаю, что укорачиваю жизнь.
— Но это же нецелесообразно.
— Еще раз повторю. То, что мне отпущено, я проживу так, как живу.
— Вы ощущаете себя праведником? Смотрите — Вы помогаете огромному количеству людей, у Вас хорошая семья, Вы никогда не издевались над другими… Или Вы напакостили людям, природе, Богу?
— Людям и природе — вряд ли, Богу — может быть. То, что бываешь с женщиной — это уже грех.
— Вы позволяли себе влюбчивость?
— Влюбчивость — конечно, само собой. Как все нормальные люди. Но своеволия с моей стороны не было.
— Есть у Вас друзья? Или Вы не искали друзей?
— Друзей никогда не искал. Хочу сказать, что друзья познаются в беде. Когда со мной произошло несчастье, выявились настоящие друзья. Так всегда и бывает.
— Если я все же издам книгу, у меня заведутся деньги. Тогда я позвоню вам и предложу какую-то часть вашему центру. Вы не откажетесь?
— Попрошу даже не чистых денег, а перечисления на медицинскую аппаратуру. Скажу, что именно хочу приобрести.
— А какое Вы имеете право просить, отказав мне сейчас?
— Нет, права я не имею. Но Вы сами предложили. Я — не приму. Примут больные. Вы деньги дадите не мне, а больным, не так ли? Вы поможете им, а не мне…
— Вы прекрасный спорщик. Вы нуждаетесь в том, чтобы хотя бы раз в неделю услышать какой-то голос? Мужчины или женщины?
— Да. У меня есть такие друзья, с которыми я стремлюсь поговорить чаще, чем раз в неделю. Это действительно друзья, которые всегда поддерживают и помогают.
— Сколько их? Пять человек, десять?
— Нет, конечно, не десяток…
— Вы позволяете себе какое-то застолье, когда Вы сидите и не торопитесь, зная, что вам спать только пять часов?
— Бывает, что сидим с друзьями или на деловой встрече раз в три месяца, а порой, 2–3 раза в месяц…
— Ваша жена — помощник, который понимает Вас и помогает во всем, или это другая вселенная?
— Сейчас — да, помощник. Говорят, что уже большая помощь, когда не мешают. Раньше ей было обидно, что так мало времени уделяю семье. Но она довольно быстро поняла меня, и помогала мне уже тогда, пятнадцать лет тому назад, когда мне было трудно справляться с больными.
— Чувствует себя только счастливой, или есть раздражение внутри?
— Она действительно тоже довольна жизнью. Это ее слова. Она пишет книги, рассказы. Ей заказывают работу в цирковой энциклопедии…
— Она считает свою деятельность такой же важной, как и Ваша?
— Нет, ее основная работа — в цирке, а работа здесь — как хобби. Она также закончила педагогический. Но, как и я, всегда мечтала стать артисткой цирка.
— Вы столько успеваете, но, согласитесь, что жизнь много просторнее ваших занятий и планов…
— Да, я это понимаю. И чувствую, что иногда иду по узкому коридору, и пока не могу расширить.
— Вряд ли наш мозг работает так, как нам хотелось бы… Например, чтобы Вы хотели знать, чего не знаете?
— Я не могу этого сказать. Я закомплексован на одном — уже полгода идет разработка методики, и я не могу позволить себе что-то еще. Может, это называется целенаправленностью? Есть ощущение, что, пока я не сделаю этого, заниматься другим я не буду и не хочу. Иногда мне задают, простите, еще более нелепый вопрос — чего бы Вы хотели, какая ваша самая заветная мечта? Я отвечаю: «Вам сейчас будет смешно. Я хочу, чтобы одну неделю у меня никто не спросил бы ни о какой болезни, ни о какой болячке. Чтобы я отдохнул, ничем не занимаясь в жизни». Может, я и не выдержал бы такой недели. Существуют наркоманы, трудоголики, и, видимо, я прохожу по этой категории.
— Актер Миронов недавно прославился в фильме «Мусульманин». Я спросил его: «Мозг у Вас делает все, что надо?» А он заявил: «Всем известно, что мозг реализуется у нас на тридцать процентов». Получается, что он жалеет об этом…
— Это заученная фраза, и фразами он стреляется. Я говорю так, как думаю, как считаю. Пусть это неправильно.
— Ваши друзья похожи на Вас? Они такие же трудоголики?
— Нет, думаю, не все.
— Есть остроумные среди них настолько, что Вы завидуете им?
— Может потому, что я сам люблю шутить, может, поэтому только радуюсь своим достижениям или других, но никогда не завидую.
— Видите, с Вашей помощью я исправляюсь, не спрашиваю, каким писателям Вы завидовали, спрошу — каких Вы любили?
— У меня были этапы в жизни — то фантастика, то книги о любви, то — классика. И, может быть, все, что связано со спинномозговыми травмами в западноевропейской литературе.
— Все-таки один особенный писатель был в художественной литературе?
— Пушкин. Я думаю, его все любят. Также, как в детстве все пытаются писать стихи.
— Вы не видели и двух строчек Бродского? Не читали Довлатова? Не знакомы с книгами Набокова?
— Набокова читал.
— Жена Вас принуждала — мол, должен обязательно прочесть?
— Никогда.
— Какой драматический артист Вам больше всего нравится?
— Мне нравятся очень многие актеры. И еще вот, что я должен Вам сказать, дорогой Олег. Представьте, я начну перечитывать или читать книги с умным видом, следить пристально за актерской игрой. И это будет фальшь. Это будет неправда. Это буду не я.
— Андрей Тарковский сказал: «Если сухую корягу ежедневно поливать, она зацветет». Вам должны быть дороги эти слова…
— Да, конечно, человек — сухая коряга, потому что грешен. Но и без этого нельзя. И никогда нельзя о человеке говорить хорошее или плохое, тем более плохое, когда не знаешь человека как следует.
— О чем бы Вы размышляли в ту неделю отдыха, о которой мечтаете?
— Да я сомневаюсь, что эту неделю бы выдержал. Я старался бы отключиться от всего, не думать ни о чем. Девять лет я не отдыхал, не имел отпуска.
Иосиф Раскин СОСТОЯЛСЯ ЛИ ТЫ
— Ты вряд ли помнишь и будешь помнить такой пустяк, отчего стал платить мне ежемесячную стипендию — 200 р.? Мы сидели в ресторане, иностранец платил деньги проститутке, а я сказал: «Лучше дайте мне, я — нищий писатель», И тогда ты закричал: «Не смей попрошайничать! Я буду платить тебе стипендию!» Тебе было за меня стыдно?
— Да, конечно!
— Ты, разумеется, все еще спишь с женщинами, поэтому ум у тебя все еще ясный, и ты легко представишь себе… По метеоусловиям планеты звезды люди могут видеть одни раз в сто лет. Как ты думаешь, для большинства людей нашего поколения звездное небо будет важнейшим событием жизни?
— Думаю, таких людей становится все меньше и меньше, но пока их еще очень много.
— Ты, конечно, среди тех, кого много. Сколько времени ты не спал бы, не пил бы, а любовался этим зрелищем?
— Это будет зависеть оттого, с кем я буду на них смотреть, или оттого, кто меня будет ждать в это время. Например, если меня будет ждать Олег Юлис, никакие звезды я не буду смотреть, или другой гениальный поэт, которого я встретил в Израиле. Не помню только, как его зовут…
— Его зовут Илья Бахштейн. Ты не хочешь ему высылать хотя бы половину того, что платил мне?
— Боюсь, у меня нет такой возможности. Но если ему будет очень надо, я отдам ему последнее.
— Не устал воображать? Потерпи еще немного… Пришли к власти еще живые изуверы, издают чудовищные законы. Вся любимая тобой милиция брошена на то, чтобы штрафовать тех, кто их нарушает, десятикратным размером минимальной зарплаты. Вот тебе пример указов: нельзя разговаривать с близкими, можно лишь с посторонними. Идеологи обещают, что страна через несколько месяцев выйдет на высший в мире уровень благосостояния, и народ, конечно, проголосует за все подобные указы. Ты останешься жить в такой стране? Притом, что визу и билет будут давать бесплатно и высылать на дом…
— Лет двадцать назад я, естественно, уехал бы. Теперь — нет. Теперь я понимаю, что и там херово, и тут херово.
— Иосиф, сколько у тебя долга?
— Миллионов двадцать.
— Всю жизнь у тебя так — расход превышает доход?
— Всю жизнь.
— Заканчивая тебя мучить, спрошу вот что. Что тебе всегда и всего важнее было узнать обо мне?
— Помню, когда-то за несколько дней до своего дня рождения ты ходил по Арбату, приглашал первых встречных к себе отпраздновать это событие и выпрашивая в подарок двадцать пять рублей. Несколько человек таки пришли, и ты выложил на стол буханку черного хлеба и бутылку водки. Еще я всегда помню, что ты писатель от Бога. Большой художник слова, правда, непризнанный. Но также я про тебя знаю, что ты живешь за счет женщин. В связи со всем этим я хочу спросить, у тебя бывает сильное чувство неудовлетворения собой? Ты себя считаешь в обывательском смысле слова порядочным человеком и состоялся ли ты?
— Иосиф, дорогой, ведь человек может заражаться и хорошим, и плохим, не так ля? Я плохим заразился у тебя — любовью к анекдотам… По известному тебе анекдоту, отвечаю: старым стал — говном стал.
— Нет, смысл анекдота в том, что и молодым был — говном был.
КНИГА В КНИГЕ Лариса Юлис Темные тетради
О КНИГЕ ЛАРИСЫ ЮЛИС (Размышления на полях)
Существует жанр лирической прозы, величайшим образцом которой является «Вертер» Гете, в молодости казавшийся мне сентиментальным и наивным, а теперь при каждом новом прочтении открывающий все новые глубины. Можно вспомнить уже в нашем столетии некоторые тексты Сент-Экзюпери, Хемингуэя, Роберта Вальзера. В русской литературе эту цепь свободных лирических фрагментов, не связанных между собой строгим сюжетом, мы отыщем у Лермонтова в «Журнале Печорина» и «Княжне Мери», в миниатюрах Пришвина «Глаза земли» или отрывочной прозе позднего Бунина доведенной до предельной взвешенности каждого слова.
Лариса Юлис — прозаик, к сожалению, никому не известный даже в эмиграции и поэтому сравнивать ее с классиками я не решаюсь. Ее «некрасивая женщина» — из тех людей, жизнь которых в городской буче мало кому заметна. Эта тема человеческой обезличенности чрезвычайно популярна в современной западной литературе, но там «средний» человек по авторскому замыслу, как правило, принижен до уровня безличной пешки в чьей-то игре. Иное дело глубоко обаятельная героиня Юлис, даже исполняющая реквием на одной струне человеческому паноптикуму.
Но речь вовсе не об этом. Хоть мне известно, что в Израиле Лариса живет на нищенское пособие… Пусть критики оценят эту прозу глубоко и основательно, привлекут к ней внимание умного и зоркого читателя, ожиданий которого она не обманет. Я же хочу лишь сказать, что как историк русской и западной литературы, знающий многие образцы классической и современной поэзии и прозы не по наслышке, а в оригинале, я склоняюсь перед Ларисой Юлис, склоняюсь также думать, что она пишет в полном смысле слова оригинальную прозу, богатую мыслями, дивными наблюдениями и проявляет творчекую смелость, которой я не могу не завидовать.
ГРЕЙНЕМ РАТГАУЗ
Член Гетевского общества в Веймаре
(Москва)
Каждый, кто умеет читать, у кого по-набоковски истинным органом читателя является позвоночник, а не голова, очень скоро обнаружит — прозу Ларисы Юлис возможно воспринимать с любой страницы, с любого пассажа подобно тому, как узор ковра не вызывает желания обратиться к истокам его начала.
Лариса каким-то мистическим образом, будто канатоходец, балансирующий над публикой, не рассказывает никакую историю, — она рассказывает Ничто. Это Ничто схоже с рамой и створками окна, которые подвергаются подробному описанию, но глаз человеческий, вопреки воле автора или сообразно ей, видит лежащее за окном, будь то сад или ад. В данном случае автор выбрал ад — давно поборовший мир, ленивый ад.
Можно сравнить ткань, создаваемую Юлис с творениями Монтеня. Оттого столь и удивительно, что она не только сохранила свои образы, но еще и находится на вдохе, и вдох ее глубок — где-то в конце абзаца у нее всегда кроется слово или фраза, взрывающая ад.
ВЛАДИМИР КИРГИЗОВ
ТЕМНЫЕ ТЕТРАДИ
Нынче я больна разлукой с вами. Мне так тяжело, что я могу лишь молчать. Поэтому я пишу вам не письма, а черновики. Перепишите мою жизнь начисто и располагайте ею по своему усмотрению.
Воскресенье.
Однажды вечером, впервые очнувшись от тяжелого многотерпеливого бреда, я произношу слово «жизнь» и чувствую прикосновение этого очаровательного имени. Мне 25 лет. Я хочу жить во что бы то ни стало. Хочу жить вопреки самоубийственному призванию расплатиться за все и за всех собой. В таинстве распятия и воскресения не та же ли гордыня: дать себя на распятие, страдать — и остаться неуязвимым: воскреснуть. О Бог, ты — дьявол гордыни: вся людская злоба тебе ничто, ты после распятия остаешься неуязвимым. Оттого, о Господи, никто не верен тебе, высокомерный идол молчания.
Исчисление возрастом — условность. «Жизнь есть сон» — неожиданный, необъяснимый, как погода. В лесу, на уровне травы и блаженства, понятна ничтожность страдания.
Вторник.
Все растерзано, предано, изолгано, перевернуто. Но я — хитрая фанатичная христианка иудейского происхождения. Удалюсь и соглашусь с клеветой, чтобы тайно лелеять все ту же веру. Что заставляет меня на мороз улыбаться — тепло? Сколько еще времени нагнетаться терпению и молчанию, пока не взорвется? Или так окаменею с нелепой улыбкой? У меня та же тихая уверенность, как у князя Мышкина, что могу прожить лучше, счастливее других, что бывала непереносимо счастлива. Во мне идиотизма, фанатизма, идеализма — от пяток до ушей и нисколько жизненной практики, того, что бывает на самом деле, того, чем живут все без исключения люди.
Ссыльный Мандельштам в плохом стихотворении пишет сокровеннейшую мудрость: «Не сравнивай — живущий не сравним».
Воскресенье.
Тороплю сентябрь, пройди скорее все, что до сентября — морока, неопределенность.
Весь день дождь, дождь, сырость, заботы о ненужном. Сколько лет подлинной жизни? (Той, что складывается из нескольких минут перед сном и немного бывшего точно во сне; остальное — душа — живет тайно, за пределами видимых явлений.) Вспомнить перед засыпанием, как двести километров плыли по реке в большой лодке, однажды тоже шел дождь, было сыро, мы жгли костер на берегу и чудесно уснули, а назавтра проснулись — опять дождь, но мы рады были, пусть, нам не холодно, и везде тихо; а уж потом только было солнце. Может быть, приплыли в деревню, а может, не приплыли, а все в лодке. Какие-то птицы, в горле сладко от сна.
Кажется иногда, что, перестав страдать, перестанешь ощущать себя вообще. Не прав ли тот, кто сказал, что любовь есть страдание (нет, неправ и не должен быть прав). Опять дождь, и слава Богу. Я бы испугалась, увидев утром солнце.
Смерть приходит, когда уже нечего сказать самому себе. И невозможно благодарить Создателя за то, что ты рожден, пока не умрешь. Но каждое утро — за радость бывшую и будущую. Спите, прошу вас.
9 апреля.
В ночь на 10-е родилась Мария.
Среда.
Горечь дней. Это — от утра до темна ехать в поезде с опущенными на окна черными шторами. Стоять в толпе согнанных на площадь для встречи иностранного политика весь день за спинами. Ждать аборта в общей больничной палате. Никакого родства с деревом, цветком. Прямохождение — нелепая условность. Справедливо было бы лить дождю 70 лет без перерыва.
Любимый, хорошие книги не выходят в Голландии и нигде на земле, для того есть далекая тайная другая планета, не знаю где. Прежде — свобода. Потом — что суждено. И столько радости! Только радость.
Они приехали из Архангельского. Рассказывали о просторе, о маленькой церкви на обрыве, о ветре. Жажда пространства. Как хочется пить весной.
Голоса приближаются.
Скрябин.
О, куда мне бежать От шагов моего божества!Отчего я так счастлива, рада жить? О хоть бы не кончалось это наслаждение собой и всем, что есть. Все, что есть, — это Бог. То, что весна, — Бог. Что ясно, — Бог. То, что я живу, — Бог. Господи, Господи, любимый.
Застоявшийся запах комнаты — знак этого дня. Но больше — от всего независимая тайна и возможность погасить свет.
Суббота.
Горькие запахи весны. Жгут старые листья. День полный случайного. Уехать, чтобы не быть здесь. Это снится в снах и наяву чудится. Такое самообладание и такая скрытность, что ни один знак из глубины не вырвется в общении. Оттого недоступность. Это еще и нежелание навязать себя и свои состояния, это вежливость, а всего вернее вот что: выйдя из границ самообладания, можно разрушить одиночество и оказаться связанным. Самообладание — состояние внутренней свободы от всех (других). Познать это возможно только усилием за пределами слова — напряжением души всех шестых чувств — через слова, за слова, мимо слов.
Молчание — мой закон.
Смиренное предчувствие испытаний. Не озлобиться, не стариться, страдая, не жить страданием. Умереть радостно. Узенькая, как березовое поленышко, маленькая девочка в полотняной рубашечке лежит в белой постели и горько и смиренно плачет, ах, как горько, светлая моя, что же ты плачешь, сама не знаешь о чем.
В страдании больше пугает не боль, не тягость, а с ним связанное зрелище безобразий, суета, бессмыслие. Страх безобразий сильнее страха смерти во мне.
Пустяк — это маленькая серая птица с острыми крыльями, живущая в скребучем домике из берестяной коры.
Воскресенье.
Первый теплый день, теплый ветер, признаки близящегося зноя. На Старом Арбате торгуют квасом. Пила полную кружку. О лете. К вечеру дождь, сильный, дикий, шумящий. И медленные безошибочные мысли. Ах, как легко забывается — и что еще: наиболее одухотворенные состояния всего больше связаны с телесными переживаниями, а память внедрена в тело: запах, осязательное впечатление, звук, зрительный след движения. Память об эстетическом наслаждении связана с учащенным или замедленным биением пульса, сжатием сердца, ускорением, замедлением таинственных телесных процессов.
Она имеет достаточно доброты и воображения, чтобы видеть меня красивой.
Начало и конец жизни, рождение и смерть есть начало и прекращение памяти. Осознавать — значит помнить. Потому невозможно не верить в бессмертие.
Радостная и в каждом утре новая привычка жить. Привычка спать, надеяться увидеть сон. Привычка ждать радости и свободы. Лучшее и томительное — ждать. Верить. Знать себя и еще одно. Не знать ничего другого, ничего другого не знать. Чудесная привычка невежества. Спокойной ночи. Для немногих счастливых.
А в прошлом году этот лучший день апреля был влажным, прохладным, легким. Сегодня яркое солнце и много непонятного, постороннего. Лучшее стало ясным в сумерках и правит до утра, пока улеглась суета. Не кончайся, ночь светлая. Кончись и отойди после всех сует, уведи чепуху. О воскресении Бога, о новом рождении. О радости. Сегодня Пасха, праздник Воскресения.
Понедельник.
Солнце светит в лицо, в глаза. Никого, ничего не вижу, глаза в глаза с солнцем. Вспомни о будущем лете, когда поплывешь на лодке по дикой реке. Раздеться догола, вздохнуть кожей, жевать травы. Там росли дикие яблоки, и я принесла ежевику в платке. Спали под солнцем, на песке. Ах, чепуха. Короста общения. Спи. Сон: Тосканини в черной шляпе и в черном сюртуке дирижирует, расхаживая по сцене и махая черной лаковой тростью — вместо палочки дирижерской. Иногда сам наигрывает на маленькой пиле, вроде гильотины; остальные тоже пилят, сидя за аккуратными столиками. Получается очень хорошая музыка. На Тосканини высокие черные сапоги.
Вторник.
Как страшно одинок ребенок. Мы не безумеем только потому, что познаем свое положение в мире постепенно. Девочка моя, светлая, Красная Шапочка, единственная.
Глубокое ночное размышление о страдании. В болезни, боли тела нет истинного страдания, мукой убита душа. Истинное страдание познается через успокоение, счастье. Правда ли это? И почему искупление — через страдания распятого Сына Человеческого, то есть муки плоти. Потому что это страдание во имя души. Потому что это — преодоление (смерти). И все же пытка физического страдания отвлекает от души. История души (страданий!) там начинается, где кончена опасность, уязвимость плоти. Душа могучее и способна безгранично страдать. Плоть уязвима, конечна.
Человеческое дитя с безграничной способностью к страданию. О девочке моей. Очиститься через страдание — не значит ли это отдать душу дьяволу (смерти)? Радость есть единственный (?) путь истины и подлинного страдания. Страдание возникает из столкновения бесконечности с конечностью жизни.
Суббота.
Волшебное, чудесной прелести дитя. Светлое и таинственное. Прислушивается к темноте, тихо плачет с дождем. Неведомая душа выступает на лице. Огромные ощущения мира, и своего тела, и своей души (и сны, и первые догадки). Вспоминая о влюбленности и радостной вере в бессмертие, помнить эту буйную торопливую весну, запах молодой тополиной смолы после дождя, а Измайловский лес, сияющий зеленью, повис в воздухе. Безмерный дар любви и восторга.
Каждое явление и слово — чудо. Остальное — несущественно. Разгадка жизни и тревоги — в движении.
Воскресенье.
Холодный солнечный воздух, ветрено. Какие-то радостные сны наяву. Мысли о красоте и легкости молчания. Счастливое представление о совершенном искреннем человеке, которого не тягостно и не стыдно наблюдать наедине с собой (а сам остаешься невидимкой), это один из многих тысяч, прозрачный и легкий, ни в одном его проявлении нет безобразного. В эту пору мая уже соловьи, и цветут яблони, черемуха, много одуванчиков, в лесу лютики и маленькие синие цветы с шершавым листком. Талант есть необходимость выражения некоторой способности в деятельности. Их загадочность — просто постоянное присутствие задней мысли. А это самый незагадочный человек, прозрачный, как ребенок.
В ботаническом саду, Останкино. Сад солнечный и светлый. Неужели в конце всего умирать.
Проклятая ручка.
Неужели в конце всего умирать.
14 мая.
Бог с ними всеми. Начало истинной жизни лежит за пределами возможного. Равенство в равном напряжении души и всех восприятий, без отпусков и разрядок, презрение к расслабленности, отдыхам и пикникам. Уязвимость — абсурдное качество. Чепуха.
15 мая.
Ребенок: у ребенка верное знание времени. Ребенок погружен во время, оно протекает медленно, не быстрее сна, голода, желаний — огромные к началу возвращающиеся сутки. А ты выпал из времени, противопоставил себя ему — этой суетящейся мимо путанице: ни дней, ни вторников, ни суток.
Среда.
Скандинавский фильм «Голод» по роману Гамсуна. Неврастения, ужас и красота. Неврастеническая гордость, красота. Выдумки. Пишет статью на скамье городского парка и разговаривает со своими ботинками. Сверток с одеялом носит под мышкой, прячет в подворотню за бочками. Все спрашивают, не голоден ли он, не нужны ли деньги. Он: нет, не голоден, нет, не нужны.
Четверг.
О ясности и осознании иллюзорности всякой ясности — забвение жизни, ужаса. О том, что в ясности есть веселость и сознание иллюзорности, но оттого — не горько, только радостно: радостное противоречие, движение, бессмертие (ясности). Господи, любимый, помилуй от безобразий. Накануне новой перемены: что буду? Болит несовершенство. Тяжесть и вина общения. Чистота уединения, вожделенная, недосягаемая — обратиться к ясности и познанию. Утверждается угаданное: познание не через боль возможно или страдание, а через тишину только, умиротворение. (Высшая воля: все в воле Твоей.) Необходимость страдания должна следовать лишь как оплата ясности, нет ему другой необходимости. Так же духовность оплачивается в мире Ужаса — причастностью, страхом (страданием). Уязвимость: моя ясность поверх всех страхов, и только дитя определяет мою беззащитность перед жизнью, она во мне уязвима, девочка, дитя, подверженное страданиям, начало и конец возможности жизни. О ясности. О движении. О радости. О девочке моей. Пусть будет урожайный год. Невероятно: помню себя от полутора лет, уже знающей страдание, значит — уже не невинной.
Суббота.
Борюсь с ужасной, необъяснимой тревогой. Не понять — о чем и откуда. Наверное, так собака тоскует перед землетрясением. Книги: Ницше «По ту сторону добра и зла», снова Петров-Водкин, «Житие протопопа Аввакума». Лучшее — ты, прекрасная книга — «Игра в бисер» Г.Гессе.
Уже много дней солнечных и холодных. Зелень темнеет, яблони осыпались, летают пухом одуванчики, а тепла нет.
Знойный день, к вечеру быстрая сильная гроза. А что если… Просто захотелось написать «а что если».
Весь последний месяц — под знаком Малера. Три первые симфонии, «Песни странствующего подмастерья» и «Песни об умерших детях». 3-я симфония. В первой части: тромбоны — воинственные, потом томительно-сладострастные, жуткие бездны (вагнеровские).
Вторая часть — что такое? — немного болезненные, но пленительные игры в красоту. Самое начало 1 части — так хотел бы и не смог Вагнер — становление мощи из хаоса прямо поражает обнаженные нервы, и побочная тема — сентиментальная, чувствительная скрипочка. Томление богов, огромных нибелунговских — тромбоны. От малеровской выразительности, однако, один шаг до распада традиционного языка — к новым: Стравинскому, Шостаковичу. Последний романтик.
Моя девочка. Мария. Дорогая всей мерой жизни и смерти, это — равное безмерной ответственности за рождение, вине рождения (моя вина, искупить, защитить). Она говорит «хочу». Она говорит «не хочу». Она может хотеть и не хотеть, дитя, человек, таинственная душа. 18, 20 лет жизни с нею, во что бы то ни стало, пока она сама не будет в силах защитить право хотеть и не хотеть. О девочке моей.
Тристан и Изольда. Стремление к бесконечному. Безмерное страдание и радость любви есть атрофия инстинкта самосохранения и разрушение личности. Смерть. (Слияние в бесконечном.) Вы правы: любовь есть страдание и смерть, потому что — бесконечное, а конечное — не любовь(?). Рождение ребенка в любви — проявление охранительных инстинктов: любовь принимает конечную форму и теряет свою разрушительную силу. (И перестает быть любовью(?).)
Ветреный день. Много тополиного пуха. Ничего не имею против экзистенциального одиночества, когда речь идет обо мне и других. Я есмь Я (Ты). И более не о чем и не с кем говорить.
Воскресенье.
Сегодня дождь. Марию увезли на дачу. Живу поверх чепухи. Я знаю: это невозможно для жизни, это для смерти. Это Бог и свет, беспокойный, подвижный, зовущий к наслаждению и смерти. В мысли, что вы меня коснетесь, есть ужасный страх и мучение.
Пережить завтрашний день. Господи, помилуй от безобразий. О свободе. О девочке моей:
Конец ли. Начало свободы? О свободе небывалой Сладко думать у свечи.Ницше: о друзьях, которые нас понимают, понимают наши слова, то есть понимают их плоско.
Об искушении. Как я искушаю их доступностью и многословием, и никто из них не выдерживает искуса, они соблазняются и впадают в непочтительность.
Всегда доброжелательно готова принять их, но не ищу их.
С душой, открытой для добра.
Но: они слишком легко впадают в соблазн непочтительности (слишком легко), поэтому я не ищу их. Дурной вкус, — в преувеличении своей роли для других, это всегда умаление своей роли в себе. Не следует много говорить о своих пристрастиях и антипатиях «А я такое-то не люблю», «А мне такое-то нравится», «А вот я иначе», — фразы такого рода — большая пошлость.
Вот чем кончить: всякое общение есть падение.
Вера: вы никогда не лжете. Ищу персонажей, чтобы составить с этим «я» роман — и невозможно: не совпадают измерения, любой персонаж реален, «я» — фантастично. Вещи и явления проявляют свою природу не прямо, а извращенно. Это диалектика. Нигилизм: все события жизни отнести к случайному (то есть к не являющемуся необходимым). Зато одно утвердить необходимым, единственным, ниспосланным. Это крайний демонизм (нахальство) в соединении с религиозностью (смирением).
Вторник.
Девочка, моя вина ужасна, и ничем, ничем не искупить.
Коммуникабельность: я не думаю то, что говорю, и не говорю то, что думаю.
Совершенным дневником совершенного человека должен быть календарь природы (как в начальной школе). Достаточно оставить знак. «Утром солнечно и прохладно. К полудню набежали тучи. Одна имела вид голубя со шлейфом. Собирался дождь, но не было. Возможно, ночью, когда я буду спать, пройдет дождь».
Среда.
Франсиско Сурбаран. Отрочество Марии. Самое прекрасное, апрельское лицо моей девочки. Оно таинственно изменчиво. Она — богоматерь и девочка. Ясная и непостижимая. Мария.
Бодрствовать, после спать, снова день, движение — все прекрасно. Не попасть бы под машину. О, как я рада жить.
Воскресенье.
После Ленинграда. Приснится чудесное белое и голубое здание. Оно давало утоление жажды. В небо и воду оно не вторгалось ничем чуждым и нескромно интересным, сливалось цветом и формой, прекрасной и легкой своей башней. (Это Музей антропологии.)
Трагизм — биологическая неизбежность(?). Тристан и Изольда становятся Филемоном и Бавкидой. Верно ли это? И как опровергнуть? Жаркий длинный день, уже торгуют абрикосами.
Когда живут другие, — есть Человеческое, и сверх того — ничего нового невозможно выдумать.
Всякая мысль — не изобретение, а открытие из области Человеческого. И более изощренный, изысканно субъективный изгиб все же непременно принадлежит не только мне. А еще и другим (неведомым). Мое есть лишь форма. Не более, чем форма. Не менее, чем форма. Но в форме — возможность свободы, искусства, красоты.
Ревность — быть вездесущим, зависть — познать. Зависть к рассвету: проснуться до света, быть в дне от начала до конца, до ночи и сна. Во сне видеть сны.
Вторник.
Из всех человеческих способов выражения музыка ближе всего истине, то есть меньше лжет, потому что ее форма не связана и не ограничена понятием. Музыка родственна молчанию. Метерлинк, говоря о молчании, слишком болтлив. Случай болтливости в музыке: Гайдн (симфонии, «Времена года»), — жаркий торопливый август.
Здесь пахнет под дождем сырой землей и листьями, так было на Урале, 20 или 22 года назад, еще до начала памяти. (Но уже было обоняние и предчувствие тревоги.)
Дождь прекрасен запахом и воспоминанием. Об этом есть: «Песни об умерших детях». О прекрасном и жестоком, печальном, но нельзя плакать.
Сначала слышу только исходящую от музыки молитву и обещание красоты. Потом — усилие, увлекаюсь, верю — и раскрывается.
Четверг.
Точка — изображение настоящего без прошлого и будущего. Смерть наступает, когда забудешь самого себя. Смерть — это забвение.
Один человек всю жизнь страдает от того, что ему не хватает четырех времен года. Он с детства подозревает, что есть пятое время года, возможно, между летом и осенью, — а может быть, между осенью и зимой? Он задается целью найти пятое время года, посвящает всю жизнь этой прекрасной цели. Только перед смертью он понимает, что выбрал неверный путь, — разгадка в том, что времен года нет или, что то же самое, есть пятое время года — ожидание: весной — лета, зимой — весны и всегда — осени. Он умирает веселый и счастливый тем, что нашел себя. (Не был ли он безумцем? — Да, этот человек был безумцем, потому что он ничего не хотел знать и ничего не боялся.) Воля к познанию — мужское начало. Воля к невежеству — женское начало. Чрезмерное стремление к совершенству, которое есть завершенность, — воля к смерти. Погасите свет, у меня устали глаза.
Суббота.
Жалкое и скучное в человеке, от чего чувство скучного снисхождения: думать, что бывшее с ним и в нем не необходимое и не неизбежно. О, какая скучная скука от этого человека. Много случайного, много привычки, много разочарований — гробы повапленные. Если я перестану верить вам, я умру. Потому что после такого падения нельзя жить.
Яблоки поспевают к Яблочному Спасу, к 19 августа. В двадцатых числах августа начинается осень. Ночью зябко. Первые холодные дожди. По скошенному полю пройти к церкви. Последний урожай желтых одуванчиков. Сыплют желтые листья березы и осины. Смиряюсь с мыслью о зиме, однажды вспоминаю о Новом годе, вижу во сне елку. Но все — только призраки, напоминания. Покамест лето! В начале сентября еще будет жарко. Торгуют арбузами. На Ломоносовском проспекте в конце октября снег пах арбузами.
Всякий день и каждую ночь я помню, что не считаю дни и не считаю часы.
Перехватило дыхание.
Воскресенье.
Несмотря на мои усилия, жизнь идет кое-как, и направление ее смутно, загадочно смысл от меня сокрыт. Но случайное не от меня — от мелочных обстоятельств. Как преодолеть мелочность? Как быть, если этот блокнот уродлив, куплен в отчаянье найти хорошую тетрадь?
Постоянно на втором плане сознания плывут видения леса, холмов, поля. Я постоянно одержима потребностью уходить, но свободы еще не было. И куда нам бежать, уедешь ли к морю или уйдешь в лес — все собака на подвижной привязи: все дома, на предназначенном месте, нанятые тащиться от рождения к смерти:
Когда в один из дней, в тоске нечеловеческой, От суеты устав, под шелест якорей, Мы входим на корабль, и происходит встреча Безмерности мечты с предельностью морей.Друг мой. Как трудно найти друг друга. От детских снов через тоску и случайности долго до первой встречи. Как легко потерять друг друга. Немного неверия, немного бессилия достаточно для предательства. Но можно верить, что нет одиночества и невозможно предательство.
Я не люблю разлюбить — и боюсь разлюбить. Многое я любила увлеченно, а после выросла и теперь не горю. Я боюсь и не люблю этой своей холодности.
В Донском монастыре. Светло и просторно. Говорили с И. о биологическом. Мгновенное узнавание мужчины, даже в темноте (как у меня осенью в театре). Чувственное соответствие, таинственная звериная какая-то искра. Она это знает, и она в такой момент пойдет, если позовут, а я — нет.
Ощущать себя частью вселенской мистерии, таинственнейшей из тайн, и возвращаться к неуклюжему бытию. Но лучшее — блаженное забвение в солнечном зное на берегу реки.
Разочарование этого лета — плен моих недостатков: несдержанность, легкомыслие, мелочность. Главный порок (свойственный также всем, кого я знаю) — придавать значение слову, разговорам. О, как я презираю эту высшую мелочность — найти важность в пустом, принести в жертву пустому дорогое. Ничтожность слова — ничтожность одежды на прекрасном теле. Быть свободной от слова.
Смешно, что я верю в странное: что всякая мысль моя и перемена в душе известны и отозвались Там, в той душе.
Отмечать мысли, чтобы много лет спустя извлечь музыку, которой они звучали во мне. О, если бы найти знак, чтобы и через 10 лет, прикоснувшись, вспомнить.
Писать только по поводу прочитанного. Желание удержать самоощущение — тщетно. Мысли слишком в потоке. Весь — не удержать.
Вторник.
Камю. Вздор, вздор. Недосягаемая мелочность. Читаешь без всякого отношения к себе. У Вагнера так слушаешь траурный марш из «Гибели богов», без скорби — недосягаемая титаничность.
Моя любовь к ребенку. Ее непостижимая прелесть. Выражение хрупкости на лице. Ее глаза и светлое лицо. Сосредоточенность, сдержанность всех проявлений. Ей для радости мало надо. Она на корточках. С серьезным лицом жадно ест пастилу. Ее узкие косточки. Как она пробует губами все вещи. Целует вещи. Лифчик и чулочки на резинках. Застиранное платьице и душа на лице. Хочу плакать, видя эту так обнаженную душу. Эта девочка была у меня в животе, я носила ее, я — причина ее.
Среда.
После концерта 9-й симфонии Бетховена. Как связать величавую безмятежность Адажио с грязью, мелочной неуспокоенностью жизни. Где в жизни поместятся заклинания финала — «все друзья и братья»? И отчего жестокость жизни близка и на глазах, а верится в иное.
В электричке Хаксли. Много справедливого. Животное состояние 9/10 человечества. Ненависть к свободе интеллекта, возведенная в принцип социальной системы.
Четверг.
Когда увижу его, подымается такая безмятежная радость, ликование, словно после него ничего не будет и до — ничего не было.
И Вы, наконец, не оглядывались на прошлое и будущее. Ах, сколько впереди. Только бы не умереть случайно. Как ясно все — и печаль, и страдание, и жизнь. Только жить. Помнить. Не потеряться. Уехать. Всегда уезжать. Просыпаться без муки, в ясности.
Про Марию. Лицо неустойчивое, одухотворенное. Улыбка неловкая. Внешнее устройство может сформировать внутреннее. И печалюсь, что она похожа на меня. Славянские лица прелестнее уверенностью. Скулы и развитый подбородок придают им устойчивость. У Марии нет скул. Но кроткие глаза, серые, золотистая головка. Не будет ли она глупа и покорна?
Детство — это плен. Все годы до 16-ти — утробное томление, страхи, галлюцинации. Юность нагнетает тревогу, мечешься, отчаиваешься вырваться, хочешь смерти. Только в зрелости начинается свобода и путь к ясности. Сколько заблудилось в детстве. Бесформенные, буйные, безнадежные. Страшно за всех, кто родится.
Суббота.
Во всякой личности созидается тот же космос, что творят все художники мира вместе.
Вы — удивительный, невероятный человек. Вы беспокойный, страстный и невинный. Вы умеете вызвать к жизни вещи и лица, увидев их.
Никогда вы не разучитесь и не устанете искать прекрасное лицо. Вы измучены жизнью, опустошены. Господь с вами, где бы вы ни были.
Не вспоминайте незначительные слова, сказанные между нами. Я знаю только одно — что вы найдете свой путь к радости. Я жду каждый день. Мне видеть вас и прикасаться к нерадостному невозможно. Это — предать вашу добрую природу, изменить моему призванию к ясной жизни. Мое призвание — ходить пешком, не лгать и жить ясно. Душа ваша до тех пор жива будет, пока вы будете любить, ко мне стремиться. Моя — пока я верю вам. Сколько прекрасного случится с вами — я готова не разделить. Против дурного я бы хотела отдать всю мою кровь. А сейчас я не хочу видеть вас, любимый, единственный, дальний.
Безобразие сегодняшнего дня коренится в чрезмерной чувствительности, рабской, подлой чувствительности: неумении оставаться прекрасной среди безобразия. В толпе я ощущаю на своем лице безобразие всех мимо идущих бессмысленных лиц, моя кожа отражает неопрятность их тел, мне передается их раздражение, их безотрадность. Для несмелых, чтобы наслаждаться природой, надо найти место, где между тобой и природой не всунется толпа.
А вы глупы, не понимая моего слова «защищать». Ваша дружба, вера в вас защищали бы меня в толпе, вас, а не толпу отражало бы мое лицо и было бы прекрасным. Так же и я могла бы вас защитить.
То, что в вас потрясает: стихийное разрушение нормы во всем — в мышлении поведении, восприятии. Это — признак счастливых натур. Вы не видите этой стихии в себе, но за вашей несознательной смелостью надо полагать только одно: огромные возможности интеллекта, творческого духа.
Для меня ваша печаль о моей некрасоте не потому пошлая, что вы не правы (мне бы, конечно, лучше родиться красивой), а потому, что в ней я вижу слабость, недостаток страстности, веры. Если вы любите, то разве не исключается этим, что я могу быть некрасивой. Для меня любовь — это вера в совершенство того, кого любишь. Если нет веры, я чувствую разочарование.
Воскресенье.
В Москве 250 смертных исходов гриппа. Искусственный вирус из Западной Германии, от которого ребенок может умереть на второй день. Такой страшной эпидемии не было со времен испанки. Война и вирусы стали для меня реальными чудовищами с тех пор, как я испытываю страх за мое дитя. Никогда родить детей не было таким безумием, как в это проклятое время химии, превосходства избранных рас и бессилия.
Увы, никто не замечает, что все персонажи хемингуэевских книг просто кретины. А поскольку Сократ учил, что истинное мнение справедливее заблуждения большинства и что один человек часто стоит десяти тысяч (пропорция Демокрита), то я скажу, что Хемингуэй — пошлый писатель, хотя все думают иное.
Но Хемингуэй хорошо жил, он много двигался — «по вольной прихоти своей». Жизнь тем прекраснее, чем больше в ней движения.
Для меня построение развесистых теорий по всякому поводу — единственный доступный вид движения.
Никто также не заметил, что Достоевский — величайший поэт будущего человечества. Найдется ли у Толстого в 20 томах столько индивидуальностей, сколько есть в одних только «Бесах»? Из всех художников один Достоевский умел представить подлинную духовную страсть и духовное страдание.
Страдание и гибель великой души, превосходящей скудные возможности бытия. В таких размерах личность, может быть, разовьется через тысячу лет. Современный человек, живущий в гадкий период своей предыстории, есть то, что всего вернее рассказано у Фрейда. Только принадлежащие будущему Фрейда опровергнут. Их поэт — Достоевский. Замечательно, что самые интеллектуальные в мировой литературе романы написаны косноязычно, как попало. Стиль Достоевского вычурное, издевательское косноязычие. Ставрогину доступны сладострастие преступления и сладострастие добра. Он гибнет не от недостатка сил. Ему нет искупления. Это богоравная личность, и он призван своей мукой добыть первородное значение добра и зла.
Рядом с Достоевским (злобным сумасшедшим, юродивым, мудрецом) Хлебников — только многословный чудак.
Быть одному — совсем иное, чем быть одинокому, заброшенному. Вечером я гуляла одна, прыгала на одной ноге и размышляла. Так было бы чудесно, если бы не бояться, что подойдут и скажут грубое. Одиночество чувствуешь в душных стенах.
Справедливо думать, что одиночество — истина существования. Но эта истина преодолевается в любви. В жизни я умела не лгать только вам.
И вот что говорили обо мне, и какие это пустяки и вздор: В-р говорит, что я «полководец» и т. д., «сила огромная, устоять нельзя». Какой вздор.
В. говорит, что «по самой людной улице я хожу, как по лесу».
Ш. говорит, что я «когда возбуждена — чудно красива, ослепительная царица Сиона евреева».
Б. говорит, что «по скрытности и недоступности я напоминаю закрытую звезду, которую знают по вычислениям, но свет ее никому не ведом».
Моя Мария очень похожа на меня и болезненно некрасивая девочка.
Среда.
Прозрачная, легкая, как осенний лист, Мария. Любит зефир, пастилу, яблоки. Не любит апельсины, пирожные, колбасу.
Сто дней не было солнца, и все забыли. До гигантских, ненужных размеров разрастается душа в скудости этих стен. Сколько надо гордости и смирения, чтобы не заплакать о парках, о зимнем море. Все невозможное очарование жизни предстает только в снах.
В этот век всякая деятельность отдавала газетой и ложью. Лучшие люди сознательно или несознательно устремились к праздности.
Четверг.
Темно и душно от вашего страха. Но только минута. Преодолеваю. Поверьте, все — весело.
Ренуар не доверяет реальности мысли и воображения. С гордостью: «Мои модели не размышляют!» Разве игра мысли менее реальна, чем широкозадая глиняная баба под названием «Венера»? Но Ренуар не совестится своей наклонности к тяжелоногим женщинам, и играть в футбол не совестятся, а мыслить, выдумывать, играть мыслью совестно, подозрительно; слишком много в этом свободы: не проверишь, не поймаешь, не оштрафуешь, не заставишь платить.
Пятница.
Презренная распущенность неумеющих молчать и беречь другого от своей боли. Без веры и молчания (вера — всегда молчание) человек — только животное.
Через много времени вижу забытое, как призрак себя, и знаю, что это — ничтожнейшая доля моего тогдашнего и постоянного излучения. К призраку себя отношение как к очаровательной, сжимающей сердце (достойна любви!) незнакомке. Пишу в снах, парках, в чем-то небывшем, где угодно — но не здесь. Здесь редко бывала.
Суббота.
Тот род деликатности, который в ответ на признание в любви не позволяет ответить: «Я не люблю вас». Я слишком деликатна, чтобы сказать вам мое глубокое убеждение: «Могу ли я любить вас. Это невозможно, невероятно, смешно». Я с тоской чувствую, что рано или поздно придется подвести черту и освободиться. Тяготит отвращение к распущенности, мраку, многосложной многоюродивой достоевщине.
«Вас Господь сподобил жить во дни мои».
Неужели всю жизнь протаскаетесь по случайным улицам и лицам, не создав счастья из умения видеть и колдовать: безголосый Орфей в хороводе алчущих своей погибели Эвридик. Неужели всегда будете открывать за прекрасным лицом разъеденную распущенностью душу, под длинными волосами — дегенеративный затылок и не поймете, сколько в этом вашей катастрофической неспособности к счастью. Так всю жизнь и проживете повторением прошлого, изменяя, но не меняясь, возвращаясь к одним и тем же песням, слушая одни и те же песни. Никогда не сделаете усилия преодолеть импотенцию. Нет, вы жили четыре моих года. Ваша причастность ко мне, даже бессилием, нелюбовью и развратной, ленивой ложью — освящала вас. Теперь вы остались нищим, как современная литература. К низости, ненависти и равнодушию — я равнодушна. Неравнодушна только к любви. Благодарю вас за все. За то, что захотела пойти за вами. За неизвестное вам количество близости. За мою веру. За мое счастье. За то, что презираю распущенность и страдание и не умею прощать. За то, что никогда не прозрею. Простите же и вы и забудьте мое неудобное для похоти лицо, неудобную для измен душу.
Воскресенье.
Ни у вражды, ни у ненависти, даже в самом последнем страдании и недоумении не спрашивай: «За что?» Господи, позволь мне жить, помилуй меня. Мне радостно и светло каждый день. Сегодня дождь, и влажные сумерки растворили границы, я жила сразу во всех городах, где прозрачно, и во всех невраждебных душах.
Страдание и радость — два полюса любого сознания. Вопрос в том, отчего отталкиваться, к чему стремиться.
Вы — наркоман. Вам необходимо мучиться, мучить, быть мучимым. Ради этого вы свою жизнь губите, остаетесь в безобразии, зная, что безобразны. Вы и меня так грубо возненавидели за то, что со мной никакое мучение невозможно. Вы без грязи и беспорядка не можете. Не умеете и не хотите, потому что в болоте привыкли к удобству и разнообразию, — ни единственным быть, ни другом, ни мужем. Только тысяча первым, одним из многих любовников дюжины прекрасных любовниц. И думаем, что сие и есть великая тайна. Базарная это тайна. На базаре тоже сравнивают и на тот товар бегут, где народу и шуму больше, тысяча первым встать.
Понедельник.
Гамсун грязнел год от года. В «Пане» и «Мистериях» — живая свежая злоба, а в «Беноне» и «Розе» — кусающееся безобразие. Он, как юродивый, всю жизнь бьющий по одному гвоздю со злобной верой в дельность своего занятия. В каждом лице — разгул глупости, не сдерживающий себя развал мелочей, и притом с наскоком на читателя, втянуть или искусать несогласного. Не контролирующий свои порывы эксгибиционист.
Среда.
«…Последний ключ — холодный ключ забвенья. Он слаще всех жар сердца утолит».
У меня давно насквозь сырые ноги, но я, презирая заботы, могу идти всю ночь. Oт Смоленской площади через центр до Лермонтовской. На промокшем рассвете станет ясно то, что навсегда осталось бы мраком.
Пронзительное ощущение своей молодости и потерянности. Любой праздный и пустой взгляд меня потрясает, и я отвечаю испуганно и укоризненно.
«По пустынной блаженной улице шатаясь и спотыкаясь, я, липкий от сна, иду. Я сегодня умру, а назавтра раскаюсь и сам не замечу нескладную эту беду. Ненавистное, жестяное, нахальное слово — я не вспомню его и другие не вспомню слова… А спать когда? Некогда спать, никогда».
Суббота.
Потерялась, не могу определиться в пространстве и во времени, словно человек который не может найти удобную позу, чтобы заснуть. Как обрести ясность прошлого и будущего. Свободу. Человек не выходит из страдания, из тупого недовольства собой, перемены мест и лиц, мучительных впечатлений, сложностей — все, чтобы скрыть от себя свою неспособность к счастью. Ах, счастье, ровный ясный свет до смерти (бессмертия). Тишина и беседа. Один день такого счастья в полной вере: навсегда. А потом — сложить голову в любой буре.
Я посажена в четыре стены: ни уйти, ни уехать, ни закричать — а все счастлива, пока не захлебнусь.
Меня притесняет время. Вытекает по капле, как кровь. А я — самоубийца. Мне остается только пять минут. Я люблю вас. Кто вы? Как вы будете жить после меня? Кто узнает, увидит вас, как я?
Вместо долго и душножданного ливня — медленный дождь. Но темень, как и должно, кромешная. Я совершенно голая вышла на балкон и стояла под дождем.
Среда.
До 18 лет мне не давали спать. С 18 я не умею, не успеваю, не хочу спать.
Отчего нашумел «Белый пароход» — просят жевать бумагу и ждут «Ты чувствуешь, как умно написано на бумаге?» А я только чувствую, что жую бумагу.
«Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица». Вот стиль Бунина. Певец любви.
Возвратившаяся способность молиться. Время опять приобрело мучительную, но непрерывную длительность. Воля к самосохранению подавлена тем, что не знаешь, будешь ли жить дольше завтрашнего дня. Беспечно и судорожно разрушаешься, точно у края катастрофы.
Ни одному из людей не могу сказать «какой-нибудь». К каждому проникаюсь состраданием, какой-то мстительной нежностью. Но испокон века некого любить человеку.
Ах, да ложись же ты, ради Бога. В такой час даже мухи спят.
Четверг.
Мое дитя отчаянно плачет за решеткой окна Кузьминской больницы. Вот какая трехлетняя девочка: лукавая, упрямая, деспотичная, беззастенчивая, предприимчивая, отважная и нескучная. Родится ли когда-нибудь свет из этого мрака (в котором ни тени рефлексии)?
Лучшим наслаждением всегда было разрешать и решать, и порывать. Мне служба и каторга — возвращаться к бывшему. Железо куй, пока горячее. Жалеть о прошлом — дело рачье.
Перед смертью об этом писать будет некогда, да и стыдно писать перед смертью, умирать надо тихо, невидимо, вдали, не оставляя смертью следов. Но и сейчас, никогда это невозможно, если мне больно сказать «мы» от невозможной смелости этого признания (мы) и возможного в нем счастья. Тысячу лет проживи, я бы не устала благодарить Бога, радоваться за возможность этого «мы», будь оно при моем упрямстве (гордыне) возможно.
Суббота.
Перечитать бы всякому умному, томящемуся от безысходности россиянину литературно-политические анекдоты «Былого и дум» Герцена. Пусть в самоубийственном злорадстве убедится, что Русь от века не стареет. Проснулась Россия однажды, да после полубредового десятилетия бодрствования, испытав необоримый позыв ко сну, отрубила себе голову цепкой рукой грузина, чтобы удобнее почивать. И теперь, как никогда, российская душа тешится видимостью движения, которое есть все тот же российский сон на будто новый, европейский лад.
Два подарка вчерашнего дня. Утром: невероятная девушка в электричке (16–17 лет), принявшая мой облик, призрак меня в любом возрасте — угрюмая от юности. О бедное, неведомое существо с неизвестной развязкой, я не могу помыслить о тебе без страха сострадания.
Вечером, в метро: два грязных угрожающе красивых цыгана свирепо озираются, поднимаясь по эскалатору, и исчезают наверху, как видение непонятного, назойливо требующего разгадки смысла.
Тупая реалистическая правда, исключающая меня из всеобщего закона и хода вещей. Соблазнительная правда, учебник которой в книгах Мопассана, Бунина и кого угодно.
Глупец не понимает ужаса вызова. («Забыть — забвенья не дал Бог. Да он и не взял бы забвенья».) Не приемлющий летейского беспамятства, непримиримый, готовый длить свою муку за грань смерти, значит, на любое готовый — и все не берущий отдохновение забвением. Единственная не мелкая месть себе и ему.
Вторник.
Где я? Что я? И для чего не сплю? Сказал: ты прекраснее всего, что можно вообразить. В тебя трудно поверить, как в смерть.
У французов в XIX веке все же есть один великий писатель — Стендаль и одна великая книга — «Красное и черное».
Созерцать, размышлять, двигаться. Великое наслаждение собой и талант времени (жить каждую минуту, вычерпывая, сознавая, радуясь, отчаиваясь ушедшей) — смысл моего существования. В любой норе, в любом утеснении. Могу ничего не иметь и быть живой. Мне ничего не надо. И что же, все дары и самую жизнь — в жертву одной мании. Одно ожидание и глубочайшее пренебрежение ко всему другому. В сущности, я только избываю мое прекрасное время в ожидании несбыточного праздника.
Постепенно приучать себя к неизбежности зимы.
Пятница.
Эта осень без жестокости. Долго, постепенно входящая в кровь. Не заметишь, как и умрешь. Безвкусица вопиет с каждой страницы Томаса Манна. Множит и множит тысячу раз помноженную на себя почтенную мысль виртуоз гроссбуха, шустрый гомункулюс, самозародившийся в формалиновой колбе доктора Вагнера. И как вослед не впасть в соблазн умножить себя посредством бесконечного деления самозарождающихся истин. Сегодня я увижу во сне то, что случится со мной завтра днем. Ах, довольно бумагу марать, отправляйтесь, пожалуйста, спать.
Прошу вас, позвольте себе умереть. На мертвую вас я хочу посмотреть. Вы будете очень красивой в гробу. Не дуйте, пожалуйста, больше в трубу. Мне будет удобнее кушать и пить, А вам всё равно — умереть или жить.Понедельник.
Вот уже четвертое сентября. Детская вера в магию чисел. Господи, не милуй меня. Как будто сломали спинной хребет, на просьбу о жизни ответили «нет».
Превозмочь насильственную временность своего существования. Радость всегда длится как переживание бессмертия. Казалось, было всегда, всегда будет, так протекало любое кратчайшее мгновение радости. Оскорбительная дешевизна страдания в том, что его переживают. Возможно ли умному, страдая, не понимать, что переживет и заживет свое страдание. Подыхай же или выбирай радость.
Двадцать пять лет — звучит оплеухой (самому себе).
Женщин много, но с каждой он умеет быть единственным. Ах, как много их, а я один, одинок, единственный. «Сын человеческий, не знает, где приклонить ему главу».
Каменная усталость, но внутри камня — все та же радость. Выспаться и оттаять. А над легким облачком причуды осенних парков — свобода, скитания. Вся неокаменевшая жизнь, абсурдная вера в абсурд. Верую, ибо абсурдно.
В детстве — поиски темноты, тишины. Нелегальное существование под письменным столом. После 17-ти — противозаконное придумывание души всему. Вот откуда искусственность, отчужденность существования. Всякий человек не проделывает ли в обиходе ту же вивисекцию жизни — на душу и тело, великий мастер которой Томас Манн? Всякий живет — то тело, то душа. У Мопассана душа всю жизнь хотела любви, а тело всю жизнь без любви обходилось.
Четверг.
Если нет 2–3 часов ежедневного уединения, размышления, времени, безраздельно отпущенного на душу, — хирею, изнемогаю от физической усталости и слабости.
Обманувшая надежды осень, налетает холод, сквозная сырость, не давшая деревьям пожелтеть. В Сокольниках теперь промокло каждое дерево, листья на осинах обвисли. Безлюдно, должно быть. На Ленинских горах, где никто в эту погоду, кроме меня, не ходил, уж точно безлюдно, уж точно просторно.
Одолевает сон, громоздятся скалы, горы, ущелья из картона. Не хватает времени для бессмертия.
Я не вырасту дальше 25 лет. Я отказываюсь от всего, что может быть дальше. Я ничего не хочу. Содрогаюсь от каждой встречи с людьми, и каждое «здравствуйте» меня приводит в ужас. Но если переживу эту пору, то с любовью к себе вспомню самообладание, с которым исполняла долг общения, неизбежность говорения.
Суббота.
Я вам подаю себя Христа ради, из великого снисхождения. Трижды на дню менялась погода и надежды. Неужели в природе еще осталась вторая возможность, которая искупит погибель и повторение осени?
«Мир твоя колыбель и могила мир». Милый, возлюбленный, ты же видишь, я в лесу всегда, и останусь, поэтому мне с тобой никогда не посчитаться.
Серые нежные камни старых набережных Москвы, очистившиеся в пятницу, точно на церковный праздник. В тихом воздухе рассеянье и забывчивость. Осень остановилась, и ни единый лист не пожелтел и не упал сегодня. На лице беспредметная улыбка, как колебание и игра света, отражение нежности. Но лишь на мгновение остановилось колесо в высшей точке, и упадет, и понесется к пустоте и холодам.
Отношение к книгам как к живым людям. Гамсуну отказано от дома: «Мы не знакомы более». Манна терплю, но стараюсь не замечать.
Воскресенье.
С раннего утра скитания по лесу. Воздух холодный и крепкий, жаркое солнце. Ноги стынут от сырости, а лицо горит. Ни единой больной печали: душа занята собиранием грибов. Так ли мы еще отпразднуем наступление новой жизни. Мы двадцать километров пройдем, не заметя, и будем говорить, говорить:
О море, море, ты мне будешь сниться. Не может быть, чтоб ты совсем оглохло, Не может, чтоб заморская синица Тебя зажгла и море пересохло.Праздничное (украдкой!) предчувствие: завтра куплю маленькое янтарное ожерелье. Тайно от всего буду владеть им и любоваться, точно случайно оно появилось, откуда-то подарок. Это и удовольствие — потратить последнее на пустяк и безделку. Я чувствую себя роскошно богатой и защищенной от превратностей мира. Даже если завтра пойдет дождь, мне будет с бусами в сумке, как в теплом доме, уютно. Закрываю глаза: под елкой коричневые шапки грибов.
Образ вдохновенья: злой, невыспавшийся человек, раздражительный и с перьями в волосах. Ни с чем по возвышенности не сравнимое творение.
Быть евреем смешно. Во-первых, почему именно евреем выпало быть душе? Русские и все остальные, «не евреи», являются абсолютным множеством, ими душа рождается как должно и незаметно. Еврей же — курьезное попадание в цель. Во-вторых, ни одного корня, а вместо земли под ногами — небо над головой. В-третьих что такое еврей? (Кроме того, что безобразное слово, лысое, потертое, заросшее щетиной, суетливо оглядывающееся.) Быть русским — всеми быть и ничего не значит. А быть евреем — что значит?
Среда.
Переживаю каждый день его время, его число, его погоду. Время не ограничено точками, рождением и смертью, не линейно. Осень идет через кровь. Повторение времен года кружит меня, кружится во мне, и я непостижимо поименована числом дней и числом лет. Когда я иду по улице, то чувствую, как от моего лица исходит сияние. Это влюбленность мира в меня, блаженное состояние сосредоточенности и взаимности. «Я вас люблю. Я хочу умереть с вами». А той порой из радости и жизни нарождается и длится любовь к небытию. Отчего любовь толкает к смерти? Отчего жизнь толкает к смерти?
Я — только женщина, унизительно жаждущая оплодотворения. В российском захолустье, не развлекаемая ничем, кроме радостного сознания своей погибельной избранности все знать, умираю от неразделенной любви к себе. Бог бессилен оплодотворить мое бредовое знание.
Отвращение к делу, писанию, высказыванию — всероссийской подавленности и безлюдия плод? Или угаданный нерв времени в любых границах? Следствие личной извращенности, неприкаянности, лени?
Дайте мне сюжет — и я нанижу на него весь мир. Всех сюжетов мира не хватит, чтобы объяснить один мой день.
Воскресенье.
Три дня на пылающем холоде — чудо, веселье. В половине седьмого утра изморозь на земле. Цветное пылание деревьев.
Благодарю за любовь. Благодарю за погоду.
Новый век, новый привкус на губах, новые одежды, новая тетрадь. Мнилось зеркало, где из тумана недоумений выступит мое непостижимое лицо, и я спрошу себя: «Это и есть жизнь?» — «Молчите. Не надо говорить. Лучше танцуйте». И вот я танцую в невесомости воспоминаний. Было только то, чего никогда не было. Прощайте. Всегда прощайте.
Вижу время, как: камень, летящий мне в лицо, громоздящаяся бесконечность белья, которое отчаиваюсь перестирать. Я не хочу ничего, что не я. Только себя. 7 лет назад на вопрос, сколько лет, ответила: «Восемнадцать тысяч». Глупость того ответа происходила от нежелания жить, и время и тело были непосильной тяжестью. А теперь, как в бессоннице, или в упоении, или в бреду: во вторник 25 лет, и в среду, и в 6 часов утра — 25, и в полночь — 25.
Даже во сне не успеваю добраться к себе. Откуда (от кого?) придет мне свобода.
Вторник.
Выпал снег. Как всегда — врасплох. Была же надежда, что еще не скоро, что листья успеют опасть. Пустые детские грезы о каком-то несуществующем доме, блаженном уюте, где в уединении я лелею свою душу и познание.
Еще до нового года столетие проживу, а там елка, которая чуть ли не целым оборотом земного шара отделена от жуткой весенней пустоты. Смысл жизни — наслаждение (жизнью). Никогда не признаю страдание. Есть только преодоление. Аминь.
Природой мне было ниспослано в дар слышать и отсчитывать движение Земли вокруг земной оси. Подневольный раб несчастного таланта, я не знаю развлечений и с неизбежной покорностью отбываю мою службу. У вас есть скрипка. Придите играть для меня. Вы один знаете музыку, чтобы мне уснуть.
Шею себе не сломайте, с пустяками рукодельничая. Пусть они кое-как вкривь и вкось — мелочи никогда не довести до совершенства. Это в вас нехорошая, опасная страсть желать совершенства в мелочах.
Суббота.
Не презрение даже — снисхождение, ужасная усталость от снисхождения. — «Не смотрите на меня понапрасну, ничего вы не увидите. И вы недостаточно безумны, чтобы увидеть».
Как оторваться от сияющего влюбленного молчания и сказать о любви к себе. Ровный свет, вера, сотканная из воспоминаний и предчувствий, встает — точно ли от меня исходит это сияние? Как оно погаснет, когда прямо из света и веры?
Свет несет боль. На душе светло и радостно. За окном любой светлый таинственный день зимы, весны, лета. Вся душа обращена к себе, к тайнам и погоде, а вовне — одно молчание. Я ли выброшена отовсюду, я ли сама ушла от всех, слушая в себе непрекращающуюся музыку. Мое слияние с погодой. Колебания света и тени, никогда не погружающихся в мрак. Светлая обреченность единому кругу возвращений. В моей жизни нет ничего, кроме осени, зимы, весны и лета. Боль живых сомнений и вера, сумасшедшая тревога вдруг сладостно вознаграждаются, из хаоса, тревоги возникает лучший в мире голос, мелодия счастья allegro сонаты ля-минор Шуберта, светлый день и влюбленность любого времени года.
Воскресенье.
Финал увертюры к «Эгмонту». Вот я: ничего не знаю! Не умею! Не помню! Талантами не одарена. Каждое утро взбалтываю себя перед употреблением, чтобы выцедить первое слово.
Там уж сумею сказать кое-что, чтобы окончательно не одичать в совершенстве моего идиотизма. Искушение молчания так же велико, как невразумительное мне самой счастье несовпадания меня со Всеобщим Законом Всеобщей Жизни.
Но надо плакать, петь, идти (не оставляя следов) — зимой, весной, летом и долго нисходящей в ад зимних холодов осенью. Разорвав последнюю, ах нет — единственную, ах нет — вымышленную связь со Всеобщей Жизнью, неожиданно обретаю заново ощущение святости и впервые переживаемого детства — а теперь уж мне 25. «Верую, ибо трижды абсурдно».
Четыре года через пень колоду. Пятый — на плаху со всего размаху.
Идти, не оставляя следов. Верность никому.
Четверг.
Хроническое привычное недосыпание. Вчера у Ситникова. Уже после того, как час печалюсь и молчу, как камень (от молчания, недосыпания, от придавившей до земли безобразной шапки). «Ты почему долго не приходила? Я скучал по тебе». — «Ты мне поверь, ты — великий человек». — «У тебя образ из тех, что так много душе говорят». — «Я художник». Прекрасная важность его голоса, осмысленность слов.
Рассматриваю фотографии двух безжалостно запроданных (в Америку) портретов. Чудной красоты лица, которые я понимаю. Сумасшедшая зоркость Ситникова находит невозможно прекрасные лица. Я снова плачу, видя их, как три года назад. Три года назад, когда Ситников быстро открыл дверь и ушел, не показав лица, я странно в единый миг почувствовала необыкновеннейшего человека и пережила сказочное ощущение праздника, торжества, собственной красоты. Он не постарел, не потускнел.
Суббота.
Снова выпал снег. Воздух запах чистотой. Из-за окна долетают слабые голоса, случайные деревянные удары. На окно села синица. И я, вдруг испугавшись, тихо кричу: «Нет, не надо сюда! Птичка, кыш!» Опять, как всегда, не знаю, сколько мне лет. И только боюсь, вспоминая о давних началах, видеть одновременно теперешние концы, извращая нормальный ход времени. И вместе против воли в тысячный раз гадаю над моей невольной, безвинной недоступностью ни для кого. Не гадала бы, будь время впереди свободно и чисто для ходьбы, движения, воздуха? Все размечено сроками и зароками, в которых ни тени моего присутствия и моей души.
Небо серое, светлое и серьезное, как будто, и вправду я одна на свете живу. Я нежно люблю себя. Так же светло и неустанно радуюсь себе, как сегодняшнему снегу и ненастью. Наслаждение от чтения такое же непосредственное и природное, как радость от выпавшего снега.
Воскресенье.
Завтра лицейская годовщина, День Лицея. Осень раньше времени в зиму преобразилась. Когда онемею на все слова, останется все же «ах» — перед жизнью, перед погодой. Два человека: одному дано все — из всего сделал ничто, другому ничего не дано — из ничего сделал все. В котором из двух узнаете себя? Наблюдение. Каждый согласен прослыть порочным, развратным — такое мнение о себе втайне даже и лестно. При гадании по руке человек чувствует себя уязвленным, даже если умеет скрыть, когда находишь «бугор чувственности» недостаточно выраженным. Отсутствие малейшего намека на «венерин пояс» прямо-таки оскорбительно. Это все сильные, ходовые ценности по известным ценам, зато «душа» — слово смешное и сомнительное. Да полно, есть ли она? Уж не выдумка ли развратника в момент отдохновения и набирания сил для нового разврата. Моя летняя проповедь о Достоевском. Для него в познании падений остается ясной грань между добром и злом. Величие частых у него «счастливых развязок» как раз и родится твердым знанием, что зло, что добро, это вера в добро, преодоление зла во имя его. Здесь несравненная гениальность, поэзия Достоевского: зло и падение все знают и показывают, но никто, кроме него — из глубины однозначной и простейшей веры в добро. Томас Манн во всех десяти томах заблудился в двух соснах противоречия «духа» и «чувственности».
Лев Толстой, надсаживаясь от безверия, ставит в боги свою юродивую выдумку о добродетелях. Другие просто не веруют, томясь непонятной для себя тоскою и скукой. Пришел бессильный человек. Он не захочет расплачиваться ни за первородный грех, ни за преступление. Для импотента, которому нечем платить, не существует собственного неблагородства. Зло и добро ему одно. Не пустяк только — «реабилитация плоти»: это — «очень важно». Остальное кушать не просит.
Вдруг стало тесно и дико от неизбежных слез. Тогда я вскочу, побегу через дюны и нырну в море под воду: под водой невозможно плакать.
Понедельник.
Я пьяна, шатаюсь, не впервые ли в жизни? Да как весело! Отпраздновали День Лицея бокалами шампанского без числа. Умильная болтовня о Пушкине. Скачем, плачем! Ах, я нетрезвая нынче, а мысли резвые. И не хочу, о други, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и верую.
В окно постучали. «Кто там?» Через стекло, бесстыдно гримасничая, смотрел господин в черном цилиндре и фраке. «Не изволите ли войти обычным образом, через дверь. Третий этаж. Неприлично, на вас фрак». А он проник сквозь отдушину и, расшаркиваясь, пританцовывая, обхаживая, чаруя, изъяснился мне в любви и пригласил на бал. «Я согласна, — молча сказала я. — Лишь бы Вам можно было не кончать тараторить, а мне — не переставать молчать».
Четверг.
Радость, свежесть, сияю лицом, ожидание — точно с ума сошла, ступаю осторожно и свято, как по первому снегу. Вот, словно дверь отворится, и придут, начнется, разрешится. Сегодня ведь — весна? Растаяло же! Засияло! Дважды ошибаюсь датой и погодой, написав вместо «октября» — «февраля». Никогда так не блуждала во времени, не путалась, окончательно бросив считать. Десять минут дороги мимо берез — долгожитие. Не каждый и перед казнью последние десять сумел бы так долго прожить. Ночью короткий дождь. Раздельные отчетливые удары редких капель. Отходите спать.
Суббота.
У девочки иногда опять выступает на лице душа, которая два года назад была совершенно обнажена и пугала. Теперь бывает редко, как беглый отблеск. Но и то светит ясным, особенным умом, обещанием пробуждения.
Рембрандт возбуждает ностальгию воспоминаний не тонкостью приемов, не возвышенностью взгляда на вещи, а крайним сгущением, напряжением жизненности. Бог знает, как это удается ему даже в карандашном рисунке. Только не бывает и в живой жизни такой густоты бытия, напряжения, ударяющего по нервам. После часа на маленькой выставке рисунков болит спина и душа изнемогает от тяжести.
Мучительно после двух-трех дней глухоты заново слушать музыку. Ужасно мгновение начала, страшно отдаваться радости.
Андре Жид По веревочке бежит.Более пустого, бездушно-ласкового чтения не создавала даже гораздая на бездушие литература Франции («Фальшивомонетчики»).
Ночью нет сна печальнее, чем увидеть во сне свое смирение.
Воскресенье.
Тесно и душно во сне, еще не проснувшись, знаю, что вижу чужой сон. Я к себе даже словом не прикоснусь пока, в суеверной страсти выжить. Дожить до весны. Кажется, я бы впервые отчаялась, если бы отняли счастье ежеутренне видеть деревья. Душой, глазами, всей кожей и кровью — мне нужны деревья. Я выживу и начну понимать.
Я живу! Я — жива. У меня весна. У меня радость сегодняшнего дня. Я в завтрашней весне — изнываю от инфантильного ожидания писем, внезапно открывающихся дверей и роковых появлений. И подарков: бус, колец, платьев.
Ничто не просто из того, что дается душе; и душа никогда не дается ничему как нечто простое.
Имя этого счастья — музыка.
Благополучно покончено с Андре Жидом после полуторамесячных проволочек. Со святыми упокой, Господи, мелкую душу убогого гомосексуалиста. Ни иллюзии, ни надежды, ни веры. Инстинкту оплодотворения и бессмертия отвратителен гомосексуализм как самое гнусное извращение.
Низкими Пушкин называл слова, которые подлым образом выражают обыкновенные понятия: «нализался» вместо «напился пьяным».
Вторник.
Минимум, без которого нельзя: дом, не слишком трудный хлеб — и чтобы не приставали хамы. От этого минимума в умном человеке начинается независимость; без остального умный человек умеет обходиться, потому что от минимума (дальше) только сам человек и все важное — в нем. Без — всякий загнан, нельзя говорить о душе. Ужасная, ужасная тоска и беспомощность бесприютного.
Выпал снег. В морозном небе висит маленькое красное солнце. Пахнет сыростью и железом.
О, если бы. Мечта бездомного нищего интеллигента. Мы: ничто не защищает нас от жизни. У нас нет дома. У нас нет ни семьи, ни родового прошлого. Наше детство измучено грубостью и одиночеством. Наш опыт: отрицание абсолютное опыта родителей. Наши традиции: отвращение абсолютное к привычкам родителей. Мы порвали все кровные связи. Мы не принадлежим ни к какому клану, ни одному кругу, ни одному цеху. Мы — единомышленники? Какая хрупкая связь. (Единомышленники — в чем? Свобода и человечность.)
Как в русской сказке царевич, летящий на птице, собой птицу кормит, чтобы долететь, так я терзаю свои ночи, скармливаю себя времени: дожить, дождаться. Чего?
Вчера еще раз — 14 симфония Шостаковича. Через 200 лет скажут «Великие композиторы прошлого — Бах, Бетховен, Шостакович». А рабская, безысходная эта пора канет в ничто.
Человек! Через тысячу лет тоскую о тебе! Умираю о тебе! Завтра утром — снова живая, неуничтожимая, радостная, бессмертная. Это огромное — кому по силам? Отдаю равному. Только смерть меня вместит.
Суббота.
Не оставляю следов. Меня нигде нет — ни там, ни здесь, ни в чьих пустых воспоминаниях. Зато — я вне сравнений.
Сегодня потеплело. Стекла стали влажны. На улицах месили серую снеговую кашу. К ночи выпал снег и мягко белил город. Не спавший человек бродил в парке, не было звуков, кроме его шагов.
Слишком поздно и долго темнеет. Слишком рано светает. Просыпаюсь и вижу светлое окно и дальше бесконечно раздвигающиеся безутешные пространства. (Ночь истаивает по углам.)
Две недели назад думала: февраль — звук ломающегося снежного наста. Сегодня: взрывает предчувствие весны. Зверь и душа во мне предчувствуют и томятся. (Зверь — начало природное, младенческое, детское. В раннем детстве обоняние безошибочно предсказывало первую оттепель и последние заморозки. Звериное — кровь.)
Ильинское. Холмы под снегом. Легкое, легкое — беспечное небо. Взгляд к небу, мысль: «Это — бессмертие». Беспечное, бессмертное небо.
Сон. Единственная возможность быть наедине с собой. Мария. Что она уже знает? Усталость. Неизбежность. Смирение. Бегство. Я и лист бумаги: сосредоточенность, взгляд в себя, след о проходящем.
«Доктор Живаго» — ролланизм (?). Мысль путается во многих бесцветных речениях, словах без ритма и силы живой мысли. Фразы вялые и расползаются. А в стихах? Та же описательность выстраивает особое (только пастернаковское, кажется) линейное развертывание образности.
Взгляд вглубь. Душа глубокая, бездонная, сквозная: сквозь душу видится божественный замысел. (Мироздания?) О, какие сны мне снятся. Моря, острова, набережные, горы, дом и зеленая лампа. Все возвращение к небывалому, небывшему прошлому. (Прошлое — все, что не сегодняшний день. Будущее — осуществление небывшего прошлого.)
Ночные мысли. Сон стрекочет в ухе. Приснись, Свобода.
Воскресенье.
Усталость. Устала так, что ощущаю свою смертность. Тяжело отходит зима. Серые, скучные метели. Может быть, вера — только защитное свойство слабого духа, не умеющего вынести правды. Уловка слабого разума. Вот я вижу эту неопровержимую правду, мир оголяется, никакой преграды между мной и миром, никакой защиты; целую ночь — пробуждение — падение камнем, неподвижно — правда без преград — страх — незащищенность — неправедно постаревшее лицо — призраки; к утру изнеможение — растворение в тоске, пустыня. И снова — вера. Вера — только бессилие жить с истиной?
По прихоти своей скитаться здесь и там, Дивясь божественным природы красотам, И пред созданьями искусств и вдохновенья Безмолвно утопать в восторгах умиленья — Вот счастье! Вот права…Преступление против отдельного человека должно ощущаться как преступление всей нации, преступление всех. Вся Россия — и до сих пор — должна бы нести бремя вины за убийство Пушкина. Это не искупленная вина, но усугубленная сотней других убийств (сотней тысяч).
Моцарт, Гармония света. Воспоминания небывшего отрочества. Дыхание солнечных бликов сквозь листву утренних деревьев; это — гобой, флейта, валторна и милый фагот. Фортепиано — мелодия простая и светло загадочная, как рожденный тобою ребенок. Финал: пробуждение к радостному действию, ликование.
Метель. Солнечный день.
Киниск. Совершенство, или, что то же, — отсутствие случайного, непобедимая юность, чистота и есть вечность, бессмертие. В восхищении им — тайное сладострастие (наверное): красота Афродиты никогда не откроется так, как красота Киниска. Я знаю, что тело увядает и смертно, и поэтому люблю, чтобы (вопреки!) его представили совершенным и недоступным разрушению (это греки). Представить Христа молодым — как и было — не что иное, как тело его распинают на кресте. Это тело Киниска бессмертное.
Среди многих слов и воспоминаний помнится и приснится (и уже снится) то, что не начало быть. Что погибло не будучи:
О Господи! Как совершенны Дела Твои, — думал больной…День в постели, без движения и свободы. Лежала. Разбросанное чтение многих книг, медлительность. Погружаюсь в себя. Кажется, ни разу не смотрела в окно. Но помню, что скоро весна. Один день, нагнетая потребность простора и выхода — на тысячу вольных лет. Завтра — уйду. О, как волнуюсь, как бьется сердце. Умру, если не выйду. Уйти. Уходить. Всегда уходить.
Вторник.
Опять в комнате. Боже мой! На волю. Бродяжить. Проснуться раньше всех и уйти.
Невинность есть незнание страха. Я была невинна и бесстрашна. Теперь страх не дает забыть о несвободе.
Для чего дано мне это знание, и сны, и тайны, и глубокая радость, и много ли буду жить. Неужели все — только для моей радости, и никого не накормить (и хочу ли).
Никого нет в мире, кроме Тебя (меня) и моего ребенка. С утра — яркое солнце. Весь день солнце.
В голове ни одной трезвой ноты. Девочка, я рада, что ты мое дитя. Я бы никому не открыла двери, если бы не ждала, что вы постучите.
Рассуждение о свободе: ускользая от всякой завершенности — в профессии, устроенности, в семье, в квартире; от всякой законченности — в самосознании и в представлении других о себе; всегда ускользая, уходя, меняясь, ты (все же) не обманешь своей несвободы. Никакие ухищрения мозга не заменяют движения и пространства; свобода — вольная прихоть, я пренебрегаю необходимостью, если мне угодно.
Одиночество есть необходимый атрибут совершенства.
Офелия, нимфа, иди в монастырь.
Тянет в скит: это тоска по совершенству — Сольвейг.
В церкви душно, но когда распахиваются царские врата, я жду того, что никогда не случается.
Четверг.
Пятна сухого асфальта — это первые. Сводит с ума запах просыхающей земли.
Если бы дерево заговорило, то не поверили бы: не так говорят деревья. А после бы привыкли, слушали, забыли, что ложь, что дереву нельзя говорить.
Освободиться и обрести можно только посредством веры.
Достоевский.
Киркегор.
Существование — неадекватный способ осуществления духа.
Молчание как выражение истины.
Я и Киркегор. Забавные совпадения.
Киркегор не пришел к вере и не обрел радости, как Авраам обрел Исаака через веру.
Вера есть возвращение в стихию. Женщина есть стихия. Мужчина есть стихия?
У меня нет ума, есть способность мыслить. (Путь.) По отношению к уму я глупа. (По отношению к красоте некрасива и без отношения к красоте некрасива.)
Владыко дней моих! Дух праздности унылой, Любоначалия — змеи сокрытой сей, И празднословия не дай душе моей…На паутине самой скромной надежды повисла моя будущая жизнь. Будет ли свобода? Лес, трава, деревья, поле, птицы (чибис, над полем — жаворонок). Господи, все в воле Твоей.
Прости меня, Мое несовершенство, Мою печаль, И то, что я состарюсь, И то, что ты состаришься (О, это мне невыносимо думать. Пусть я умру. Ты не состаришься, Забудь меня, не помни.)О, как верно: забвение есть способ никогда не состариться. Воспоминания у старящихся: не только есть, но и были.
Суббота.
Проснулась рано и видела в окно, как ветер несет тучи прямо на меня, в лицо.
Вот наказание: мой мир сократился до пределов этой жалкой комнаты, этого постылого дома. Совестно думать, как долго живу, 26 лет уже — это опыт (скверное слово).
В феврале просыпаешься вместе со светом. В марте будет всегда поздно. Какая утрата! Уже все жило и наслучалось — и ты не успел войти в еще незаслеженный мир.
Письменно и устно отрекаюсь от страдания. (Но.) Если изжить страдание, что остается нам (Тебе и мне)?
Жизнь пуста, безумна и бездонна…
Быть может, радость это есть подготовление себя и готовность к великому, бездонному уже страданию. Начало чего — эта весна? Конец чего? (Не конец, нет! только начало.) Все потерять с тайной мыслью сберечь единственное.
С концерта «Искусство фуги Баха». 14-я фуга не оконченная. Боялась, что, когда оборвется на 139-м такте, не выдержу напряжения и внезапности, закричу. Случилось мягко и тихо, угаснув на длинной ноте гобоя. Невероятная, величественная музыка.
Должно быть, никто не живет так сознательно радостно, как я. Но страх боже мой, вечный призрак, вечная опасность лагерей, гетто, насилий, невыносимой несправедливости. Господи, помилуй нас. Господи, помилуй всех!
Что за день: скорей забыть его глупую тревогу. А в воздухе была весна (ненависть к многоточиям). Просить прощения у тополей в том саду за то, что их грубо, бессмысленно, безжалостно казнили, когда почки уже были готовы жить. Слепые без ветвей и почек стволы, немые обрубки. Ветки, должно быть, сожгут.
О, какой легкий, легчайший человек. Никогда, ничего у него не было: ни вещей, ни дома. Терять ему больно только прекрасное, просить у него не тягостно. Условное, ничтожное не связывает его. Никогда он не лжет. Как во сне легкий, никто о нем не знает. Это — правда и вера.
Воскресенье.
Впечатления обоняния много сильнее впечатлений цвета. В памяти тысячи запахов — почувствовать и узнать дом, людей, одежды, слово, состояние — все, бывшее едва ли не до памяти (сознания). Цвет, ни сочетание цветов ключа не дает. Запах действует на чувственность. Восприятие цвета духовнее и безразличнее. Скверный запах может вызвать рвоту, а одежду тошнотворных тонов носят безболезненно. Абстрактная живопись — попытка выделить чистый цвет, отослать к цветовым ассоциациям. Но у кого они есть? Возможно, что цветовое зрение находится в примитивном состоянии и абстрактная живопись — искусство невероятного будущего.
Обступают, гонятся призраки мира вещей. Скука грядущих хлопот. Пережить скучную полосу и устроиться, чтобы без хлопот и мелочей.
Выставка Сомова. Изысканный, изящный, циничный. Тончайшее мастерство имеет вовсе не значение честной преданности ремеслу. Здесь, напротив, насмешка, бесстыдство, иезуитский выверт. Даже под масло берет картон, на котором возможно достигнуть большей, чем на холсте (живом), замкнутости, глухости цвета, нереальности. Очаровательный декаданс. Симпатичное разложение. Разложение высшей, до неживого разложившейся культуры, без которой грустно.
К кому пойти, чтобы нарисовал: к Сомову или Серову? Конечно, к Сомову. У него на портретах лица, таинственные и имеющие внутреннюю жизнь. У Серова — безразличные, так себе, лица, ни про что.
Выспаться, дождаться. Растаяло, слякотно, грязь. Дождаться надо.
Суббота.
Итак, посреди зимы наступает разрыв, влага. Вечером по дороге обнадеживающий ветер в лицо — а вдруг тепло… и весна? Но нельзя и преступно торопить время. Всякую минуту изжить неторопливо, глубоко. О если бы не торопиться, и помнить, и спать.
Наконец, снег. Ощущение: слишком много, тяжело надето. Снять, сбросить все, тогда станет возможно жить. Что еще про снег? Что тяжелый, сырой, сгребают широкими лопатами, про грязь забыто.
Все перепуталось в голове и в животе: зима, весна, лето, осень. Бог Отец, Бог Сын, Богоматерь и Святой Дух.
Пленяет: в нем нет условного.
Письма Цветаевой к Тесковой. Это будет вторая лучшая моя книга. (Первая — Блок, где на каждой странице отражение себя.) Заранее дрожу потерять.
Отражение — не сходство и не подобие. Зеркало чудесно отражает меня, не имея со мной никакого сходства. Не подхожу вам: слишком хочу, а вы — не слишком. Тороплюсь, вам становится тяжело, вы устаете, хотите спать, а я никогда не устаю, могу вовсе не спать.
Женская поэзия. Поэт осознает (вообще женское, не только женско-поэтическое) в самолюбовании, в упоении собой — красотой, душой, судьбой, трагедией, погодой; все через себя (я «вижу себя в смерти»). «Я прекрасна в ощущении дождя» — взгляд на себя. Поэт-мужчина — взгляд вовне из себя, поэтому большая универсальность. В мужской поэзии достижим катарсис. Женщина взвинчивает чувство и остается в себе без разрешения. Она влюблена во влюбленность в себя, потому что ею заняты, в нее влюблены. В остальном — разделение: мужчина — женщина (кроме большого эгоцентризма женщины): вздор, недоумение.
В сказанном слове — ложь. В написанном есть молчание.
Настоящее чувство уюта и безопасности бывает только зимой. Идет на убыль последняя зимняя луна. Ночью стоит страшная в окне. Утром свет уже ранний, тихий. Утешение Метерлинка: покамест в суете, уничтожении — душа витает в высоких сферах и слышит музыку. День не пропадает для души.
Я бы не поняла, как, написав хорошую книгу, можно печалиться или заботиться об успехе. Разве это не мелочная забота? Меня лихорадит от желания спать. Спите.
Воскресенье.
Уходит февраль. Словно теряю от тела. Каждый месяц уходит — больно… Это время, моя кровь. Но будет новый. А новый месяц — страшно и чудно. Заново отдавать себя, заново в себя вонзаешь. Писательство — призвание к воспоминанию. Будущее отдавать прошлому. А снегу нападало в один день больше, чем за всю нелепую эту зиму.
Безответственный снег: земля простояла голая, озимые вымерзли — теперь уже не нужно. Кому не нужно? Мне нужно.
«О Господи, как совершенны дела твои», — думал больной, и дальше:
Мне сладостно в свете неярком, Чуть падающем на кровать, Себя и твой жребий подарком Бесценным твоим называть. Кончаясь в больничной постели, Я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделье, И прячешь как перстень в футляр.Это — лучшая философия жизни с включением всех вечных категорий Я — Бог — Жизнь — Смерть — Любовь.
Бог положил нам целью нас самих. Так разгадывается наша конечность и наш смысл в мире. К чему искать оправдание в деятельности? Это развлечение для бедных. (Деятельность — неизбежный продукт трения между мной и миром.) Призвание богатого — быть никем (редкостное, недостижимое). Быть никем, божьим странником, ничьим, странствовать и ежеминутно познавать, любить себя. О Господи, кто твой избранник.
И жить торопится, и чувствовать спешит. Уснуть и знать, что возвращаешься к себе(к нему).
А у иных не так: мир — колыбель, и могила — мир.
Оставить ребенку дом.
Четверг.
Абсолютный закон: ни один человек не способен произвести более одной идеи. Мудрый знает: всю жизнь — об одном. Остальное возникает из столкновения с чуткой идеей. Богатство сознания зависит от плодотворности и подвижности идеи. Изживет за день и отчается или достанет на жизнь.
Процесс мышления: не достаешь одну за другой, как вещи из гардероба, а пускаешь в движение. Из движения — мысль. Остановиться — увидеть пустоту. Опустошенный — тот, кто остановился. Остановиться — увидеть пустоту, тревогу, из последних сил тащить себя за волосы к жизни.
Пятница.
Фрейд открыл и сказал вслух: корень всех побуждений — сексуальность… Открыли, сказали вслух: цель всех явлений — рынок. В результате все на рынке. И кино боится отстать, не продать сексуальность. Неполноценность кино, кроме прочего: возникают и уходят, мелькают тысячи эпизодов, не внушая догадки о зачатии и смерти.
Правда — в единственности, а границы зачатия и смерти совпадают с безграничностью Вселенной.
Суббота.
Возьмите у меня кровь, она лишняя. Но времени не отдам. Блок. Вы не слышите волшебства поэта, застревая в ходульной оболочке его слова. Поэтому у вас в руках Цветаева, риторическая, торжественная на замкнутом смыслом и звуком слове, а Блок — мимо рук. Блок искусно построен на банальностях, на устоявшемся слове, пропускающем насквозь смысл и звук к чистому переживанию. Только через банальное, молчащее слово (более способное к выражению бездонного) возникает зыбкая, бесконечная цепь связей. Колдующие, открывающие, отражающие вас ассоциации. Без всякой учености, они загадочно-вместительны. Возможно, больше и нельзя сказать о душе. Все: существующее и прямое, выдуманное и прямое. И что нужды говорить, если любое его стихотворение убивает меня сейчас весной, тоской, неволей.
О свободе, только о свободе.
Воскресенье.
Романтики недостаточно романтичны, потому что их противопоставления недостаточно абсурдны. Крошечность конфликта «я — общество» — погубило их: крошечное противоречие. Только противопоставление «я — мироздание» — достаточно романтично, так как достаточно абсурдно. Конфликт непомерно любимого Я с малым миром был бы неисчерпаем. И все люди (слишком надо в мире людей) моей жажды не наполнят.
Заповеди. Не проси. Не прощай. Не признавайся. Упорствуй. Не поминай всуе. Не старей. Веруй. Радуйся. Продолжай. Ты — бессмертен. Итого, десять заповедей игры.
И чем самоубийственней игра, Тем завтра так же как вчера.Сколько моей самоубийственной выдумки ради преображения вас из скучных гробов повапленных в игру и радость, а вы все на прежних путях сомнения и нелюбви.
Желание жить: утреннее, вечернее, дневное, ночное. Напряженное, безвыходное. (Выход — смерть?) Каждый день отпускаю с отчаяньем: ушел, возлюбленный. Видом смиряюсь. Только видом.
Господи, позволь мне жить. Не надо случайного. Со всеми страстями, волшебством моего насыщенного времени я помещаюсь в одном — Боге. Я не живу Богом. Он — мне не цель, не содержание. Он — желание и условие жизни.
Вторник.
Великое дело — систематизация. Необозримое литературное и философское наследие двух с половиной тысячелетий поместится в несколько списков «самого важного».
Человек — существо из плоти и времени. Чтобы молчание стало ощутимым, надо сказать несколько слов. Молчание не существует без слов.
Четверг.
Лицо из тех, что не нравятся людям, бессознательно раздражает и вызывает злобу. Лицо подвижное, неустойчивое, вы сказали — зыбкое. Получаешь лицо при рождении — судьбу. Лицо будет формировать душу — поверхность души, которой она соприкасается с миром. Лицо устойчивое сразу сливается с миром, не принуждая душу к усилиям. Зыбкое же может вызвать в душе такую работу преодоления, что все заданные природой начала встанут с ног на голову. Так получится странный человек.
Надо быть целым миром отвергнутым, чтобы быть страстно принятым одной душой.
Если я забочусь об одежде и вещах, то не потому что их хочу. Это обществу нужно, оно не может, чтобы у меня не было вещей и одежды. И я даю согласие, но хочу, чтобы обошлось без груза хлопот и суеты.
Приснился сон о Чаплине. Старый, седой, смущенно улыбался. Почему это стыдное воспоминание? Потому, что был настолько прекрасен, что я целовала ему руку и плакала.
Суббота.
Всякая теория пола (борьба полов и брака) имеет в основании ущербный личный опыт. Всякая теория полов ложна, потому что воздвигает фальшивую проблему.
Разочарование слишком напоминает отречение под пыткой. Почему и как выносят свое разочарование — отречение? Почему могут жить после?
Чем больше нагнетается мелочность, суетливость, безвкусица вокруг, тем больше терпимости, снисходительности, величия! Так проявляется крайнее высокомерие упрямца.
От всех людей и от каждого предмета исходит свой призыв, на который отзывается моя природа, моя животная, неустойчивая, уязвимая природа. Я меняюсь от каждого дуновения ветра, колеблюсь. Ясная, видящая или полусонная, вольно или невольно — я воспринимаю каждый призыв. Почти всегда это призыв к равнодушию.
Сегодня на ясном, почти безоблачном небе не было солнца. Кто тосковал от этого воздуха и видел, что дороги бледнеют за деревьями? «Я ничего не видел, ни о чем не тосковал», — отвечает обманщик, скрывая свою злобу, коварство и тоску.
Воскресенье.
Когда птицы клевали печень Прометея, он страдал, как животное на бойне.
Юность и избыток жизненной силы неразделимо связаны не только со страхом смерти, но и с желанием смерти. Отчего в счастье думать о смерти? Предчувствие ранней смерти или печать одиночества?
Темный лес и холодные поля под серым небом — словно Бог со мной беседует и меня ласкает, не нарушая одиночества. Одиночество становится мучительно, невыносимо прекрасным. «О Господи, я один, и никто меня не знает».
Ничего не слушать, кроме увертюры к «Эгмонту». В финале — о счастье и радости — говорить себе: «Да, это правда».
Любимое и совершенное — единственное. Сравнить значит унизить. Любимое вне ряда, выбранное мной из ряда. Так хотят все вещи, которым больно от сравнений. Но если вы поймете их единственность, им уже спокойно и они уже разрешают себя сравнивать. «Не поминай всуе». Молчание искупит. «Я буду о тебе молчать, как никто другой».
Второй день стоит сказочный яркий мороз. Ночью звездно, луна убывает спокойно, с неторопливым величием. Я в отчаянье, что надо повернуться спиной к этим единственным соблазнам.
Бегло, во имя будущего продолжения отмечаю: роковые стечения обстоятельств, взаимоуничтожившись, не вывели жизнь из прежней безысходности неразделенной любви к себе и беззаконного слияния с погодой.
Перед сном вижу, как растаивают дымом несказанные слова, и в бреду смертельной усталости плачу, рыдаю от желания жизни. Озаряюсь разгадкой: нет более неисполнимого желания и более безысходной страсти.
Вторник.
Чем отметить долгожданное торжество: новая тетрадь и начало всегда новой жизни? В этом месте памяти моей я с прежней надеждой поставлю: заоблачно вольная, ни к чему не привязанная, чуждая всем привычкам — но есть одна умонепостижимая странность жизни, ставшая привычкой, — то, как кружит, играет концами и началами, превращает твердое знание в неожиданность, а ничегонезнание обращается в правду, а правда — в ложь.
Сегодня снова мороз, но без надсадности зимних холодов. Веселые дни под запретом. Деревья в инее, я прохожу мимо, мимо всего, сквозь слезный ужас от необходимости показывать свое лицо.
Ну, а ежели бы не молчать? Не лгать молчанием?
Среда.
Опять сбиваюсь на горячечное бормотание. Это — завещание я делаю себе, счастливо зная, что опять последний день жизни. Своим сомнамбулическим движениям придаю видимость целесообразности и уже окончательно не отличаю сна от реальности.
Мария на вздох: «Господи, помилуй!» — «Ты сама себя помилуй».
Утром на небе примесь влаги, на закате райские росчерки розовых перьев, брошенные с немыслимой беспечностью. Спать, чтобы дождаться всего-всего. Что обещано рождением: весны, счастья, разрешающего пробуждения.
Пятница.
С жалостью и удивлением на никчемную плодовитость тела. Осталось нечто однострунное, симфония на одной струне. Коротко, кратко: надо догнать себя. Я иссякаю физически. Не по карману эти желания, не по времени. Безвременье! Биться об себя, как головой о стену. Низвергаясь в Мальстрем, некий человек делает любопытные наблюдения, между прочим: жизнь есть падение, а не вознесение, и вот доказательство: чем дальше, тем стремительнее, неразборчивее. Точно так падают, в великом беспорядке, камни с горы. Другое дело вознесение. Все возносящееся замедляет свое движение. Возразит же ему антипод, обитатель потусторонних правил: «Я падал, возносясь».
Проба пера, но знаю, что ни единого вздоха сделать начерно. Уже пора.
Я вам оставляю на вечную память мое изображение в зеркале.
Суббота.
Говоря о людях плохо, он очищает свое отношение к ним. И в результате остается полон доброжелательности. Коварные не произносят своей злобы, и, перегорая, она обращается в злопамятство, презрение и высокомерие. И все, вообще, слишком ленивы, чтобы давать себе труд говорить плохо. Получается, что он всех добрее, и вы это чувствуете.
Сырой мороз, к вечеру суше. Небо светлое. Чуть открываю глаза, и в утреннем свете жизнь, вещи, деревья ясны и загадочны, как в смертельной болезни. Не сожалею о темном, не жалею о ночи впервые в жизни. Только одним способом может разрешиться жизнь — чудом. Чудо — это исполнение желания. Желание исполнения.
«Я» — одновременно Бог и творение, созданное по образу и подобию Его. Я мыслю, следовательно, и существую. Я существую, следовательно, мыслю. Двуначальность доказательства моего бытия доказывает одновременно наличие Бога, познаваемого через себя — творение. Бог и творение, враждующие и взаимопроникающие в бесконечной игре взаимосотворения. Со смертью приходит конец игре сотворений и уподоблений. Но из двоих умирает Бог, а бессмертным остается творение. Оно увековечивается в том образе, который сотворило себе при жизни. Вот почему самоубийство — смертный грех. Оно — убийство Бога. А всякая смерть? И всякая смерть.
Понедельник.
Выпавший из истории жизни день, словно синяя прорубь во льду. Прошел под синим небом, ни единого облака. Спокойные заботы, какие-то самозарождающиеся хлопоты, и так беспечно спалось наяву. Вечером спохватилась, увидела с изумлением: душа возвратилась из путешествия и чувствуется музыка уже начавшихся, пока еще тайных событий.
Вторник.
Сущее рождает отчаянье потому, что оно — движение в бесконечности. Какое-то самооткровение, самовысказывание бытия. Отчаяние успокаивается при возвращении в меня. Во мне сущее обретает конечность, то есть единственность. Я — это и есть невысказанное слово. Надо посмотреть на жизнь человека в ханже. Здесь обнаруживается Бог. Если бы три года живого времени, можно придумать чудеса. Увидеть человека в языке, почувствовать взаимосотворение тьмы и света, ничто (слова) и сущего (высказывания), и понять, что нет фатальной неизбежности отчаяния, к которой приходит вся система мировосприятия.
Среда.
Верно ли, что этот год високосный? Мне 26 лет. О милая, кто сказал, что надо умирать? Какая стремительная весна. Я не успеваю уловить своего лица. Лицо себя не успевает уловить. Кто обгонит: время или я. Какая-то убийственная, непроизносимая гордыня не позволяет мне защищаться. Очередь дураков за копеечкой. «А у меня только гривенник, мельче нет». «Гривенник мне не надо, я могу только копеечку».
Почему так сложилось убийственно, что не устроила несколько вариантов жизни («с собой», «с тобой», «с ними», «с ним»), чтобы, убив один, остаться жить в других (убив один для удобства других).
О, если бы однажды, хотя бы смертью испытать раздвоение, приобщиться к круговой поруке сложности!
Четверг.
Неотвязно из всех редко посещаемых закоулков сознания: надо умирать, пока не поздно. И безумная надежда: а может быть, не надо. Бешеное, безрассудное желание жить сведет меня в могилу.
«Мы взирали на европейский энтузиазм, как трезвый смотрит на пьяного». Баратынский.
Жить, жить, жить! Сегодня первые пятна земли, по-летнему сухой, по-зимнему не пахнущей. Утром большие вороньи гнезда на млечной вуали берез, как темные, запавшие от бессонницы глаза. Вечером покойно и жутко. За 50 километров Москва, а сердце здесь бьется от той пустой московской сутолоки, весеннего бреда. Ах, каким безумием пахнет сейчас на Садовом кольце. Или еще не просох асфальт?
Ну все. Конец. (Один: не заметил, что жил. Другой: не заметил, что умер.) Знаю, что не лгала. Не питала злобы. Не предавала. Не знала: безверия, разочарования. Не постигала: нелюбви, несовершенства. Не хотела: защищаться. Но какая обреченность — одиночеству? безумию? тайному счастью? будущему счастью? самоубийству? В чернейшей муке абсурдно знала, что нет непонимания, невозможно предательство, и вся я принята и избрана Богом. «Бог готов ежечасно, но мы не очень готовы». Я готова. Как вслед за выдохом готова сделать вдох. Только назначение наше темно и несовершенно. Аминь. Рассыпься, говорю.
Пятница.
Я все могу, но от всего отказываюсь в угоду таинственной гордыне, в результате — я не могу ничего. Ночью лихое убийственное бесслезное переживание своей совершенной потерянности: кренится окаянное ложе в сторону головы, раскручивается, нет никакой возможности жить. Меняя местами ноги и голову, — где голова, где ноги? Как сделать, чтобы жить?
Ах-ах: по ночам я решаю загадку моей жизни, точно умственную головоломку. Брезжит какое-то счастливое решение. Мечта визионерши и двоечницы. Перепутанный узел распадается на незавязанную веревочку, которая приведет меня в мой праздный рай незаходяшей ясности и неподкупной беспечности.
Какие-то болезненные вопли из леса, слышные сердцу. Воззвание ко мне из влажной весенней ночи. Предчувствия меня наполняют, как кровь. Страшно догадываться об их значении. Страшно жертве.
Субботта.
Слухи о жарком знойном лете, без грибов и ягод. Земля безнадежно промерзла. Гряди, возмездие. Путь мой прост и неизвилист, будто мною выстрелила упрямая слепая пушка.
В небе луна кобенится, Как строка из Аверинцева.Примечания
1
Возможно, парез — паралич лицевого нерва (Д. Т.)
(обратно)

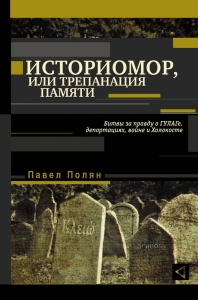
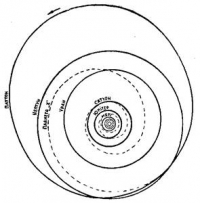


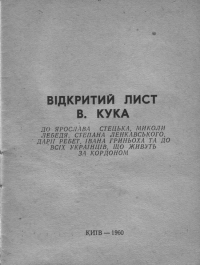
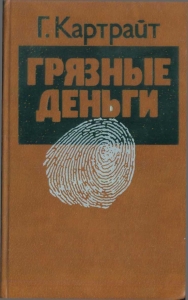

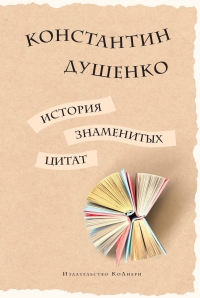
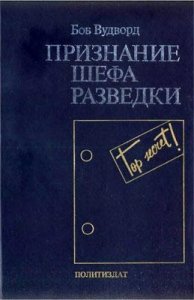
Комментарии к книге «Прозрачные звёзды. Абсурдные диалоги», Олег Юлис
Всего 0 комментариев