Игорь Чутко Красные самолеты
Чутко Игорь Эммануилович
Красные самолеты
Примечания
От души благодарю за оказанную мне помощь при работе над книгой Генерального авиаконструктора О. К. Антонова, первого заместителя Министра авиационной промышленности И. С. Силаева, заместителя начальника ЦАГИ Е. М. Жмулина, заместителя начальника Главка МАП И. В. Андреева и всех друзей и соратников Р. Л. Бартини, рассказавших мне о встречах с этим удивительным человеком.
Автор
Предисловие
Р. Л. Бартини, 1972 г
Роберто Бартини был человек несокрушимой убежденности, человек кристальной души, пламенный интернационалист, сдержавший юношескую клятву – «положить все силы на то, чтобы красные самолеты летали быстрее черных».
Бартини… Роберт Людовигович Бартини. Не многим было знакомо это имя. Но в авиационных кругах и у всех, кто знал его работы, удивительную судьбу, его имя вызывало глубокое уважение.
Твердая убежденность коммуниста в необходимости своего личного участия в великой борьбе за построение светлого будущего человечества была в течение всей жизни его путеводной звездой.
Роберт Людовигович Бартини был и конструктором, и исследователем, и ученым, пристально вглядывавшимся в глубины строения материи, в тайну пространства и времени. Энциклопедичность его знаний, широта инженерного и научного кругозора позволяли ему беспрестанно выдвигать новые, оригинальные, чрезвычайно смелые технические предложения, быть «генератором идей».
Эти идеи намного опережали свое время, и поэтому лишь часть из них воплотилась в металл, в самолеты. Но и то, что не воплотилось в металл, сыграло положительную роль катализатора прогресса нашей авиационной техники.
Помощь Р.Л.Бартини другим конструкторским коллективам выражалась не только в его конкретных технических предложениях, но и в разработке метода поиска решений. Известный в общем и раньше, но в должной мере не осознанный прием, которым конструкторы пользовались поэтому осторожно, зачастую на ощупь, Роберт Людовигович описал, назвав методом «И-И», и математизировал, сделал доступным, рабочим: поиск такого решения, которое улучшает самолет не только по одной какой-нибудь характеристике (только по скорости, или только по дальности, или только по высотности), а по целому ряду основных данных. В нашем ОКБ такие решения, улучшающие одновременно несколько параметров, называются находками и ценятся чрезвычайно высоко, как высшее воплощение инженерной и конструкторской мысли.
Роберт Людовигович был смел смелостью знания, убежденностью в правоте своих выводов. Он не боялся критики, подчас несправедливой, не боялся гибели части своих замыслов и начинал все снова и снова, с той же силой убежденности, с тем же богатством мыслей, с той же настойчивостью.
Да, Бартини не боялся гибели своих начинаний. Он был богат, безмерно богат идеями и поэтому щедр. Когда мы создавали наш первый тяжелый транспортный самолет, я попросил у него чертежи разработанной им для своего самолета оригинальной конструкции грузового пола. Он немедленно прислал нам полные рабочие чертежи. А сам? Прекрасно задуманный самолет остался недостроенным. Ему поразительно не везло. То прекратилась начатая работа, то реорганизация лишала его производственной базы.
А он продолжал и продолжал работать.
Мы все в долгу у него…
В день своего 75-летия он стоял на трибуне в кругу друзей, простой, скромный человек, не отступивший ни на йоту от своей данной в молодости интернациональной клятвы, с добрым и суровым лицом, со сжатым кулаком поднятой вверх руки – знаком солидарности рабочих всего мира.
О.К.Антонов,
генеральный конструктор, академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий.
Глава I
1
Историки науки и техники вплотную заинтересовались Робертом Бартини всего лишь восемь – десять лет назад. Не так уж много достоверных сведений удалось собрать о нем за столь короткий срок, и едва ли они будут значительно пополнены в ближайшее время, особенно сведения о первых 20-25 годах его жизни. Для этого пришлось бы разыскать документы, которые, возможно, еще хранятся в Италии, Австрии, Венгрии, Югославии… В найденных же не всегда совпадают отдельные факты и их освещение, толкование. Даже его фамилия в одних пишется на итальянский лад: Орос ди Бартини, в других – Орожди, что больше похоже на венгерскую. Впрочем, здесь, по-видимому, сказывается разница в написании и произношении. В одних архивных извлечениях он значится уроженцем австрийской, в других – венгерской части тогдашней двуединой монархии, третьи свидетельствуют, что в 1920 году он был репатриирован из лагеря военнопленных под Владивостоком как подданный короля Италии. В 1922 году его боевая группа охраняла от Савинкова нашу делегацию на Генуэзской конференции. Но вот один из друзей Бартини, В.А.Ключенков, перерыл в библиотеках, как он утверждает, решительно все и не нашел ровным счетом ничего о пребывании Савинкова в Генуе и вообще в Италии.
– Странно, – сказал тогда Ключенкову Роберт Людовигович. – Я ведь Савинкова там узнал…
Кому верить? Думаю, что в подобных случаях надо верить Бартини: не один раз его память успешно спорила с письменными источниками. Так, по его рассказам, он еще гимназистом видел в Фиуме демонстрационные полеты известного русского летчика Славороссова на аэроплане «Блерио», тогда и «заболел» авиацией. Известного? В литературе я никаких упоминаний об этом летчике не нашел, а потом все-таки оказалось – был! Харитон Никанорович Славороссов. Летал на «Блерио» перед публикой в Фиуме[1] в 1912 году, и многие авиаторы хорошо его знали, в том числе М.В.Водопьянов.
Но и сведения, полученные от Бартини, тоже со временем основательно уточнялись. В первые годы нашего знакомства, вспоминая своих родителей, он говорил: «мама Паола». А в неоконченной автобиографической повести «Цепь» пишет, что это была его мачеха. Очень дорогой ему человек, но все же – мачеха. А маму свою он не помнил, даже имени ее не знал: имя от него скрыли. Впрочем, и в «Цепи», по его словам, он привел о себе только часть правды.
Эта часть, если ее дополнить не вошедшими в повесть устными рассказами Роберта Людовиговича и освободить от необязательных подробностей, получается такой. В 1900 году жена вице-губернатора Фиуме барона Лодовико Орос ди Бартини, одного из богатейших и знатнейших людей Австро-Венгерской империи, решила взять на воспитание трехлетнего Роберто, приемного сына своего садовника.
Супругов ди Бартини связывала взаимная преданность, старинная дружба их родов, общее детство. Но они не любили друг друга. И за это, в чем была убеждена глубоко религиозная донна Пеола, небо покарало их бездетностью. Искупить свою вину они могли, только дав счастье чужому ребенку.
Вероятно, это решение тоскующей донны подкрепилось еще и тем, что малыш был уж очень хорош, судя по его, правда, чуть более позднему портрету. Улыбчивый, ясноглазый, с нежной круглой мордашкой. Целыми днями он самозабвенно, никому не докучая, играл в саду, строил там замки и крепости, катался верхом на сумрачной Алисе, черном ньюфаундленде, и удивительная покорность ему бессловесной твари тоже была признана неким знаком… Словом, все складывалось хорошо, если бы не упрямство садовника. Просьбу хозяев отдать им Роберто он отверг, почему – не сказал. На содержание мальчика и, по-видимому, еще за молчание он ежемесячно получал откуда-то деньги с посыльным, что свидетельствовало о богатстве плативших или об их сильном желании остаться в тени. Почта не приняла бы перевод от инкогнито.
Тогда жена вице-губернатора поручила частному детективу найти этих людей, чтобы попробовать договориться о Роберто прямо с ними.
И детектив поручение выполнил. Но прежде чем доложить о результатах своих трудов, он попросил донну собраться с силами.
Дальше идет совсем уже мелодрама. Изложим ее коротко.
…Ребенок, понятно, внебрачный. Его мать, сирота, жила у родственников, не очень состоятельных, но заносчивых мадьярских дворян, гордых своим происхождением чуть ли не от Карла Анжуйского. Грех семнадцатилетней племянницы обнаружился, и разгневанные опекуны увезли ее на север, в Мишкольц, где держали взаперти, чтобы скрыть позор. При родах она впала в беспамятство, а когда очнулась и немного окрепла, ей сказали, что мальчик умер. В действительности же его тайком отдали в крестьянскую семью.
Молодая женщина не поверила опекунам. Через полгода она нашла сына, уехала с ним к его отцу и в родном городе узнала, что ее возлюбленный женился.
В Мишкольц она вернулась ночью, никого о своем возвращении не предупредив. Ее не ждали, не встречали, на это обратил внимание кучер почтовой кареты. Как установило следствие, до утра она ходила по улице. И на рассвете, положив спящего Роберто на крыльцо дома опекунов, утопилась.
Мальчика снова отдали тем же крестьянам. А далее судьбе было угодно, чтобы они перебрались в Фиуме, где глава семьи получил место садовника в резиденции вице-губернатора…
Дойдя до этого места, детектив, с разрешения донны, достал папиросу, но сломал последнюю спичку. Позвонили, и горничная принесла новую коробку. Закурив, он вдруг принялся рассматривать бронзовое основание настольной лампы, потом инкрустацию стола… Пришлось ему напомнить, что рассказ еще не кончен.
– Не кончен… Но дальнейшее еще тяжелее, поверьте! Поэтому не оставить ли нам все, как оно есть? Советую… О, хорошо, хорошо, повинуюсь. Видите ли… отец мальчика – барон Лодовико.
Прошу читателей, справедливо ищущих в подобных книгах прежде всего сути дела, не пропускать эти стороны биографии моего героя. Что было, то было, да и от сути дела они не так уж далеки. Недаром Роберт Людовигович часто обращался к ним и в разговорах на ничем как будто не связанные с этими давними событиями темы, и в своей повести. А в письме, которое он назвал «Моя воля», найденном при разборе его бумаг, просит: «Собрать сведения о всей моей жизни. Извлеките из нее урок…»
Сведения о его жизни в Фиуме, о тамошнем его окружении многое позволяют о нем прояснить. Понятнее становится чрезвычайная привязанность вице-губернатора к сыну, «своенравие» Роберто, едва ли возможное в иных условиях, вся эта неповторимая, как жизнь каждого из нас, но закономерная история.
2
Авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин, заспорив однажды со слушателями-дипломниками академии имени Жуковского (Ильюшин был человек властный, резкий, но в спорах предпочитал неробких противников), предложил им, раз уж они взялись ему возражать, несколько отвлеченный вопрос: что нужно – какие субъективные качества конструктора – для появления идеи замечательной машины?
– Знания нужны. Так, принято. Личный опыт. Пожалуй… Хотя самые опытные люди – старики, а мы в свое время уже к тридцати годам выходили в главные конструкторы. Ну ладно, опыт все же принимаем… Еще что? Интуиция. Умение подбирать помощников. Настойчивость, упорство. Ишь вы какие!.. Только ведь все это нужно и хорошему директору, и ученому, и артисту… Еще?
Других соображений не нашлось, да и эти были неоригинальны. Ильюшин ничего не стал никому «растолковывать», зато добавил желающим материала для размышлений – до следующей встречи.
Возьмем, сказал он, крыло самолеты, рассчитанного на скорость 400—500 километров в час. В принципе теория такого крыла была создана уже в начале двадцатых годов, ничего ошеломительно нового здесь ожидать не приходилось. В России ее успешно разрабатывал Н.Е.Жуковский, затем до полной ясности, до инженерных методик довели С.А.Чаплыгин, профессор А.П.Котельников, в Германии – известный аэродинамик Треффтц и другие. А самолеты с такими скоростями появились только около середины 30-х годов, и то на первый взгляд неожиданно. Точно так же не могли быть совершенными загадками для западных конструкторов и ученых основные идеи, использованные в 1941—1945 годах в наших танках, артиллерийских и ракетных системах. Например, Т-34, признанный лучшим из всех танков, участвовавших во второй мировой войне, был особенно «живуч» потому, в частности, что его двигатель работал на тяжелом топливе, поджечь которое снарядом, тем более осколком, попавшим в бак, труднее, чем легко испаряющийся, легковоспламеняющийся бензин. Ничего таинственного в этом моторе нет, и изобрел его немец Дизель давным-давно, так что уж кто, как не его соотечественники, должны были этот мотор применить! Немецкая наука, техника, военное искусство всегда считались первоклассными, и но многом заслуженно.
Тем не менее в первые же недели кампании на востоке гитлеровцы встретились с образцами советской военной техники, которые, как, например, «катюшу», ни понять сразу не смогли, ни хотя бы скопировать ее впоследствии, ни противопоставить ей что-либо равноценное[2].
Правда, такого оружия в Красной Армии было в первые месяцы войны мало, и отчасти по этой причине летом и осенью 1941 года немцы частично добились успехов на востоке, хотя уже с нарушением плановых сроков.
И был в этих планах пункт (его записал в своем дневнике Гальдер, начальник генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии): «Разбить русскую сухопутную армию или по крайней мере занять такую территорию, чтобы можно было обеспечить Берлин и Силезский промышленный район от налетов русской авиации». (Англичане отказались от бомбежек Берлина примерно за год до нападения фашистов на нашу страну, после нескольких неудачных попыток ответить на бомбежки Лондона.)
На двенадцатый день войны задача эта показалась Гальдеру уже решенной: «…не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней» (запись от 3 июля). А посему в самое ближайшее время, как только война на востоке «перейдет из фазы разгрома вооруженных сил противника в фазу экономического подавления противника, на первый план снова выступят дальнейшие задачи» – операция против Сирии, политическое давление на Турцию, подготовка наступления через территорию между Нилом и Евфратом и т. д.
8 июля на совещании в ставке Гитлер решил оставлять в Германии все вновь выпускаемые танки. Оставлять для будущих операций, уже не в России. 22 июля немцы совершили первый налет на Москву. В защищенности своей столицы они были уверены: «Ни один камень не содрогнется в Берлине от постороннего взрыва, – заявил тогда Геббельс представителям печати. – Советская авиация уничтожена».
А в ночь с 7 на 8 августа авиация Балтийского флота приступила к бомбежкам Берлина.
Первый налет на Берлин – гитлеровцы и не подумали его затемнить – совершили тринадцать дальних бомбардировщиков ДБ-Зф конструкции Ильюшина с баз на острове Сарема (Эзель). Операция была сложная, строго рассчитанная во времени, потому что даже 20 – 30-минутная задержка могла обернуться вынужденной посадкой на вражеской территории из-за не-хватки горючего. Налеты с Саремы продолжались до 4 сентября, до начала крупного немецкого наступления на Моонзундские острова. С сентября в действиях авиации против Берлина, Кенигсберга, Данцига, Штеттина и других далеких тыловых объектов фашистской Германии приняли участие новые советские бомбардировщики незнакомого немцам вида. Уже одна дальность их полета с подмосковных аэродромов и обратно – говорила о высоком совершенстве аэродинамической формы и конструкции этой машины. Более полных сведений о ней в то время не имели ни гитлеровцы, ни наши строевые авиаторы. Знали ее только конструкторы, испытатели, командование авиации дальнего действия Красной Армии и личный состав двух полков ВВС.
Но вспомнили тогда, не могли не вспомнить немецкие специалисты – для этого им надо было всего лишь полистать старые отчеты, журналы, газеты, – что еще в 1936 году на международной авиационной выставке в Париже они видели советский скоростной самолет «Сталь-7» почти такой же конфигурации. Только не боевой самолет, а пассажирский, но с летными характеристиками, не предусмотренными для машин этого класса (двухмоторных) даже в графах таблицы мировых рекордов: дальность 5000 километров при скорости более 400 километров в час.
Экипаж рекордной «Стали-7»
Напомню, что мировой рекорд 1935 года, установленный на американском «Дугласе ДС-1», был 272 километра в час. Третья модификация этого самолета, «Дуглас ДС-3», впоследствии около двадцати лет строилась у нас серийно по лицензии под названием Ли-2 и около сорока лет оставалась в эксплуатации. Скорость Ли-2 была повыше, 340 километров. А «Стали-7» – 450.
Этот самолет и его военный вариант ДБ-240 были разработаны в СССР в Опытном конструкторском бюро, которым руководил Роберт Людовигович Бартини – антифашист, политэмигрант.
– Судьба Бартини, – сказал Ильюшин слушателям академии, – позволит, когда она будет изучена, сформулировать некоторые важнейшие закономерности выявления и становления конструкторского таланта.
С 1972 года материалы о Р.Л.Бартини изучаются в Институте истории естествознания и техники АН СССР и в Научно-мемориальном музее Н.Е.Жуковского.
3
В начале 60-х годов я работал на заводе, у которого были общие дела с конструктором Р.Л.Бартини. Однажды, заболев, Бартини попросил кого-нибудь из нас приехать к нему домой. Ехать выпало мне.
До этого я никогда его не видел, но кое-что о нем знал, слышал от ветеранов завода. И, надеясь узнать еще что-нибудь, уже от него самого и без привнесений, неизбежных в устном творчестве, позвонил знакомому историку авиации, бывшему главному конструктору В.Б.Шаврову: какую мне избрать «линию поведения», если Бартини вдруг расположится к дружескому разговору?
– Никакую, – быстро ответил Шавров. – Дипломатия с Робертом бесполезна… Спрашивайте прямо, спрашивайте все, что хотите, не стесняйтесь. И слушайте. И привет ему от меня!..
Жил Бартини тогда (и почти всегда) один, отдельно от жены, сына, внука, которых очень любил. Эта загадка, первая из многих последовавших, для меня разрешилась быстро, в тот же день, и наглядно: Роберт Людовигович был решительно неприемлем в совместном быту. Например, желал иметь все свои бумаги и вещи постоянно под рукой, причем разложенными на всех столах, полках, на стульях и просто на полу в диком, на взгляд постороннего, однако самому Бартини хорошо известном порядке. Прихоть, положим, свойственная не ему одному, но я не предполагал, что она может дойти до такой беспредельности.
В солнечный летний полдень в его квартиру с зашторенными окнами еле пробивался шум с Кутузовского проспекта. В большой проходной комнате слабо и рассеянно светила люстра, укутанная марлей; в дальней комнате – кабинете – над исчерканной рукописью с многоэтажными формулами, над раскрытой пишущей машинкой и грудой эскизов, заваливших телефонный аппарат и изящную модель какого-то неизвестного мне самолета, горела настольная лампа с глубоким самодельным абажуром-конусом из плотной, зеленой бумаги. Заметив мое недоумение при виде темноты, Бартини объяснил, улыбаясь: у него, оказывается, не суживаются зрачки, яркий свет режет ему глаза – осложнение после какой-то болезни, перенесенной в молодости. Когда и где? В Италии, в Австрии, Чехии, на «галицийских кровавых полях» или уже в России, в плену?.. Его доброжелательность показывала, что, набравшись терпения, я действительно еще узнаю здесь немало любопытного.
Был он невысок, крепок. Общителен, однако лишь до точки, которую сам ставил. Даже с очень близкими людьми был откровенен не до конца, Это выяснилось гораздо позже, когда разбирали его архив. Работал на износ, до последней минуты и умер, поднявшись от письменного стола: сделал несколько шагов, упал и не встал больше.
Бартини никогда не спешил, тем более не суетился, потому что, кажется, все испытал: успехи и провалы, отчаяние и счастье, любовь, дружбу, предательство и, ни от чего не страхуясь, не открещиваясь, умел отличать истинные ценности от мишуры. По натуре крайне эмоциональный, нервный, он, видимо, когда-то раз и навсегда заставил себя держаться «в струне». В конце восьмого десятка жизни помнил в деталях и что было в детстве, в далеком городе Фиуме, и что произошло год назад на заводе или в министерстве. Разговаривая, следил, все ли вам понятно (что было не всегда лишним, и мы к этому еще вернемся). Дома постоянно носил мягкую рыжую потертую куртку; под курткой, однако, непременный галстук. Узел галстука приспускал, ворот расстегивал… Позволял себе такую вольность, называл ее «итальянской», южной.
Среди множества молчаливых свидетелей прошлого в этом доме обращали на себя внимание две любительские фотографии над столом в кабинете. Исцарапанные, потрескавшиеся. Их никогда не берегли, возили по всей Европе, по Сибири, надолго оставляли в нетопленных помещениях, держали в грудах бумаг и лишь недавно убрали под стекло. На одной был снят молодой гордый барон Роберто в энергичном байроновском полуобороте – беззаботный наследник богатого отца. В 1922 году в Генуе, во время международной конференции, очаровательный барон умело, в несколько дней, расположил к себе русского князя Феликса Юсупова, савинковца, террориста, одного из убийц Распутина, и помог боевикам компартии сорвать савинковский план покушения на делегатов России. На другой фотографии – лаццароне[3] Роберто, на этот раз участник операции боевой группы компартии Италии против дружинников Муссолини, сквадристов. Мятая шляпа на затылке, догоревшая сигарета в углу рта, шея обмотана шарфом, а рубашка разорвана на груди сверху донизу… Словом, деклассированный элемент, жалкий люмпен, не опасный, а скорее даже полезный для нового премьера страны.
Хорошая была маскировка, профессиональная, но в конце концов полиция напала на след необычного аристократа, то появлявшегося в разных городах, то вдруг исчезавшего.
Р. Л. Бартини, 1921 г., «лаццароне»
В 1923 году в маленькой траттории на горной дороге из Монцы к озеру Комо собралась однажды за столом как бы случайная компания. По виду – крестьяне, сезонники с курортов… Хозяйка принесла им спагетти в мисках, большой кувшин красного вина, сыр, и вскоре за звоном стаканов и пением никто посторонний уже не мог разобрать, о чем там между прочим идет тихий разговор. Никто ничего интересного не сообщил утром об этих людях примчавшемуся на автомобиле из Милана патрулю фашистов.
А разговор состоялся такой. Одному из «сезонников», инженеру Роберто Бартини, передали, что он должен уехать в Советскую Россию – без промедления и нелегально, так как фашистские власти установили за ним активную слежку. В Москве его ждет Антонио Грамши, делегат Италии в Исполкоме Коминтерна.
Там же, на явке в горах, Бартини дал торжественную клятву собравшимся членам ЦК – Террачини, Репосси, Гриеко, Дженнари: всю жизнь, всеми силами своими содействовать тому, чтобы красные самолеты летали быстрее черных!
Для на того современника эта клятва звучит, пожалуй, слишком торжественно, но она вполне в духе тех лет.
Изображая подвыпившего, хватаясь за чьи-то плечи, Роберто выбрался из-за стола, нащупал дверь, спустился с высокого крыльца на дорогу, и вскоре шаги его затихли в густой темноте августовской ночи.
…Через несколько недель прилично одетый молодой человек родом из России прошел таможенные процедуры в Штеттине. Документы свидетельствовали, что молодой человек возвращался через Петроград к папе, одесскому архитектору, а любопытным спутникам он охотно поведал, чуть морщась иногда от боли (не совсем, понимаете ли, удачная операция на желудке), что прожил в Европе десять лет, что задержала его там война, потом революция… Увезли его когда-то, совсем еще ребенком, погостить у родственников, там он и застрял, на чужбине подзабыл родной язык, приобрел нерусские привычки, акцент. Впрочем, в Одессе это ему не помешает, город многоязычный. Вы знаете Одессу, тоже бывали там? Она прекрасна, не правда ли? Маленький Париж… Опера, бульвары, знаменитая лестница, купания… И кого там только не встретишь: греков, молдаван, украинцев, евреев, румын – вавилонское столпотворение!
Любопытствующие верили легенде, в том числе, может быть, и чересчур любопытствующие…
В начале сентября «сын архитектора» сошел с парохода в Петроградском порту.
Сентябрь 1923 года в Петрограде выдался теплый, без дождей. Слегка пожелтели парки – не больше, чем где-нибудь в Гамбурге или в Лейпциге, и даже сыроватый сквозной ветер на знаменитых проспектах был еще теплым. В самый бы раз осмотреть город Революции, где начались события, так изменившие и судьбу мира, и собственную судьбу Бартини, но долгие экскурсии не входили в составленную для него жесткую программу. В Москве его ждали, там нужны были новые сведения о деятельности террористических белоэмигрантских организаций в Италии, а также в Швейцарии и Германии, где побывал Роберто, запутывая следы по дороге в Штеттин.
…Фотография из папки «1923 год»: Москва, зима. Старый дом в Мерзляковском переулке. Комнатенка с окном на уровне земли. Обстановка – стол, койка, тумбочка, настенная аптечка, табурет.
Убогость жилья не пугала Роберто, он живал и в ночлежках. Распаковав и разложив скромный багаж, Роберто прилег на пружинную койку и задумался: что было, что стало, что будет дальше?
Ему 26 лет. Что с ним было – он вскоре изложил в автобиографии, вступая в РКП(б) по рекомендации ЦК КПИ. Родился… Семья… Отец, которого Роберто любил и уважал, как человека прогрессивных идеалов, хотя и непоследовательного в жизни (сановник!). Один из этих идеалов: во всех без исключения отношениях с людьми ни при каких условиях нельзя пользоваться привилегиями, если ты их не заслужил. В 1915 году окончил гимназию. Был призван в армию, кончил офицерскую школу, в 1916 году на русском фронте попал в плен. В 1917 году, в России, стал убежденным революционером. В 1920 году репатриирован в Италию. Из-за своих политических взглядов к отцу не вернулся, уехал в Милан, стал рабочим, был принят в политехнический институт. В 1921 году вступил в компартию, после захвата власти фашистами ушел в подполье…
Твердо, на всю жизнь, усвоил: партия – не учреждение, Революционная партия это добровольный союз единомышленников, готовых идти на любые жертвы в борьбе за установление социальной справедливости.
В старом обществе человек богат тем, что сумел отнять у других, и новом – тем, что дал другим: чем больше даст каждый, тем больше будет у всех.
Для победы нового общества решающее значение имеют рост самосознания народа, рост экономических возможностей государства и его военной силы, рост интернациональной солидарности людей труда.
Все это Бартини нашел в Советской России.
…Быстро, по-зимнему, стемнело. Во дворе зажегся фонарь, скрипя, качался под ветром. Большой крест – тень оконного переплета – вытягивался и сжимался на полу. Блестел лед в углах наружной стены. Надо будет его сколоть, а то лужи натекут. Комендант позаботился о новом жильце: возле печки были сложены дрова, приготовлены газеты на растопку…
Что было дальше, в следующие пятьдесят лет, теперь тоже известно, но, как уже говорилось, публикации об этом человеке стали появляться лишь недавно. До конца 60-х годов сведения о главном конструкторе Бартини крайне редко выходили за узкий круг работников опытного самолетостроения, на что, понятно, имелись веские причины. Его дела и сам он упоминались в некоторых не очень распространенных изданиях, в основном сугубо технических и академических. Упоминались его экспериментальные, рекордные и боевые самолеты: экспериментальный «Сталь-6», на котором была исследована возможность значительного увеличения скорости истребителей монопланной схемы, пассажирский «Сталь-7», дальний арктический разведчик ДАР, морские разведчики, бомбардировщики Ер-2 (ДБ-240), Ер-4, созданные вместе с конструктором В.Г.Ермолаевым. Обсуждались – причем участники обсуждений не всегда знали имя главного конструктора – разработанный в начале войны сверхзвуковой истребитель «Р» с треугольным крылом, реактивный перехватчик Р-114, проект 1942 года, с инфракрасным локатором, с расчетной максимальной скоростью, равной двум скоростям звука, послевоенные транспортные самолеты с большой дальностью полета, сверхзвуковая амфибия «летающее крыло» и другие. Некоторые из этих машин были построены, другие остались в чертежах, расчетах, моделях, и это в порядке вещей во всех конструкторских бюро. Все знают, например, самолеты Як-12 и Як-15, Як-25 и Як-40, а что было между ними? Известны Ил-18, Ил-28, Ил-62, Ил-76, Ил-86, – а каким «Илам» достались промежуточные номера?..
Кибернетик У.Эшби пишет, что любая самоорганизующаяся система использует прошлое для определения своих действий в настоящем, что предвидение тоже, по существу, операция с прошлым. Очевидно, это справедливо и для таких сложных самоорганизующихся систем, как коллективы инженеров. Там тоже используется драгоценный опыт прошлого для определения действий в настоящем и будущем, в том числе опыт, не вышедший по разным причинам за пределы ОКБ.
Одна из этих причин – неожиданность некоторых проектов и даже готовых машин, уже испытанных, и успешно. Они или слишком превышали тогдашние потребности, или их характеристики оказывались далеко в стороне от ожидаемого направления развития техники. Многие годы спустя сведения об этих машинах доходят до историков, до публики, но иной раз в виде настолько фантастических слухов, что веришь им с трудом.
Примеров этому предостаточно. Скажем, мог ли высотный перехватчик Р-114 Бартини в начале 40-х годов достигнуть скорости более 2000 километров в час? Невероятно! Ну, 700, ну, от силы 750 километров в час – это еще было тогда возможно, во всяком случае реально: такую скорость показал немного позже Як-3, признанный в заключении Научно-испытательного института ВВС лучшим из известных отечественных и иностранных истребителей. Ну, 800—850 километров, полученные в конце войны на экспериментальных истребителях Су-5 и И-250 со вспомогательными воздушно-реактивными двигателями… Чтобы даже не превзойти скорость звука («звуковой барьер» – около 1200 километров в час), а только приблизиться к ней, требовались и новые двигатели, и новые, непривычные формы летательных аппаратов. Искали их давно (впервые преимущества стреловидного крыла в околозвуковом и сверхзвуковом полете ученые обсудили в 1935 году на Римском международном конгрессе аэродинамиков), не очень успешно, и считалось, что оптимальные варианты будут найдены нескоро. Су-5, И-250 и наш первый ракетный истребитель БИ-1 по внешнему виду были обычными самолетами, с прямыми крыльями, только БИ-1 – без винта, что тогда удивило и насторожило летчиков.
А в 1944—1945 годах наши западные союзники обнаружили в Германии продувочную аэродинамическую модель истребителя Егор Р-13 (фирма «Мессершмитт», главный конструктор А. Липпиш) и готовый экспериментальный планер ДМ-1 – упрощенный «аналог» этого истребителя, узкого бесхвостого треугольника. Летали на ДМ-1 уже американцы. Скорость Р-13 была бы, по одним сведениям, 1650, по другим– 1955, по третьим – 2410 километров в час: в мощной аэродинамической трубе Геттингена немцы продули модель Р-13 в потоке, более чем в 2,5 раза превосходящем скорость звука.
Сразу после войны Соединенные Штаты вывезли к себе из Германии 86 немецких военных конструкторов и ученых. Неполный их список (перечислены только «ведущие») привел в декабре 1946 года журнал «Авиэйшен ньюс». Назван среди них и Вернер фон Браун, главный конструктор ракеты Фау-2, впоследствии руководитель разработок американских ракет-носителей «Сатурн» и космических кораблей серии «Аполлон», а первым – доктор Александр Липпиш.
Но еще удивительнее было то, что Р-13, в свою очередь, оказался по форме почти копией нашего экспериментального самолета «Стрела» воронежского конструктора А.С.Москалева. Не модели, а «живого» самолета, испытанного в воздухе еще в 1937—1938 годах. Правда, летала «Стрела» с поршневым двигателем и на малых скоростях, только чтобы проверить обоснованность и перспективность этой схемы. Видели ее тогда над аэродромом недалеко от Воронежа, над Москвой, зимой – над замерзшим Плещеевым озером; видели, как она размеренно покачивается с крыла на крыло, это явление называлось «голландским шагом». Фотографировали, конечно; могли ее фотографировать и иностранцы. А потом основательно забыли…
Очень походили на «Стрелу» и истребитель «Р» Бартини, но уже сверхзвуковой, реактивный, и перехватчик Р-114 – с комбинированной жидкостно-прямоточной двигательной установкой В.П.Глушко, одного из пионеров ракетной техники, сейчас академика, лауреата Ленинской и Государственных премий.
4
«Да, мы знали о вашей огромной силе, – сказал в 1967 году, на праздновании 50-летия Октябрьской революции, Умберто Террачини. – И все же мы не могли не испытывать тревоги и волнения, когда мы видели, что первое в мире социалистическое государство было избрано объектом многочисленных и опасных угроз… В своей борьбе трудящиеся капиталистического мира, которым было трудно помочь советскому народу… сами получали его постоянную помощь, и не только примером и советом. Тем больше они любили Советский Союз, чье падение означало бы тяжелое поражение всего мирового революционного движения на период, который не поддается определению».
Решив, что Роберто Бартини будет работать в русской авиационной промышленности, никто в ЦК Итальянской компартии не предвидел, естественно, будущих масштабов этой работы. Предполагалось лишь его посильное участие как рядового инженера, одного из многих тысяч, в строительстве воздушного флота страны. Можно было надеяться, впрочем, что Бартини – хороший инженер и летчик: кроме Миланского политехнического института, авиационного отделения, он кончил Римскую летную школу. Еще в институте, выполняя учебное задание, он исследовал аэродинамические характеристики разных профилей крыла и убедился, что эти профили надо не подбирать только на ощупь, как чаще всего делали в то время, ошибаясь и на ощупь же исправляя ошибки, убирая лишние выпуклости и вогнутости, снова испытывая, продувая модели в аэродинамических трубах, пока не находили что-то более или менее удовлетворительное, – а определять и профили, и форму всего крыла главным образом расчетами. Математика это позволяет. Тогда крылья будут без чересчур долгих и дорогих проб и ошибок наилучшим образом «соответствовать» обтекающему их воздушному потоку, будут легче рассекать воздух, создавать большую подъемную силу, и скорость, дальность, грузоподъемность, маневренность самолета увеличатся.
В России исследования крыльев Бартини продолжил на Научно-опытном аэродроме ВВС РККА, куда был назначен инженером. Разработанные им профили крыла, а также другие его предложения (новый способ защиты гидросамолетов от коррозии, несколько оригинальных схем летательных аппаратов) высоко оценили специалисты ЦАГИ. При крайней в то время нужде в умелых инженерах, Бартини быстро продвигался по служебной лестнице, ни на день не оставляя и свои сверхнормативные занятия, не вмененные ему в обязанность по службе.
Глава II
1
В 1924 году учреждение, ведавшее в стране разработкой и производством самолетов, занимало всего четыре комнаты в доме два в Большом Черкасском переулке. Учреждение – кажется, оно называлось авиатрестом, – понятно, охранялось: у входа в него сидел инвалид с наганом и выписывал пропуска. Чтобы получить пропуск, надо было назвать свою фамилию. Только погромче назвать ее инвалиду, так как он был глуховат после контузии.
Однажды, не заметив эту охрану, с лестничной площадки в коридор попытался проникнуть озабоченный молодой военный довольно крупного чина – комбриг.
– Фамилия, товарищ?
– Бартини. – Военный говорил с сильным акцентом, да еще гул разносился по высокому коридору.
– Партийный? Это хорошо… Ну а фамилия-то все же как?
– Бартини.
– Фамилию спрашиваю!
– Бартини.
– Эка заладил… А какой партии?
– Итальянской.
– О! Итальянскую мы уважаем… Ладно, дуй, товарищ!
И все. Без канители. От таких воспоминаний старики, бывает, умиляются: вот, говорят, какое было время, а! Любые вопросы решались просто, безо всяких там…
Отчасти это верно. Просто решались у нас авиационные дела в начале 20-х годов, и, между прочим, куда более ответственные, чем пропуск в авиатрест. А повелось это с начала века, с «младенческих» лет авиации, с той довоенной поры, когда в самолете видели в основном цирковой аппарат для развлечения публики, а не боевую машину. В крайнем случае – спортивный снаряд. В самом крайнем – средство для разведки позиций противника… К началу первой мировой войны авиация России была первой в Европе по числу самолетов, но они оказались технически устаревшими, изношенными и безоружными. Даже штабс-капитану Петру Николаевичу Нестерову, герою, зачинателю высшего пилотажа, на просьбу дать пулеметы его отряду отвечено было сакраментальным «не положено» – и хоть головой бейся об стенку… Пишу это вовсе не для того, чтобы еще раз кивнуть на тогдашнюю российскую дикость: так было не только у нас. В частности, точка зрения на авиацию остальных членов антигерманского блока была такой же. Французская: «Самолет, может быть, и хорошее средство спорта, но для войны он ни к чему» (Фош, впоследствии верховный главнокомандующий вооруженными силами Антанты). Английские газеты писали: «Бой самолетов между собой – глупая и бесполезная игра, встретиться она может лишь случайно». Соображения? Пожалуйста! Их пропасть в тогдашних журналах – и популярных, и специальных. Бомб, считалось, аэроплан много не поднимет, да и в кабине, в ногах у летчика, много их не уложишь, а другого места для бомб в этой машине нет. Да и не попадешь ими сверху ни во что: летчик бросает их через борт, руками, отрываясь для этого от рычагов управления, не имея возможности хотя бы грубо прицелиться со своей зыбкой, парящей в облаках позиции. Бой между аэропланами совершенно бессмыслен: с винтовкой, а тем более с пулеметом в кабине не повернуться, а из пистолета далеко не стрельнешь…
Первая мировая война шла полным ходом, а об авиации все еще публиковали подобную чепуху, и подписывали ее порой известные генералы. Хуже того, принимали наивные, если не прямо злонамеренные решения. Военное министерство, сам «шеф» русской авиации великий князь Александр Михайлович приостановили тогда строительство в России тяжелых бомбардировщиков, проектирование самолета-истребителя объявили частной, не нужной государству затеей…
Но жизнь брала свое, прогресс остановить нельзя. Сводились в первое соединение стратегической авиации, в «Эскадру воздушных кораблей», четырехмоторные «Ильи Муромцы» с пятнадцатипудовыми бомбами (240 килограммов; руками такую не поднимешь) на внешних, из кабины управляемых подвесках, с пулеметами на оборудованных, удобных для стрельбы площадках, а некоторые уже с пушками (и даже с трехдюймовыми безоткатными, у которых отдача уравновешивалась пыжом, отбрасываемым при выстреле назад. Такую опытную пушку для «Ильи Муромца» сконструировали тогда подполковник Гельвиг и капитан Орановский). Появились уже, причем в России, прицелы для повышения точности бомбометания, а в Германии в 1913 году изобретатель Шнейдер запатентовал схему и конструкцию синхронного пулеметного привода для стрельбы с истребителя сквозь диск винта – чтобы пули пролетали между лопастями, не повреждая винт…
Важное значение имели первые решения Советского правительства об авиации. О закупках за границей самолетов, лицензий на самолеты и заводское оборудование, об использовании иностранной технической помощи и, главное, о всемерном развитии своей авиапромышленности, сильно пострадавшей от войны и разрухи. Еще в начале 1918 года, 24 марта, была создана исследовательская «Летучая лаборатория» под руководством профессора Николая Егоровича Жуковского; немного позже возник ЦАГИ; через два года – Научно-опытный аэродром, преобразованный затем в Государственный научно-испытательный институт ВВС Красной Армии. Организовывались летные школы, курсы, с 1922 года приступила к подготовке авиационных специалистов высшей квалификации Военно-воздушная инженерная академия имени Н.Е.Жуковского. В авиационном отделе ЦАГИ под руководством Андрея Николаевича Туполева строились аэросани, самолеты, велись поиски новых высокопрочных сплавов; начала проектирование легких самолетов группа Николая Николаевича Поликарпова; после пятилетнего перерыва вернулся в опытную авиапромышленность Дмитрий Павлович Григорович, конструктор летающих лодок, признанных в то время лучшими в мире…
С 1925 года закупки военных самолетов за границей прекратились, больше в этом надобности не было.
Однако в том же 1925 году, в январе, докладывая на Пленуме ЦК РКП(б) об итогах военной реформы, М.В.Фрунзе с тревогой говорил о настроениях, порожденных эпохой гражданской войны, – о все еще бытующей в Красной Армии недооценке значения новейшей техники, по всем показателям новейшей, ни в чем не уступающей лучшим иностранным образцам, по возможности превосходящей их: «Я утверждаю, что эти настроения очень опасны…»
Фрунзе смотрел далеко вперед, вскрывая эти настроения. Об авиации, по крайней мере, никто уже в то время не мог вслух утверждать без риска быть поднятым на смех, что она армии вообще не нужна. Наоборот, ею восхищались, гордились, пели о ней песни, основали массовое «Общество друзей воздушного флота»… Авиационная техника быстро совершенствовалась: самолеты строились боевые, всех назначений, а если гражданские, то обязательно с учетом требований ВВС. Улучшались их характеристики, повышалась надежность, усиливалось вооружение, обновлялись оборудование, конструкция, технология, становились легче и прочнее материалы. В 1924 году, 26 мая, взлетел первый советский цельнометаллический самолет АНТ-2 из разработанного нашими учеными сплава кольчугалюминия, в том же году был принят в серийное производство знаменитый стосильный мотор-звезда М-11 А.Д.Швецова, переживший потом Великую Отечественную войну (он стоял практически на всех наших легких самолетах) и лишь в 50-х годах отправленный на покой, в музеи. В 1925 году прошел летные испытания двухмоторный бомбардировщик ТБ-1 А.Н.Туполева, послуживший прототипом всех тяжелых бомбардировщиков у нас и за рубежом.
Я назвал только малую часть достижений советской авиапромышленности тех лет. Кажется, не было тогда показателя, по которому бы авиация не развивалась, за исключением одного: почти не росла скорость истребителей. И некоторые специалисты оправдывали этот факт, ссылаясь на четкую теорию, вернее, казавшуюся четкой, и на военный опыт.
Во-первых, считалось, что для истребителя не так уж и важна скорость. Рассуждали: на прямой дистанции от пули не уйдешь, пуля все равно летит быстрее, и, значит, истребитель надо делать не столько скоростным, сколько маневренным, чтобы он мог увернуться от атакующего противника и, в свою очередь, подойти к нему с незащищенной стороны. Во-вторых, тоже расчетами и практикой было установлено, что конструкция и аэродинамические формы самолетов достаточно хороши и нечего ломать голову над их совершенствованием. Чтобы повышать скорость дальше, оставалось, по мнению некоторых специалистов, лишь одно радикальное средство – увеличение мощности мотора, тяги винта. Причем расти она должна гораздо быстрее, чем скорость самолета, потому что именно так, с повышением скорости, увеличивается сопротивление воздуха летящему в нем, рассекающему его телу. Были вычерчены простые графики – какая нужна мощность мотора для полета истребителя с той или иной скоростью на разных высотах (плотность воздуха уменьшается с высотой). А чем мощнее мотор, тем он, очевидно, тяжелее, тем больше расходует бензина, масла…
Один из лучших в тот период серийных советских истребителей, И-5 Н.Н.Поликарпова и Д.П.Григоровича, «давал» всего 260—270 километров в час и пробыл на вооружении Красной Армии около девяти лет. Примерно такими же были тогда и лучшие серийные иностранные истребители. Опытный И-8 А.Н.Туполева в конце 1930 года показал рекордную скорость – 303 километра в час, но так и остался опытным. До 1933 года график изменения максимальных скоростей истребителей получается такой: в первое время после гражданской войны скорость росла, и значительно (за три года – без малого на сто километров в час), а потом почти на десятилетнем участке график идет, можно считать, горизонтально. Повышается, но настолько медленно, что нетрудно представить себе, с какими муками давались тогда конструкторам каждые десять – пятнадцать километров в час. Пять лет, с 1925 по 1930 год, – никакого прироста. В 1930 году – еле заметный прирост, и опять все замерло на два года. В 1932 году – еще километров пятнадцать – двадцать…
Такие временные задержки обычны в мировой науке и технике: периоды молодости открытий и изобретений, ускоренного движения вперед сменяются периодами замедленного движения. Потом вновь наступает период ускорения, когда появляются новые, ломающие привычные представления идеи. Но здесь приостановилось развитие самого скоростного типа самолета. Причем к началу 30-х годов мнение авиационных тактиков о скорости изменилось, она перестала считаться второстепенным качеством боевого самолета, тем более истребителя. Но как ее поднять быстро и существенно? На этот важнейший вопрос авиационная наука по-прежнему ответа не давала. Военные же в конце 1933 года категорически потребовали в ближайшем будущем повысить скорость истребителей до 450 километров в час…
Когда конструкторские бюро и заводы авиапромышленности получили это требование, в Управлении ВВС зазвонили телефоны: уж не машинистка ли там напутала, не стукнула ли по четверке вместо тройки?
Но Управление стояло на своем. Четыреста пятьдесят! Есть сведения, что наиболее вероятный противник уже приступил к решению этой задачи.
Спор пришлось вынести на расширенное совместное совещание представителей Наркомвоенмора и Наркомтяжпрома, куда входило тогда Главное управление авиационной промышленности. Вели совещание, сидя рядом, наркомы К.Н.Ворошилов и Г.К.Орджоникидзе. На стенах зала «промышленники» заранее развесили большие красочные плакаты для подтверждения своих соображений – таблицы и графики мощностей, тяг, сопротивлений и пр., чтобы они всем отовсюду были хорошо видны. Чтобы при объективном отношении к делу каждый мог убедиться, что защищаются здесь не чьи-то ведомственные интересы, что вопрос – в науке…
Военные плакатов с собой не привезли. Только на столе перед начальником вооружений РККА М.Н.Тухачевским лежала толстая синяя папка.
Первыми выступили докладчики от промышленности. Их доказательства свелись к сравнению так называемых потребных и располагаемых мощностей моторов. Графики были вычерчены для всех типов истребителей, для разных высот полета, в одних и тех же координатах «скорость – мощность». На малых скоростях моторы оказывались достаточно сильными, даже с избытком: кривая располагаемых мощностей лежала выше кривой потребных. Чем меньше требовалась скорость, тем больше был запас мощности. С ростом скорости мощность требовалась все большая, нижняя кривая, поднимаясь, приближалась к верхней, затем они пересекались. За точкой пересечения лежала, очевидно, область недостижимого. Причем, надо заметить, запас мощности – не роскошь для истребителя. Избыток мощности бывает нужен, чтобы догнать противника или уйти от него, совершить маневр.
Это было построено по результатам теоретических исследований, испытаний в аэродинамических трубах, сотен, если не тысяч, полетов, а также гонок моторов на земле, в испытательных боксах… Учитывались, по статистике, и возможные при расчетах ошибки: зоны таких предусмотренных ошибок были оттенены бледной штриховкой около кривых, выше и ниже каждой (можно ведь ошибиться в ту и другую сторону – из-за неточности измерений и расчетов завысить или занизить результат). Со всей наглядностью было показано, что существующие мощности могут одолеть 350 километров в час, а выше – абсолютная химера, если, конечно, не рассчитывать на мотор, которого пока нет и не предвидится.
Кончили выступать представители Глававиапрома. Что им можно было возразить?
Военные молчали. Тухачевский, склонившись к синей папке, что-то отмечал в ней карандашом.
Орджоникидзе насторожился: для чего тогда совещание собрали, людей от дел оторвали, если все ясно и сказать больше нечего?
– Товарищ Тухачевский, вам слово!
Тухачевский поднялся, но так неохотно, словно через силу…
– Да, теперь мы наконец все поняли, спасибо. Кривые пересекаются… Но поймите и нас: видите ли, машина-то такая уже построена! Почти такая. И уже летает. Четыреста двадцать километров в час – вот отчет об ее испытаниях в нашем НИИ!
И он передал синюю папку Орджоникидзе.
– …А вот сидит, просим любить и жаловать, конструктор самолета – комбриг Бартини Роберт Людовигович!
Эффект был сильный, умел Тухачевский провести «военную игру»… Орджоникидзе, найдя в папке дважды обведенную красным карандашом Тухачевского цифру 420, сказал сердито:
– Кончен разговор! Записываем решение: принять требование товарищей военных…
В 1933 году максимальная скорость истребителей подскочила сразу примерно на сто километров. А дальше, с этой новой отметки, опять на графике скоростей идут прибавления в десять – пятнадцать километров в час, но уже гораздо чаще.
Экспериментальный самолет «Сталь-6», типа истребителя, был построен в ОКБ НИИ Гражданского воздушного флота, испытали его летчики НИИ ВВС А.Б.Юмашев, П.М.Стефановский и Н.В.Аблязовский. В Главном же управлении авиационной промышленности о нем никто ничего не знал – до совещания у Ворошилова и Орджоникидзе. И в Наркомвоенморе об этой машине знали немногие; даже в цехе окончательной сборки НИИ ГВФ она стояла отгороженная от других машин брезентовым занавесом, потому что человеку искушенному один ее вид мог сказать больше, чем следовало. Когда начальник ВВС Я.И.Алкснис, отогнув угол брезента, все же показал ее издалека одному летчику, тот рванулся было к ней, но был схвачен за ремень могучим Яковом Ивановичем. «Я словно увидел там обнаженную девушку, – простодушно поделился потом этот летчик своей радостью с Тухачевским. – Просил, просил Алксниса: „Подпустите меня к ней, все равно же показали!“ А он говорит: „Нельзя, еще рано, и зря я тебя распалил, такого-сякого…“»
Тайна нужна была Тухачевскому и Алкснису, естественно, не для будущего эффекта на совещании, а только чтобы в работе над самолетом обойтись без преждевременных споров. Ради этого пошли и на некоторую вроде бы потерю времени (на самом деле его выиграли), и на лишние затраты: «Сталь-6» строили в не очень подходящих условиях НИИ ГВФ, которому боевые машины были «не по профилю»: там не было крупных авторитетов по ряду вопросов аэродинамики и технологии. Такие специалисты работали в других институтах и КБ, в промышленности.
А какие, собственно, новые идеи выдвинул Бартини? Такими ли уж спорными они были? Нельзя ли было изложить их заранее, привести свои таблицы и графики, обсудить их и построить самолет дружно, сообща, быстрее, – может быть, сделать его еще лучше? Летчик-испытатель П.М.Стефановский считал, например, что в НИИ ГВФ «Сталь-6» тогда не «довели»: скорость этого самолета могла быть выше еще километров на двадцать – тридцать…
В среде, далекой от техники, существует стойкое убеждение, что инженерные профессии уже тем основательнее, а заодно и спокойнее всякого рода гуманитарных, что техническую идею всегда можно оценить цифрами, точно и, следовательно, отстоять или похоронить ее обоснованно. Что хорошо – то хорошо, а что плохо – то уж плохо, не взыщите… Или – или.
Это неверно. В технике не больше безупречно объективных критериев, чем в области гуманитарных наук. А может быть, еще меньше, потому что завораживающие цифры, как это ни парадоксально, удается подвести под любую инженерную оценку. И тот, кто их рассчитывает, часто сам попадает к ним в плен, отвергая все противоположные мнения, забывая старую истину, что математика – как мельница: что засыплешь, то и получишь. Из зерна получишь муку, из булыжников – пыль… Иными словами, чутье и интуиция в инженерном деле играют не меньшую роль, чем методики и расчеты.
Как любой создатель по-настоящему новой техники, Бартини сталкивался с этим все пятьдесят лет своей инженерной работы. Когда в 1929 году в ЦАГИ рассматривались его первые проекты (три проекта гидросамолетов и экспериментальный истребитель), к всесторонне технически обоснованному решению – объективному или хотя бы согласованному, единому – ученые, летчики и моряки так и не пришли. Но интуитивно определили, что, несмотря на веские возражения, есть все же в этих проектах нечто заманчивое, перспективное, и не ограничились требовавшейся от них только технической оценкой, обратились в ВСНХ и Реввоенсовет с предложением перевести комбрига Бартини на работу в промышленность: пусть сам построит эти самолеты… И предложение было принято, Бартини возглавил Опытное конструкторское бюро. В 1930 году он попал в еще более сложную ситуацию. Решалось, какой эскизный проект передавать на рабочее проектирование: Бартини, чьи самолеты еще никто не видел в воздухе, или известного во всем мире конструктора Дмитрия Павловича Григоровича. Естественно, Д.П.Григоровичу было крайне важно отстоять свой проект. И победить в споре он мог без особого труда: Бартини задумал машину невероятных по тогдашним представлениям размеров и веса. Сейчас такой вес неудивителен, он давно превзойден. Поэтому сравним, что в то время было и что предлагалось. Был тяжелый шеститонный бомбардировщик ТБ-1 (правда, готовился уже к первому полету и семнадцатитонный четырехмоторный ТБ-3, «наиболее выдающийся не только для своего времени» – так о нем и сейчас пишут), а Бартини предлагал сорокатонный морской бомбардировщик МТБ-2, да еще и новой тогда, в нашей авиации лишь незадолго перед тем опробованной схемы – катамаран. Двухлодочный, то есть тоже катамаранный, «морской крейсер» МК-1 А.Н.Туполева, весом около 30 тонн («уникальный и крупнейший из числа где-либо построенных самолетов этой схемы»), появился только четыре года спустя.
Так что от авторитетного Григоровича его сторонники ждали всего лишь сомнения в реальности бартиниевского катамарана. Одно это уже решило бы спор в пользу Дмитрия Павловича. А он заявил: «Я не сумею сейчас объяснить почему, но чувствую: то, что предлагает Бартини, – правильно. Поэтому свой проект я снимаю».
«О Григоровиче я был наслышан еще в Италии, от институтских преподавателей, – рассказывал Бартини. – При знакомстве он показался мне человеком нелегким. Старый специалист, служивший стране не за страх, а за совесть и по недоразумению на время потерявший высокое положение, он мог бы таить в душе обиду… А ведь не таил! Ну а мне, я считаю, тогда повезло: видимо, веря в силу здравого смысла, справедливости, Дмитрий Павлович что думал о моем проекте, то и выложил, без „тактических“, деляческих расчетов. Редкая способность! Способность чистой и честной души…»
Эскизный проект катамарана приняли, но на этом для Бартини сложности не кончились. Появились новые. В том же 1930 году по настоянию административных инстанций целый ряд до этого самостоятельных и очень разных по традициям конструкторских коллективов – группы Д.П.Григоровича, Н.Н.Поликарпова, С.А.Кочеригина, А.Н.Рафаэлянца, Р.Л.Бартини и другие – вошли в состав огромного учреждения, Центрального конструкторского бюро. Опытные машины в ЦКБ предполагалось строить общими дружными усилиями, «набрасываясь всем миром» на каждую по очереди, и таким образом, опережать плановые правительственные сроки. Надежды покоились опять же на простом основании: лучше действовать вместе, чем вразброд. Ну а такие «тонкости», как интуиция, несхожие представления об эстетике технических решений, как, наконец, совместимость или несовместимость характеров людей, да еще талантливых и – что поделаешь! – знающих себе цену, во внимание не принимались. Наука, формулы для всех ведь едины? Вот и ищите по ним единственно правильные решения…
Ничего хорошего из этой затеи не получилось. «Организация была многолюдная и бестолковая, расходы большие, а отдача слабая», – писал впоследствии о ЦКБ А.С.Яковлев.
Конструкторы предлагали другой путь: не трогать, не разваливать с трудом сработавшиеся коллективы, не нарушать деликатный творческий процесс, а вот производство – объединить. Составить для него план не последовательного изготовления машин, а как бы полупараллельного: детали, узлы и агрегаты всех машин изготавливать одновременно, а на окончательную сборку подавать их последовательно – так, чтобы цехи не простаивали и не было авралов, чтобы не «облеплять» единственную машину со всех сторон, мешая друг другу. Тогда самолеты, хотя и разные по конструкции, опытные, можно будет строить быстро, почти как на серийных заводах, и квалифицированных рабочих для этого понадобится меньше.
Руководители ЦКБ не посчитались с мнением конструкторов и с поддержавшей их парторганизацией.
Бартини послал об этом докладную записку в ЦК ВКП(б). Через несколько дней его и секретаря парткома вызвал начальник ЦКБ. Секретаря – первым, но пробыл он «на ковре» недолго, заявив: «Я здесь представляю парторганизацию, и вы не вызывать меня должны, а ко мне приходить!» Такой отпор озадачил начальника. Бартини он уже предложил стул… Тем не менее после объяснения был издан приказ: уволить Бартини, а его группу расформировать.
Узнав об этом, М.Н.Тухачевский и заместитель начальника Главного управления ГВФ Я.Я.Анвельт добились, чтобы Бартини назначили главным конструктором ОКБ НИИ ГВФ.
Только задание он получил другое: разработать экспериментальный самолет, близкий по производственным и эксплуатационным характеристикам к серийному истребителю, но со скоростью более 400 километров в час.
2
Еще раз подчеркнем, что, считая такую машину нереальной, специалисты из Глававиапрома были по-своему правы. Они действительно знали все о самолетах всех типов и назначений, в том числе и об истребителе, имевшем скорость 450 километров. Знали, какой он должен будет иметь вес, с какой силой встречный воздух будет давить на крыло, фюзеляж, оперение, на шасси, на радиатор системы охлаждения мотора… Силы получались огромными, двигателя для их преодоления не было. Все это явствовало из расчетов и статистики.
Среди аргументов, подготовленных в Глававиапроме к спору с ведомством Ворошилова и Тухачевского, одним из самых сильных был вес самолета. Вес получался непомерно большой – и за счет мотора с нужным ему запасом топлива и масла, и за счет конструкции самолета, которая должна была выдержать аэродинамические и инерционные нагрузки в таком полете. Причем немалая доля аэродинамической нагрузки приходилась на «торчащие» в воздушном потоке стойки и колеса шасси и на радиатор системы охлаждения мотора.
Как можно было обойти эти соображения и расчеты?
Предположим, сказал однажды Бартини, что у вас никак не решается шахматная задача. И решить ее нельзя, это доказано. А вы, не считаясь с правилами игры, достаете из кармана еще одну пешку – и все у вас получается!.. Прием, я согласен, недопустимый в шахматах, но кто его запретил в технике?
Расставив только законные фигуры в задаче создания истребителя на 450 километров в час, специалисты не предусмотрели, что шасси и радиатор можно убрать из потока воздуха – совсем убрать, и не на что ему станет давить! – а конструкцию самолета, применив в ней новое сочетание старых материалов и новую технологию сварки, удастся сделать намного легче.
Шасси «Стали-6» полностью убиралось в полете и было не трех-, а одноколесным (впервые в истории нашей авиации) – с одним колесом под фюзеляжем, с небольшим костылем на хвосте и с двумя тоже убираемыми стойками на концах крыльев. Стойки поддерживали самолет на стоянке, в начале разбега перед взлетом и в конце пробега после посадки. Теперь похожую схему шасси применяют даже на тяжелых самолетах. Вместо колеса можно было поставить лыжу, об этом просил Тухачевский, так как фронтовому истребителю базой должен служить не только благоустроенный аэродром с бетонными взлетно-посадочными полосами, а любая ровная поляна подходящих размеров. «Наша страна снежная, – сказал Тухачевский Анвельту и Бартини. – Полгода полевые аэродромы в заносах, и расчищать их пока нечем. Не заключать же нам с противником перемирие на зиму…» Лыжа в полете прижималась к фюзеляжу и практически не давала дополнительного сопротивления.
В безрадиаторной, или, как ее еще называют, испарительной, системе охлаждения мотора «Стали-6» вода, отнимая тепло у цилиндров, не просто нагревалась до 80 градусов, как в обычных системах, применявшихся на других самолетах, а все время кипела и испарялась. Пар уходил в радиатор, но особого типа: в зазор, щель, образованную двойной обшивкой крыла, – там, остывая, снова превращался в воду, которая опять подавалась в двигатель для охлаждения цилиндров. Работать этому мотору было тяжелее, жарче, но на такой режим его и рассчитывали. Система получилась довольно сложная, зато части ее во встречный поток воздуха не высовывались и как нельзя лучше вписались в небольшие габариты машины. Это помогло сделать ее обводы плавными, такими, что сопротивление воздуха сразу заметно упало. Намного позже немцы применили испарительное охлаждение мотора на рекордном истребителе «Хейнкель-100»; а сейчас такая система, несмотря на ее усложненность, разработана для доменных печей, где радиаторов можно ставить сколько угодно и каких угодно размеров, – значит, оказалась выгодной. Лицензии на нее купили Япония, ФРГ, Голландия, Австралия и другие страны.
А конструкция самолета получилась необыкновенно легкой потому, что в ней были применены в наивыгоднейшем сочетании тонкостенные детали из разных сталей, нержавеющей и хромомолибденовой. Очень тонкие стенки этих деталей удалось соединить точечной электросваркой, хотя раньше специалисты были уверены, что стали эти друг с другом не свариваются.
До Бартини построить такой самолет никто не догадался, хотя все три находки никак нельзя было назвать открытиями, ранее науке неизвестными. Шасси на одном колесе? Бартини всего лишь использовал на суше опыт морской авиации (разумеется, переосмыслив этот опыт): с одной опоры взлетают и на одну опору садятся «летающие лодки». Убирающееся шасси? И до этого были в авиации поднимаемые шасси, назад отводимые, появилось уже и полностью убираемое – у пассажирского ХАИ-1 в 1932 году…[4] Что вода, кипя и испаряясь, отнимает тепло у сосуда, в который налита, не дает ему нагреться выше температуры кипения, что пар, попадая на холодные стенки конденсатора, оседает на них каплями, вновь превращается в воду, тоже не было новостью.
И только проблема сварки сталей разных марок потребовала сложного научного решения. Хотя опять-таки задумались об этом конструкторы не впервые.
Еще в начале века К.Э.Циолковский разработал дирижабли с оболочкой из гофрированных железных листов, потом из стальных. По расчетам, такая оболочке могла быть очень тонкой и легкой, потому что сталь была тогда самым прочным материалом. Но соединить такие листы не удавалось, их слишком тонкие кромки сминались и рвались под болтами и заклепками. А точечную электросварку в то время еще не изобрели. Даже в конце 20-х годов конструкторы ее еще не знали. В Англии, куда специальная древесина и дюраль ввозились из других стран (а в случае войны, морской блокады импорт был бы затруднен), некоторые фирмы пытались заменить эти материалы сталью, но тоже без сварки, и также успеха не добились.
В те годы у нас в Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского начались опыты по точечной электросварке тонкостенных стальных конструкций. Затем в НИИ ГВФ появился Отдел опытного самолетостроения, руководил им один из соратников А.Н.Туполева, главный конструктор Александр Иванович Путилов. В этом отделе в 1930—1933 годах были построены два пассажирских самолета, «Сталь-2» и «Сталь-3», оба они пошли в серийное производство, в эксплуатацию, а «Сталь-3» летал на линиях ГВФ до самой войны. Самолеты эти были легкие, соединения тонкостенных деталей – сварные, точечные.
Оставалось сделать еще один шаг на этом пути: объединить в одной сварной конструкции лучшие свойства разных сталей – прочность, пластичность, стойкость против коррозии и т. д. Наивыгоднейшую комбинацию свойств давали хромомолибденовая и нержавеющая стали.
Но сваривать их надо было по-разному. Нержавеющую – быстро, коротким электрическим «ударом» большой силы, иначе, если процесс чуть-чуть затягивался, из капли расплава успевали выпасть некоторые вещества, делающие сталь нержавеющей, и в сварном шве она становилась обычной. А хромомолибденовую надо было, наоборот, варить медленно, слабым током, дающим относительно низкую температуру, иначе перегретая сварная точка, быстро охлаждаясь на воздухе, перекаливалась, делалась хрупкой и шов рвался. Противоположные требования делали эти режимы сварки несовместимыми.
В беседе с молодыми инженерами Р.Л.Бартини сказал как-то, что один из первых пароходов, ходивших по Неве, всем был хорош, рационален, изящен – русские кораблестроители всегда отличались мастерством – только труба у него была почему-то кирпичная. И никому эта несуразица в те времена не резала глаз. Видимо, на основании долгого заводского опыта считалось, что у паровой машины труба должна быть обязательно из кирпичей.
Этот разговор с Бартини вспомнил, выступая перед историками техники, известный в прошлом авиаконструктор И.Ф.Флоров. Вспомнил к тому, что сам Бартини обладал удивительным по остроте инженерным зрением, способностью замечать «кирпичные трубы» там, где они вовсе не обязательны, но никому другому почему-то не бросались в глаза, и из вроде бы общеизвестных научных истин делать совершенно неожиданные практические выводы.
Так было и со сваркой хромомолибденовой и нержавеющей стали. Бартини и инженер Сергей Михайлович Попов разработали новую технологию: сначала давали сильный, но такой короткий ток, что хромомолибденовая сталь не успевала перегреться, затем через реостат снижали его до температуры, при которой из нержавеющей стали вещества не выпадали. И в итоге нержавеющая и хромомолибденовая стали сваривались без внедрении в эту технологию каких-либо открытий. Регулирование процесса, своевременные смены режимов были переданы автоматике (человек с этим не справился бы), протекали они в сотые доли секунды, так что не вид и на слух ничего особенного в этой сварке не было. Машина работала как всегда, медные электроды сжимали края деталей, сшивали их точками: тик-тик-тик-тик… Точка – точка – точка… А что в ее стрекотании после каждого короткого «тик» было еще чуть более долгое «та-ак» – этого не улавливали даже самые опытные сварщики. Один из них и сейчас работает в том же цехе и до сих пор считает, что нужный режим сварки был тогда просто подобран вслепую. Пробовали, пробовали – и нащупали…
3
Разумеется, тупик был преодолен главным образом не технический, поскольку в самолете «Сталь-6» была использована в основном уже имевшаяся техника, а психологический. И то зашли в него лишь некоторые специалисты. Другие в те же годы стремились преодолеть рубеж в 400 километров в час независимо от Бартини – хотя бы потому, что не знали об этой его работе. Например, в 1933—1934 годах появились принятые потом на вооружение ВВС Красной Армии И-14 (АНТ-31 бис) А.Н.Туполева и П.О.Сухого, знаменитый И-16 Н.Н.Поликарпова, скоростные истребители за границей и т. д. Успешный поиск этих конструкторов сразу облегчал другим борьбу с теоретически вычисленными «невозможно», приводил к важным решениям. Так, в результате обсуждения «Стали-6» в Наркомтяжпроме была приобретена лицензия на авиадвигатели «Испано-Сюиза», организовано их производство и дальнейшее совершенствование в ОКБ генерального конструктора В.Я.Климова.
На том же совместном совещании представителей Наркомвоенмора и Наркомтяжпрома Г.К.Орджоникидзе предложил одобрить исследовательскую деятельность конструктора Бартини, но теперь поручить ему разработку уже настоящего, не экспериментального истребителя (на экспериментальном не было некоторых важных для боевого истребителя агрегатов, прежде всего вооружения), положив в основу «Сталь-6». По этому заданию в ОКБ НИИ ГВФ был спроектирован истребитель «Сталь-8» с максимальной скоростью 630 километров в час, то есть с новым, еще большим скачком скорости – в целых 200 километров… Но, к сожалению, достроить «Сталь-8» не удалось, в конце 1934 года работа над ним остановилась. Аэрофлот, как организация гражданская, считал, что военная тема ему ни к чему, а Глававиапрому ее не поручили… Имелось тут, правда, и одно техническое соображение. Утверждали, что испарительная система охлаждения мотора слишком уязвима в бою: достаточно одной пулевой пробоины, чтобы весь пар вышел. Но можно было, например, разделить систему на отсеки. Способ этот также давно известен в кораблестроении, заново здесь изобретать нечего. А может, и на отсеки конденсатор делить не пришлось бы: степень уязвимости испарительной системы охлаждения, не разделенной на отсеки, была проверена на «Стали-6» в нескольких испытательных полетах. В конденсаторе вырезали кусок обшивки, и оказалось, что пар из этой большой «пробоины» в полете не выходит, воду система не теряет. Наоборот, воздух туда засасывается, так как в системе образуется вакуум. Летал А.Б.Юмашев – каждый раз дольше чем по полчаса.
А выигрыш в скорости получился бы гигантский для тех лет. Скоростей 630—650 километров в час наши серийные истребители достигли лишь в 1939—1940 годах, с такими примерно скоростями они летали в начале войны. Первым у нас за этот рубеж вышел ракетный БИ-1 А.Я.Березняка и А.М.Исаева в 1942 году.
В 1934 году «Сталь-6» была в НИИ ГВФ показана Комиссии Коминтерна – как отчет Роберта Бартини в верности клятве. От Италии в комиссию входили один из основателей ИКП Эджидио Дженнари и писатель Джованни Джерманетто.
4
У Бартини было много книг на разных языках, в основном по естественнонаучным знаниям. Книги – единственное, кажется, что он хранил в относительном порядке, стеллажи в коридоре даже укрыл пленкой от пыли. А «ценных» вещей в этой квартире не было; вот разве что несколько искусно сделанных моделей самолетов и гипсовый бюст под старую бронзу на деревянной дорической колонке – портрет Бартини, подарок Андрея Петровича Файдыш-Крандиевского. А.П.Файдыш лепил Королева, Циолковского; как всякий художник, пристрастно искал в своих моделях наиболее ему самому интересные и близкие черты их характеров. У его «авиаконструктора Бартини» спокойное лицо, сжатый, непривыкший к смеху рот, сдвинутые брови с крутым переломом… Бартини был красив, «по-римски» красив, и в самом деле редко смеялся. А вот что касается спокойствия, то тут, опять скажу, проявлялась не столько его природа, сколько выработанное умение загонять вглубь свои порывы, не давать им воли хотя бы на службе. (Дома я его впоследствии не раз видел расстроенным, даже обозленным. Ему всегда бывало неловко, что он не сумел сдержаться; и я спрашивал: «Вы устали?» – «Немножко…»)
Шутил он тоже редко и как-то задумчиво… Однажды ему привезли статью о его работах, написанную для популярного издания. Он ее прочитал, вздыхая, и не завизировал:
– Здесь много непонятной техники.
– Ну что вы, Роберт Людовигович! Статья побывала у консультантов, в редакции ею очень довольны…
– Да? Очень?.. Значит, постеснялись признаться, что запутались.
– Что же в ней непонятного? Кому?
– Да… Кому? Мне непонятно.
Кроме книг в квартире Бартини царили модели и фотографии самолетов: «Сталь-6», ДАР, «Сталь-7», какой-то большой самолет в ночных огнях бежит по мокрой бетонной полосе… И здесь же, на стенах, рисунки– простым карандашом и в цвете. Работы самого Бартини. Насколько они совершенны по исполнению, судить не берусь: не специалист, а сюжеты – неожиданные для авиаконструктора и не всегда сугубо реалистические. Значит, их надо было увязывать с чем-то оставшимся «за кадром». Вот потухающий костер в глухом лесу, сквозь сизый дым еле просматриваются склонившиеся над костром тени. Олень у горного озера. Торжественное шествие, поющая толпа, впереди – странный персонаж: одна сторона лица у него ласковая, другая – жестокая. Дикари катят шестами огромное бревно, на них смотрят великан и девушка. Юноша и девушка рядом ночью, а в небе горит не то нездешне яркая луна, не то чересчур близкая звезда. Автопортрет: Бартини, но почему-то за ним грязное узкое оконце, сквозь которое с ужасом вглядывается в него молодая женщина…
Зачем все это человеку, по горло занятому совершенно конкретным, земным, очень важным делом?
– Это еще что! – сказал мне сотрудник одного на научных институтов, где Бартини работал в 50-х годах. Работая у нас, он обставил свое жилье, пожалуй, еще чуднее. Одну комнату в квартире он попросил маляров выкрасить и ярко-красный цвет, другую сам разрисовал таким образом: на голубом потолке – солнце, чуть ниже, на стенах, – поверхность моря, волны в белых барашках, кое-где островки. Чем «глубже», ниже по стенам, тем зелень воды становилась гуще, темнее, и в самом низу – дно. Камни, длинная полегшая трава, рыбы, всякие донные твари… Уж не знаю, как это стало всем известно, потому что из самого Роберта слова о его частных делах не вытянуть было в то время, но как-то узнали, что в красной комнате он, видите ли, настраивался на фантазии, а в зеленой – отрешался от привычной обстановки: там, сидя на «дне», без помех размышлял о деле…
Человеческую жизнь Роберт Людовигович считал составленной из примерно двадцатипятилетних, заметно отличающихся один от другого периодов. И сам он после 75 лет очень изменился, стал, что называется, контактнее. Познакомились мы, когда ему было немного за шестьдесят, и в первое время я думал, что просто еще не заслужил его откровенности, но скоро заметил, почувствовал непреодолимую границу, которую он провел и перед людьми гораздо более ему близкими. При этом он вовсе не был бирюком. Наоборот, иногда звонил, просил приехать, подолгу не отпускал. Но после 75-ти звонил чаще, очень часто, хотя врачи установили для него тогда строгий домашний режим. Как раз это его угнетало: он не хотел признавать, что силы на исходе. Последнее наше свидание прервал шофер: Бартини надо было ехать в КБ. Я попытался подать ему пальто – ничего из этого не получилось:
– Лет через десять, Игорь!
Одаренные люди часто к старости сосредоточиваются на собственных заботах и заслугах. Роберта Людовиговича тоже тревожило, что его заслуги будут забыты; это одна из причин, почему он в последние годы стал несколько разговорчивее. Другая причина, по-видимому, нездоровье, боязнь подолгу оставаться одному. Но о болезни своей он упоминал без жалоб, а, прикладывая руку к груди, говорил изредка: «Я его прошу, ну пожалуйста, ну еще немного постучи…»
Он отлично понимал, что по ряду объективных обстоятельств его работы не оказались своевременно на виду. Всего четыре-пять летавших машин, из которых три – опытные… И знал свой главный недостаток, подводивший его, когда надо было осуществлять проекты: он увлекался замыслами, но, как только они начинали материализовываться, как только доходили до «железа», быстро терял к ним интерес, чувствуя – в принципе правильно чувствуя! – что остальное можно сделать и без него, и, захлестнутый новыми идеями, редко доводил прежние до практических результатов. Говорят, что занимаясь «чистой» наукой, он чувствовал себя конструктором, создавал один за другим интереснейшие проекты, а попав в ОКБ, тут же превращался в ученого, исследователя. Однако он понимал значение своих разработок для развития авиации в целом, понимал, что многими его идеями пользовались другие конструкторы. И сам не пренебрегал удачными чужими разработками, например сразу оценил «Стрелу» А.С.Москалева, взял ее для работы, считая, что так и надо поступать. Предлагал даже создавать по-разному ориентированные опытные конструкторские фирмы, чтобы в одних только проверять «сумасшедшие» идеи, а в других проектировать по ним небывалые машины, уже с прицелом на серийное производство, на эксплуатацию. Но для этого потребуется, повторял он, мало того что организационная, а и психологическая перестройка. Надо будет научиться говорить «мы сделали» вместо привычного сейчас «я сделал».
Поэтому, я думаю, не совсем верно, что он был «конструктором в ученом мире и ученым в мире конструкторов» и, как еще про него иногда говорят, – «героем-одиночкой». Я не достигну своей цели, если мои читатели воспримут его таким. Нет, он был оригинальным, как любой крупный талант, как Туполев, Королев, Антонов, Ильюшин, Григорович, он порой находил решения задач, перед которыми пасовали просто грамотные инженеры, но при этом никогда не замыкался в себе.
Как-то я сказал Бартини, что его разыскивает инженер, которого он должен хорошо помнить: «Он у нас всю войну работал…»
– Не знаю такого.
– Как не знаете? Он же был у вас ведущим по двигательной установке!
– У меня?.. Что-то вы не то говорите. У МЕНЯ такой конструктор не работал, а вот СО МНОЙ – работал, помню…
Пятьдесят один год прожил Бартини в Советском Союзе, почти сорок пять из них был главным конструктором. С ним работали тысячи специалистов (с ним, а не у него, – Роберт Людовигович неизменно поправлял собеседников при таких оговорках, его простота и уважение к людям проявлялись в этом четче даже, чем в поступках), и он работал с ними.
В моих записях его рассказов собраны в самых неожиданных соседствах, с одинаково уважительным к ним отношением, как к коллегам по одному общему делу создания новой техники, Королев, Глушко, Келдыш, физик Вавилов, конструкторы Туполев, Лавочкин, Антонов, уполномоченный по особо важным заданиям Наркомтяжпрома «пушкарь» Курчевский, «парашютист» Гроховский, менее известные, но очень талантливые главные конструкторы Шавров, Москалев, Калинин, знаменитые летчики Стефановский, Юмашев, Чухновский, профессор Остославский, фотограф Белов, военпред Ключенков, ведущие конструкторы Берлин, Ценципер, начальник медницкого цеха Озимков, сотрудники ОКБ Казневский, Косулина, Дмитриев, слесарь-сборщик Пыль, сварщик Моравин…
И еще есть тысячи неназванных. Они не пришлись к слову, а пришлись бы – многих вспомнил бы Роберт Людовигович. В конструкторских бюро, особенно опытных, объединены после тщательного отбора в основном специалисты самой высокой квалификации, и по меньшей мере каждый десятый из них талантлив. Думаю, что не ошибаюсь. Чем же в таком созвездии отличается от остальных звезд главный конструктор? Чем – кроме врученной ему власти, официального руководящего положения, которое кто-то все равно должен занимать в любом коллективе? Размерами таланта? А как его измерить? Как найти такого человека, вовремя дать ему возможность проявиться, пока он еще не главный конструктор, а, например, студент?
Рецепты на этот счет пока не сформулированы, кроме единственного: надо быть внимательным к своим помощникам и ученикам, не забывать, что они работают не у вас, а с вами.
Об одном таком студенте, в котором его преподаватель вовремя заметил качества главного, рассказали писатели Анатолий Аграновский и Михаил Арлазоров. А.Я.Березняк учился в МАИ, его дипломным проектом руководил профессор, главный конструктор В.Ф.Болховитинов. Проект не залежался в архиве института, а получил заключение ВВС. Заместитель начальника ВВС Герой Советского Союза комкор Я.В.Смушкевич написал о нем в наркомат, и Березняка направили в ОКБ Болховитинова, где он вскоре вместе с молодым инженером А.М.Исаевым разработал ракетный истребитель БИ-1.
Но эго было давно, когда многое зависело от инженерского вдохновения. А что сейчас? В эпоху все большей механизации и автоматизации уже и инженерного труда, когда сами конструкторы иногда говорят; дайте нам только реальные требования на машину и средства – и мы вам общими силами любую сделаем…
Академик П.Л.Капица тоже допускает, что в какой-то мере одаренных одиночек можно заменять хорошо организованными, грамотными коллективами, тем более что на практике это и проще, и надежнее, чем иметь дело с «гениями», которые к тому же, что естественно, часто бывают людьми непокладистыми. Но хотя успех дела, говорил П.Л.Капица на XIII Международном конгрессе по истории науки, безусловно, полностью зависит от качеств всего коллектива, житейский опыт свидетельствует, что зависимость эта – очень крутая, чувствительная к колебаниям в составе участников. Поэтому достаточно упустить хотя бы один большой талант, чтобы творческая деятельность всей фирмы почти сразу же стала гораздо менее плодотворной. «Но так же справедливо и обратное: появление даже одного крупного ученого сразу будет сильно повышать эффективность деятельности всего коллектива».
Вот и посчастливилось мне полтора десятка лет близко видеть одного такого, безусловно крупного… Генеральный авиаконструктор О.К.Антонов назвал его недавно, причем с трибуны, то есть сугубо взвешивая слова, – гениальным. Ссылаюсь на О.К.Антонова, сам не рискую давать столь ответственное определение…
И сейчас вижу Бартини; пока помню – он для меня жив. Вижу, что очень самолюбив. В то же время приветлив, быстро к себе располагает, хорошо улавливает ваше душевное состояние, интересы, «понимает» вас. Но скрытен. Отвечает лишь на некоторые вопросы, остальные пропускает мимо ушей. Повторять вопросы бесполезно: он их опять пропустит… Я бываю у него примерно раз в месяц, иногда засиживаюсь, и не просто допоздна, а до утра, соображая: не пора ли честь знать? Угадываю это по его реакциям, когда смотрю на часы или встаю. Если нервничает, значит, надо задержаться. Снова углубляюсь в его бумаги. Говорим мы в последние годы мало, разговоры быстро его утомляют, он заметно ослаб. А бумаги – в моем распоряжении, и в них важные детали событий, хотя в основном о его делах мне все давно известно. Бартини работает в кабинете, оттуда доносится негромкое сердечное покашливание. Телефон звонит все реже; за тяжелой шторой, чуть шевелящейся под ночным сквозняком, стихает уличный шум, на кухне свистит в десятый раз уже, наверное, вскипевший за вечер чайник. Приношу его, зову Роберта Людовиговича. У него и в чаепитии свой вкус, едва ли приемлемый для настоящих любителей: он смешивает в стакане заварку и сгущенный кофе. Минут пятнадцать тратим на вопросы-ответы и расходимся. Часов около трех, слышу, ложится. Уйти нельзя. Если бы можно, он сказал бы, а раз молчит, это надо понимать как просьбу подежурить. Через час устраиваюсь вздремнуть: на диване для меня, будто невзначай, оставлены подушка, свернутое одеяло, в нем белье…
Ну и что? Любой человек дела, тем более талантливый, много работает, как правило самолюбив, о пустяках не болтает. И все они очень разные, эти люди, так что установить связь их привычек и характеров с оригинальными решениями технических задач затруднительно. Ильюшин, скажем, сам вникал в узкоспециальные вопросы и в сотрудниках КБ ценил такие склонности. Сам проверял расчеты заклепочных швов на прочность – не всех, разумеется, швов, но при случае проверял, выбирал защитные покрытия для деталей, удивлялся, выходил из себя, если инженер не мог назвать на память механические свойства или химический состав основных конструкционных материалов. Как будто все это при надобности нельзя найти в справочниках…
А Королев, рассказывают, когда у него однажды попросил совета конструктор (и едва ли к Королеву обращались с пустяками), встал из-за стола и ехидно предложил:
– Давай-ка сядь в мое кресло! Чувствуешь, как оно жжет?.. Теперь иди и сам решай свои проблемы, а мне хватит моих!
А Туполев «видел» технику «насквозь»… Увидел готовую к первому полету опытную машину, сказал: «Не полетит!» – и она не взлетела. Бегала потом по аэродрому, а от земли оторваться так и не смогла.
В лаборатории прочностных испытаний ЦАГИ должны были испытать самолет, определить его слабые места. Андрей Николаевич показал: «Вот здесь сломается!» И конструкция сломалась именно там. Опытный торпедный катер, сконструированный в туполевском ОКБ, не развивал предусмотренной максимальной скорости. Туполев попросил поднять катер из воды, обошел его, остановился у винта, взял молоток, постучал им по кромкам лопастей – и катер достиг скорости выше расчетной.
О Туполеве, конструкторском старейшине, подобных историй ходит среди инженеров больше, чем о ком-либо другом, некоторые из них уже и в психологические труды попали (есть теперь такая ветвь этой науки – инженерная психология). Принесли Андрею Николаевичу чертеж – решение стыка крыла и фюзеляжа, зоны, в которой легко рождаются в полете различные вредные воздушные вихри. Поэтому стыки конструкторы продумывают особо, тщательно сглаживают, «зализывают». А Туполев принялся мягким карандашом, толстыми линиями исправлять чертеж безо всяких расчетов, на глаз. Главный аэродинамик ОКБ молча страдал у него за спиной, «старик» же продолжал рисовать, стирал нарисованное резинкой, а то и пальцем, и снова рисовал… Совсем «извозил» чертеж, приговаривая: «Эдак-то оно лучше смотрится, а ты, знаешь, не расстраивайся зря…»
Эти примеры удивительной способности А.Н.Туполева проникать в скрытую пока от науки суть явлений – способности, основанной на воспринятом им опыте десятков поколений конструкторов, – записаны со слов ветеранов его ОКБ. Допустим, в чем-то они здесь преувеличивают, как принято у бывалых людей: удивили, а вы хотите – верьте, хотите – нет… Но вот что вспоминает уже не просто ветеран во время перекура, а академик А.Н.Крылов о кораблестроителе Петре Акиндиновиче Титове. Главный инженер франко-русского судостроительного завода в Петербурге, конструктор крейсеров и броненосцев П.А.Титов не имел специального образования. Алгебры и то не знал. Размеры силовых деталей судового корпуса намечал только на глаз, иначе просто не умел, но, как бы потом эти назначенные им размеры ни проверяли расчетами, ошибок не находили.
Сам Туполев уверял, что мать его интуиции – информация. Возможно, так оно и было лет тридцать назад, а сейчас память машин уравнивает в этом отношении, талантливого инженера с просто грамотным. Считается, и справедливо, что иные длительные споры о наилучшем решении технической задачи надо попросту вовремя прекращать твердым словом: делать так! И все будет как надо, ведь очень хороших, блестящих решений в технике почти всегда бывает несколько. И ахнут рядовые конструкторы: поразительно!..
Это бывает. Меня же изумил другой случай. Я работал тогда в ОКБ генерального авиаконструктора П.О.Сухого. Однажды Сухой просматривал чертежи поворотного стабилизатора и сказал нам, что опорный ролик, который при отклонении стабилизатора должен катиться по рельсу, поставлен неправильно: его нужно повернуть так-то и так-то, иначе он не покатится, а станет скрести по рельсу. В высшей степени корректный, в английском, как у нас про него говорили, стиле. Сухой ни на чем не настаивал (хотя в решительные моменты мог сказать в той же безукоризненно вежливой манере: «Я вас прошу – и прошу считать мою просьбу приказанием!»), а всего лишь советовал еще раз проверить взаимное положение ролика и рельса, когда вся эта конструкция изогнется под воздушной нагрузкой.
Принесли расчеты. Все было проверено-перепроверено.
– Как хотите…
Сделали в цехе стабилизатор, нагрузили его в лаборатории прочностных испытаний – и ролик стал скрести по рельсу. Прав был Сухой…
Особенность работы Р.Л.Бартини, то, что в наибольшей степени отличало его от других крупных конструкторов, тоже «особенных», – физико-математический подход к техническим задачам и способность находить простые, наглядные модели сложнейших явлений и делать эти модели, а с их помощью и явления доступными научному анализу. Остановимся на истории некоторых его решений, поскольку сейчас этот путь становится все более популярным у инженеров.
Еще в Милане Роберто аналитически искал наивыгоднейшие профили крыла самолета. Не открыв тогда никому ранее не ведомую перспективу такого анализа, он все же увидел ее яснее, чем иные признанные авторитеты, – не подозревая еще, что и в XX веке первооткрывателю в науке приходится защищать не только свои находки, но и способы поиска и даже инструмент, которым добываются клады природы. Для инженера математика – всего лишь инструмент, им задолго до Бартини с блеском пользовались в аэро– и газодинамике Н.Е.Жуковский, Л.Прандтль, С.А.Чаплыгин, Т.Карман, но в те же примерно годы Роберт Годдард, впоследствии первым произведший запуск ракеты с жидкостным ракетным двигателем, писал в книге «Метод достижения максимальных высот», что математически этот метод непостижим. А директор авиационной школы в Лозанне – что «аэродинамика есть наука вполне эмпирическая», и об аэродинамических законах – что «нет ничего более опасного, чем применять математический аппарат с целью достичь построения этих законов».
Вот как: нет ничего более опасного! Совершенно то же настроение, что у коллежского регистратора в чеховской «Свадьбе»: «А по моему взгляду, электрическое освещение – одно только жульничество… Ты давай огня – понимаешь? – огня, который натуральный, а не умственный!»
Аналитически найденные профили обтекания Бартини применял впоследствии на всех своих машинах. И, уже проектируя первую из них, «Сталь-6», он сделал, наметил следующие шаги в этом направлении: приступил к физико-математическому исследованию взаимодействий отдельных частей летательного аппарата, в первую очередь крыла и мотора, в воздушном потоке. В то время считалось, что функции у всех частей самолета разные, несовместимые. Крыло самостоятельно, почти независимо от смежных агрегатов, создает подъемную силу, двигатель – тягу, в фюзеляже размещаются грузы, пассажиры, экипаж… Чтобы несколько уменьшить суммарное аэродинамическое сопротивление самолета, все стыки его частей, все переходные зоны делались плавными, укрывались зализами, формы агрегатов, в частности силовых установок, облагораживались разного рода обтекателями, капотами, но для поршневого двигателя с винтом эти возможности были уже как будто исчерпаны. Речь здесь могла идти лишь о мелких усовершенствованиях, хотя в условиях жестокой борьбы за десяток-другой километров в час нельзя было пренебрегать и ничтожными процентами выгоды. Начиная примерно с 1932—1933 годов, пишет немецкий исследователь Г.Бок, «дальнейшее улучшение летных данных пошло по пути применения все более мощных моторов…»
Первой попыткой Бартини объединить функции крыла и мотора, заставить их помогать друг другу как раз и была убранная в крыло система охлаждения мотора на «Стали-6». Не все посвященные в проект этой машины оценили ее сразу и в полной мере, а вот летчик-испытатель Андрей Борисович Юмашев «увидел» ее мгновенно, не будучи еще знаком ни с интуитивными соображениями конструкторов, ни с расчетами, ни с сомнениями, которых тоже хватало. По программе испытаний, он должен был сначала погонять «Сталь-6» по земле, потом доложить конструкторам и начальству, как она себя ведет при пробежках, «просится» ли в воздух… Так он и поступил: покатался по земле, разгоняясь, тормозя, а потом махнул рукой механикам, которые бежали рядом, придерживая машину за концы крыльев (так полагалось при первой пробежке), – отцепитесь! – и взлетел без разрешения.
Был скандал, сам Бартини скандалил, насколько он вообще умел это делать, – но победителей не судят. Юмашев был доволен машиной.
Вдохновленный удачей со «Сталью-6», Бартини, работая над дальним арктическим разведчиком, ДАРом, доложил Всесоюзному совету по аэродинамике, что в некоторых случаях воздушное сопротивление вообще может не мешать, а помогать полету: может повернуться на 180 градусов, изменить знак, превратиться в дополнительную тягу. Не верите? Но ведь и это в принципе вовсе не новость: ходят же парусные корабли против ветра, маневрируя парусами! Бартини, говоря строго, предложил не совсем ту же «физику», что у парусников, но конечный результат – похожий.
На одном из вариантов ДАРа отрицательное сопротивление, дополнительную тягу, рождала мотогондола – большое, особым образом спрофилированное кольцо, внутри которого были установлены двигатели с винтами. Кольцо так выправило поток от винтов, породило такую «игру» воздушных сил, давящих на всю эту конструкцию, что к результату, полученному при испытаниях, даже Бартини оказался морально неподготовленным. Расчеты – расчетами, а вот когда вживе… ну, скажем, дуешь на пушинку, а она, вместо того чтобы удаляться, вдруг летит тебе навстречу!
На испытаниях было вот как. Сначала включили укрепленные внутри кольца двигатели, и они дали нормальную, заранее рассчитанную тягу. Потом направили на эту работающую силовую установку мощный внешний воздушный поток от аэродинамической трубы, – и вдруг, в нарушение всех привычных представлений, установка рванулась навстречу потоку. Тяга винтов, показали приборы, словно подскочила на тридцать процентов!..
Это парадоксальное явление назвали тогда «эффектом Бартини», по предложению известного аэродинамика профессора И.В.Остославского. Сейчас этот эффект используют для повышения коэффициентов полезного действия воздушных винтов и турбинных установок.
На пассажирском самолете «Сталь-7» и, соответственно, на бомбардировщиках ДБ-240 (Ер-2) и Ер-4 места стыков крыла и фюзеляжа также имели форму примерно четвертей кольца. Полные кольца там не получились по другим конструктивным соображениям. Но и эти четвертушки, обдуваемые потоками от винтов, вместе с еще кое-какими аэродинамическими новшествами сделали машину настолько непривычной для глаза да и для «руки» бывалых авиаторов, что взявшийся было за испытания летчик вскоре от них отказался:
– Она неуправляема!
Тогда, чтобы проверить, послушна ли «Сталь-7» рулям, на ней трижды вместе с главным конструктором слетали А.Б.Юмашев, П.М.Стефановский и начальник НИИ ВВС И.Ф.Петров.
– В этих полетах я еще раз увидел, как талантлив Юмашев и что значит, когда опытная машина попадает к такому летчику, – рассказывал Бартини. – «Сталь-7» он заранее не изучал, как и «Сталь-6» (это было возможно в те времена, сейчас – едва ли. – И.Ч.); спросил только, уже заняв командирское кресло, где какая ручка, где какая кнопка, и – поехали… Выполнил что положено, а после такие вдруг начал закладывать сверхпрограммные виражи, что тут уж мы все трое на него заорали. Левый вираж делал с левым выключенным мотором, правый – с правым. То есть свались машина при этом в штопор – нечем было бы ее поддержать, выправить. А Юмашев только усмехался в ответ на наши вопли, будто сидел дома… как это говорится, у печки, да… и спрашивал: это что за тумблер, а это для чего?..
…Сам Андрей Борисович Юмашев говорит, что дело тут было прежде всего в машине: она великолепно слушалась рулей. На неуправляемой или недостаточно управляемой он такие колена выкидывать не стал бы, их неспроста запрещала инструкция.
«Сталь-7»
Но «Сталь-7» хоть имела все, что полагалось в то время иметь самолету: фюзеляж, длинные крылья впереди, оперение сзади, двигатели в мотогондолах… Поэтому можно себе представить, сквозь какие препятствия, сквозь какой скепсис пробивался в начале 40-х годов проект бесхвостого истребителя "Р", с коротким крылом очень большой стреловидности, с целиком убранными в крыло, слитыми с ним реактивными двигателями.
Проект обсудили, но дальше обсуждений дело не пошло. Надо было ждать. И не столько технических возможностей постройки такого самолета – они уже были, – сколько перемен в мироощущении тех, кто должен был согласиться участвовать в этой работе, дать на нее заказ и средства. То есть опять ждать преодоления психологического барьера, известного своей ролью в истории техники.
Между прочим, раньше этот барьер по большей части ругали за то, что он вечно путался в ногах прогресса, а сейчас и к нему отношение изменилось. Он даже называется теперь в некоторых психологических работах по-новому: антисуггестивным – сознательным, интуитивным и этическим барьером против внушений, против логически хорошо обоснованных и все же пустых, а то и вредных идей. Важно лишь, чтобы высота этого барьера была оптимальной. При слишком высоком наступает творческий застой, бесплодие, при слишком низком зря тратятся силы. Хороши бы мы были, легко соглашаясь с любыми, лишь бы новыми, идеями, с готовностью отказываясь от старых, проверенных!
Уже прослеживается и история развития, и история изучения этого свойства – отбрасывать все, что вызывает чувство недоверия живого существа к окружающему, только еще познаваемому, а значит, небезопасному миру. И оказалось, что его давно учитывали в своей практике врачи, актеры, педагоги и… демагоги. Причем в гуманитарной области идеи внушаются (по Бехтереву, пересаживается психическое состояние без усилия воли, без ясного осознания воспринимающим) легче, чем в естественной. В 1919 году основавший фашистскую организацию бывший журналист Муссолини некоторое время еще вынужден был в статьях и речах доказывать, что он, только он поведет Италию к социальной справедливости и благоденствию. Через три года, после государственного переворота, итальянцам внушалась более простая «истина»: «Дуче не ошибается! Да здравствует дуче!» А в 30-х годах Джерманетто с горечью рассказал Роберту, что теперь фашисты воздействуют на их соотечественников совсем просто: весь огромный пассаж в Милане исписан тысячи раз повторенным одним словом – дуче…
Математика, как отражение жизни, давно смоделировала психологический барьер новому в известной теореме Гёделя. На нее часто ссылался Бартини. Житейски ее можно интерпретировать приблизительно так: во всяком самом широком классе понятий обязательно есть вопросы, ответить на которые удается, только расширив сам этот класс.
Иначе говоря, познание мира нескончаемо и драматично, поскольку оно требует не просто накопления знаний и расстановки их по известным полочкам, а выхода за пределы привычного круга понятий, представлений. "Развитие сознания у каждого отдельного человеческого индивида и развитие коллективных знаний всего человечества на каждом шагу показывает нам превращение непознанной «вещи в себе» в познанную «вещь для нас», превращение слепой, непознанной необходимости, «необходимости в себе», в познанную «необходимость для нас». Гносеологически нет решительно никакой разницы между тем и другим превращением, ибо основная точка зрения тут и там одна – именно: материалистическая, признание объективной реальности внешнего мира и законов внешней природы, причем и этот мир и эти законы вполне познаваемы для человека, но никогда не могут быть им познаны до конца"[5]. И дальше: "Как ни диковинно с точки зрения «здравого смысла» превращение невесомого эфира в весомую материю и обратно, как ни «странно» отсутствие у электрона всякой иной массы, кроме электромагнитной, как ни необычно ограничение механических законов движения одной только областью явлений природы и подчинение их более глубоким законам электромагнитных явлений и т. д., – все это только лишнее подтверждение диалектического материализма"[6].
Бартини старался по мере сил не возмущаться порой безосновательным недоверием коллег, большинство которых он искренне уважал, а терпеливо их переубеждать. И противники часто бывали обезоружены, ошеломлены его неподдельным интересом к их мнениям. А бывало, и не раз, что он принимал их критику. И считал, что это само собой разумеется, коли причина справедлива.
…Надо было ждать. В 1935 году на Римском международном конгрессе, о котором мы уже упоминали, специалисты по аэродинамике без особого внимания выслушали сообщение немецкого исследователя А.Буземана о положительном влиянии стреловидности на обтекание крыла околозвуковым и сверхзвуковым потоками и, видимо, никак не связали это сообщение с предыдущими трудами других ученых, например с работой С.А.Чаплыгина «О газовых струях», опубликованной еще в 1902 году. (При скоростях полета примерно до 800 километров в час воздух, обтекающий летательный аппарат, можно считать как бы несжимаемой жидкостью. При больших скоростях и, соответственно, давлениях его приходится уже рассматривать как сжимаемый газ, изменяющий под давлением свой объем. Сжимаемость воздуха и принесла все беды, когда достигалась и преодолевалась скорость звука). И опять жизнь заставила авиаторов отказаться от этой успокоенности. В Советском Союзе в предвоенные годы над теорией крыла малого удлинения работали академик Н.Е.Кочин, член-корреспондент Академии наук СССР В.В.Голубев, в ЦАГИ – В.П.Горский, А.Н.Волохов, затем Б.Я.Кузнецов, в Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского – профессор Г.Ф.Бураго, в МГУ – аспирант Кудашев, погибший в 1941 году. Изучение особенностей полета на больших дозвуковых скоростях начал в 1939 году и С.А.Христианович, возглавивший затем советскую школу газодинамиков. Во время войны, с 1942—1943 годов, в ЦАГИ и ЦИАМЕ (Центральный институт авиационного моторостроения) исследовались варианты аэродинамических компоновок скоростного реактивного самолета. Результаты этих исследований, обобщенные в трудах И.В.Остославского, Г.С.Калачева, М.А.Тайца, Я.М.Серебрийского, Г.П.Свищева, В.В.Струминского, Г.С.Бюшгенса, легли в основу проектов наших первых реактивных истребителей со стреловидным крылом.
На Западе конструкторы и аэродинамики тоже шли вперед. Первые итальянские реактивные самолеты «Кампини – Капрони» – КК-1 и КК-2 – взлетели в 1940—1941 годах, английский «Глостер» – в 1941-м, американский «Р-59 Эркомет» – в 1942-м, затем «Р-80 Шутинг стар», потом «Р-84 Тандерджет»… Часть великолепно оборудованного аэродрома на западе пустыни Мохаве в Калифорнии, где климат резко континентальный – 350 дней в году стоит солнечная погода, – американцы отвели под секретный испытательный центр боевых реактивных самолетов. Потом этот центр назвали «Эдвардс» – по имени погибшего летчика-испытателя. И еще один такой аэродром построили в Райт-Филде…
Были успехи и у немецких ученых. Об опасности их секретных работ, к счастью до конца войны так и оставшихся лишь потенциально опасными, западные союзники рассказали в 1946—1947 годах в целой серии докладов (в том числе и об истребителе Егер Р-13, очень похожем на москалевскую «Стрелу»). Материалы для докладов дали объединенный англо-американский комитет и различные экспертные комиссии по немецкой науке и технике.
Выяснилось, что в годы, когда скорость 700—750 километров в час считалась очень хорошей для серийных истребителей, в Германии конструкторы уже знали, что будет с летательным аппаратом, когда он разовьет скорость вдвое, вчетверо большую, как будет вести себя машина в зоне скорости звука и далеко за ней… Все годы войны немцы, оказывается, упорно вели соответствующие исследования, и не только теоретические, а уже в лабораториях и на полигонах: «продувки» в аэродинамических трубах Геттингена, Гамбурга, Фолькенроде, Детмольда, Травемюнде, Пьенемюнде, в гигантской трубе Отцале в Альпах; снимали подробные фильмы о полетах крылатых ракет, о падении экспериментальных бомб с большой высоты (чтобы они, падая, успевали разогнаться до нужной скорости). Научились надежно, с ошибкой не более чем в один процент, определять параметры сверхзвукового воздушного потока в любой точке обтекаемого им профиля, учитывать влияние на такой поток различных физических и геометрических факторов и еще многое другое, – и в результате в 1944 году в Германии уже строилось не менее восьми опытных реактивных самолетов, не менее семи находилось в стадии проектирования.
Первыми были применены в военных действиях немецкие реактивные истребители Ме-262 и Me-163 и английский «Метеор». Заявку на проект Ме-262 Мессершмитт подал в министерство авиации в 1939 году, первый полет состоялся в марте 1942 года, в серию истребитель пошел летом 1944 года и тогда же появился на фронте. Скорость Ме-262 была больше 800 километров в час, а бесхвостого стреловидного Me-163 – около 1000 километров.
Таким образом, в конце 30 – начале 40-х годов авиация уже практически приблизилась к зоне скоростей, в которой скачком – сразу впятеро, вшестеро – поднималось воздушное сопротивление полету. Самолет вдруг начинало трясти, как телегу на булыжной мостовой. А если мощный двигатель все же тянул его дальше, к еще большей скорости, самолет переставал повиноваться рулям, затем неизвестные силы валили его набок или бросали носом вниз, в пике, из которого выйти удавалось не всегда.
Это был «звуковой барьер»: для хорошо обтекаемого самолета – сравнительно узкая полоса скоростей вблизи скорости распространения звука, звуковых волн, где воздух начинал показывать, что он газ, а не жидкость, где он заметно сжимался и классическая аэродинамика переставала быть для него законом. Силы менялись, быстро росли и по-иному распределялись по поверхности летательного аппарата. Машина «нормальной», то есть привычной ранее, конфигурации пробить этот барьер могла лишь с большим трудом.
Вот тогда-то и понадобились новые формы и профили обтекания. И естественно, прежде всего их принялись искать для истребителей, поскольку они должны быть и почти всегда были скоростнее бомбардировщиков, а также вообще для маленьких самолетов. Чем меньше летящее тело, тем меньше сопротивляется ему воздух. Маленькими были «Стрела», БИ-1, Ме-262 и Me-163, первые реактивные «Ла», «МиГи», «Яки». Поликарповский ракетный истребитель (он, как и "Р", остался в проекте) даже назывался «Малютка». 14 октября 1947 года маленький американский экспериментальный самолет «Белл Х-1» с ракетным двигателем впервые в истории авиации вышел за скорость звука. Но получилось это у него на большой высоте, где воздух разрежен и сопротивляется полету меньше, получилось после сложного разгона и на очень коротком отрезке пути: прожорливый двигатель Х-1 мог работать с полной тягой только две с половиной минуты, на больший срок запаса топлива не хватало, поскольку самолет был очень маленький. И на высоту эту Х-1 сам забраться не мог, туда поднял его самолет-носитель «Боинг», Б-29, обычный поршневой.
Так что это был скорее рекорд, победа науки, а не достижение настоящей практики. И в то же время сигнал, что в научный прорыв на малом участке надо без промедления вводить главные силы – силы конструкторских бюро.
К тому же после войны расстояние во времени между рекордами и практикой сильно сократилось: умения прибавилось, сказался военный опыт, авиация стала развиваться быстрее. Поэтому сразу же после того, как стало известно о полетах «Белл Х-1», наши конструкторы получили задание: срочно решить – сначала хотя бы в принципе, – можно ли будет в ближайшие годы построить тяжелый самолет, весом больше ста тонн, с длительностью полета пять-шесть часов без дозаправки топливом в воздухе, со скоростью в две – две с половиной скорости звука?
Сводная группа ведущих авиационных специалистов, собранных из разных НИИ и ОКБ, обследовала тогда, как было объявлено, абсолютно все мыслимые схемы пилотируемых, то есть управляемых человеком, атмосферных летательных аппаратов и пришла к заключению: невозможно! В природе не существует пригодная для такого полета схема.
Однако другие специалисты, и в их числе опять Александр Сергеевич Москалев, не поверили в столь категорическое «невозможно», провели на свой страх и риск очень трудоемкое и дорогое так называемое комплексное исследование темы силами нескольких организаций, со многими сотнями опытов, продувок моделей в аэродинамических трубах, и нашли, нащупали нужную схему самолета.
Поехали в Москву защищать проект. И в Москве узнали, что в это же самое время Роберт Людовигович Бартини без особенно дорогих продувок и вообще существенных затрат нашел очень похожую схему. Главным образом «вычислил» ее. От их схемы она отличалась незначительными деталями.
Тяжелый, дальний, сверхзвуковой. 1955 г
«Н-ну, было приблизительно так…» – сказал Бартини, дочитав мою черновую рукопись до этого места, и недовольно отодвинул ее от себя. Не понравилось ему, смутило его, что он получился героем, представал в некоем ореоле.
А он чудес не творил, иначе незачем было бы разбирать и пытаться перенять его методы. Да и неправильно называть их «его методами»; он лишь пользовался ими последовательно, больше пятидесяти лет, и, как правило, успешно (примеры этих успехов я здесь освобождаю от многих необязательных, мне кажется, подробностей, особенно технологических). Таков же вывод и А.С.Москалева. «Нет сомнения, – пишет он мне, – что у Роберта Людовиговича была громадная интуиция, знания и талант ученого и конструктора. Свою работу он показал нам на конференции в 1961 году, и мне неизвестно, когда он до нее додумался, но мы принципиально такое же решение предложили в 1953 году. Вот тогда и было проведено комплексное исследование темы, – мы здесь первые, американцы потом назвали такие исследования комплексным анализом – оптимизированы параметры, режимы и т. д.»
Думаю, что приоритет здесь легко не установишь, да и не в нем дело. Документы свидетельствуют, что оба решения были найдены практически одновременно, – первый отчет-рукопись Р.Л.Бартини в списке 72 отчетов по этой теме датирован 1952 годом, так что шли конструкторы одним путем независимо друг от друга. И когда у Бартини появилась возможность проверить свою найденную «на кончике пера» схему в опытах, он сделал это незамедлительно, с большой пользой. Провести дорогие эксперименты ему помог Сергей Павлович Королев.
С тех же физико-математических позиций Р.Л.Бартини в последние годы попробовал увидеть будущее всего транспорта, не только авиационного. В развитии этой техники было несколько революционных скачков: колесо, парус, пар, двигатель внутреннего сгорания, крыло… Между скачками были более или менее длительные периоды накопления опыта, усовершенствований. По многим признакам чувствуется, писал Бартини, что сейчас пришла пора для нового скачка. Какого?
Любой вид транспорта оценивается при сравнении с другими видами по многим характеристикам: скорость, дальность, грузоподъемность, зависимость от баз, от погоды и т. д.
Бартини взял все эти и другие свойства средств передвижения и сгруппировал их, свел к трем обобщенным. Затем в единой пространственной системе обычных прямоугольных координат построил для каждого транспорта свой параллелепипед – по трем обобщенным характеристикам, как бы по длине, ширине и высоте. Каждая их этих фигур, ее объем показывали, тоже в обобщенном виде, степень совершенства поезда, судна, самолета, ракеты, автомобиля, трубопровода… Отложились на осях и максимальные, притом уже достигнутые, значения обобщенных характеристик, и на них тоже был построен параллелепипед. Все остальные, понятно, оказались внутри этого, максимального. Таким образом была показана степень совершенства пока несуществующего, но в принципе возможного транспортного средства, поскольку все его характеристики уже сейчас реальны. И выяснилось с чрезвычайной наглядностью, что существующие виды транспорта заполняют лишь ничтожную часть этого возможного в принципе объема, то есть что все они очень далеки от идеала, все свойства, характеристики которого уже сейчас достижимы. А дальнейшие расчеты показали, какой транспорт нужно развивать немедленно и всенепременно, чтобы если не полностью, то хотя бы максимально занять этот возможный объем.
Нужны, оказывается, экранолеты – низко летящие аппараты на воздушной подушке. Но не обычные экранолеты, давно известные, давно оцененные, а с вертикальным взлетом и посадкой.
И опять он не открыл здесь ничего принципиально нового. Всего лишь бросил чуть более отрешенный взгляд на старые истины и с несколько иной стороны. Что это даст – покажет будущее. В 1971 году, беседуя с корреспондентом «Литературной газеты», Бартини остановился на противоречиях в свойствах самолета и вертолета:
– Самолет хорошо летает, – сказал Бартини, – но плохо поднимается и садится, вертолет хорошо поднимается и садится, но медленно летает. – И ответил на вопрос, есть ли выход из этих противоречий: – Есть. «Выход – в такой конструкции корпуса летательного аппарата, при которой достигается единство противоположностей – единство таких функций, как функции крыла, фюзеляжа, оперения. Я полагаю, со временем под корпусом аппарата вместо шасси начнут использовать аэродинамический экран. Образующаяся при этом воздушная подушка сделает летательные аппараты будущего – экранолеты – всеаэродромными или, если угодно, безаэродромными: они смогут садиться и взлетать всюду… Всеаэродромные и вертикально взлетающие аппараты позволят транспорту сделать новый скачок. По монорельсовым эстакадным дорогам с околозвуковыми и даже сверхзвуковыми скоростями пойдут поезда, скользящие по высоконапорной воздушной подушке. Таким способом будет осуществляться большая доля трансконтинентальных перевозок. Через океаны основной поток грузов будет переправляться не только сверхзвуковыми самолетами, но и крупными (грузоподъемностью в тысячи тонн) экранопланами-катамаранами».
Понятно, сказал корреспонденту Бартини, что частные задачи будут и в дальнейшем решаться «средствами специального назначения», что его оценка субъективна. «Но я уверен, что правильно организованная служба научного предвидения должна учитывать и подобные субъективные мнения наряду с использованием математических моделей, с тем чтобы в итоге выдать так называемый интегральный прогноз».
Глава III
Стык грядущего и прошедшего,
Бегущее звено…
Р.Л.Бартини. Цепь1
Свою повесть Роберт Людовигович большей частью читал мне вслух, поскольку до перепечатки это была густая машинопись, через один интервал, без полей, со множеством исправлений и почти неразборчивых вставок от руки. А доходя до лирических описаний житья-бытья в Фиуме, Риме, Венеции, иногда откладывал страницы:
– Ну, там, сами понимаете, особняк, парк, а также еще это, по-нынешнему – обслуживание… Может, я кое-что лишнее отсюда выброшу, чтобы не мешало.
В самом деле, очень уж далеко отстоят друг от друга маленький итальянский мальчик с кудрями до плеч, в черном бархатном камзольчике с кружевным воротничком, и один из руководителей Опытного конструкторского бюро, самолетостроитель, гражданин СССР… Главный конструктор усмехнулся, когда его спросили, не чувствует ли он все еще у себя на плечах этот бархатный камзольчик, хотя бы по временам, – ведь все мы иногда вдруг спутешествуем в детство и почувствуем себя так, словно нам совсем мало лет…
– Разве Бартини – итальянец? Если рассматривать человека как биологическую особь, как собрание клеток, то за годы, что я прожил в Советском Союзе, все мои клетки успели смениться минимум трижды, давно ушли в землю все вещества, из которых я был когда-то составлен, и, значит, перед вами не итальянец, а русский.
…Мальчик в теплом средиземноморском городе гуляет с собакой, старой умной Алисой, в саду при вице-губернаторской резиденции, по лужайке, окаймленной искусно подстриженными кустами, поднимается по мраморной лестнице дома, идет в отцовскую библиотеку, куда вход разрешен только ему, Роберто, достает фолианты из темных шкафов, листает их. Отрывается от книги, прислушивается, как на своей половине играет на рояле донна Паола, мама…
…Главный конструктор, жесткий человек, облеченный большой властью и такой же ответственностью, выходит из подъезда на широком проспекте в Москве, поеживаясь, прячет лицо в воротник от косо летящего ноябрьского снега, садится в машину.
В то утро мы условились, что я снова приду к нему дней через десять. А через неделю его не стало…
И я вспоминал и вспоминал потом его интонации, знакомые до мелочей привычки и жесты… И по-новому слышались – нет, словно виделись в старом немом кино – его такие недавние рассказы.
…Роберто ди Бартини в Венеции, в компании молодых аристократов, веселящихся на карнавале, расспрашивает артиста, мага-гастролера, о его таинственном искусстве: шарлатанство оно или наука? Маг говорит: «Примерно пополам», – и предлагает обследовать присутствующих на предмет обнаружения у них свойств, называемых телепатическими. Хохот, от которого звенят синеватые хрустальные бокалы…
…Сообщение в «Известиях», в вечернем выпуске 8 августа 1967 года: «В Кремле 8 августа группе товарищей были вручены ордена и медали Советского Союза… Ордена Ленина за заслуги перед Советским государством вручены Маршалу Советского Союза В.Д.Соколовскому, министру судостроительной промышленности Б.Е.Бутоме, министру радиопромышленности В.Д.Калмыкову, генералу армии П.И.Батову, тов. Р.Л.Бартини, постоянному представителю СССР в Организации Объединенных Наций Н.Т.Федоренко».
Тов. Р.Л.Бартини… Больше ни слова. Конечно, это диктовалось необходимостью.
Он очень торопился в последние годы. Некоторые свои работы он закончить не успевал, понимал это и спешил, насколько это позволяли уходящие силы (помните? – «Я его прошу: ну, пожалуйста, ну еще немного постучи!»), довести их до наивозможной ясности, надеясь, что кто-то ими заинтересуется, закончит их после него. Поэтому на четвертом этапе своей жизни, после 75 лет, он еще больше упростил свой быт, экономя часы, минуты… и в то же время стал чаще видеться с людьми. Поэтому и повесть писал, хотя и урывками, вставляя в нее популярные рассказы о сложных научно-технических делах. А в одно из наших ночных бдений я нашел в бумагах Бартини несколько сколотых булавкой листков – рассказ о его первом вечере в московском общежитии. Он вспоминал с позиций гораздо более позднего времени о прошлом и пытался угадать будущее; это были размышления уже много пережившего человека, скорее всего – заготовка для повести.
Бартини писал, что, когда он вступил в компартию, в 1921 году, его отец был уже государственным секретарем Итальянского королевства[7]. С отцом пришлось расстаться. Без ссоры, но решительно. Больше они не виделись, только изредка переписывались. Мама Паола давно умерла. В Аббации, дачной местности недалеко от Фиуме, снимала виллу мамина сестра, одинокая тетя Елена, единственный родной человек, с которым Роберто встретился, вернувшись из русского плена. Он был на нелегальном положении, поэтому сначала послал к ней мальчонку из булочной и, расцеловавшись, объяснил, что в лагере под Владивостоком, в офицерском бараке, числился «совверсиво» – бунтарем, большевиком и, значит, упаси ее бог проговориться о его плене! Он просто надолго уезжал по своим делам…
Все в этих местах оставалось прежним, замерло, ничего не изменили в здешнем укладе война, революции, перекраивание карт… Мировой славы курорт на берегу теплой бухты, с трех сторон отгороженной от остального континента изогнутым горным хребтом, прикрывшим ее от северных ветров. Праздная толпа на улочках, островерхие крыши каменных домиков, наклоненная к морю площадь с церковью. На паперти калеки, нищие в лохмотьях. Чистый звон колокола: клим-клан, клим-клан… Внутри храма длинные, потемневшие за столетия скамьи, запах ладана, в высоких витражах тусклый свет угасающего дня…
С площади Роберто поднялся к бывшей отцовской резиденции, постоял у решетчатых ворот. Рассмотрел сквозь решетку уходивший за дом сад – мама любила гулять там с черной вежливой Алисой, а подросший Роберто катался по дорожкам верхом на пони. Представил себе покои дома: свои комнаты, будуар донны Паолы с легким запахом туберозы, маминых духов, кабинет отца. В кабинете – застекленные книжные шкафы до потолка, удобные тяжелые мягкие кресла вокруг стола с резными, красного дерева, подставками для книг, бронзовые часы, их гулкий бой, большую картину с дубовой ветвью внизу рамы: эпоха Рисорджименто (национально-освободительное движение итальянцев), казнь тринадцати пьемонтских генералов повстанческой армии. Австрийскому сановнику надо было иметь достаточно отваги, чтобы держать у себя подобную картину! Пасмурный рассвет, столбы с перекладинами, свисающие с перекладин веревки… Бартини-старший рассказывал сыну, кто и как выращивает пшеницу, строит дома и исцеляет болезни; чего требовали рабочие элеватора, прошедшие однажды с красными флагами по улицам Фиуме. Рассказывал, по каким законам движутся в небе планеты и звезды и что за сила подняла в воздух аэроплан, пролетевший как-то в воскресенье над бухтой; и почему оскудел некогда могущественный род князей Скарпа, соседей Бартини.
Поднявшись выше, на каменистую площадку, Роберто увидел вдали полузакрытые дымкой острова, пригороды, порт, гостиницы, пансионаты в лавровых рощах, на несколько километров протянувшийся вдоль извилистого берега деревянный помост, а дальше – белые яхты, катера, лодки… Плавать Роберто выучился в купальне «Анджолина», защищенной сеткой от акул, гимнастике – в спортивном клубе «Кварнеро». Мог в любое время, если ветер был не слишком крепок, выйти в море на вице-губернаторской двухмачтовой шхуне. Тренер по плаванию Карло называл мальчишку «ваша милость»; пожилой, дважды побывавший в кругосветном плавании капитан шхуны при появлении «его милости» брал под козырек, в пути старательно объяснял свои команды и действия матросов. Изучив корабль, назначение и устройство оснастки, Роберто построил модель шхуны, капитан очень ее хвалил.
Развитие человека должно быть гармоничным, считал барон Лодовнко, воспитание – трудовым, и его наследник был постоянно занят, к огорчению друзей – Бруно, Ненко, красивой Джеммы. Книги, школа, работа, спорт…
И опять можно задаться вопросом: а не правильнее было бы деловому человеку забыть все, что минуло? Ну хорошо, допустим, что-то сказать об этом в повести следовало, как о факте из биографии, – но по крайней мере без «лирики»… Он ведь порвал с прошлым; значит, ни к чему такие воспоминания начальнику отдела Научно-опытного аэродрома, что на Ходынке в промерзшей Москве, и, тем более, главному конструктору в конце его нелегкой жизни!
Ничего из прошлого Бартини не забывал. То, что случилось с ним в первые двадцать пять лет жизни, было связано с его настоящим. И, сравнивая себя в прологе со звеном в длинной цепи своих предков и потомков («Стык грядущего и прошедшего…»), он пишет:
Каждый миг вечен. Неразрушимо звено Неразорванной цепи Вечного свершения. В нем я живу…А его цепь переплетена с другими, со множеством других, и это сплетение тоже не прерывается нигде. Оно единое, целое:
Вселенная существует во мне неотделимо. Как в шаровом зеркале, весь мир во мне отображен.Впрочем, стихов в повести мало.
2
В детстве, в родительском доме, Роберто имел все, что только могла пожелать его душа, и вскоре привык к этим возможностям. Захотел получить заводную куклу в человеческий рост и музыкальную шкатулку – кукла и шкатулка были доставлены немедленно. Пожелал встретить Новый год – и на детском празднике в доме Бартини танцевал «весь Фиуме». Соскучился мальчик – и семейство ди Бартини вместе с тетей Еленой отправилось в путешествие – через прохладные хвойные альпийские перевалы, мимо виноградников и рисовых полей цветущей Италийской низменности. В конце второго дня прибыли в Венецию, город искусства, доблести, умельцев, предприимчивости, розового мрамора, гондол, карнавалов, цветов – и свинцовых камер подземных тюрем. Приезжих ждут не извозчики – лодочники. Пахнет плесенью ленивая вода каналов, с горбатых мостиков удят рыбу. Семейство поселяется в дорогой и все равно замызганной гостинице: такой ее содержат для колорита. Полы в ней каменные, электричества нет, по вечерам горят свечи в громоздких серебряных канделябрах, снизу, из ресторана, доносятся запахи жареной баранины, лука и чеснока, женские крики и хохот, и вдруг тишина; потом кто-то мастерски играет на гитаре, поет баркаролу… Скучать некогда. Роберто катают по Канале-Гранде, показывают дворцы, везут к собору святого Марка, на площадь, полную голубей, знакомят с Изой, дочерью танцовщицы Айседоры Дункан. Он присутствует при старой символической церемонии – обручении города с морем: мэр Венеции, в облачении дожа, бросает с лодки в море золотое кольцо. Видит «чудо двадцатого века» – электробиоскоп. Фильм о капитане Немо. По просьбе Роберто вице-губернатор берет к себе на службу, увозит с собой чету нищих венецианцев и их единственное сокровище – то нежную, то скандальную замарашку Джемму…
Дома, в Фиуме, Роберто решает учиться фехтованию. Жилистый, небольшого роста, прыгучий, как мячик, популярный в городе тренер громко топает, наступая и отскакивая, командует: «Терца!.. Квинта!.. Кварта!.. Финта!.. Кварта!!! Ин гвардия! Аттенти! Брависсимо!..» Через двенадцать лет какой-то офицер в римском кафе оскорбил боевиков компартии. Бартини вызвал офицера на дуэль и отрубил ему ухо. Пригодились уроки.
В отцовской библиотеке Роберто обнаружил и прочел толстую книгу «Невидимый мир» – о жизни мельчайших организмов, после чего попросил купить ему микроскоп. Через два месяца прибыла посылка из Германии.
Вскрыта многослойная упаковка, отперт продолговатый полированный ящик из красного дерева, с бронзовой ручкой и бронзовым ключом. В ящике – волшебный инструмент, золотистый и черный и почему-то пахнущий кедром.
По многу часов почти каждый день Роберто и взявший над ним шефство домашний врач семейства Бартини доктор Бальтазаро проводили у микроскопа в наблюдениях и беседах. Нередко заходил к ним вице-губернатор. Интерес мальчика к невидимому миру переставал быть просто увлечением, занятия длились порой до глубокой ночи.
Минуло полвека с лишним. В июле 1969 года, тоже как-то ночью, Роберт Людовигович, пошуршав в коридоре пленкой, укрывавшей стеллаж, принес мне оттуда старинную книгу со сломанным медным замочком, с вытесненной на кожаном переплете обезьяньей мордой и вынул из книги тетрадный листок – схему микроскопа, нарисованную нетвердой рукой. И пошло…
Приученный уже к самым неожиданным поворотам мысли Бартини, я слушал его рассказы об окулярах, микротомах, апертурах и прочей оптике. Слушал внимательно, уверенный, что все это говорится не зря, а имело и, наверное, имеет для него смысл, пока от меня скрытый, как был скрыт от случайных визитеров смысл картин на отвлеченные темы на стенах его квартиры.
…Доктор и «его милость» – подросток Роберто рассматривали сверкавшие в растворе, быстро растущие кристаллы соли. Меняли увеличение – четыреста пятьдесят, тысяча двести, две тысячи! – но очагов, начал кристаллизации не видели, а единственно убеждались в существовании неудержимого стремления чего-то хаотического к гармонии и красоте, поскольку кристалл красив[8]. Бесконечно малое где-то соединялось с большим – не это ли основа всякого существования?
Да, соглашался доктор, хотя сам же и подводил Роберто к этому вопросу. Но никто пока не знает, где они соединяются и как… И тем более никто не знает, где, как и что вызывает важнейшее в природе явление – переход «мертвого» вещества в «живое». Предполагается лишь, что давным-давно жизни на Земле не было, а потом она вдруг возникла, – возможно, в виде клочков белковой слизи в еще теплой грязи древних водоемов остывающей планеты. Эти комочки могли сначала состоять из сложных, но одинаковых молекул, а через миллионы лет родилась новая форма живого – клетка, тоже капля жизни, но уже сложенная из разных молекул, выполняющих разные физиологические функции. Разделив обязанности, клетки могли лучше помогать друг другу, сообща производили больше движений, успешнее боролись с враждебными внешними силами.
Понятно, что я здесь излагаю не последние взгляды биологов на происхождение жизни, а те, которые полвека назад формировали мировоззрение подрастающего Роберто.
Доктор готовил препараты заблаговременно, чтобы скорее провести своего ученика по ступеням знаний.
– Подойдите к окуляру, Роберто. Мы не можем увидеть наше прошлое, но, обратите внимание, историческое развитие многоклеточных повторяют их зародыши. Видите: плотный комок клеток-морула, пустой пузырек – бластула, двуслойный с отверстием впереди – гаструла. Ее далекого предка великий Геккель назвал гастреей[9]. Это – нечто восхитительное! Это – заключение первого Общественного Договора: впервые индивидуумы стали членами такой общины, И которой благополучие каждого из них полностью зависит от совместных действий всех во благо всем. Достаток каждого члена сообщества отныне охраняется всей колонией, жизнь его вне общины становится просто невозможной. Гастрея – община и в то же время личность, но личность неизмеримо более совершенная, чем отдельный член общины. Она больше, чем простая сумма, она – начало того этапа развития жизни на Земле, который продолжается и поныне…
Впрочем, как простые результаты наблюдений, как бесспорные научные истины они излагались во всех гимназиях и училищах. Без выводов, тем более общественных. Выводы каждый мог делать в меру своего разумения. Для большинства учеников все это оставалось обычной нудноватой школьной дисциплиной, которую сдать бы поуспешнее и скорее забыть. Кому она нужна, кроме, конечно, тех, кто собирался стать биологом…
Родители не спешили знакомить Роберто с грубой прозой жизни, однако не скрывали от него, что в мире нет полной гармонии, что по-разному живут люди.
Отец никогда не подавлял сына своим авторитетом. Даже когда Роберто-гимназист под влиянием товарищей стал покуривать и гувернантка в ужасе доложила об этом господину барону, тот подарил сыну коробку папирос и пробковый мундштук. И Роберто бросил курение – говорят же, что только запретный плод сладок.
Роберто превосходно успевал в гимназии. Пожалуй, слишком успевал, с точки зрения родителей и преподавателей: чересчур быстро и доверчиво – прямо так, как видел и слышал, – усваивал знания, не сверяя их с собственным опытом. Да и мало еще было опыта у Роберто, зато памятью природа наделила его, как теперь бы сказали, «фотографической»: он запоминал все и навсегда. Рассудительный, умевший спокойно взвесить любые обстоятельства, Лодовико ди Бартини, разумеется, поощрял стремление сына к знаниям: они что-то постепенно меняют в сложившемся, далеко не идеальном порядке вещей. Но кроме простой суммы сведений и научных идей, многие из которых весьма увлекательны, считал барон, истинно просвещенному человеку нужно чуть-чуть скепсиса. Не все в жизни целиком согласуется с самыми мудрыми сочинениями…
Что Роберто эту «несогласованность» совершенно не чувствует – его близкие поняли слишком поздно, когда уже мало что могли в нем изменить. Характер сформировался. Им оставалось только помогать мальчику, потом юноше в каждом отдельном случае, кое в чем осторожно его подправлять, оберегать, прислушиваясь к велениям своих любящих сердец.
Да, некоторые странности в его поведении, в том, как он воспринимает окружающее, можно было заметить еще задолго до гимназии. Например, он ничего не боялся: в пять лет темным осенним вечером ушел один в заброшенный парк князей Скарпа, чтобы увидеть фею, жившую, по преданию, в боковой башне пустующего замка. К этой башне, сложенной из небольших валунов, – чуть подует ветер – загудит внутри на разные голоса, – добрые люди и днем решались приближаться только компаниями. В парке Роберто заблудился, заснул под папоротником. Искали его с факелами, прочесывали заросли и нашли под утро спящего, простуженного, в жару. Нашла черная Алиса. Вице-губернатор подал знак: тише! Уберите собаку. Думал, что сын в обмороке, напуган…
Роберто осторожно перенесли домой на руках, около двух недель он потом пролежал с высокой температурой. Объяснить бы ему после этого, что просвещенный человек может восхищаться народными легендами, но не должен всерьез принимать фей, колдунов, гномов, привидения, все эти остатки древних суеверий. Нет, не объяснили, как следовало бы, – не решились мешать «свободному развитию свободного гражданина», подавлять его волю. Только мама Паола, чтобы он сам увидел разницу между настоящей, научной фантастикой и глупыми выдумками, стала, пока он болел, вслух читать ему «Двадцать тысяч лье под водой» Жюля Верна. Книга была в библиотеке на немецком языке. И опять явный симптом отклонения от нормы: следя за строчками, Роберто за три недели выучился читать по-немецки. (А всего, между прочим, Бартини знал впоследствии семь языков и еще на двух читал, но не говорил). Футболом, плаванием, фехтованием Роберто тоже занимался с таким рвением, так ликовал, побеждая на детских соревнованиях, а потом и на взрослых, что и это в конце концов встревожило отца. Быть первым в спорте похвально, но не собирается же мальчик, следуя новейшим веяниям, превратить спорт в свою профессию?..
Р. Л. Бартини, 1921 г., «лорд Байрон»
Одно время большие надежды барон Лодовико возлагал на своего друга Бальтазаро. Увлекшись под влиянием доктора естествознанием, началами философии и историей, Роберто принялся сочинять историю рода Бартини, но начал ее – с зарождения жизни на Земле… Путаясь, мучаясь, разложив на полу десятки раскрытых книг, исписал кипу листов: рассуждал о происхождении и назначении жизни, о «воплощении, переплетении и взаимопроникновении вещей». И это в тринадцать лет! Зерно и колос, писал он, – одно, поскольку колос вырос из зерна, а зерно – из колоса; мальчик, мужчина и старик – тоже одно… Где оно скрыто, их единое? В первое время барон приветствовал это сочинительство, считая его безобидным упражнением ума под контролем доктора, потом всполошился: у Роберто слишком разыгралось воображение, это могло пойти в ущерб учению.
Попутно с подобного рода блужданиями, временными, как надеялись родители, попутно с успехами в полезных науках, особенно в математике, физике и языках, Роберто овладевал и такими умениями, смысл которых был вовсе уж непонятен его близким и учителям. Мог быстро нарисовать одновременно правой и левой рукой две половины какой-нибудь симметричной фигуры, и если потом эти половины совместить, они оказывались точными, зеркальными отражениями одна другой, образовывали целую фигуру. Лекции в гимназии записывал и как все ученики, нормально: слева направо, – а мог записывать левой рукой справа налево, зеркально, подражая Леонардо да Винчи. И уверял, что все люди так могут: ведь все мы легко делаем симметричные синхронные движения руками!
«Странности» Роберто не исчезали со временем, а лишь усугублялись. Я узнал его, как уже писал, 60-летнего; каким он был в зрелости и молодости, мне рассказал отчасти он сам, очень скупо, некоторые документы, а главным образом его коллеги и друзья, в том числе старейший его друг, с 1920 года, – архитектор Б.М.Иофан. Родился Борис Михайлович в Одессе, учился и долго жил в Италии, и это его биографию, ее подробности, Бартини использовал в «легенде», когда эмигрировал в Россию. Недалеко от Рима Иофан построил виллу для барона Роберто ди Бартини, а на самом деле конспиративную квартиру для коммунистов…
Бартини никогда не ощущал голода, ел по часам, если не забывал взглянуть на часы. А если забывал, то не ел. На всякий случай на столе в большой комнате у него дома всегда стояла какая-нибудь еда. Однажды в КБ он упал в обморок, словно заснул, уронив голову на расчеты. Прибежал врач и определил, что Бартини обезвожен, – оказывается, он и жажды никогда не ощущал. Некоторых общепризнанных правил, норм он тоже не ведал. В последнее наше с ним свидание и расставание, когда он одевался в прихожей, я сказал, что его пальто давно пора сдать в утиль.
– Очень хорошее пальто. Греет.
– Шапка? Ею пол натирать…
– Хорошая шапка!
Я тогда несколько преувеличивал, пальто и шапка у него не были совсем уж никудышными, но все же, хорошо это или плохо, а давным-давно сложились неписаные нормы, в чем прилично ходить человеку определенного общественного положения, а в чем неприлично. Странно было бы, например, директору явиться на работу в джинсовой паре. А Бартини все это было безразлично. Еще до войны однажды большой аэрофлотовский начальник, когда к нему приехал Бартини, вызвал секретаря:
– Пожалуйста, оденьте главного конструктора!
Сняли мерку, принесли со склада новенькую летную форму. Бартини переоделся, а то, в чем приехал, оставил на вешалке в приемной.
Кое-кто считал, что страха он тоже не ведал – был совсем будто бы лишен этого во многих случаях спасительного чувства. В детстве, как рассказывал Роберт Людовигович, быть может, это действительно было так. Потом – иначе. По-моему, он лишь умел подавлять страх, как и другие свои эмоции. Я уже говорил, что видывал его и обиженным, и обозленным. Видел и испуганным. А больше всего он боялся надвигающегося, близкого конца. Но таким Бартини бывал только дома, на людях же держался безупречно спокойно – до такой степени, что мог и впрямь показаться бесчувственным, как и чересчур прямолинейным. Самые лучшие отношения, не говоря уж о плохих, требуют иногда маневра, а он этого не признавал, – может быть, не понимал или не хотел понимать. И бывало – ошибался. К счастью, не всегда.
Тратил он, безусловно, нервы и в делах; только и в делах никогда не хитрил, уверенный, что надо лишь истину выявить – и все немедленно само собой станет на свои места. Так было при столкновении с руководством ЦКБ; в результате Бартини, уже главного конструктора, уволили тогда из авиапромышленности. От дальнейших неприятностей его избавили М.Н.Тухачевский и Я.Я.Анвельт, но ничьей административной помощи, то есть не по существу технического спора, он не искал, а просто встретил на улице Анвельта, случайно, и тот спросил, как работается уважаемому главному конструктору…
Стойкость – не верю, что бесчувственность, – вела Бартини и в истории с жалобой на будто бы неуправляемый самолет «Сталь-7», и в истории с тяжелым дальним сверхзвуковым самолетом. Заключение на этот проект он получил такое: заявленные конструктором характеристики машины не подтвердились, – и, не имея в то время своего ОКБ, обратился за помощью, но опять же лишь за технической, в другое ведомство – к С.П.Королеву.
Обратился, следуя одному из «четырех конструкторских принципов» – их определил однажды, расфилософствовавшись в перерыве между полетами, шеф-пилот довоенного бартиниевского ОКБ Николай Петрович Шебанов:
– Для успеха нам нужно, во-первых, многое знать. Нелишне также знать пределы своих знаний, не быть чересчур самоуверенными. Юмор нам нужен, чтобы не засохнуть, как вот эта ножка стола. А еще нам нужна поддержка в трудную минуту!
В начале 30-х годов С.П.Королев работал в моторной бригаде ОПО-3 – опытного отдела Наркомтяжпрома СССР – под руководством главного конструктора Бартини. Роберт Людовигович не считал себя учителем Королева (слишком коротким оказалось время их совместной деятельности, да и были у Королева прямые учителя: Циолковский, Цандер, Туполев), но что-то он, естественно, дал будущему конструктору ракетно-космических систем. И Сергей Павлович этого не забыл, как не забывал ничего хорошего. Исследования проекта были повторены в одной из лабораторий С.П.Королева и характеристики получены те, на которых настаивал Бартини.
Роберт Людовигович тоже с готовностью и умело помогал другим конструкторам. В переделке пассажирской машины «Сталь-7» в бомбардировщик ДБ-240 он участвовал, руководил работой, но по совместительству – на заводе, где главным конструктором стал тогда Владимир Григорьевич Ермолаев. Впоследствии этот самолет назвали «Ермолаев-2», Ер-2, и справедливо, считал Бартини:
– Володя был настоящим главным, самоотверженно-трудолюбивым, прекрасно образованным, человеком был хорошим и, что самое важное, талантливым. Мы это вскоре заметили. Но пришел он к нам совсем молодым инженером, к тому же в самолетостроении в то время утвердилась правильная в общем, научно обоснованная система разделения труда: каждый конструктор должен был специализироваться в чем-то одном, в одной бригаде – крыла, оперения, аэродинамики, прочности, моторной… В целом система рациональная, однако для проявления таланта именно главного конструктора она оставляла мало возможностей. Знания углублялись, производительность труда конструктора росла, зато круг его интересов суживался.
Посоветовавшись о Володе, мы направили его сначала в бригаду аэродинамики: рассчитай крыло! Оттуда – в бригаду прочности: рассчитай конструкцию крыла на нагрузки, которые сам же определил как аэродинамик. Оттуда – в конструкторскую бригаду: вычерти крыло! Оттуда – на производство. И опять к аэродинамикам: рассчитай оперение! В бригаду прочности: рассчитай конструкцию…
И так – по всем бригадам и цехам, по всем агрегатам, в несколько кругов. Очень эффективный прием, думаю, что он и сейчас годится.
…Я упомянул летчика Н.П.Шебанова. Бартини говорил о нем не просто с уважением, а с чувством, мне казалось, совсем Роберту Людовиговичу не свойственным – с нежностью.
Работали они вместе недолго, Николай Петрович испытывал только «Сталь-7». Году в 1938-м машина эта опять показалась кому-то фантастической – уже после того, как ее облетали А.Б.Юмашев, П.М.Стефановский и И.Ф.Петров. Нашлись и в ОКБ люди, готовые на все: предложили свезти опытный самолет на свалку, чертежи сжечь…
Дело было на собрании, слово взял Шебанов:
– Хорошо, допустим, что самолет наш ужасен, летать может только по гнусному недосмотру, хотя и не было здесь приведено ни одного обоснованного соображения на этот счет. Так, один испуг… Но предположим, какие-то пока не ясные нам технические соображения все же имеются. Вот и скажи нам ты, Коля, ты разрабатывал крыло: что же оно – сделано фантастическим? А ты, Миша, скажи нам как конструктор шасси: оно сломается при взлете или посадке? И ты, Витя, моторист: моторы заглохнут?
(Имена я здесь заменил, Шебанов назвал другие.) Все перестраховщики – их нашлось немного, человек десять, но шумных, – мигом прикусили языки. Испытания самолета закончились, а 28 августа 1939 года Н.П.Шебанов, второй пилот В.А.Матвеев и бортрадист Н.А.Байкузов установили на «Стали-7» международный рекорд скорости на дальности 5000 километров, пролетев по маршруту Москва – Свердловск – Севастополь – Москва. Планировался кругосветный перелет; «Сталь-7» уже доработали: разместили в ней 27 бензобаков общей емкостью 7400 литров, – но совершить его не дала начавшаяся война.
3
Вернемся, однако, к детству Бартини, поскольку там – истоки его характера. И внешне, и по сути своей Роберт Людовигович сильно отличался от того итальянца, стереотип которого навеяли нам литература и кино, – смуглого, подвижного, чувствительного, бурно жестикулирующего. Сказались на характере Бартини – как не сказаться! – полвека, прожитые в СССР, в окружении людей иного склада, иной морали. Еще справедливее, что он был «Self – made man» – человек, сделавший самого себя. Про Гагарина, когда он побывал в космосе, кто-то из литераторов написал: «Смотрю в его глаза и стараюсь разглядеть в них отблеск никем до него невиденного». Бартини не бывал ни в космосе, ни в землях неведомых, в глазах его (тоже, кстати, не «итальянских» – серо-голубых) светились только ум и многоопытность, доступные не ему одному. Опыт, который Бартини извлекал порой из самых обыденных вещей, мимо которых другие проходили, ничего не заметив…
Доктор Бальтазаро говорил Роберто, что, по теории великого Дарвина и по тому, как ее интерпретирует Эрнст Геккель, человечество очень еще молодо, находится в самом начале лежащего перед ним долгого пути. Если образно принять пять тысяч лет за один шаг, то сделали мы всего двадцать шагов – со времен, скажем, первого короля, – а предстоит нам сделать еще пятьсот тысяч.
Какими они будут, эти пятьсот тысяч «шагов»?
Все течет, все движется, изменяется, но когда поэты сравнивают течение жизни с рекой, это не вполне верно. Реки обычно текут торопливо в верховье, а ближе к устью, разливаясь, становятся спокойнее, медлительнее. В жизни Вселенной – наоборот. В геологии, в биологии, в истории, наконец, каждая последующая эпоха короче предыдущей. Мезозой был короче палеозоя, млекопитающие развились быстрее, чем пресмыкающиеся… Матриархат, по мнению исследователей, занял несколько десятков тысячелетий, патриархат – около десяти тысячелетий, рабовладение – две тысячи лет, феодальный строй – тысячу…
Все движется, да, но движется с ускорением. Само всемирное тяготение есть, разумеется, всемирное ускорение; им держатся и небесные тела в бесконечном пространстве…
Каким же будет человек через пятьсот тысяч «шагов»? Куда мы идем и куда можем прийти, спросил Роберто доктора.
Одни ученые считают, что в грядущих миллионолетиях человек неминуемо изменится, в чем-то усовершенствуется, а что-то, возможно, потеряет. Иным будет его облик. Предсказывают и мрачное: что, мол, люди, избавленные машинами от физического труда, станут хилыми, безвольными и тупыми, потому что и «думать» за человека станут машины. По другим соображениям, не менее, а, пожалуй, более основательным, внешне человек больше не изменится, свой облик он сохранит с помощью спорта и тех же машин и приборов, – но станет умнее, разовьет заложенные в нем природой и пока не используемые огромные способности к самоусовершенствованию…
Тренер Карло учил молодежь в клубе «Квернеро» не только плаванию, но и общему владению телом и «духом». Рассказывал об индийских йогах – как они развивают свою волю. Если в человеке огромны нравственные запасы, велика и могуча сила его воли, то их надо разведать, освободить, уметь пользоваться ими.
Однажды Карло устроил своим питомцам воскресную прогулку в горы. Мальчики захватили с собой еду, спортивные принадлежности, в том числе самую любимую – футбольный мяч.
Добрались до намеченного места. Карло стал накачивать мяч, и вдруг – бах! – камера лопнула… И никто, оказывается, не позаботился заранее ни о запасной камере, ни о резиновом клее.
Карло всмотрелся в лица мальчишек. Кислые у них лица… Поднял смятый мяч, брезгливо протянул его Роберто:
– Имею честь представить: ваша властительница. Вы – жалкие рабы этой жалкой тряпки!
Афиши на тумбах обещали захватывающее зрелище, впервые в городе:
ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ЛЕТЧИК СЛАВОРОССОВ НА ЗНАМЕНИТОМ АЭРОПЛАНЕ «БЛЕРИО-XI» СОВЕРШИТ СВОБОДНЫЕ ПОЛЕТЫ НАД МОРЕМ И НАД ГОРАМИ!
В теплый и безветренный майский день тысячи жителей Фиуме и курортников собрались за городом на большой площадке, которая заканчивалась крутым обрывом к морю. Носом к обрыву стоял белый «Блерио-XI». Красивая это была машина, «летучая» даже с нашей теперешней точки зрения. Легкий моноплан с очень небольшим числом подкосов, растяжек и прочих выпирающих частей.
Летчик надел черную кожаную куртку, пробковый шлем, поднялся в кабину, помахал оттуда публике рукой. Два его помощника держали аэроплан за концы крыльев, два других принялись по очереди раскручивать винт: рывком повернут лопасть – и отскочат, словно от опасного зверя.
Мотор заработал, пустил длинную струю синего дыма. Аэроплан, покачиваясь на кочках, побежал через поляну прямо к обрыву. В толпе кто-то закричал от страха, но «Блерио» уже повис над морем и стал удаляться, набирая высоту. Вернулся, сделал круг над зрителями и по огромной дуге, забираясь все выше, опять ушел к горизонту. Снова вернулся, стал снижаться, сел…
Вице-губернатор, Роберто и его друзья, Бруно и Ненко, познакомились со Славороссовым. Он показал им, как устроен аэроплан. Все в машине было продумано, целесообразно, – значит, кто-то все это сумел предусмотреть, сделать!
Роберто на занятиях перестал слушать учителей. На уроках рисовал в тетради машины – летающие и другие, – придумывал их. Придумал «дальнопишущую» машину. Это обычная пишущая машинка, но под каждой ее клавишей установлен электромагнит с контактом и батарейка. Печатаешь – и сигналы по проводам идут к таким же клавишам на другой машинке… Придумал и дома вычертил приливную или волновую электростанцию: в море качаются на волнах огромные поплавки, целые баржи, связанные коромыслами с берегом. Энергия качаний передается поршневым насосам, которые поднимают воду в хранилище высоко над морем. Оттуда она подается на гидротурбины с динамомашинами.
Это мысли уже не чьи-то, а его, Роберто Бартини.
Роберто вычерчивает карту Европы:
– Папа, а каким цветом наносить границы?
– Границы?.. Они, мой мальчик, цвета не имеют. Реки, моря, озера – синие, только разных оттенков, равнины зеленые, пустыни желтые, а границ между государствами природа не предусмотрела…
И это – мысли императорского сановника! Но Роберто знает, что отец не любит свою работу, скептически относится к своей ученой степени доктора юридических наук. А любит – химию. Почему же он пошел служить? Почему не стал химиком? Многое в жизни делается вопреки нашей воле, думает Роберто.
Все в мире меняется, все движется, развивается. А весь мир? Меняется ли он в целом, в сущности своей, движется ли куда-нибудь? Было ли у него начало, будет ли конец?
Старый, всем знакомый вопрос. А вот ответ пришел мальчишке в голову любопытный… Известны четыре ответа: было начало и будет конец; не было начала и не будет конца; было начало, но не будет конца; не было начала, но будет конец. Роберто, гимназист, предположил еще одну возможность – что мир одновременно и конечен и бесконечен… Как кольцо или шар и конечны в пространстве, и в то же время не имеют конца.
1915 год, последний класс. Война. Выпускники гимназии, как и ожидали их наставники, – патриоты, все собираются добровольцами на фронт, готовы рыцарски, до последней капли крови биться за свободу, потому что только о ней и хлопочет император Франц-Иосиф!
Так настроены были, считалось, все гимназисты. Но одни об этом кричали с искренним восторгом, другие же помалкивали…
На последний экзамен не явился ученик, скромный юноша – из тех, кто молча записался в армию. Из дома ушел, а в школу не пришел. Через месяц пришло извещение: пал смертью героя.
4
Роберто кончил школу офицеров запаса, подал рапорт о зачислении в школу летчиков. Был принят, да и как его не принять: отличное здоровье, образование, уважаемая семья… Но летчиком он тогда стать не успел: дела у австрийцев на фронте шли неважно, авиацию же, как известно, мало кто в те времена принимал за большую силу. Тысячу лучших слушателей офицерских училищ, в их числе кадета ди Бартини, направили в пехоту. Так Роберто попал в Буковину.
Если он когда-нибудь и мечтал о воинской славе, то очень скоро ничего от этих мечтаний не осталось. Его ждали не рыцарские подвиги, а грязь, бессмыслица, от которой всегда особенно страдают люди, подобные Роберто: все-то на свете они желают понять, обо всем иметь собственное мнение. Озлобленность, унижения, жестокость… Солдат недостаточно ретиво и молодцевато приветствовал лейтенанта – и лейтенант его избил. Солдат не выдержал, дал пощечину негодяю. Скорый военно-полевой суд, приговор – повешение… Через несколько дней тот же лейтенант остановил кадета Бартини:
– Почему не отдаете честь?
– Свою надо иметь! – сдерзил кадет – и успел выхватить пистолет быстрее, чем лейтенант. Не успел только кадет сообразить, что теперь уже никакая сила, кроме чуда, не спасет и его от военно-полевого суда.
Чудо, однако, произошло. Утром в день суда, сидя на гауптвахте, Бартини услышал свист, конский топот, ругань, крики – это шли лавой казаки генерала Брусилова. Дверь каменного подвала оказалась незапертой, часовой исчез. Роберто выбежал на улицу местечка, прямо навстречу смуглому молодцу на лошади, с пикой и шашкой. Бросок в сторону, буквально из-под копыт, плашмя на землю, как в футболе, – вот и уроки тренера Карло пригодились! – и всадник проскакал мимо…
Пленных рассортировали, офицеров отделили от солдат, построили в каре. Молодая красивая дама в косынке сестры милосердия, сидя в открытом автомобиле, обратилась к ним по-французски, Роберто переводил ее слова соседям: «Мы надеемся, что с нашими людьми у вас будут обращаться так же гуманно, как мы с вами…»
От Галиции до Дарницы, под Киевом, офицерская колонна шла пешком, только заболевших сажали на телеги с соломой. Было тяжело, все это казалось унизительным, о даме в косынке Бартини думал со злостью. Однако впоследствии он вспоминал этот трехнедельный переход по-иному: он получил представление о новой для него стране, какого не получишь, глядя из окна вагона.
В Дарнице им подали эшелон, такой неторопливый, что дальнейшая дорога заняла еще больше месяца, – правда, вела она через всю Россию, с запада на восток. Сначала до Иванова; оттуда – после отдыха, бани, медосмотра и переклички – дальше. Объявили, что пункт назначения – берег Тихого океана.
В такую даль юный Роберто, сочиняя в Фиуме историю рода баронов Бартини, при всей безудержности мальчишеского воображения, не отважился заслать даже корабли-катамараны атлантов… Но сам кое-какие сведения об этих местах имел, пусть книжные; и теперь поставил себе целью быстрее освоиться в новых условиях. На долгих остановках в ожидании, пока пройдут встречные составы, он все легче объяснялся по-русски с местными жителями, заметил даже, что в Казани люди говорят не совсем так, как в Киеве и в Туле, в Омске – не совсем так, как в Екатеринбурге… И одеваются кое-где по-своему; запомнились ему марийцы – изяществом, с каким они носили самодельную плетеную обувь, лапти.
Роберто впервые увидел, прочувствовал, как обширна земля. Волга, Уральские горы, где он только и помнил, что добывается руда и красивые камни, Иртыш, Енисей, Лена… Мосты через эти великие реки ему казались бесконечными, перестук колес приглушался, словно падал далеко вниз, где над серой водой медленно скользили еле различимые птицы.
Я ему говорил: «Положим, Роберт Людовигович, мосты там высокие, но все же не настолько…» Он усмехался: «Наверное. Я просто вспоминаю…» Тайга волнами выходила из-за горизонта, и ей тоже конца не было…
На станциях к эшелону выносили скудные плоды своих трудов тихие женщины. Кто десяток яиц вкрутую, кто горку картофельных лепешек на салфетке, и совсем хорошо, если вареную курицу. Несли пучки бледно-зеленых стебельков со слабым запахом лука, миски с желтыми комочками в воде – их здесь называли серой, жевали ее, как американцы резинку. Продавали молоко стаканами из влажных, прохладных глиняных горшков. Солдаты-охранники не мешали этой торговле – жалели не то пленных, не то соотечественников, – нарушали приказ никого не выпускать из вагонов, отворачивались. Денег у австрийцев было мало, обмен шел больше натуральный: на шапку, ножичек, фляжку… В Тюмени Роберто за складной ножик плеснули в котелок порцию жидкой пшенной каши, осторожно отмерили ровно ложку подсолнечного масла. К обоюдному удовольствию.
Лагерь их ждал под Владивостоком. Пленных офицеров работой там не утруждали. Они обслуживали только себя. Времени у них оставалось вдоволь, и за три года Бартини как следует изучил русский язык. Читал газеты, а в них статьи, подписанные хотя и разными фамилиями – Вильям Фрей, К. Иванов, В. Ильин, – но их стиль выдавал одного автора. Выяснилось, кто этот автор: Ленин, лидер русских большевиков.
Среди пленных и солдат охраны тоже были социалисты, и Роберт (русские называли его Роберт, а не Роберто) с ними познакомился…
Ласло Кемень, ставший потом другом Бартини, бросил как-то фразу: «Набрался барон социально чуждых идей!»
Упрощенный подход. Никогда Бартини ничего не «набирался», все по мере сил подвергал своему анализу. Максимально доброжелательно, с тем вниманием, каким его самого позднее подкупил Д.П.Григорович, он выслушивал и обдумывал любые мнения, не торопился сказать «да» или «нет». Не всегда его позиция была правильна, но легко он ее не занимал и не оставлял потом.
Не под влиянием одних только лозунгов, тем более не по воле случая он принял в лагере социалистические идеи. И в Италии потом, при множестве тогдашних политических течений, он сознательно примкнул не к реформистскому крылу социалистической партии, а к революционному. Когда один из лидеров левых сил, Амадео Бордига, с которым сблизился Роберто, стал вести себя как сектант, Бартини оказался не с ним, а с Грамши. Сумел, значит, отличить истинную идейность от ложной. Может быть, в то время, на новом этапе его жизни, он различал их только интуитивно. И позже, вернувшись в Россию, он хорошо разбирался в событиях, в людях. Ну например, у большинства людей читал в глазах: «У меня ничего нет, но это неважно. Зато у нас есть все!» А у некоторых, бывало, читал: «У вас ничего нет – ну и черт с вами, живите как хотите. Зато у меня должно быть все!»
Что имел сам Бартини? Из ценных вещей, повторю, почти ничего. Состояние, завещанное ему бароном Лодовико, – несколько миллионов в пересчете на доллары – он передал в МОПР. Незадолго до войны правительство премировало его легковым автомобилем; в тот же день Бартини подарил автомобиль одной из пограничных застав…
В 1920 году началась репатриация пленных из дальневосточных лагерей. Роберто и Ласло представились в Хабаровске начальнику итальянской миссии майору Манейре, назвались братьями по отцу-итальянцу. В миссии имелся список «совверсиво» – большевиков, составленный в лагерях верноподданными офицерами, теперь уже королевскими. Но и майор оказался «совверсиво». Показав Бартини и Кеменю этот список, майор выдал «братьям» документы, по которым они поспешили взять билеты на японский пароход, зафрахтованный Италией для репатриантов. И зря поспешили: верноподданные на пароходе сговорились сбросить их за борт, как только судно выйдет из Шанхая. Кто-то сообщил об этом капитану. Тот вызвал Роберто и Ласло, передал им привет от высокочтимого майора Манейры, вручил рекомендательное письмо к итальянскому консулу в Шанхае и ночью, за несколько минут до отхода, сам проводил их на берег.
Энергичный, молодой, быстро идущий в гору инженер-администратор сказал как-то, что Бартини ему насквозь ясен, как тонкий железный лист под лучами рентгена. И вывод инженера был суров:
– Видите ли, главный конструктор – это не только технический талант. Поясню: главный должен входить в чужие кабинеты без стука. А он? Встретил его у нас – мыкается по коридорам, к техническим секретарям стучится: «Разрешите…»
Да, многих на первых порах обманывала бартиниевская мягкость в обращении, а потом удивляла и огорчала его неожиданная несговорчивость. Никогда сразу, а только обстоятельно и не торопясь подумав, он скажет вам: "Это гениаллно", – и значит, ваше предложение он будет отстаивать всеми доступными ему средствами. Или: "Это завираллно", – и значит, так сему и быть, – впрочем, если его не переубедят новыми и основательными доводами. А страстей на поверхности он не признавал и не замечал, на него они совсем не действовали…
У каждого из нас своя жизнь, целиком никем не повторимая. Она связана с нашей внутренней сущностью и в то же время складывается под множеством влияний. Отгородиться от них нельзя. И Бартини, ничуть не стесняясь, признавал, какое значение имели для него родные, и в первую очередь отец (отцу он прямо подражал, например в отношении к праздникам: барон Лодовико считал, что праздник может быть только в душе, а не в календаре, и Роберт Людовигович даже Новый год, насколько я знаю, никогда не встречал. Праздниками для него были встречи с Грамши, Тольятти, Террачини, Лонго, Орджоникидзе, дружба с архитектором Иофаном, работа с Юмашевым, Стефановским, Шебановым, Бухгольцем, Шав-ровым, с рядом других летчиков и конструкторов, с Тухачевским и Алкснисом). А были еще и черные дни и черные силы, влияния которых тоже со счетов не сбросишь: Савинков, Юсупов, Бордига – люди чуждые нам, но далеко не последнего десятка в смысле одаренности и способности воздействовать на окружающих. Были сословные предрассудки, соблазн открытых к любой карьере дорог…
Тоже всего лишь штрих в биографии, но повлиявший на Бартини. В Шанхае Роберто и Ласло месяц или два пережидали волны репатриантов, опасаясь новых неприятных встреч. Работали шоферами у мистера Ву-у, коммерсанта с европейским образованием и европейскими привычками. Однажды вежливый мистер Ву-у угостил их экзотикой: пригласил в старый китайский театр на удивительный спектакль, тянувшийся с перерывами весь день, с утра до вечера. В общем спектакль был понятен, кроме одного действия, а также перерывов, во время которых оркестр исполнял такое, от чего болели уши и даже слезы выступали.
Началось это действие еще понятно. Перед героем спектакля, юношей, оклеветали его невесту, сказали, что она ему неверна. И юноша вдруг замер, причем не на минуту, а часа на три: совершенно окаменел, сложив на груди руки, сплетя пальцы, – а за его спиной завихрились черные фигуры. Когда этот однообразный вихрь стал уже надоедать, в нем возникла одна фиолетовая фигура. Потом фиолетовых стало больше, а черных поубавилось. Потом появились желтые, но юноша все еще был неподвижен. Но вот кордебалет за его спиной стал почти сплошь желтым – и юноша ушел. Действие кончилось, вновь раздались оглушающие визги и скрипы.
Мистер Ву-у объяснил: черные фигуры – это горе, гнев, жажда мщения – словом, низкие страсти и мысли. Фиолетовые – сомнения. Желтые – надежды. А умолк герой и замер, чтобы никому не показать свою душевную муку. Обнаружить ее и вообще какие-либо свои чувства перед посторонними считалось в старом Китае равносильным потере чести.
Визги в перерывах, оказалось, тоже были исполнены смысла. Искусство облагораживает человека, проникает в него, однако в доверчиво раскрывшуюся для светлых влияний душу зрителя норовит жульнически влезть и недремлющая нечистая сила. Вместе с искусством – не может, оно святое, но может в перерывах. Вот тут-то ее и отпугивает какофония!
В старинном спектакле нечисть побеждали просто, в жизни оборониться от нее было сложнее.
…Сингапур, Коломбо, Суэц. На узкой улочке Суэца оборванные, голодные, черные от загара и грязи Роберто и Ласло, медленно идя за толпой сирийских паломников, от которых внешне ничем не отличались, увидели вывеску пароходной компании; одним из ее владельцев был дядя Роберто, тоже Бартини.
Это была удача! А то друзья уже решили было присоединиться на время к паломникам: те делились, друг с другом едой. В конторе Роберто дали денег, две пары белья, но на всякий случай под расписку. Несмотря на документы, подозрительным показался там обносившийся племянник богатого дяди.
Из Суэца – в Триест, оттуда – в родной город Фиуме, к тете Елене…
5
Коммунистом Бартини стал 21 января 1921 года, в день образования Компартии Италии. Работал с венграми, покинувшими родину после падения там советской власти (фотографию «лаццароне Роберто» ему прислал потом в Москву бывший венгерский политэмигрант в Италии Имре Герле), вошел, как знающий военное дело, в боевую группу компартии.
Группа действовала нелегально. Боевики должны были и тактику освоить, и приемы конспирации. Накануне Генуэзской международной конференции, проникнув в белогвардейскую организацию, Роберто так перевоплотился, что его не узнал, встретив однажды «в большом свете», сам барон Лодовико. Да что там старый барон! Несравненно труднее было обмануть террористов, фашистов, полицейских агентов. Но Роберто и их обвел вокруг пальца.
В «свете» Роберто показывался вместе с князем Юсуповым. Кто-то приглашал туда Савинкова и его приближенных, знакомил со съезжавшимися дипломатами.
– Вы бываете в кино? – вдруг спросил меня Бартини. – Я вот посмотрел недавно довоенный фильм «Маскарад». Ничего, знаете ли… И – как это? – забилось ретивое. Но вот что смешно, хотя это и пустяк: надевают они там маски, только глаза масками закрывают, – и уже не могут узнать друг друга! Наверное, уславливались не узнавать, а? Можно как угодно переодеться, самым искусным образом перекраситься, приклеить усы и бороду, напялить парик – все равно тебя «засекут». Знаете как? По походке. Она так же индивидуальна у каждого, как лицо. А мы закладывали под пятки в ботинки твердые зернышки, рисинки, – и походка менялась до полной неузнаваемости. Не дай бог упустить какую-нибудь мелочь! Обернется бедой…
Во время одной из операций член боевой группы, спрыгнув на ходу с поезда, сломал ногу, попался. И под пытками назвал других боевиков. «Ниточка» от него вела к Роберто.
Тогда-то по решению ЦК Коммунистической партии Италии Бартини уехал в Россию.
Он поклялся отдать красной авиации «всю жизнь, пока кровь течет в жилах». А жизнь могла оказаться очень короткой. Клятву Роберто выполнил бы, но пользы принес бы мало. Однако он и уцелел, и дал технике столько, что, как сказал С.В.Ильюшин выпускникам академии имени Н.Е.Жуковского, «его идеи будут служить авиации еще десятки лет, если не больше». Спасли Роберта Людовиговича находчивость, организованность, выносливость и, что очень важно, взаимовыручка людей общей цели.
Фашисты охотились за Бартини, но, что он уехал, узнали, когда он уже пересек границу. На него устроили покушение в Берлине. Была зафиксирована клиническая смерть, но Роберто вернули буквально с того света врачи-коммунисты, а также крепкий организм. В Берлине же, пока Роберто лежал в клинике, у него выкрали документы, потом попытались спровоцировать его арест. Не удалось. Как-то ему подали чай, в котором была белладонна, но он вовремя почувствовал странный привкус и «нечаянно» пролил чай.
Хватало, впрочем, и обычного авиационного риска, конструкторского. Хватало и летного. На болезни Бартини, усилившейся к старости, сказалась катастрофа, в которую он попал, еще учась в Римской авиационной школе. В России он летал и на боевых машинах, и на опытных – с Юмашевым, Шебановым, Бухгольцем. Однажды, когда я был у Роберта Людовиговича, к нему приехал бывший его сослуживец по Севастополю, они не виделись около сорока лет. Я подумал – сейчас они первым делом обнимутся, как принято между старыми друзьями. Нет! Прямо с порога: «А помнишь, Роберт, как мы с тобой падали в Черное море?» Гидросамолет «Юнкерс» вел тогда Бартини и сумел посадить машину с заглохшим мотором не в море, где волнение было слишком сильное, а на мыс у входа в Северную бухту…
В повести «Цепь» он вернулся к своему детскому замыслу: начал рассказывать историю рода Бартини.
К сожалению, он не говорил, к чему в конечном счете собирался привести эту повесть. Относился он к ней и серьезно, ревниво, и в то же время юмористически. Но из разговоров о повести я понял, что главный ее герой – это, по замыслу, не совсем Бартини, а, скорее, синтез характеров и судеб такого типа. Отдельные ее главы предполагалось посвятить С.П.Королеву, А.Н.Туполеву, В.П.Глушко, О.К.Антонову, Л.В.Курчевскому и другим конструкторам и ученым, с которыми так или иначе был связан Бартини или жизнь которых его занимала, а затем объединить эти главы раздумьями об инженерной работе, о роли «летучей» техники в нашей цивилизации.
Большой пролог к повести он сделал научно-фантастическим, с традиционными для этого вида литературы фигурами и атрибутами. Не верится, что Бартини здесь, как и вообще в чем-либо, просто шел по проторенной дорожке, без дальнего прицела.
Начинается действие в будущем. В Гималаях построен гигантский радиотелескоп, у его экрана собрался Космический совет: в ранее недоступных наблюдателям далях Вселенной обнаружена планета – точная, до мельчайших деталей, копия Земли.
Теоретически это возможно, теория допускает многое. Допускает, например, что при беспорядочном перемешивании набора из тридцати двух букв алфавита они могут вдруг сами, но с исчезающе малой вероятностью выстроиться в «Медного всадника», – и так же реально, хотя и с ничтожной вероятностью, существование двойника Земли в бесконечной Вселенной.
Возможности телескопа почти беспредельны. Он перехватывает в пути, в любом месте на дистанции в миллиарды световых лет, несущиеся к нам изображения этой планеты и мгновенно доставляет их на экран – подробнейшие, до песчинок и травинок на берегах ее рек, до капель дождя на окнах домов тамошних жителей. Председатель совета, традиционно седой, моложавый, лишь слегка подкручивает штурвальчики настройки, и на экране проходит история двойника Земли: от возникновения жизни – до выхода человека в космос.
Ну и так далее. И объяснения Бартини (тоже непрямые, это я их здесь хочу несколько «выпрямить») сводились к тому, что наш особый интерес к самолетам, ракетам и тому подобным устройствам – это, по существу, интерес к красоте, но высшего порядка. К технике, которая когда-нибудь выведет человечество за пределы земной колыбели и, возможно, изменит наши представления о пространстве и времени.
В повести рассказана история юноши и девушки, живших давным-давно там, где теперь стоит Риека, и их сына, наделенного необыкновенными способностями.
Длинную цепь потомков этого человека автор снова проводит по разным временам, царствам, через войны, открытия, подвиги, ставит перед ними мировые проблемы, когда-то заинтересовавшие маленького Роберто, не забытые и взрослым Бартини.
Глава IV
1
Линейку к таланту пока не приложишь, на весы его не бросишь, на электронной машине не просчитаешь. Ну, талант, ну послушали, прочитали о таком человеке, узнали о каких-то его достижениях – интересные, допустим, узнали истории, – а дальше что? Принять все это к сведению, проникнуться уважением к герою?
Другое дело, если можно воспользоваться его опытом. Но для этого нужно выявить, описать метод, по которому, бывает, кто-то один находит выход там, где в бессилии, в отчаянии останавливаются тысячи специалистов.
Я попробую сейчас рассказать о довольно сложных сторонах конструкторской деятельности, обобщить их «по Бартини». Их не определишь исчерпывающе словом «талант», да и в метод решения инженерных задач, в какую-либо систему, по-моему, не уложишь. Назовем их «некоторыми умениями», так будет правильнее. В той или иной степени ими владеет любой инженер, как, наверное, и вообще любой творческий человек. В делах Бартини, в решениях, которые он принимал, эти умения очень заметны, наглядны, но то же самое можно увидеть и в истории машин Лавочкина, Поликарпова, Туполева, Ильюшина, Антонова. В подтверждение сошлюсь на журнал «Вопросы психологии» № 5 1973 года, где была опубликована беседа с А.Н.Туполевым о процессе его работы.
Первое умение, пожалуй, самое простое – умение из множества влияющих на решение факторов отобрать главные, а остальные отбросить. Держать их в уме, не включая в расчет. Это сразу же сокращает число возможных решений, порой превращает неразрешимую задачу в элементарную. Если комиссия, работавшая над проектом тяжелого сверхзвукового самолета, перебрала, как считалось, все мыслимые схемы атмосферных летательных аппаратов, управляемых человеком, то Бартини – один – физически не мог повторить за ней такой поиск – не мог рассмотреть все подряд возможные схемы, одну за другой. Значит, он должен был исходить из какой-то иной логики, более строгой и экономной. Как в математике, в комбинаторике: если, например, имеется десять элементов, десять влияющих на решение факторов, то, по школьной алгебраической формуле, число перестановок из них – больше трех с половиной миллионов. Чтобы последовательно оценить столько возможных вариантов, одному исследователю не хватит жизни. Но если пять элементов из десяти отбросить, как имеющие малое значение, то оставшиеся пять дадут уже всего лишь сто двадцать перестановок-решений. Можно приступать к оценкам!
Второе – умение приложить общие закономерности диалектики – в частности, о единстве и борьбе противоположностей – к конкретным научным и техническим задачам. Что важнее: количество или качество, скорость или дальность, мощность или надежность, живучесть или простота, легкость конструкции или технологичность?..
Разумеется, все это важно. Но на практике мы обычно чем-то пренебрегаем ради чего-то, идем на компромиссы.
– Разумеется, – согласился в одном таком споре Бартини. – Только, предположим, вы получили квартиру – новую, очень хорошую. И газ там есть, и центральное отопление, и ванная, и телефон, и лифт, и метро рядом… И вот, предположим, вы сегодня приходите домой. Жена ваша сидит дома в кресле, гладит на коленях кошку, листает журнал. И вдруг она вскакивает и кричит: «Едем! Немедленно переезжаем!»
В чем дело? Оказывается, она прочитала в журнале, что в соседнем районе построен дом лучше вашего. Что вы скажете жене? Вы скажете: «С ума ты сошла! И так отлично живем. И сиди спокойно в своем кресле».
Но, допустим, завтра вы приедете на завод и там узнаете, что где-нибудь, неважно где, ну, пусть в Швеции, испытан истребитель чуть-чуть лучше вашего, вообще-то очень хорошего, – что вы тогда сделаете? Оставите все, как есть? Нет! Можете свой выбросить на свалку. Он больше никому не нужен…
Каждый разговор с Бартини, сколько я помню, начинался с таких вот примеров и образов, проще которых вроде бы не придумаешь. Или перемежался ими. В первое время даже досадно бывало: зачем? И казалось, что, находясь на очень высокой ступени знаний, жизненного и технического опыта, он не совсем правильно учитывает возможности собеседников, не чувствует разницы между школьником и специалистом.
Кто так думал, досадуя, – ошибался. От самых элементарных, подчас житейских, понятий, с которыми спорить нечего, Бартини постепенно, но обязательно приводил разговор к понятиям все менее и менее очевидным. «Отработает» один пример, найдет два других, примется подходить к вопросу с разных сторон, ни на секунду притом не упуская из виду главный, сложный предмет разговора, стараясь этот главный предмет – далеко не всегда бесспорный, если назвать его сразу, – сделать таким же ясным, по крайней мере в постановке, как и простейшие житейские понятия.
Вот как он в конечном счете подытоживает первые два умения в одной из своих специальных работ: "При решении поставленной задачи необходимо установить сколь возможно компактную факторгруппу сильной связи, определить факторы, которые играют решающую роль в рассматриваемом вопросе, отделив все второстепенные элементы. После этого надо сформулировать наиболее контрастное противоречие «ИЛИ – ИЛИ», противоположность, исключающую решение задачи. В математической логике такое уравнение… пишется так… Решение задачи надо искать в логической композиции тождества противоположностей… «И – И».
То есть, во всяком случае в ответственных ситуациях, к которым относится и большинство авиаконструкторских, надо выбирать не крайние решения «ИЛИ – ИЛИ», одинаково неприемлемые (разве что для рекордов приемлемые: для рекорда только скорости, или только высоты, или только дальности и т. д., поскольку в них максимально улучшается один, какой-либо показатель машины, в ущерб всем остальным), – а «И – И»: самолетов должно быть И достаточно, И они должны быть по всем основным характеристикам намного лучше, чем самолеты возможного противника.
Впервые об этом своем логико-математическом исследовании Бартини доложил на совещании в ЦК ВКП(б) в 1935 году.
– Не понимаем! – крикнули ему из зала. – Почему не сказать просто: самолетов нужно много и хороших?
– А потому, – ответил тогда за Бартини заведующий отделом науки, научно-технических открытий и изобретений ЦК К.Я.Бауман, – что в Цусимском бою у русских были очень хорошие корабли, с очень хорошими пушками, но только все это было чуть-чуть хуже, чем у японцев… Есть еще вопросы?
…Самолет «Сталь-6» строился как прототип фронтового истребителя, поэтому он и скорость имел такую, что в нее не сразу поверили в Глававиапроме, и был однако же по силам серийному производству. «Сталь-7» был для своего класса машин и скоростным, и дальности до тех пор небывалой. В проекте послевоенного тяжелого сверхзвукового самолета Р.Л.Бартини также сумел объединить и дальность, и скорость, и относительную технологическую простоту, доступность.
Между прочим, в принципе поиск решения «И – И» вовсе не сложен. Похожие задачи студенты решают уже на первом курсе на семинарских занятиях по математике: берут производную функцию, приравнивают ее нулю и находят икс, затем игрек.
Но «хитрость» тут вот какая: в жизни, которая неизмеримо сложнее математики, такие решения часто скрываются там, куда никто еще не догадался заглянуть. В справочнике их не найдешь. И ладно бы, если бы только так; главное, что иногда они скрываются там, где, по устоявшимся убеждениям, ничего и быть не должно, не может быть… Когда-то считалось, например, что на самолетах-истребителях должны стоять моторы обязательно жидкостного, а не воздушного охлаждения: жидкостные имели значительно меньшие поперечные размеры (меньший «лоб») и, следовательно, испытывали меньшее воздушное сопротивление. А Поликарпов и вслед за ним Лавочкин сумели применить на легких самолетах такой мотор воздушного охлаждения (АШ-82 Швецова), который повышенной мощностью, тягой, перекрывал увеличенное воздушное сопротивление, к тому же был чрезвычайно живуч и широким своим «лбом» защищал летчика при атаках спереди. Это дало нашей армии семейство истребителей «Ла» – одно из лучших во время войны (Ла-5, Ла-7). Когда-то прямо предписывалось, чтобы военный самолет был как можно более скоростным и высотным – держался подальше от зенитного огня противника, – а Ильюшин именно тогда, победив в спорах с господствующим мнением, построил свой знаменитый штурмовик Ил-2, сравнительно тихоходный и рассчитанный на боевое применение с очень малых высот, до нескольких десятков метров. Москалев сконструировал «Стрелу», когда никто из практиков еще не помышлял о преодолении звукового барьера…
В своих самолетах Бартини объединял противоположные, порой взаимоисключающие, свойства с помощью неожиданных конструкторских ходов. Мы уже говорили о таких ходах в конструкции «Стали-6». У «Стали-7» фюзеляж был не круглого и не овального сечения, что было бы сочтено естественным, а треугольного (с закругленными вершинами), а крылья – «изломанные», похожие на крылья перевернувшейся на спину чайки. В результате они удачно, гораздо плавнее, чем у других самолетов, состыковывались с фюзеляжем, а на взлете и посадке под ними образовывалась плотная воздушная подушка, заметно повышавшая грузоподъемность и, значит, дальность самолета. И шасси, установленное в местах «перелома» крыльев, получилось коротким и легким. А для дальнего сверхзвукового самолета Бартини предложил треугольное крыло, составленное не из прямых сторон, как обычный треугольник, а с одной изогнутой: с передней кромкой, искривленной по найденному конструктором закону. Это, а также особая закрученность плоскости крыла решили проблему. Похожими сейчас сделаны крылья Ту-144, англо-французского «Конкорда» и некоторых других сверхзвуковых самолетов.
И вот здесь – третье умение конструктора: парадоксальность, неожиданность решений. Умение видеть неочевидное.
Но что такое очевидность? Это наши непосредственные ощущения, это долгий опыт человечества… Что же – совсем отказаться от достигнутого, не верить глазам, ушам?
Нет. Но опыт наш пока еще не завершен. В природе есть еще многое, для нас пока далеко не очевидное. В.И.Ленин пишет: "Неизменно, с точки зрения Энгельса, только одно: это – отражение человеческим сознанием (когда существует человеческое сознание) независимо от него существующего и развивающегося внешнего мира… «Сущность» вещей или «субстанция» тоже относительны; они выражают только углубление человеческого познания объектов, и если вчера это углубление не шло дальше атома, сегодня – дальше электрона и эфира, то диалектический материализм настаивает на временном, относительном, приблизительном характере всех этих вех познания природы прогрессирующей наукой человека".[10]
Бартини в наших собеседованиях и к этому подходил постепенно, не в один день и с разных сторон. Когда я спросил его, что он думает о нынешнем разделении инженерного труда, о «массовой атаке», о талантливых одиночках и их положении в огромных коллективах, он ответил:
– То же самое, что следовало думать во времена Галилея. Один человек, как бы он ни был одарен и образован, не может знать больше, чем тысячи специалистов, но может в одиночку отказаться от привычных представлений – понимаете? – и посмотреть не вот сюда, а во-он туда… Ведь и Галилею когда-то сказали: «Твои стекла показывают пятна на Солнце? Это очевидная ложь!»
Прошло около полугода. Я полагал, что вопрос об одиночках и коллективах «закрыт», позиции ясны, но вдруг Бартини в разговоре, совсем, казалось, не связанном с тем, уже давним, кивнул на картинку на стене – там двое яростно уставились друг на друга в упор, «толстый» и «тонкий» (я раньше думал, что это – к чеховскому рассказу):
– Спорят философы. О чем? Все о том же: что есть истина… Толстый говорит: «Она такая!» Тонкий: «Нет, она такая!» А это все равно как если бы вы сейчас стали утверждать, что вот этот стакан с карандашами – только правый и никакой другой… Между тем для вас он правый, а для меня – левый, для вас он близкий, а для меня – далекий. Он синий, но придайте ему определенную скорость – и он станет красным, – явление Допплера…
И еще раз, несколько дней спустя:
– Представьте себе, что вы сидите в кино, где на плоском экране перед вами плоские тени изображают чью-то жизнь. И, если фильм хороший, вы забываете, что это всего лишь плоские тени на плоском экране: вам начинает казаться, что это – целый мир, настоящая жизнь.
А теперь представьте себе, что в зал входит, знаете, женщина с палочкой – фея, дотрагивается палочкой до экрана, и мир на нем вдруг оживает. Что тени людей вдруг увидели себя и все свое плоское окружение. Но, оставаясь на экране, они увидели это, как муха видит портрет, по которому ползет: сперва, допустим, нос, потом щеку, ухо… И для них это в порядке вещей. Другого мира они не видят, не знают и даже не задумываются, что он может существовать…
Но вы-то, сидящий в зале, вы знаете, что мир – другой! Что он не плоский, а объемный, что в нем не два измерения – ширина и высота, а три: еще и глубина.
Только почему вы уверены, что мир именно такой – трехмерный? Это для вас очевидно? Другое – абсурд? А для «экранных людей», которые вас не видят и не подозревают о вашем существовании, глубина – абсурд. Так что очевидность – далеко еще не доказательство, и это хорошо знают художники. Видел я, кажется, в «Литературке» юмористическую серию рисунков, вроде серий Бидструпа. Человечек на картинке; он оживает и хочет выйти на «свободу». Бежит направо – ударяется в правый край, в раму. Налево – а там левый край. Бросается вниз, прыгает вверх – везде края, граница… Человечек растерян, задумывается и вдруг хлопает себя по лбу: нашел! И – уходит в глубину.
Ну хорошо, не будем тревожить фей, искусство – там свои законы. Возьмем другой случай: движение столбика ртути в термометре. Столбик во времени удлиняется, сокращается, опять удлиняется… Построим график: ось абсцисс – время, ось ординат – высота столбика ртути. Получим волнистую кривую, где каждому моменту времени соответствует какая-то одна высота столбика, температура.
А если сейчас взять и совершенно произвольно, не имея на это решительно никакого права, но все же поменять местами обозначения координат? Может получиться дичь: как будто в один и тот же момент времени столбик имел разную высоту, термометр показывал одновременно не одну, а несколько температур…
Опять абсурд. Очевидный абсурд! Это все равно что предположить, будто какой-нибудь электрон может одновременно сидеть вот в этом куске мрамора на столе и на Юпитере… Так не бывает – в том мире, который мы видим.
Но возьмем еще один случай, просто систему координат «X-Y», и в их поле нанесем ряд последовательных положений одной точки – в виде прямой линии, параллельной оси "X". Будет ли здесь для наблюдателя разница между движением и покоем?
Будет, но не для всякого наблюдателя. Если он смотрит с оси "X", движение есть, если же с оси «Y» – движения очевидно нет: прямая линия, параллельная оси "X", проецируется на ось «Y» в виде неподвижной точки. В одно и то же время точка и движется, и стоит на месте. И это уже как будто не совсем абсурд. Это, скорее, парадокс. И возможно, в нем заключен какой-то еще не раскрытый нами общий смысл…
Вот что пишет Бартини тоже в одной из своих специальных работ:
"Есть Мир, необозримо разнообразный и необозримо протяженный во времени и пространстве, и есть Я, исчезающе малая частица этого Мира. Появившись на мгновение на вечной арене бытия, она старается понять, что есть Мир и что есть сознание, включающее в себя всю Вселенную и само навсегда в нее включенное. Начало вещей уходит в беспредельную даль исчезнувших времен; их будущее – вечное чередование в загадочном калейдоскопе судьбы. Их прошлое уже исчезло, оно ушло. Куда? Никто этого не знает. Их будущее еще не наступило, его сейчас также нет. А настоящее? Это вечно исчезающий рубеж между бесконечным, уже не существующим прошлым и бесконечным, еще не существующим будущим…
Мертвая материя ожила и мыслит. В моем сознании совершается таинство: материя изумленно рассматривает самое себя в моем лице. В этом акте самосознания невозможно проследить границу между объектом и субъектом ни во времени, ни в пространстве. Мне думается, что поэтому невозможно дать раздельное понимание сущности вещей и сущности их познания. Фундаментальное решение должно быть единым и общим…"[11]
Но опять вопрос – как об отвлеченных картинах на стенах его квартиры: а зачем все это инженеру, по горло занятому совершенно конкретным делом?
Смелым, вернее, настойчивым и уверенным в возможностях одного человека был Роберт Людовигович и в науке. В 50-60-х годах он провел любопытное исследование в теоретической физике. Помилуйте, кто такой Бартини? Авиаконструктор? Зачем же он вторгается в чужую, далекую от него сферу?
А вот вторгся – и не остановился, получив такое заключение одного из ведущих физиков: «Я этого не понял, а значит, никто этого не поймет!» – и отзыв «внутреннего» рецензента научного журнала: «Предлагаемая статья напоминает рекламу мази, которая в равной степени придает блеск ботинкам и способствует ращению волос…»
В конце концов статья была напечатана в «Докладах Академии наук» (1965 г., т. 163, № 4), называется она «Некоторые соотношения между физическими константами». Впоследствии Роберт Людовигович разработал эту тему детальнее, опубликовал новую статью в сборнике «Проблемы теории гравитации и элементарных частиц»[12]. Ученые заметили публикации, подписанные мало кому из физиков известной до той поры фамилией Бартини, к тому же – Роберт Орос ди Бартини; мы же сейчас коротко остановимся на этой решенной им сугубо теоретической задаче, поскольку метод ее решения, подход к ней был в точности такой же, как и к задачам техническим. Возможно, что подход этот и есть та часть работы в любом творчестве, которая обычно скрыта, считается бессознательной, а здесь обнажилась.
Бартини предложил единую и очень простую формулу для аналитического определения так называемых мировых, или фундаментальных, констант: скорости света в пустоте, ускорения силы тяжести, массы и заряда электрона, отношения масс частиц и т. д. – десятков физических постоянных, которые до появления его статей определялись только экспериментальными способами, приближенно, потому что не была известна их природа. Эксперименты обходились недешево, их повторяли, так как требовалось определять все больше знаков после запятой (все эти константы – бесконечные дроби), но не в этом главная неприятность. Существеннее, что положение в физике сложилось явно ненормальное. Достижения в ее теоретической части известны, громадны, признаны, и почти во все расчеты там входят мировые константы, но никто не знал, почему все же скорость света в вакууме – около трехсот тысяч километров в секунду, а не триста пятьдесят, не двести восемьдесят пять. Почему ускорение силы тяжести такое, не больше и не меньше… И получалось, что стройное, прекрасное здание этой науки опирается на слабоватый фундамент. До поры до времени об этом можно было не слишком заботиться, дело и так шло, но в неизвестности, оставленной за спиной, иногда таятся подвохи.
Что и говорить, Бартини, один, наверняка знал физику не лучше, чем сотни и тысячи первоклассных ученых, собранных к тому же в первоклассных институтах и лабораториях. Просто (опять же «просто») он и в этом случае отважился посмотреть не туда, куда все смотрят. Видимый нами Мир четырехмерен: три координаты в пространстве (длина, ширина и высота) плюс четвертая – время. Правда, математика давно уже имеет дело с любым числом измерений, до бесконечности, но представить себе въяве даже пятимерное пространство пока никто не в состоянии. Однако можно допустить, поверить, что математика, как модель жизни, имеет все же дело с реальностями.
Это и допустил Бартини, сначала интуитивно. (Кстати, многие ученые, на которых он ссылался, – К.Гаусс, А.Пуанкаре, а из наших современников американский математик и физик, нобелевский лауреат П.Бриджмен – считают интуицию главным критерием строгости математических доказательств). А затем уже чисто математически пришел к выводу, что наиболее вероятное устойчивое состояние Мира не четырехмерное, а шестимерное. Оно может быть любым: стомерным, миллиономерным, может как угодно меняться, состояния эти могут переходить одно в другое, но шестимерие для Мира – как самая глубокая и низкая лунка для шарика. И два дополнительных измерения, в нарушение наших привычных, обиходных представлений, имеет время! Невозвратимое, неостановимое, очевидно текущее в одном направлении, оно вдруг оказалось похожим не на шнурок, протянутый из прошлого в будущее через настоящее, а на видимый нами объем, со своими шириной, глубиной и высотой[13].
Практически это привело его к единой и очень простой формуле для определения любой из мировых констант с любой степенью точности.
Большую часть этих соображений Роберт Людовигович сформулировал еще в конце 30-х годов. В 1950 году его работы заинтересовали академика С.И.Вавилова, затем академиков М.В.Келдыша, Н.Н.Боголюбова, Б.М.Понтекорво; а до этого его сообщения натолкнули ученых на решение некоторых вопросов оптики[14]. Можно и, наверное, нужно спорить с тем, как он обосновывает свои выводы, но пока что результаты расчетов и экспериментов совпадают во всем доступном для сравнения диапазоне (сравнение было проведено в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне). И в 1962 году Н.Н.Боголюбов писал в редакцию «Журнала экспериментальной и теоретической физики»: «В этой работе автор предлагает простую формулу для определения основных физических постоянных, в которой для подбора служат только несколько целых чисел. Ввиду того, что такой довольно любопытный результат может представить интерес независимо от вопросов обоснования его, считаю целесообразным опубликовать его в „Письмах в редакцию ЖЭТФ“».
2
Он жил как бы в большем числе измерений, логика его поступков не всегда представлялась очевидной. По «незыблемым», веками утвержденным понятиям, Роберт Орос ди Бартини, наследник большого состояния, должен был стать или военным, или чиновником, или священнослужителем. А он ушел в естественные науки. Правда, как мы видели, для этого были объективные основания, предпосылки, в том числе круг интересов его семьи. Физикой и химией там интересовались больше, чем богословием; происхождением жизни – больше, чем древностью собственного рода; сочинения Вольтера и Леонардо предпочитали сочинениям Макиавелли, историю Греции – подлой истории дома Борджиа…
Только ведь и в светлой Элладе были рабы… Родители и доктор Бальтазаро объяснили Роберто, что человечество, по Дарвину и Геккелю, очень молодо, поэтому золотой век не был, а только еще будет. Но они считали, что золотой век придет когда-нибудь сам собой, а Роберто вырос и понял, что сами собой такие времена не наступают. Отец, человек просвещенный, жил идеалами Монтескье, Руссо, Д'Аламбера, но при всем том оставался бароном и королевским сановником. И никто, кроме сына, не видел в этом нестерпимого противоречия. А Роберто увидел – с другой позиции, с другой «оси координат». «Выбор мировоззренческой позиции, – пишет профессор П.Симонов, – есть результат не столько рассудочного ознакомления с различными точками зрения, сколько результат самовоспитания. Это особенно заметно, когда речь идет о человеке, принадлежавшем по рождению к господствующему классу, который оказался способен разделить интересы совершенно иной социальной группы и отстаивать их как свои»[15].
Началась первая мировая война. Газеты закричали о победе, что после скорой и решительной победы будет замечательная жизнь: все пойдет по-старому…
– Не может этого быть! – подумал тогда семнадцатилетний курсант летной школы Роберто ди Бартини. – По-старому? Не может быть, чтобы такая катастрофа ничему нас не научила!
Кончилась война. Считалось очевидным, что изрядно хлебнувший горя бывший фронтовик поселится в богатом родительском доме. Отец ему написал: «Я знаю, что ты стал коммунистом, и все же не хочу, не имею права влиять на твои убеждения. Это – дело твоей совести. Но я прошу: живи у меня. Ведь я теперь один. И я люблю тебя, Роберто…»
Молодой Бартини к отцу не вернулся: не считал для себя возможным жить лучше, чем живут его единомышленники. Он снимал углы, порой рад бывал и месту в ночлежке, работал мостильщиком, шофером, разметчиком на заводе «Изотта – Фраскини». Пока была возможность – пока не потребовалось уйти в подполье, – учился: инженерному делу и летному. Инструктором его был известный впоследствии летчик Донати, мировой рекордсмен.
В 1972 году отмечалось семидесятипятилетие Р.Л.Бартини. Подводился итог третьему этапу его жизни и работы, с выводами на дальнейшее. О прошлом, сказал Роберт Людовигович на одном из юбилейных мероприятий, сведения у нас довольно точные: известно, что было, что из этого было хорошо, а что плохо, где мы ошиблись, а где преуспели…
– Но, достоверно зная то, что было, мы над прошлым уже не властны. О будущем у нас есть всего лишь предположения, но только в будущем мы можем что-то предотвратить, а что-то вызвать к жизни. Можем сделать так, чтобы жизнь стала лучше.
Вот тебе раз! Недавно еще было «неразрушимо звено…», а теперь прошлое можно сдать в архив, отделить его от настоящего и будущего. «Как это понимать? – спросил я Бартини. – Где здесь неочевидная истина?»
"Я как-то рассказал вам, – ответил он, – о поразившей меня в детстве модели человеческой истории: про двадцать шагов и пятьсот тысяч шагов. Есть еще одна такая модель, новее и нагляднее. В одной из знаменитых европейских столиц стоит древний обелиск, шестидесятиметровая «Игла Клеопатры». И вот однажды космогонист Джине, автор популярной в недавнем прошлом гипотезы об образовании нашей планетной системы, подсчитал, что если все время существования жизни на земле изобразить в масштабе в виде этой иглы, а сверху положить мелкую монетку, английский пенни, то в том же масштабе толщина пенни изобразит время существования человека. А если на монету положить еще и почтовую марку, то ее толщина представит так называемый исторический период жизни человечества. Что же тогда остается на долю отдельного промелькнувшего на Земле создания или даже целых исторических глав, например инквизиции?
Это, понятно, говорит не о ничтожности инквизиции или, скажем, Возрождения, или императорского Рима, а только об их месте в череде минувших и предстоящих событий. Как и о нашем месте в череде поколений. Но пока мы живем, от нас зависит, станет ли обелиск выше".
Величайшим свойством человеческого гения академик Л.Д.Ландау считал способность понять то, чего мы уже не и силах вообразить.
«Каждый переделывает и изменяет самого себя в той мере, в какой он изменяет и переделывает весь комплекс взаимоотношений, в котором сам он является узлом, куда сходятся все нити». Эти слова А. Грамши я нашел в бумагах Р.Л.Бартини.
– Не понятое вами остерегайтесь называть неосуществимым, – советовал Роберт Людовигович работавшим с ним конструкторам. – То, что вам представляется недостижимым, может оказаться легко достижимым для других. Я, например, не в силах подпрыгнуть на два метра, а для Валерия Брумеля это не задача.
О.К.Антонов: «Все проекты Бартини в высшей степени оригинальны. Но нарочно к оригинальности он не стремился, она рождалась из его подхода к делу…»
Е.М.Жмулин, заместитель начальника ЦАГИ: «Важное значение имеет познание творческой лаборатории Р.Л.Биртини, „генератора идей“, создателя оригинальных машин, первооткрывателя новых явлений в природе».
И.Ф.Флоров, доктор технических наук: «Опережающий, революционный характер всей деятельности Роберта Людовиговича Бартини хорошо виден на Примере развития скоростной авиации, где его самолеты нередко на десятки лет опережали мировой уровень авиационной техники».
И.А.Берлин, бывший заместитель Р.Л.Бартини: «Он говорил, что ни в коем случае не следует спорить с заказчиком из-за технических требований к машине. Они не от легкой жизни придумываются, поэтому их не отвергать надо, а, наоборот, перевыполнять!»
А.Д.Алексеев, полярный летчик, в прошлом летчик-испытатель в ОКБ Р.Л.Бартини: «Он был из тех, кто ни на миг не терялся в неожиданно наступавших трудных обстоятельствах. По этому критерию, почему-то никакими инструкциями не предусмотренному, я проверял летчиков, служа в последние годы инспектором».
Н.В.Моравин, сварщик: «Приходим утром – а у него уже свет в окнах. Уходим вечером – а у него еще свет. По-другому не бывало. В цехе не с каждым поговорит, это невозможно, но на работу каждого посмотрит, если надо – вникнет. Обратиться к нему было очень просто… Столовая у нас была далеко, поэтому он велел для ночной смены накрывать столы в кабинете начальника цеха. Не думайте, что это мелочь! – у нас от нее на душе теплело…»
Мне прочитали стихи:
В мельканье будней изменяешь бригантине, Все реже волшебства алеют паруса… Но вспоминаешь жизнь крылатую Бартини – И обретаешь веру в чудеса!Не нужно строго судить их за качество: автор – не профессиональный поэт, а один из руководителей завода, где после войны строились самолеты Роберта Людовиговича.
В 1976 году в этом городе увидел свет второй внук Бартини, названный Робертом. Говорят, словно с внука писан детский портрет деда.
Сноски
1
Фиуме (впоследствии переименован в Риеку) – до окончания первой мировой войны город принадлежал Австро-Венгрии, был центром провинции, после войны передан Италии. После второй мировой войны отошел к Югославии.
(обратно)2
Пытались, но не смогли скопировать Т-34, радиомину Ф-10, взрывавшуюся по сигналу с расстояния в сотни километров, не скоро разобрались в штурмовике Ил-2. По нескольку дней не решались вновь приблизиться к своим позициям, брошенным в панике при залпах «катюш»… Между тем твердотопливные ракеты, очень похожие на «катюшинские», были впервые применены еще в воздушных боях на Халхин-Голе в 1939 году, еще тогда озадачили японцев, которые, надо полагать, делились военным опытом со своими союзниками. Что, собственно, мешало раскрыть секрет этого оружия? А вот не раскрыли, запутались в догадках… 14 августа 1941 года, ровно через месяц после первого применения «катюш», германское главное командование издало такую директиву: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнеметную пушку… Выстрел производится электричеством. Во время выстрела образуется дым… При захвате таких пушек немедленно докладывать». Еще через месяц – новое отчаянное предписание: немедленно доносить прямо главному командованию о каждом появлении таких пушек на любом участке фронта!
И даже захватив «катюши» в октябре 1941 года (взорванные, правда, но для хороших специалистов это не имеет большого значения), до конца войны так и не сделали ничего равноценного. Немецкие шестиствольные минометы были слабее «катюш».
(обратно)3
Так называют в Италии люмпен-пролетариев.
(обратно)4
Как утверждал конструктор, известный знаток истории самолетостроения В.Б.Шавров, полностью убирающееся шасси первым в СССР разработал все же Бартини для самолета «Сталь-6». Проект был обсужден в ЦКБ весной 1930 года.
(обратно)5
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 197.
(обратно)6
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 276.
(обратно)7
В 1919 году Фиуме был захвачен отрядом итальянских националистов Д'Аннунцио. Лодовико ди Бартини уехал в Рим и вскоре стал государственным секретарем королевства.
(обратно)8
«Мостик» от этих рассуждений к своему прямому делу, к самолетостроению, Роберт Людовигович попытался перекинуть для меня позже. К авиации, сказал он, вообще ко всяким летучим устройствам и их создателям люди относятся почему-то с особенным интересом. Почему? Потому прежде всего, что летательный аппарат красив наивысшей в технике красотой – целесообразностью. Не один лишь архиталантливый Туполев, а и любой опытный авиатор почти безошибочно судит о самолете по совершенно как будто не техническому критерию: «смотрится» машина или «не смотрится». Но ведь и корабль, и танк целесообразны! Больше того, навсегда останутся красивыми и «Санта-Мария» Колумба, и венецианские галеры. А вот аэропланы начала века могут сейчас эстетически умилить разве только историков авиации…
К сожалению, на этом моя запись оборвалась. Не думаю, что я тогда чего-то недописал, – скорее всего, Бартини недоговорил.
(обратно)9
Гастрея («гастреа» – произносил Бартини) – предположенный Геккелем общий предок всех земных животных, мешкообразный двуслойный организм, обитавший в водоемах.
(обратно)10
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 277.
(обратно)11
Приведу в подтверждение этой его мысли длинную, но очень, мне кажется, важную цитату: «Современная физическая мысль упорно ищет пути дальнейшего развития и углубления важнейшего понятия „пространство – время“. В новейшей физической литературе уже наметились контуры ряда перспективных концепций, которые нацелены на далеко идущее развитие основ физического миропонимания. В самом деле, среди современных астрофизиков все более укрепляется убеждение в том, что в скором времени космология приведет нас к такому пересмотру наших устоявшихся пространственно-временных представлений, которые будут даже более радикальными, чем революция, ожидаемая всеми на микрофизическом уровне… Как оказалось, даже существующая физическая теория пространства – времени (общая теория относительности) еще таит в себе немало неожиданностей и предсказаний, которые физики только еще начинают сколько-нибудь подробно анализировать…» (Коммунист, 1974, № 6, с. ПО– 111).
(обратно)12
См.: Проблемы теории гравитации и элементарных частиц. М., 1966, с. 249—266.
(обратно)13
В такое трудно поверить, поэтому опять приведу длинную цитату: «Человек может видеть мир не только таким, каким он существует в действительности, но и таким, каким он может быть. Иными словами, существует не только репродуктивное, но и продуктивное восприятие, а в зрительной системе имеются механизмы, обеспечивающие порождение нового образа. Изучение этих механизмов и законов порождения образа – задача специального раздела психологии, который в последние годы получил название „визуальное мышление“… Визуальное мышление – это человеческая деятельность, продуктом которой является порождение новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение видимым. Эти образы отличаются автономностью и свободой по отношению к объектам восприятия» (Зинченко В.П., Мунипов В. М., Гордон В.М. Исследование визуального мышления. – Вопросы психологии, 1973, № 2).
(обратно)14
Профессор Ю.Б.Румер разработал теорию пятимерной оптики. В 1945 г. Ю.Б.Румер и Р.Л.Бартини представили в Академию наук СССР работу «Оптическая аналогия в релятивистской механике и нелинейная электродинамика».
(обратно)15
Новый мир, 1971, № 9, с. 204.
(обратно)



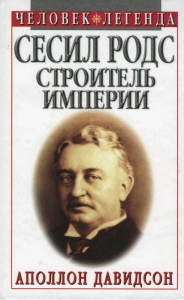

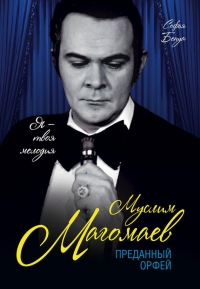
Комментарии к книге «Красные самолеты», Игорь Эммануилович Чутко
Всего 0 комментариев