Зоя Воскресенская, Эдуард Шарапов Тайна Зои Воскресенской
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Зою Ивановну Воскресенскую многие знали как автора книг для детей и юношества, лауреата Государственной и других премий. И лишь совсем недавно стало известно, что прежде чем стать писателем, она двадцать пять лет прослужила во внешней разведке, по воле судьбы оказалась на самом острие разведывательной работы в предвоенные и военные годы, была полковником, руководителем крупного отдела, аналитиком, одной из тех, кто предсказал дату нападения гитлеровской Германии на нашу страну. Разумеется, что в силу объективных обстоятельств писать о своей прежней работе Зоя Ивановна не могла. И только в конце жизни, когда ее «рассекретили», у нее появилась возможность рассказать правду о себе и своих легендарных соратниках В. М. Зарубине, П. М. Фитине, П. М. Журавлеве, Г. И. Мордвинове, П. А. Судоплатове и других. Она успела написать книгу «Теперь я могу сказать правду», но, к сожалению, не дожила до ее выхода в свет.
Эти воспоминания и стали основой нашего издания, в котором нет ни досужего вымысла, ни лихо закрученной интриги, но есть ценности безусловные – повесть о жизни яркого, порядочного и бесстрашного человека, о ее службе в сверхсекретном ведомстве, недавно открытые для печати документальные материалы, по крупицам собранные свидетельства друзей, соратников и членов их семей. Произведение состоит из двух самостоятельных частей (а вернее – книг) – «Теперь я могу сказать правду» З. Воскресенской и «Две судьбы» Э. Шарапова.
Автор первой части и одновременно ее героиня – красивая и умная женщина, полковник разведки, никого не продавшая, не нажившая палат каменных и дворцов загородных, но отдавшая все свои силы, здоровье и лучшие годы жизни на благо Родины, может показаться странной в эпоху очередного для России безвременья.
Автор второй части – большой друг и ученик Зои Ивановны Эдуард Прокофьевич Шарапов, бывший сотрудник внешней разведки, полковник, кандидат исторических наук. Он работал в том же немецком отделе, где и наша героиня, но в другое, более позднее время, так как моложе ее на двадцать пять лет. Познакомились они, когда Зоя Ивановна была известным автором, а Эдуард Прокофьевич только начинал пробовать свое литературное перо и у него появилась необходимость проконсультироваться у маститого писателя. Собственно говоря, именно Зоя Ивановна открыла перед ним дверь в литературу, научив премудростям писательского труда. Недаром Э. П. Шарапов считает ее своей литературной матерью. Самой дорогой реликвией для него является фотография Зои Воскресенской, на обороте которой написано:
«Дорогой Эдуард!
Будь щедрым на мысли, скупым на слова, ищи свои, еще никем не хоженные тропы к сердцу читателя, будь всегда впереди него – вот что я желаю тебе, вот о чем мечтала я и что мне не удалось.
Желаю тебе обрести веру в свои силы, и ты победишь!
Твой искренний друг
З. Воскресенская». 26.7.1979 года.
Вторая часть рассказывает по сути дела о двух жизнях Зои Ивановны Воскресенской: в разведке и в литературе. Здесь нашли более полное отображение характеры и судьбы тех людей, о которых идет речь в первой части, а также тех персонажей, которые упоминаются в ней вскользь, ибо многие из героев книги 3. И. Воскресенской были хорошо известны Э. П. Шарапову, а с П. А. Судоплатовым и Н. Д. Синицкой-Осиповой его связывали дружеские отношения.
В «Приложении» публикуются рассекреченные документы из архивов КГБ и Службы внешней разведки России, а также материалы из личного архива 3. И. Воскресенской.
ЗОЯ ВОСКРЕСЕНСКАЯ. ТЕПЕРЬ Я МОГУ СКАЗАТЬ ПРАВДУ (Из воспоминаний разведчицы)
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Литературной работой, писать книги для детей, я занялась, когда мне уже было близко к пятидесяти, Но я ни одной строчки не написала о внешней разведке, которой отдала четверть века жизни. Я была связана подпиской, по существу воинской клятвой, никогда, даже уволившись или уйдя в отставку, не писать о разведке, не предавать гласности методы работы органов ВЧК – КГБ. И сейчас меня иногда останавливает мысль, что излишняя информация о нашей разведке может повредить моей Родине.
Не случайно, берясь за свою первую книгу, я по привычке в правом верхнем углу страницы напечатала: «Сов. секретно» и смутилась – пишу ведь не докладную записку, не рапорт!!!
В 1956 году я ушла в запас в звании полковника и, сидя у кровати моей обожаемой умирающей мамы, услышала ее шепот: «Дочка, без дела ты не сможешь, возьмись за перо, это твое призвание. Пиши…» Я и выполнила ее просьбу.
Теперь, когда многое за давностью лет становится явным, я решила поделиться с читателями некоторыми эпизодами из своей жизни, взяв отрезок времени, непосредственно предшествующий Великой Отечественной войне и охватывающий отдельные стороны моей работы в военные годы.
Мы, первые поколения разведчиков, должны низко поклониться нашим предшественникам, российскимреволюционерам, за науку конспирации, умение находить верных людей, вовремя предвидеть опасность, грозящую извне, способствовать могуществу и безопасности отчизны.
Одним из таких наставников была Александра Михайловна Коллонтай. Жизнь подарила мне возможность длительное время работать под ее началом.
Моим «крестным отцом» в разведке был полковник Иван Андреевич Чичаев, проработавший в ней всю жизнь. Многим я обязана разведчику «Кину» – моему другу и мужу полковнику Б. А. Рыбкину. Этим людям и всем нашим «однополчанам» я посвящаю эту книгу.
Зоя Воскресенская
Переделкино, 1991 г.
В ГРОЗОВЫЕ ДНИ
Глава 1. На пороге
В семье у нас возникла конфликтная ситуация. Завтра первомайский парад. Я, как жена начальника отдела, имею право идти вместе с мужем на трибуну «А», но мне – начальнику отделения положен пропуск на трибуну «Б», рангом ниже. Я же предпочитаю быть личностью, а не просто привилегированной женой, поэтому решаю занять свое собственное место. Но по дороге на Красную площадь Борис Аркадьевич уговаривает согласиться на роль жены и отправиться вместе с ним.
– Тем более, – убеждал он меня, – ты же знаешь о тревожном сигнале, гитлеровцы могут устроить провокацию на Красной площади.
– Но на днях мы на совещании пришли к выводу, – заметила я, – что это «деза», геббельсовская флюстерпропаганда [1] с целью посеять панику, испортить праздник. И потом…
– Да, да, но всякое может быть, а уж если погибать, так вместе.
И ему, как обычно, удалось меня уговорить.
День 1 мая 1941 года солнечный, яркий. Красная площадь. Белый конь командующего парадом и вороной принимающего парад. Молодой звонкий голос командующего: «Поздравляю вас…» Троекратное «ура». Четкий шаг пехоты. Тяжкий гул танков. И в заключение парада аплодисментами и восхищенными возгласами встреченная гарцующая кавалерия. А затем – бесконечный людской поток демонстрантов, огромные букеты цветов.
Люди вскидывали головы, всматривались в небо, ждали, когда над Красной площадью пронесутся самолеты.
Наша авиация так и не объявилась. Ее участие в параде было отменено.
На второй день праздника я пришла на работу и заметила нечто любопытное. Каждый, кто был на трибуне, «отмечен» загаром на правой щеке – солнце со стороны Василия Блаженного жгло нещадно…
Только у начальника отдела – у Павла Матвеевича Журавлева – правая щека не покраснела. Даже бледнее обычного.
– Павел Матвеевич, почему я вас не видела на трибуне и почему вы без загара?
– Загорал на работе, – указал он на гору папок. – Сидел за нашей аналитической докладной запиской.
Вот о ней и пойдет разговор.
Нашей специализированной группе было поручено проанализировать информацию всей зарубежной резидентуры, касающейся военных планов гитлеровского командования, и подготовить докладную записку. Для этого мы отбирали материалы из наиболее достоверных источников, проверяли надежность каждого агента, дававшего информацию о подготовке гитлеровской Германии к нападению на Советский Союз.
Из надежных источников нам стали известны зловещие планы Гитлера. Среди наших агентов, действовавших в разных странах, были люди самоотверженные, беспредельно преданные и активно помогавшие нам.
Одним из таких источников была группа, возглавляемая «Старшиной» – Харро Шульц-Бойзеном.
«Красная капелла» – группа легендарных немецких антифашистов, всему миру известных под этим названием, родившимся в недрах Главного имперского управления Гитлеровской Германии (гестапо).
Руководителями этой организации, которая в конце 30-х годов установила связь с советской внешней разведкой, были Арвид Харнак под псевдонимом «Корсиканец» (дело № 34118 в архиве Службы внешней разведки) и Харро Шульце-Бойзен под псевдонимом «Старшина» (дело № 34122).
…Арвид Харнак (в документах разведки – Гарнак), 1901 года рождения, сын известного ученого, получил высшее образование в Германии и США, доктор юридических и философских наук, доцент Гессенского университета, руководящий сотрудник министерства экономики. Был женат на американке немецкого происхождения Милдред, урожденной Фиш. Супруга Харнака руководила кружком по изучению трудов Маркса, Ленина, Троцкого, возглавляла колонию американских женщин в Берлине. Доктор филологических наук, она переводила классиков немецкой литературы на английский язык.
В 1930 году Харнак примкнул к Союзу работников умственного труда, объединявшего широкие круги немецкой интеллигенции, и скоро вошел в состав его правления. Союз был образован по инициативе компартии Германии с целью оказывать влияние на круги немецких интеллектуалов и пропагандировать свои взгляды в легальной форме. Союз сохранился и после прихода Гитлера к власти. Влияние Харнака в нем усилилось, что объяснялось его морально-деловыми качествами и умением находить общий язык с самыми разными людьми. В 1932 году Харнак занял пост генерального секретаря созданного при его активном участии Общества по изучению советского планового хозяйства – АРПЛАН. Председателем АРПЛАНа был профессор Йенского университета Фридрих Ленц, придерживавшийся левых взглядов. После прихода фашистов к власти Ленц эмигрировал в США. Харнак неофициально состоял в компартии Германии, как это было распространено в то время.
Обер-лейтенант Харро Шульце-Бойзен – внучатый племянник гроссадмирала Тирпица, был женат на родственнице князя Оленбурга Либертас Хас-Хейе. Студентом издавал журнал «Дер гегнер» («Противник»), носивший антиправительственный характер. Журнал был закрыт. Шульце-Бойзен арестован на короткое время. Молодой аристократ поддерживал связь с КПГ, однако по рекомендации Харнака (с ним он познакомился в 1935 году) ее прекратил, тем не менее продолжал помогать партии в печатании и распространении антифашистской литературы.
Шульце-Бойзен служил референтом в министерстве авиации, затем по личной рекомендации Геринга в штабе ВВС, был вхож в партийные круги НСДАП (читал лекции для высших функционеров), собирая вокруг себя единомышленников.
Курт Шумахер – выходец из трудовой семьи. Был резчиком по дереву, скульптором. Его жена Элизабет – антифашистка по своим убеждениям, член КПГ, помощница мужа в его борьбе. Мастерская Шумахера стала убежищем для скрывающихся антифашистов. Так, по просьбе «Старшины» Шумахер нелегально переправил некоторых социал-демократов в Швейцарию.
К началу второй мировой войны «Красная капелла» насчитывала, по разным данным, от 25 до 600 человек, в основном из числа интеллигенции: писателей, артистов, художников, скульпторов, режиссеров, а также военных, студентов и рабочих.
С началом войны радиосвязь с «Красной капеллой» была прервана из-за слабости радиопортативной станции, которая могла непрерывно работать на батарейках лишь около двух часов, после чего требовалась их смена или перезарядка. К тому же радиус действия этой радиостанции составлял всего 800 – 1000 километров.
В декабре 1941 года была предпринята попытка наладить потерянную связь с руководителями «Красной капеллы». Резидент в Лондоне получил указание подготовить к заброске на континент двух связных с шифром, аппаратурой и условиями связи. Но эта попытка не удалась.
Позднее связь пытались установить через Стокгольм. 23 января 1942 года резидент Борис Рыбкин получил задание найти нужного человека для заброски в Берлин. Это удалось сделать лишь в июне того же года, когда в Берлин был направлен связной под псевдонимом «Адам». Были предприняты и другие попытки, также безуспешные, поскольку Харнака, Шульце-Бойзена и многих других членов «Красной капеллы» осенью 1942 года арестовали и казнили.
Позднее, после окончания Великой Отечественной войны, они были награждены советскими орденами посмертно [2].
Наша аналитическая записка оказалась довольно объемистой, а резюме – краткое и четкое: мы на пороге войны.
17 июня 1941 года я по последним сообщениям агентов «Старшины» и «Корсиканца» с волнением завершила этот документ. Заключительным аккордом в нем прозвучало:
«Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время».
Подчеркиваю, это было 17 июня 1941 года.
Обзор агентурных данных с приведенным выше выводом начальник Главного разведывательного управления Павел Михайлович Фитин повез лично Хозяину – И. В. Сталину.
ФИТИН Павел Михайлович (1907 – 1974) – сотрудник органов государственной безопасности, генерал-лейтенант. С июля 1939 года работал начальником 5 (иностранного) отдела ГУГБ (главное управление государственной безопасности). С февраля 1941 по сентябрь 1946 года, то есть весь период Великой Отечественной войны, был начальником ПГУ (Первого главного управления – разведка) НКВД – МГБ СССР.
Трудно передать, в каком состоянии мы – члены группы ждали возвращения Фитина из Кремля. Но вот Фитин вызвал к себе Журавлева и меня. Наш обзор мы увидели у него в руках. Фитин достаточно выразительно бросил сброшюрованный документ на журнальный столик Журавлеву.
– Хозяину доложил. Иосиф Виссарионович ознакомился с вашим докладом и швырнул его мне. «Это блеф! – раздраженно сказал он. – Не поднимайте паники. Не занимайтесь ерундой. Идите-ка и получше разберитесь».
– Еще раз перепроверьте и доложите, – приказал Фитин Журавлеву.
Недоумевающие, ошарашенные, мы вернулись в кабинет Павла Матвеевича. Мы не могли понять реакции Сталина. Как и бывает в таких случаях, снова и снова принимались все взвешивать и разбирать. Наконец Павел Матвеевич высказал предположение:
– Сталину с его колокольни виднее. Помимо нашей разведки он располагает данными разведки военной, докладами послов и посланников, торговых представительств, журналистов.
– Да, ему виднее… – согласилась я, – но это значит, что нашей годами проверенной агентуре нельзя верить.
– Поживем – увидим, – как-то мрачно заключил Павел Матвеевич.
А я думала о том, что если бы Павел Матвеевич сам докладывал эти материалы Иосифу Виссарионовичу, то, может быть, сумел бы убедить его в достоверности информации.
О Павле Матвеевиче Журавлеве ходили легенды, он был блистательным разведчиком. В разных странах умел находить ценнейших людей. Одного из них он ввел даже в ближайшее царское окружение в Болгарии. Обладал удивительным даром общения, владел основными европейскими языками. Я счастлива, что имела такого мудрого наставника.
«С ноября 1940 года все мы находились в состоянии повышенной готовности. К этому времени Павел Журавлев и Зоя Рыбкина завели литерное дело под названием «Затея», в котором сосредоточивались информационные материалы о подготовке Германии к войне против Советского Союза. С помощью этого дела было легче регулярно следить за развитием немецкой политики, в частности, за ее возрастающей агрессивностью. Информация из этого литерного дела регулярно поступала к Сталину и Молотову, что позволяло им корректировать их политику по отношению к Гитлеру. В деле находились сообщения, которые впервые породили у советского руководства сомнения в искренности предложений Гитлера, в частности, о делении мира между Германией, Советским Союзом, Италией и Японией, о чем Молотов сказал в ноябре 1940 года в Берлине.
Зоя Рыбкина, которая за несколько дней до начала войны посетила германское посольство в Москве, заметила что персонал этого посольства практически был готов к эвакуации. Это сообщение озаботило нас».
(П. А, Судоплатов. Из книги «Показания нежелательного свидетеля»)
…Сегодня, когда минуло пять десятилетий с того времени и когда печать, телевидение, радио предают гласности секретные документы той роковой поры, отчетливо видишь, какую важную миссию выполняла советская внешняя разведка и какой просчет, принесший немалые беды, допустило сталинское руководство.
Замечу, что тогда мы старались найти оправдание «стратегическому плану» Сталина. Прочно утвердилась такая версия: мы не подтянули вовремя к границам воинские части, не оснастили вооружением новую советско-германскую границу. Сталин, мол, стремился к тому, чтобы весь мир знал и видел, кто развязал войну. Хотя гитлеровцы постоянно нарушали наши воздушные, морские и сухопутные границы, провоцировали нас, мы на провокацию не поддались, зато получили в союзники США, Великобританию и мировое общественное мнение…
Глава 2. Вальс у Шуленбурга
В середине мая 1941 года я была приглашена к начальнику Главного управления контрразведки комиссару П. В. Федотову. С контрразведкой у меня никогда не было никаких контактов, и я не могла понять причину вызова.
Спустилась двумя этажами ниже, вошла в приемную.
– Майор Рыбкина? – секретарь вскочил со своего места. – Пожалуйста, пройдите, комиссар вас ждет.
Я прошла через тамбур с двумя дверями. В просторном кабинете кресла и стулья были обтянуты белоснежными чехлами, на обширном письменном столе возвышалась лампа под зеленым абажуром и стояли две хрустальные чернильницы в бронзовой оправе. На столике, примыкавшем к рабочему столу, шесть или восемь телефонных аппаратов. Между двух окон на стене большой портрет Сталина. На другой стене в темной раме портрет Ленина. В общем, обычный генеральский кабинет.
Петр Васильевич поднялся из-за стола, вышел навстречу, пожал мне руку, пригласил занять место у журнального столика, сам сел напротив.
Я видела его впервые. Он походил на директора школы или преподавателя вуза. Мало что выдавало в нем комиссара госбезопасности, хотя он был в военной форме с тремя ромбами в петлицах.
Петр Васильевич сразу перешел к делу. Контрразведке нужна моя помощь. Гитлеровская Германия, желая опровергнуть распространяемые слухи о якобы готовящемся нападении на СССР, решила продемонстрировать верность заключенному в 1939 году советско-германскому договору и прислала в Москву, что весьма знаменательно, делегацию, но не экономическую или политическую, а группу солистов балета Берлинской оперы. Германский посол Шуленбург сегодня дает обед в их честь; на обед приглашены звезды нашего балета.
– И мы очень просили бы вас, – сказал Петр Васильевич, – быть среди приглашенных на этот обед.
– В качестве кого? – удивилась я.
– Мы об этом подумали и уже заготовили приглашение. Вы будете представлять там ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. – З. В.). Мы надеялись, что вы нам не откажете, и ВОКС уже послал список приглашенных в германское посольство. А вам я вручаю это приглашение. – И он протянул мне продолговатый конверт, в котором значилась моя фамилия.
Я вспыхнула и запротестовала:
– Там могут быть и дипломаты, которые меня знают, но знают под другой фамилией.
– Ах, черт возьми, мы этого не учли.
Он задумался, а я тем временем вертела в руках приглашение, не зная, как поступить.
Наконец, тяжело вздохнув, Петр Васильевич сказал:
– Мы сделаем так. Попросим ВОКС позвонить в германское посольство и предупредить, что так как Рыбкина заболела, то вместо нее будет Ярцева.
– Да это все шито белыми нитками, – рассмеялась я. – Впрочем, меня интересует моя роль в этом деле.
Петр Васильевич принялся популярно объяснять. Мне следует оценить обстановку, настроение, учесть всякие детали, интересующие нашу контрразведку.
Времени для подготовки к званому обеду оставалось в обрез. Понимала, как встретят меня советники Шуленбурга, сотрудники гитлеровской разведки…
Небольшое отступление. После войны Петр Васильевич Федотов возглавит внешнеполитическую разведку, будет моим начальником. Это был честный, умный человек, за многие годы работы ставший крупным мастером по розыску и разоблачению засылаемой к нам вражеской агентуры. А мы в разведке занимались розыском в стане прямого или потенциального противника людей, способных быть вашими помошниками, служить нашем делу. Естественно, в этой новой для него области Федотов на первых порах проявлял и осторожность, и подчас медлительность в принятии решений.
Работая начальником германского отдела, я вносила на его рассмотрение различные проекты оперативных мероприятий, направленных на приобретение агентуры, разработку отдельных способов внедрения наших агентов в германские ведомства и т. д. и т. п.
Петр Васильевич обыкновенно прочитывал проект, медленно закрывал папку, говоря: «Это надо обдумать». Проходили дни, недели, а то и месяцы, прежде чем он принимал решение. У меня накопилось несколько таких нерешенных проектов, я собрала их в отдельную папку и, огорчаясь тем, что иные из них уже теряют свою актуальность, сделала на этой папке сакраментальную надпись: «Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, от долгих отлагательств» (Уильям Шекспир).
И надо же было случиться такому: я поскользнулась, упала и некоторое время вынуждена была лежать дома с ногою в гипсе.
Мой непосредственный начальник Дмитрий Георгиевич Федичкин прислал своего секретаря взять у меня ключ от сейфа, в котором хранились понадобившиеся ему для доклада генералу Федотову документы. Лежали они как раз в злополучной папке.
Я по-дружески попросила секретаря самому вынуть из папки нужные материалы, а папку с надписью Феди-чкину не передавать. Но получилось так, что Федичкин спешил, сам снял печать и открыл сейф. Взял папку и, как потом мне рассказал, отправился на доклад. В кабинете, ожидая, когда генерал освободится, Федичкин аккуратно положил папку на письменный стол, не заметив на ней надписи. Но генерал был не таков. Он весьма внимательно осмотрел папку и прочитал вслух шекспировское изречение. Постучав по привычке пальцем по столу, Федотов заметил: «А ведь Шекспир прав, мы тугодумы, и Бисмарк тоже корил русских что они медленно запрягают…» Федичкин тут же отпарировал: «Но Бисмарк сделал вывод: зато русские быстро ездят…»
…Все это сейчас пришло на память из далекого прошлого, а тогда мне надо было торопиться в парикмахерскую и домой, переодеться.
ФЕДИЧКИН Дмитрий Георгиевич (1902 – 1991) – советский разведчик, полковник в отставке.
Сын подмосковного крестьянина-бедняка, переселившегося со своей семьей в начале века в поисках лучшей доли на Дальний Восток. Принимал непосредственное участие в партизанских боях за освобождение Дальнего Востока, был комиссаром роты и комиссаром батареи. После окончания Гражданской войны в октябре 1922 года его пригласили на работу во вновь формирующиеся органы ГПУ в Приморье. Более пятидесяти лет Д. Г. Федичкин проработал во внешней разведке. Был в странах Прибалтики в предвоенные годы и в Италии, после войны в Болгарии и Югославии. В Италии Федичкин находился вместе с Павлом Матвеевичем Журавлевым, а в предвоенные годы был непосредственным начальником Зои Ивановны Воскресенской-Рыбкиной.
События Гражданской войны в Приморье Федичкин описал в книге «У самого Тихого…», вышедшей в издательстве «Детская литература» в 1977 году. В этой работе ему во многом помогала Зоя Ивановна, которая написала и послесловие. В литературной судьбе Федичкина прослеживается та же взаимосвязь, что и у 3. И. Воскресенской-Рыбкиной, – предшествующая служба явилась основой для литературного творчества.
В 1984 году в том же издательстве опубликована вторая книга Дмитрия Георгиевича «Чекистские будни» о работе сотрудников органов государственной безопасности на Дальнем Востоке с середины 20-х до середины 30-х годов.
На машине ВОКСа я прибыла в германское посольство. Одновременно со мной подъехали две машины с солистами балета Большого театра. Запомнилась народная артистка Семенова, она приехала после спектакля, усталая, непричесанная, лицо ее без грима блестело от крема. Балерина Тихомирова была в каком-то затрапезном платье. Появились еще две молодые танцовщицы, был, кажется, и Чабукиани.
Встречал гостей посол Шуленбург. Он был, как положено, во фраке, и его окружали балерины, приехавшие из Берлина.
ШУЛЕНБУРГИ – графский род, принадлежавший к числу древних фамилий в Германии. Свое происхождение ведет от ВЕРНЕРА фон дер III – рыцаря-крестоносца, убитого в 1119 году. Потомство Вернера разделилось на несколько ветвей, в числе которых были графские и баронские фамилии.
Саксонский камергер барон Генрих-Морис фон дер III (1739 – 1808) в 1786 году был возведен в графское достоинство Римской империи. Сын его Людвиг поступил на русскую службу и умер в чине генерал-майора. Род III со стороны России также был утвержден в графском достоинстве и в 1854 году приписан к Черниговской губернии.
Граф Фридрих-Вальтер фон дер Шуленбург, в предвоенные годы посол Германии в СССР, выходец из этого старинного аристократического рода, был воспитан в духе веками складывавшейся германо-русской дружбы.
5 мая 1941 года Фридрих фон Шуленбург и советник германского посольства в Москве Густав Хильгер провели в резиденции посольства встречу с послом СССР в Германии В. Г. Деканозовым, находившимся в то время в Москве, и заведующим отделом Центральной Европы НКИД СССР В. П. Павловым. На этой встрече Ф. Шуленбург рассказал В. Деканозову об аудиенции у Гитлера 28 апреля 1941 года. Шуленбург и Хильгер сообщили ему точную дату готовящегося германского нападения на Советский Союз, предупредив его о том, что они совершают рискованный шаг и делают его по собственной инициативе.
Но И. В. Сталин не поверил и этому.
Граф Шуленбург воспринял начало войны как свою личную трагедию. А еще позднее он стал одним из участников заговора 20 июня 1944 года – покушение на Гитлера. 10 ноября 1944 года Фридрих фон Шуленбург был казнен.
Всех пригласили к столу. С немецкой стороны дипломаты были без жен. Один из них говорил по-русски. А с советской стороны переводчиком пришлось быть мне. Чувствую, в меня впился взглядом сидевший визави, как он потом представился, военный атташе. Он был – мы это знали – главой немецкой разведки в Москве.
После обеда, далеко не парадного и не рассчитанного на гурманов (блюда были пресные), разговор завязался натянутый, с паузами. Военный атташе несколько раз выбегал, его куда-то вызывали. Один раз, возвратившись, он что-то прошептал послу Шуленбургу, что было уж совсем бестактно с точки зрения дипломатического протокола.
Перешли в зал, где разносили кофе, мороженое и ликер. Военный атташе завел патефон английского происхождения марки «Хиз мастере войс» [3]. На крышке патефона была изображена собака, слушающая звук из граммофонного раструба. Начались танцы. Шуленбург пригласил меня на тур вальса.
На меня напало смешливое настроение. Мой партнер был внимателен, вежлив, но не мог скрыть своего удрученного состояния.
– Не кажется ли вам забавным, господин посол, – спросила я, – что мы танцуем с вами в балетной труппе Большого театра?
– Действительно, забавно, – усмехнулся Шуленбург. – Такое, к сожалению, случается лишь раз в жизни, а я к этому не готов.
– Вы не любите танцевать? – спросила я с наивностью в голосе.
– Признаться, не люблю, но вынужден, вынужден, – еще раз подчеркнул Шуленбург.
И я вдруг почувствовала какой-то иной смысл в его словах, высказанных с горечью.
Танцуя, мы прошли по анфиладе комнат, и я отметила в своей памяти, что на стенах остались светлые, не пожелтевшие квадраты от снятых картин. Где-то в конце анфилады как раз напротив открытой двери возвышалась груда чемоданов.
В это время к нам не подошел, а подбежал запыхавшийся военный атташе:
– Господин посол, вам надо отдохнуть, я похищаю у вас даму.
– Я тоже устала, – ответила я.
Шуленбург ушел в какую-то боковую дверь, а военный атташе сопровождал меня в зал и принялся расспрашивать, в каком отделе ВОКСа я работаю. Я ответила, что в скандинавском. Он подробно интересовался нашими планами, какие намечены вернисажи, какие предстоят гастроли. Я отвечала наобум, что бог на душу положит. У меня не было времени «запрягаться», и вынуждена была «быстро ехать».
Военный атташе снова куда-то исчез. В это время балерина Семенова сказала, что пора бы и честь знать и время отправляться домой. Вышел Шуленбург, гости благодарили за прием. Появился военный атташе, подошел ко мне и злорадно съязвил:
– Мне сейчас сообщили, что театр Станиславского не собирается выезжать с гастролями в Финляндию, как вы изволили мне сказать.
– У вас старые сведения, господин генерал, – ничуть не смутившись, ответила я.
– Сведения самые последние и самые достоверные, – настырно повторил военный атташе.
– А я утверждаю, что именно так. Сегодня днем шеф ВОКСа профессор Кеменов подписал мой план.
Мы распрощались.
Меня ждала машина ВОКСа. В зеркало я видела, что военный атташе, стоя на крыльце, записывал номер этой машины.
Возле моего дома меня ждала другая, служебная машина, на которой я поехала на Лубянку и, как была, в вечернем бархатном платье со шлейфом, пришла к генералу Федотову. Мои наблюдения в германском посольстве и всякие подмеченные детали вполне удовлетворили специалистов нашей контрразведки. Из моего доклада было ясно, что германское посольство готовится к отъезду и вся эта «культурная» акция с Берлинским балетом сфабрикована для отвода глаз.
Шуленбург и его аппарат готовились покинуть Москву.
Глава 3. «Как это на пятый день?!»
Александр Сергеевич Нелидов, 1893 года рождения, бывший штабс-капитан царской армии, артиллерист, не принял Октябрь, служил у Деникина. С остатками белой армии бежал в Турцию, затем перебрался во Францию, из Франции в Германию. Здесь его подобрала военная разведка, а с приходом к власти Гитлера – абвер генерала Канариса [4]. Нелидов участвовал в ряде военных игр, которые устраивали германский генеральный штаб совместно с абвером и разведкой имперской безопасности.
Накануне второй мировой войны, в 1939 году, Нелидов был направлен Канарисом в Чехословакию, затем в Польшу. В Варшаве Нелидов был разоблачен, арестован и заключен во Львовскую тюрьму. Когда Красная Армия освобождала Западную Белоруссию и Западную Украину, Нелидов вместе с другим заключенным был выпущен из тюрьмы. Знакомство с его делом работников СМЕРШа [5] показало, что он разведчик фашистской Германии. Его переправили в Москву и поместили во внутреннюю тюрьму на Лубянке.
В середине 1940 года начальник Разведуправления НКВД СССР П. М. Фитин приказал мне заняться Нелидовым и получить от него информацию по Германии.
И вот ко мне в кабинет конвоир привел Нелидова из внутренней тюрьмы. Это был человек лет пятидесяти, невзрачный на вид, с проседью в аккуратно подстриженных волосах. Вел он себя как-то по-лакейски. «Да-с», «никак нет-с», «слушаюсь», «как прикажете, гражданин начальник». Мне стало смешно и стыдно за него – русского офицера старой выучки. Тем более что из первоначального опроса было ясно, что человек он образованный, весьма осведомленный и располагает важной информацией, столь необходимой нам в предвидении возможной войны с Германией.
Я подготовила план работы с Нелидовым. Фитин одобрил задуманное. Нелидова ежедневно приводили ко мне в кабинет, я его устроила в смежной комнате, и мы договорились, что он подробно, во всех деталях, опишет военные игры, в которых участвовал, тщательно изложит военные действия, предполагаемые Германией против СССР.
Нелидов попросил дать ему возможность представить свой материал в виде начерченных карт-схем. «Для наглядности и точности», – отрапортовал он. Работал он, как и я, с утра до шести вечера, потом перерыв часа на три и вслед за тем вновь на служебном месте до двух – четырех часов ночи, вернее, уже утра. Обед ему приносили из нашей столовой, и когда он увидел нож и вилку, то отодвинул их и робко произнес: «Но это мне не положено».
Сперва в нем чувствовалась скованность и даже растерянность. При моем появлении он вскакивал с места, держал руки по швам. Но постепенно я отучила его от привычки прибавлять к каждому слову букву «с», разрешила называть меня Зоей Ивановной, а не «гражданином начальником» и сама обращалась к нему по имени-отчеству.
В процессе работы он обнаружил глубокое знание искусства управления войсками, отличную память на давние и недавние события, размещение армейских группировок, номера разного рода дивизий, калибры и число орудий. Все это условными обозначениями заносилось на карты-схемы.
Отчетливо помню синие стрелы, направленные на границу Белоруссии.
– В одной из последних военных игр Минск предполагалось занять на пятый день после начала немецкого наступления, – пояснил Нелидов.
Я рассмеялась: «Как это на пятые сутки?!» Он смутился и принялся клясться всеми богами, что именно так было рассчитано самим Кейтелем [6] во время последней игры. Этот план, как мы теперь знаем, был позднее утвержден Гитлером и назван планом «Барбаросса».
Гитлер не случайно присвоил своим зловещим намерениям имя «Барбаросса». Фюрер мечтал – по примеру одного из популярнейших героев немецкого средневековья, короля Фридриха I Барбароссы, который в 1155 году в Риме был увенчан короной Священной Римской империи, – возглавить новую могущественную империю. При этом Гитлер игнорировал тот злополучный факт, что Фридрих I, ведший в крестовом походе свою армию к победам, находясь в Малой Азии, утонул во время переправы в маленькой речке Салефе…
Маньяк Гитлер, возомнивший себя сверхчеловеком, допустил со своим планом «Барбаросса» просчет.
Когда я показала Филатову первую карту, начерченную Нелидовым, генерал чертыхнулся:
– Ну и заливает же этот подонок. На пятый день уже и Минск.
(Печальная справка. Красная Армия после жестоких боев вынуждена была оставить Минск 28 июня, то есть на шестой день после начала войны. Чего греха таить, в те первые дни войны даже в генеральских коридорах подчас распространялись ложноспасительные версии насчет того, что Красная Армия отбросит гитлеровскую армию аж к самой Варшаве…)
Но вернемся к Нелидову и работе с ним.
В мае 1941 года мировую печать облетела сенсация: Рудольф Гесс на одноместном самолете улетел в Великобританию. От нашего разведчика «Зенхена» – легендарного Кима Филби мы получили сообщение, что Гесс встретился с лордом Гамильтоном «с целью установить сепаратный мир». В первую мировую войну Гесс был летчиком. Член нацистской партии с 1920 года, он участвовал в мюнхенском путче в 1923 году и был арестован вместе с Гитлером. Сидел с фюрером в одной камере и помогал ему писать «Майн кампф». После освобождения из тюрьмы в 1925 году Рудольф Гесс стал личным секретарем Гитлера, а с апреля 1933 года – заместителем главы нацистской партии.
ГЕСС Рудольф (1894 – 1987) – один из главных немецко-фашистских военных преступников.
С 1925 года личный секретарь Адольфа Гитлера, а с 1933 года, когда Гитлер официально пришел к власти, стал его заместителем на посту национал-социалистской партии Германии.
В 1941 году, еще до нападения Германии на Советский Союз, Гесс вылетел в Великобританию с целью негласных переговоров с правительством Великобритании о заключении сепаратного мира. Но британское правительство не пошло на сговор с гитлеровским режимом, и Гесс был заключен в тюрьму. В истории этот факт известен как «Миссия Гесса». С окончанием второй мировой войны он был передан англичанами Международному суду в Нюрнберге, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. На Нюрнбергском процессе Р. Гесса защищал известный адвокат, доктор, кандидат юридических наук, Альфред Зейцл. Несмотря на его умелую защиту Гесс был приговорен к пожизненному заключению, которое отбывал в западноберлинской тюрьме Шпандау; умер в тюремной камере 17 августа 1987 года.
Существует три версии смерти Рудольфа Гесса. Первая состоит в том, что он умер естественной смертью от инфаркта, находясь в садовом дворике тюрьмы, где никто ему не мог оказать необходимую помощь. Кстати, других заключенных, осужденных на Нюрнбергском процессе, в тюрьме уже не было.
Суть второй версии в том, что Гесс покончил с собой, приняв яд, неизвестным образом попавший в его руки. Другой вариант этой версии – Гесс повесился на шнурке. Но шнурка этого не нашли.
По третьей версии – Гесс в садовом дворике был задушен американцами, которые якобы за что-то хотели отомстить англичанам.
Кроме названных версий о смерти Р. Гесса, проведшего в заключении более пятидесяти лет, вокруг его имени витает много легенд. Например, одна из них говорит о том, что Р. Гесс прилетел в Англию в мае 1941 года, не имея никаких намерений и заданий по заключению сепаратного мира между Великобританией и Германией. И арестован Гесс англичанами был потому, что таким образом власти Великобритании намеревались преподнести дезинформацию Сталину, внушив ему мысль о стремлении Гитлера заключить сепаратный договор с Черчиллем.
Другая легенда свидетельствует о том, что англичанами был арестован не Рудольф Гесс, а похожий на него другой человек, который предстал затем перед судьями на Нюрнбергском процессе. Из этого следует, что именно другой человек, которого выдали за Гесса, и провел пожизненное заключение в тюрьме Шпандау. Однако очевидно, что последняя версия-легенда не выдерживает никакой критики, поскольку за время длительного нахождения в Шпандау Гесса неоднократно посещали его многочисленные родственники и никто из них не высказал никаких сомнений.
Сообщение Зенхена о Гессе и его тайных переговорах с лордом Гамильтоном имело для нас необычайную ценность. Подчеркну, что перелет Гесса был совершен в ночь на 11 мая 1941 года. До чудовищного вероломства гитлеровской Германии оставались считанные дни…
Руководство поручило мне по всем каналам проверить сообщение «Зенхена» и представить дополнительные сведения. Задание было выполнено. Ким Филби подтвердил свою информацию из Лондона. Ему можно было верить. Он пользовался безупречной репутацией. Горестно сознавать, однако, что на самом верху отнеслись к сообщению Кима Филби с недоверием. Сталин проявлял свойственную ему «настороженность» к сообщениям советских разведчиков.
Мы решили рассказать о перелете Гесса Нелидову, который, разумеется, не знал, что происходит за стенами Лубянки, и по-прежнему работал над своими схемами. Когда я спросила его, как он может все это оценить, Нелидов живо отреагировал:
– Бесспорно, это война. Гесс вербует Англию в союзники против СССР.
Так оно и было в действительности.
Но англичане не пошли на гитлеровскую приманку и поместили Гесса в тюрьму. Миссия его провалилась. После войны на Нюрнбергском процессе Гесс был осужден на пожизненное заключение, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. В ней он и умер (по иной версии, отравился или был отравлен) несколько лет назад.
В первых числах июня 1941 года я передавала заместителю начальника Генерального штаба, начальнику Главного разведывательного управления Филиппу Ивановичу Голикову карты-схемы, начерченные Нелидовым. Крутолобый Голиков, очень живой, подвижный, с интересом рассматривал эти карты и, перекладывая листы, комментировал:
– Итак, они решили врезаться клиньями. И, подумайте, на пятый день намерены забрать Минск. Ай да Кейтель, силен, – сыронизировал Филипп Иванович. – Силен…
– А вы знаете, товарищ генерал, – заметила я, – мы получили от одного нашего агента, железнодорожного чиновника в Берлине, адресованный ему пакет с надписью: «Вскрыть по объявлении мобилизации». Наши специалисты этот пакет аккуратно вскрыли и обнаружили предписание Главного военного командования Германии, обязывающее этого чиновника прибыть на станцию Минск, начальником которой он назначался, и «приступить к исполнению своих обязанностей на 5-й день после начала военных действий».
– Это весьма и весьма интересно, – заметил генерал, свертывая в трубку карты.
ГОЛИКОВ Филипп Иванович (1900 – 1980) – Маршал Советского Союза, член КПСС с 1918 года.
В предвоенные годы был начальником ГРУ РККА (Главное разведывательное управление Армии). В годы второй мировой войны в период с 1941 по 1943 год командовал рядом армий на Брянском и Воронежском фронтах. С 1943 по 1950 год работал начальником Главного управления кадров Советской Армии, а с 1958 по 1962 год был начальником Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота. С приходом к власти Н. С. Хрущева Голиков в 1961 году получил воинское звание Маршала Советского Союза.
Избирался в члены ЦК КПСС (с 1961 по 1966 год) и депутатом Верховного Совета СССР.
…В воскресенье 22 июня началась война. В этот вечер мы отправляли наших детей на Азовское море.
В понедельник, как обычно, я расписалась в приеме заключенного Нелидова и по его лицу поняла, что от него не ускользнуло мое состояние. Он смотрел на меня с тревогой: выглядела я и вела себя не так, как обычно.
Перед началом служебного дня было короткое совещание у руководства. Рассматривались оперативные вопросы. Мне посоветовали о вторжении фашистской Германии Нелидову не говорить.
– Вас, наверное, смущает мой вид, – спросила я Александра Сергеевича. – Не удивляйтесь, ночью проводила сынишку на летние каникулы, и мне очень
грустно…
Июнь выдался жаркий, и если раньше на нашем высоком этаже окна на улицу были широко раскрыты, то теперь наглухо зашторены. Нелидов бросил многозначительный взгляд на плотно завешенные гардины, но спросить ничего не посмел.
Прошел месяц. 22 июля. Мы обсуждаем с Нелидовым концепцию генерала фон Секта – противника гитлеровского «Дранг нах Остен». Фон Сект считал, что война Германии против Советского Союза обречена на поражение даже в том случае, если бы германская армия захватила территорию до Урала. Нелидов с карандашом в руке принялся на листе бумаги объяснять, что растянутые немецкие коммуникации потребуют огромного количества войск для охраны мостов и других военных объектов, неимоверного расхода горючего, что связано с подвозом продовольствия, большого напряжения сил для подавления внутреннего сопротивления, которое в традициях русского народа. «До Урала дойдут – и все. Это закончится позиционной войной. В ней Германия захлебнется и потерпит позорное поражение», – утверждал генерал фон Сект, от которого постарались избавиться и направили его в Китай советником Чан Кайши.
Наш разговор с Нелидовым прервал размеренный бас радиодиктора: «Граждане, воздушная тревога!» Было ровно 10 вечера. Слова диктора поглощала доносившаяся до нас орудийная стрельба. Слышались мощные взрывы, дребезжали стекла. У Нелидова округлились глаза.
– Зоя Ивановна! – воскликнул он. – Стреляют не холостыми. Это война!
– Да, – ответила я. – Сегодня ровно месяц с ее начала. И Минск пал. Не на пятый, как значилось на картах, а на шестой день. Но это не меняет сути… Что ж, Александр Сергеевич, нам с вами придется закругляться и думать, что делать дальше.
За год с лишним общения с Нелидовым я его хорошо изучила, видела его искренность. В разговоре со мной он постоянно подчеркивал свою ответственность за прошлое: и в годы Гражданской войны, и будучи на службе у фашистской Германии.
– Знаете, – сказал он мне, – я готов понести наказание. Но не думайте, что буду просить о помиловании. Нет, такое не прощается. Даже за давностью лет. Я понимаю, что помилования не будет, меня должны прикончить. Надеюсь, расстреляют, не повесят.
В эту минуту за Нелидовым прибежал запыхавшийся конвоир.
– Прощайте, Зоя Ивановна, – сказал Нелидов упавшим голосом. – Все, что я сделал здесь, в этой комнате, этому можно верить. – Он перекрестился и отвесил низкий поклон…
Через день конвоир снова привел его ко мне. Один из оперуполномоченных явился с чемоданом. Я сказала Нелидову, чтобы он переоделся, и прошла к себе. Через некоторое время оперуполномоченный вошел ко мне в кабинет и доложил, что Нелидов плохо себя чувствует, рыдает и спрашивает, зачем перед смертью его так наряжают.
– Ай-яй-яй, Александр Сергеевич, – сказала я Нелидову. – Как можно так распустить нервишки. Они вам еще понадобятся. Я вас должна представить руководству.
И мы пошли с ним к начальнику отдела Павлу Матвеевичу. Разговор был короткий, и вскоре уже втроем мы были у заместителя начальника управления Павла Анатольевича Судоплатова. Затем все вместе у начальника управления Павла Михайловича Фитина. Нелидову предложили перебраться в Турцию, в страну, где он впервые появился два десятка лет назад, а теперь отправится туда в качестве нашего секретного сотрудника. Нелидов развел руками.
– Но прежде меня следует… – он чуть засмеялся, – подвергнуть… расстрелу…
Фитин сказал:
– Я спрашиваю вашего согласия на работу на нас в Турции. Турция, вы знаете, нейтральна.
– Как прикажете-с.
Я посмотрела на него с укором.
– Как прикажете, – повторил Нелидов.
– Готовьтесь. Вас переведут в гостиницу. Можете днем погулять по Москве, – распорядился Фитин.
Мы вернулись ко мне в кабинет. Александр Сергеевич спросил, почему ему представили всех руководителей разведки «Павлами».
– Это конспирация?
– Нет, действительно так их крестили… Ну, что ж, – добавила я, – а сейчас в «Арагви». Есть такой ресторан, где великолепно готовят шашлык «по-карски».
В ресторане почти все столики пустовали. Сидело лишь несколько офицеров. Я заказала обед. К шашлыку принесли сухое вино. Я приложила пальцы к своему бокалу:
– К сожалению, вина не пью, но говорят, это саперави – вино отличное.
– А вы, может, пригубите?
– Да, – сказала я и отпила маленький глоток, а он каким-то отрешенным взглядом посмотрел на свой бокал.
– Что же вы не пьете? – спросила я. – За успех нашего с вами предприятия!
– Простите, а мы можем поменяться бокалами?
Я поняла его. Решил, что ему дали вино с ядом.
Я поменяла бокалы и пригубила.
Он выпил бокал и спросил:
– Когда же за мной придут?
– Но вам ведь зачитали решение о вашем освобождении.
– Но я-то хорошо все понимаю. О каком прощении может идти речь…
Закончив обед, я предложила:
– Хотите, я вам покажу нашу сельскохозяйственную выставку?
Машина шла по улице Горького. Витрины магазинов закладывались мешками с песком. Окна крест-накрест заклеивались белыми полосками. Вооруженные милиционеры с противогазными сумками через плечо регулировали движение. Посредине улицы следовал целый поезд грузовых машин: эвакуировали музейные ценности.
Сельскохозяйственная выставка еще работала, хотя посетителей было мало, детей не видно совсем. Нелидов с интересом смотрел на хоровод бронзовых красавиц в национальных одеждах, окруживших центральный фонтан, на причудливые здания павильонов.
К вечеру я привезла его в гостиницу «Москва», где для него был заказан номер. На столе лежали свежие газеты, журналы, стоял его чемодан. Я пожелала ему хорошо отдохнуть, чтобы с завтрашнего дня начать готовиться к отъезду.
Но случилось так, что на меня нахлынули совершенно иные обязанности, уехать в не очень отдаленном будущем пришлось и мне, и по указанию руководства я передала Нелидова комиссару Василию Михайловичу Зарубину. Объяснила Нелидову, что уезжаю в командировку и передаю его в руки замечательному человеку, опытнейшему разведчику, моему большому другу…
Я возвратилась в Москву только в 1944 году и, естественно, поинтересовалась судьбой Нелидова. Узнала у Василия Михайловича, что Нелидов никак не мог прийти в себя после крутого поворота в его судьбе. Он давно считал себя обреченным на смерть, а тут неожиданно такое доверие… Он не в состоянии был понять, что же ему делать с дарованной свободой. У него не было семьи, друзей, он свыкся с мыслью, что жизнь его кончена…
Василий Михайлович пришел к Нелидову в гостиницу в тот самый номер, в котором я виделась с ним в последний раз, но не мог достучаться. Пришлось дверь вскрыть. Вошедшие увидели Нелидова мертвым. Скрученный жгутом кусок простыни стал единственным свидетелем приговора, вынесенного себе и свершенного им самим.
Глава 4. Сосновский
Это был ас 2-го разведотдела польского генерального штаба. Его так же, как и Нелидова, Красная Армия выпустила из польской тюрьмы, и затем СМЕРШ, выяснив, что он крупный польский разведчик, работавший в Германии, препроводил в Москву. Я получила указание опросить его и получить полезную для нас информацию.
Надзиратель привел его из внутренней тюрьмы. Высокого роста, спортивного типа человек лет под сорок со светскими манерами. Даже казенное вафельное полотенце было с шиком повязано на шее.
Резидент польской разведки Сосновский много лет жил и работал в Германии. Он был, безусловно, талантливым разведчиком. Великосветский образ жизни позволил ему быть принятым в аристократическом обществе Германии. Он жил на широкую ногу, славился умопомрачительными приемами. В самом Берлине и в окрестностях немецкой столицы у него было несколько вилл, три автомобиля в боксах, расположенных в разных районах, собственная конюшня. Утром его можно было встретить на верховой прогулке в Тиргартене.
Но самым главным его достоянием была агентура, приобретенная им во многих важнейших ведомствах гитлеровской Германии. Шифровальщик генштаба. Машинистка из личной канцелярии Розенберга [7]. Свои люди в Главном управлении имперской безопасности (РСХА), в абвере. Его любовницами были жены крупных чиновников. Вообще агентура его состояла главным образом из женщин.
Начальство из Варшавы не раз предупреждало своего резидента, что его расточительность и разгульная жизнь не вписываются в германский климат военного времени, в котором все подчинено одной идее: «Пушки вместо масла». И неудивительно, что Гиммлер предпринял охоту на этого подозрительного дамского угодника и подсунул ему в качестве «агентов» своих людей.
Четвертое управление имперской безопасности тщательнейшим образом разработало план разоблачения всех завербованных этим польским резидентом. И однажды во время очередного бала работники гестапо окружили виллу, и Сосновский был заключен в тюрьму.
Вскоре его в наручниках и кандалах привели на тюремный двор, где он увидел всех своих агентов в таких же наручниках и кандалах. Не было среди них только тех, кого подставило ему ведомство начальника 4 Управления РСХА Мюллера.
На глазах обезумевшего Сосновского его агентам, большинство которых были его любовницы, тут же на тюремном дворе отрубали головы.
«Вас ждет такая же участь», – объявил Сосновскому представитель РСХА.
Полякам удалось обменять Сосновского на двух крупных агентов абвера, но на родине его не встретили с объятиями, а поместили в тюремную камеру, заявив, что за свою разгульную жизнь и гибель ценнейшей агентуры он заплатит сполна…
Нам было важно получить от Сосновского информацию, в особенности касающуюся гитлеровского плана «Дранг нах Остен», позже получившего название «Барбаросса».
Но Сосновский в отличие от Нелидова не был расположен к откровенному разговору. «Мой долг польского патриота не позволяет мне…» – часто приходилось от него слышать.
Тогда условились применить своеобразный розыгрыш, пойти на неотразимую по своей убедительности уловку.
У советской разведки в самом гестапо был агент, который ведал наружным наблюдением и разработкой связей Сосновского. Все материалы о Сосновском он скрупулезно передавал нам.
Родился любопытный сценарий. Я буду задавать Сосновскому вопросы, а комиссар Зарубин комментировать ответы Сосновского и уличать, если он попытается что-либо скрыть.
– Скажите, как вам удалось завербовать жену ответственного работника министерства иностранных дел и заставить ее передавать вам для фотографирования секретные документы мужа?
– Прошу прощения, но, увы, я этого уже не помню.
Присутствующий здесь же Василий Михайлович Зарубин говорит:
– Могу вам напомнить. Это была довольно хитрая операция. Вы дали объявление в газету: молодой, обаятельный, эрудированный иностранец желает познакомиться с дамой, владеющей французским, английским и другими европейскими языками, с целью приятного времяпрепровождения. Вы получили массу откликов и остановились именно на ней, выяснив, что ее муж, престарелый дипломат, не удовлетворяет ее интеллектуальных и иных потребностей. Вы предложили встретиться с ней, для чего использовали «линкольн», который стоял в боксе у Вайсензее [8]
У Сосновского округлились глаза…
– Да, все это было именно так.
– Вы встречались с этой дамой, – продолжал комиссар Зарубин, – в специально арендованной для этой цели вилле на Принцальбертштрассе.
Сосновский терял самообладание. Он вытащил из-за пазухи конец вафельного полотенца и вытер взмокшее лицо.
Я продолжала вопросы. К Сосновскому «возвращалась» память. Он стал более определенен в ответах, но Василий Михайлович каждый раз уточнял и неправильно названный адрес, и номер и марку машины, и стоимость балов, которые он задавал, и грандиозные счета в ресторанах, и оплату массажистов, и даже клички лошадей.
Сосновский уже не пользовался полотенцем, он просто ладонями смахивал пот с лица. Затем он встал, поклонился и сказал:
– Я восхищаюсь искусством советской разведки. Вы знаете обо мне больше, чем я сам, и я готов мобилизовать свою память и ответить на все, что вас интересует.
Когда он стал рассказывать о полученной им информации в отношении военных планов Гитлера, мы поняли, что Гиммлер подбрасывал полякам дезинформацию, которая была призвана создать впечатление, будто у Германии нет никаких планов в отношении Востока, в том числе и Польши, что все их помыслы, мол, обращены только на Запад – на Францию и Англию. О том, как фактически развивались события после 1939 года, Сосновский не знал, так как был в заключении, в германской и польской тюрьмах, а затем попал к нам. В течение длительного времени он был в полной изоляции от внешнего мира.
Замечу также, что наш агент, который работал в гестапо, был у нас под вопросом. Через Сосновского мы получили возможность проверить его надежность, и, кроме того, Сосновский дал информацию о разведке Риббентропа и сложных перипетиях в отношении германского министерства иностранных дел с абвером и гестапо. Эти сведения имели для нас особую ценность.
ЗАРУБИН Василий Михайлович (1894 – 1972) – легендарный советский разведчик, генерал-майор.
Родился 4 февраля 1894 года в городе Подольске Московской области. Детство провел на Таганке. В семье вместе с ним было четырнадцать детей.
Активный участник Гражданской войны, коммунист с 1918 года. В 1921 году был призван в органы ВЧК, а вскоре переведен на работу в разведку и направлен в Китай под прикрытием сотрудника КВЖД, центр которой находился в Харбине. В Москву вернулся в 1925 году и был направлен на работу в нелегальную разведку. С конца 20-х до конца 30-х годов Василий Михайлович находился на нелегальной работе в регионе Германии, Франции, Дании и Швейцарии, где естественно, имел различные фамилии. В Германии и Франции, например, был чехословацким подданным и именовался как Ярослав Кочек. Имел также фамилию Херберт.
Его сын, родившийся в Париже в 1932 году, был зарегистрирован как Питер Херберт.
Приобретя огромный опыт разведывательной работы, Зарубин в 1941 году был назначен резидентом в США, где проживал До 1944 года.
Дважды женат. Первая жена – Ольга Георгиевна Васильева. С ней и маленькой дочерью связаны годы жизни в Харбине. Разошлись супруги в 1926 году, а в 1929-м Василий Михайлович женился на Елизавете Юльевне Розенцвейг, с которой находился на нелегальной работе в Европе и в США, где она занималась добыванием секретной информации, связанной с созданием атомного оружия. Ю. Зарубина была штатным сотрудником разведки в должности начальника отделения.
Глава 5. Постель на взрывчатке
Я уже говорила, что в тот вечер 22 июня 1941 года мы провожали наших детей на Курском вокзале в пионерский лагерь в Осипенко (Бердянск). Бабушки ворчали: «Война началась, а они детей в лагерь отправляют». Отцов на перроне мало – каждый на Лубянке ждал новых заданий. Некоторые мамы тайком смахивали слезы, а одна из них не выдержала, вытащила ревущую девчушку из вагона, приговаривая: «Пошли, пошли домой». Вслед им послышались упреки: «Вот так и рождается паника, вот так и другие, пожалуй, потащат ребят домой».
Сумерки сгустились, стало совсем темно. Свет не зажигался ни на улицах, ни на перроне, ни в вагонах. Поезд, словно нехотя, тронулся, в окнах мелькнули прижатые к стеклам ребячьи носы. Мы вздохнули с облегчением – наши дети уезжали в безопасное место на Азовское море, уж туда гитлеровцам не добраться…
Но первая же ночь в пионерлагере, как мы потом узнали, была для ребят бессонной – Бердянск подвергся фашистской бомбардировке. Днем ребята вместо веселых игр стали копать траншеи. А через несколько дней они уже отправились в обратный путь, который продолжался почти месяц. Поезд по нескольку дней стоял на запасных путях и в тупиках, пропуская воинские эшелоны. Грязных, голодных, измученных ребят пионервожатые привезли в Москву и сдали родителям. И ни одного больного, ни одного раненого или «пропавшего без вести»…
Вот уже более ста дней никто из нас не заглядывал домой. Квартиры пустые, семьи эвакуированы. Мы, сотрудники Особой группы, созданной в конце 1941 года по указанию ЦК партии, занимаемся отбором, организацией, обучением и переброской в тыл врага диверсионных и разведывательных групп.
В кабинетах на Лубянке (а их в распоряжении Особой группы много, основной состав сотрудников эвакуирован) в одних сейфах револьверы и патроны, наручные часы, компасы, в других – партийные и комсомольские билеты, списки отправленных в тыл, их «легенды». На полу – ящики с патронами. Толовые шашки, бикфордовы шнуры. Бутылки с зажигательной смесью.
Каждый из работников Особой группы, на основе которой была создана Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН), тоже готовился к тому, чтобы в любой момент направиться в тыл врага. Готовилась к этому и я. Разучивала свою роль сторожихи на переезде у маленькой железнодорожной станции.
В те дни активно работала творческая изобретательская мысль. Радисты-коротковолновики делали расчеты, как сдвинуть радиоволны советских передач, своего рода радиомаяки, чтобы дезориентировать гитлеровскую авиацию, заставить бомбардировщики сбрасывать бомбы в открытое поле, а не на города, не на Москву. В Наркомате пищевой промышленности разработали рецепты горючих смесей для зажигательных бутылок. Кондитеры и пивовары вместе с пиротехниками изготовили сотни тысяч зажигательных бутылок – этого эффективного оружия против фашистских танков, заменявшего противотанковые ружья.
По ночам мы выезжали в парки, леса, совхозы, далеко за Москву, и закапывали под кустарниками ящики с толовыми шашками, патронами, оружием, бутылками. Наносили эти места на карты, делали записи. Многое потом пригодилось боевым группам.
В утренние часы я отправлялась в ЦК ВЛКСМ – здесь у нас штаб, затем на учебное стрельбище в Мытищи, на аэродром или к подопечным домой. Во время воздушных тревог – а с 22 июля они были ежевечерне – в бомбоубежище. В нем и спали. Под головой вместо подушки противогаз, вместо матраца – голые Доски, но засыпали моментально. Час-другой – и снова за работу.
Одни группы предназначены для подрывной работы на железных дорогах по уничтожению живой силы и техники врага, они сбрасываются на парашютах в леса, другие – разведывательные – должны осесть в городах. Для каждой группы своя легенда, своя программа действий. Разведгруппа – это почти всегда семья: дед, бабка, внук или внучка. «Дед» – руководитель группы, «бабка» – его заместитель, «внук» или «внучка» – радист-шифровальщик.
Деды и бабушки – старые большевики, лет под шестьдесят и старше, с огромным опытом подпольной работы и партизанской борьбы во время Гражданской войны. По возрасту и состоянию здоровья они освобождены от военной службы, должны ехать в эвакуацию с семьями, но наотрез отказались. Только на фронт, на передовую или в партизанский отряд. Появились у нас и «испанцы» – бойцы различных родов войск, участники сражений в республиканской Испании, члены интернациональных бригад.
…Полковник нашей службы Георгий Иванович Мордвинов отбирал людей из «старой гвардии». Мордвинов – человек легендарного мужества и отваги, бывший командир крупного партизанского соединения в Приамурье. Он закончил Институт востоковедения, китаист. Дважды его приговаривали к смертной казни. Первый раз попал в плен к японцам, второй раз, уже будучи разведчиком, «провалился» в одной из европейских стран. Оба раза сумел выскользнуть из рук вражеских контрразведок.
Я работала в паре с Георгием Ивановичем, мы подбирали для его «стариков» дочек, внуков, других помощников.
Как-то раз он решил поехать к себе домой на Беговую улицу, чтобы сменить застиранную рубашку. Свою квартиру он отдал под склад обмундирования, боеприпасов, пустых бутылок (для «зажигалок»). В тот день бутылки как раз должны были завезти.
К вечеру я вернулась на Лубянку, Георгия Ивановича не было. Не пришел он и позже, когда прозвучал отбой тревоги. Я решила поехать на Беговую, чтобы выяснить, не случилось ли с ним что-нибудь, тот район гитлеровцы как раз и бомбили.
Каково же было мое удивление, когда, открыв незапертую дверь в его домик, я увидела его спящим на лежанке, сооруженной… из толовых шашек. Присмотревшись, увидела, что он жив, дышит. Поняла, что ночью он занимался разгрузкой, а так как спал не более двух-трех часов в сутки, то, смертельно усталый, повалился на взрывчатку и заснул… Подумать только, какой опасности он подвергался!
Я растолкала его, и мы поехали в подмосковный совхоз закапывать очередную порцию боеприпасов.
…Большая личная дружба связывала меня с Анатолием Шубиным, сибиряком, в прошлом – погонщиком собачьих упряжек, знатоком сибирской тайги и тундры. По профессии он автомеханик. Одним из первых был сброшен на парашюте в тыл врага. Впоследствии еще четыре раза переходил фронт с боевыми заданиями – и на парашюте, и на лыжах, и пешком с клюкой, загримированный под старика. Он был великолепным связником с партизанскими отрядами. Был такой случай: он наткнулся на подбитую немецкую танкетку, сумел исправить, и партизаны успешно использовали ее в своих боевых действиях.
После войны мы семьями подружились с Шубиными – Анатолием Евдокимовичем и его женой Ниной Алексеевной. Каждый раз в День Победы, после встречи у Большого театра, в крохотную квартиру Шубиных набивались партизаны. Нина готовила к этому дню знаменитые сибирские пельмени.
Анатолий Евдокимович умер от рака крови. Нина Алексеевна посвятила себя общественной работе, возглавила совет партизанских вдов и до сих пор держит связь с бывшими партизанами, помогает чем может им и их семьям.
ШУБИН Анатолий Евдокимович (1911 – 1975) – участник Великой Отечественной войны, партизан-динамовец.
До войны А. Е. Шубин, по профессии автомеханик, спортсмен-мотогонщик, неоднократно участвовал в полярных экспедициях в Арктике, на острове Врангеля, на Чукотке. В экспедиции на острове Врангеля работал вместе с Леонидом Васильевичем Громовым.
В годы войны Анатолий Шубин был на фронте командиром взвода танкеток. В тылу врага – минер, механик и разведчик партизанского отряда, который возглавлял будущий Герой Советского Союза Анисим Ильич Воропаев. В то же время в северо-западном районе Смоленской области в партизанском соединении под командованием Бати воевал в качестве его начальника штаба Л. В. Громов.
…Леонид Васильевич Громов родился в Симбирске, геолог. Первый «губернатор» острова Врангеля. Первооткрыватель в тех местах, считавшихся бесплодными, рудных ископаемых. Началась война. Леонид Васильевич от эвакуации отказался, жену и трех малолетних детей отправил в Сибирь. Решил идти на фронт, хотя уже перешагнул призывной возраст. О настырном геологе нам сообщили из военкомата.
В беседе со мной Громов дал согласие направиться в качестве начальника штаба в партизанское соединение Бати. Как известно, это партизанское формирование очистило от немецких захватчиков значительный район на Смоленщине. В нем восстановили советскую власть, создали школу и больницу, колхозы исправно вносили продналог, в дни 1 мая и 7 ноября устраивали парады и демонстрации. Охраняли и оберегали эту землю до прихода Красной Армии.
В послевоенные годы Громов возглавил одну из кафедр Геологического института в Москве. Свою богатейшую коллекцию минералов он передал городу Ульяновску.
…Ночью, когда прозвучал отбой воздушной тревоги, мы провожали в тыл две группы. Одну возглавлял Бойко-Павлов, другую – Флегонтов. Оба с большим опытом партизанской борьбы на Дальнем Востоке. Я принимаю на хранение их партийные билеты.
В Гражданскую войну Флегонтов, кавалерист, был командиром партизанского отряда. Сейчас возглавил группу конников, пробрался с ними через линию фронта на Смоленщину, провел ряд дерзких операций. Был ранен, вывезен на Большую землю, а затем по выздоровлении – снова в бой. Во время второго рейда на фашистский гарнизон под Минском Флегонтов вместе с конем был сражен вражеским снарядом. Похоронен там же в деревне. Школьники – красные следопыты создали в этой деревне музей его памяти.
Тогда партбилеты записывались в ведомости, и старые и молодые коммунисты диктовали их номера по памяти. Чекисту-разведчику Василию Ивановичу Пудину это спасло жизнь. Напоровшись на мину при переходе линии фронта, из его группы в три человека остался в живых он один, и то с оторванной ступней. Его подобрала белорусская колхозница, ночью перетащила к себе в хату (район был оккупирован гитлеровцами) и затем помогла связаться с партизанами. Пу-дин просил сообщить о нем в Москву. Москва ответила, что будет выслан самолет с посадкой на партизанском аэродроме, но как этот человек может доказать, что он действительно полковник Пудин? Василий Павлович сообщил номер своего партбилета, сданного на хранение в ЦК партии.
…Одним из организаторов Особой группы и ОМСБОНа стал наш опытный кадровый разведчик «Андрей». Под этим именем работал Павел Судоплатов. Впервые я встретилась с П. А. Судоплатовым в 1936 году в Финляндии. Наша резидентура – ее возглавлял Борис Аркадьевич Рыбкин («Кин») – получила задание установить связь с неким разведчиком, нелегально переброшенным через финскую границу. В телеграмме Центра указывались место встречи и пароль. Кто скрывался под именем Андрей, ни я, ни «Кин», разумеется, на знали.
В назначенный час мы с «Кином» выехали на окраину Хельсинки и увидели на высокой деревянной перекладине, огораживавшей дорогу, молодого человека в обычном затрапезном костюме. Он сидел и беспечно болтал ногами. Ветер трепал его густые темные волосы. Мне он был незнаком, и я забеспокоилась – почему именно здесь, на обусловленном месте встречи, оказался подозрительный субъект. «Кин», который вел машину, усмехнулся, сделал незнакомцу упреждающий знак рукой: «Оставайся на месте!» – и мы поехали дальше. Спустившись в долину, «Кин» повернул машину и сказал мне: «Это и есть «Андрей». Я его знаю по Лубянке. Мы с ним не раз бывали на инструктивных докладах для лекторов по международному положению…»
Машина снова пошла в гору. «Андрей» уже прохаживался вдоль перекладины на обочине, «Кин» притормозил и произнес пароль, хотя оба узнали друг друга и обменялись улыбками. Получил отзыв. Еще пароль, контрольный.
Место было пустынное. Обзор хороший.
– Быстро в машину, – скомандовал «Кин» «Андрею» и велел мне пересесть на заднее сиденье.
– В случае чего, – добавил «Кин», – можешь обнять мою жену, чтобы скрыть свою физиономию.
– У меня времени в обрез. – «Андрей» явно торопился. – Сообщите в Москву. Прибыл нормально. Остановился на жительство у «Павло». Имейте в виду, я для «Павло» представляю украинское националистическое подполье. О моей фактической роли «Павло» знать не должен. Так решил Центр.
«Кин» повернул машину на лесную дорогу.
– Здесь, «Андрей», я вас выброшу. Пойдете по этой дороге до трамвайной остановки…
– А далее везде, – сыронизировал «Андрей».
– Следующая встреча, основательный разговор, в пятницу. Заберем на том же месте. А пока осваивайтесь с городом и окрестностями. Присмотритесь получше к «Павло», он наш, постарайтесь с ним подружиться.
«Кин» остановил машину.
– Итак, до встречи!
Сидя в машине, я присматривалась к нашему новому подопечному. Меня поразила кожа на его лице и шее. Красная, бугристая. Заплывшие глаза. «Андрей» заметил мое недоумение и пояснил, что двое суток, пока он пробирался через болота и озера, его пожирало комарье. Я вынула из сумки флакончик с гвоздичным маслом. Летом комары в Финляндии действительно одолевают нещадно…
«Андрей» имел задание Центра внедриться в руководство ОУНа (Организация украинских националистов) в качестве эмигранта «из Совдепии». Ему следовало выявить антисоветские планы ОУН, ее связи с иностранными разведками, агентуру и диверсантов на Украине. И главное, расколоть Провод – верховную власть этой организации.
Встречались с «Андреем» мы обычно в лесу под Хельсинки, забирали его в машину, я его кормила всякой домашней вкуснятиной. Он был всегда голодный: немудрено, жил на скудное оуновское пособие. На закуску он тут же в машине получал любимое лакомство – плитку шоколада с калеными орехами. За это благо ему приходилось немедленно расплачиваться. Шоколад был швейцарский, пахучий, каленые орехи тоже. Поэтому я заставляла «Андрея» заедать шоколад чесноком или луком. А он не выносил ни того, ни другого, но вынужден был покоряться и вдобавок потом дыхнуть…
Фигура «Андрея» в нашей разведке уникальная и требует специального обстоятельного рассказа.
Задание Центра «Андрей» выполнил блистательно. Он завоевал расположение руководителя Провода – галичанина, бывшего полковника австро-венгерской разведки, действовавшего под началом адмирала Канариса, шефа абвера.
В Филяндии представителем ОУНа был наш агент «Павло», человек-легенда. Он очень много сделал в нашей разведке, сыграл большую роль в установлении «Андреем» связей с филиалом ОУНа в Париже, Берлине и Вене.
Пришло время, и «Андрей» по предложению Провода должен был вернуться на Украину, чтобы там в условиях подполья продолжить нелегальную оуновскую деятельность. Сопровождать «Андрея» по финляндско-советской границы Провод поручил полковнику петлюровской армии Роману Сушко.
…Помню день, когда мы сидели с «Андреем» в овраге – он только что приехал из Парижа в Хельсинки – и обдумывали, почему именно Сушко, мужчина в возрасте, взялся сопровождать до границы молодого сильного парня. Советской закордонной разведке Сушко был хорошо известен как специалист по диверсиям и террору. Это он, Сушко, был одним из организаторов крупной диверсии в 1921 году, когда с территории Польши на Украину была переброшена группа в три тысячи сабель под командованием генерал-хорунжего Юрко Тютюнника, полковника Романа Сушко и полковника Отмарштейна. Вот этого-то Отмарштейна полковник Сушко и убил, после того как их зловещая диверсионная затея провалилась.
«Андрей» поразил нас зрелостью и дальновидностью своих суждений.
– Очень возможно, – сказал он, – Сушко и его группа решила меня уничтожить. Считают меня виновником раздора в руководстве Провода. От них всякого можно ждать. Ведь мы затеяли большую и важную игру, из которой должны выйти победителями. Обязательно победителями. Поэтому, дорогие мои друзья, – «Андрей» обнял «Кина» и меня, – если я по дороге домой пропаду, надо во что бы то ни стало выяснить, что произошло. Утонуть я не могу, плавая в любое время года в любом озере и море… Я заставлю Сушко идти впереди меня, он будет у меня ведущим. Вступить в драку со мной он не посмеет. Я его одолею. Но… меня или нас обоих может в этой глухомани задрать медведь, загрызть волк, засосать болото… В конце концов, не исключено, что запросто финская погранстража пристрелит. Если Сушко меня убьет, мы проиграли. Во всех других случаях после моей гибели игру надо продолжать, послать другого оперативника…
«Андрей» ушел в сопровождении Сушко. Об этом нам дал знать «Павло». Мы полагали, что через пару дней получим телеграмму о его прибытии.
Прошло три, четыре, пять дней – ни слуху ни духу. Несколько суток ждали его на нашей границе. Выстрелов на финляндской границе не зафиксировали. Что же стряслось?
В Центре пришли к выводу, что «Андрей» погиб. Но как погиб? Оставаться в неведении было нельзя, и нам предлагалось принять все меры для выяснения обстоятельств его гибели.
Выход мы видели только в одном: рассекретить «Андрея» перед «Павло» и включить «Павло» в поиск. Так и сделали. «Павло» сказал, что никогда не сомневался в «Андрее», «печенкой чувствовал – наш, просто влюблен в него». Через «Павло» стало известно, что «Андрея» задержала финская погранохрана и он водворен в тюрьму. Наша телеграмма в Центр начиналась словами: «Счастливы сообщить «Андрей» жив здоров находится в финской тюрьме. Руководство ОУН принимает меры к его освобождению…»
Вскоре «Андрей» был освобожден и продолжал действовать по своей «легенде».
…В жгучие июльские дни сорок первого по Маросейке, на углу которой находится здание ЦК ВЛКСМ, вытягивалась по тротуару нескончаемая очередь молодежи, главным образом из не достигших призывного возраста. Было среди них много и девушек. Все они требовали немедленной посылки на фронт, и только на передовую.
Я отбирала из этих ребят радистов, переводчиков со знанием немецкого языка, парашютистов, лыжников, «ворошиловских стрелков» и включала в наши группы, которые именовались «Смерть немецким захватчикам».
Глава 6. В храме божьем
Мы встретились с Василием Михайловичем в кабинете райвоенкома. Я уже знала, что в военкомат обратился епископ Василий, Василий Михайлович Ратмиров, с просьбой направить его на фронт, чтобы «послужить Отечеству и защитить от фашистских супостатов Православную Церковь».
Я пригласила епископа к себе на квартиру. Беседовали несколько часов. Василий Михайлович рассказал, что принадлежал к «обновленческой» церкви, но разочаровался в ней и в 1939 году ушел на пенсию. Сейчас ему 54 года. В связи с тяжелым положением в стране он обратился к Патриаршему местоблюстителю митрополиту Сергию принять его обратно в лоно Церкви и простить его «обновленческий» грех.
Митрополит понял благие намерения владыки Василия и назначил его Житомирским епископом. Но Житомир вскоре был занят немецкими оккупантами, и тогда его назначили епископом в Калинин. Он рвался на фронт и потому обратился в райвоенкомат.
Я спросила его, согласится ли он взять под свою опеку двух разведчиков, которые не помешают ему выполнять долг архипастыря, а он «прикроет» их своим саном. Василий Михайлович не сразу согласился, подробно расспрашивал, чем они будут заниматься и не осквернят ли храм Божий кровопролитием. Я заверила его, что эти люди будут вести тайные наблюдения за врагом, военными объектами, передвижением войсковых частей, выявлять засылаемых к нам в тыл шпионов.
Епископ согласился.
– Если это дело серьезное, я готов служить Отчизне.
– В качестве кого вы сможете их «прикрыть»?
– В качестве моих помощников. Но для этого им надо основательно подготовиться.
Мы договорились, что я доложу руководству и на следующий день встретимся.
Я предложила начальству кандидатуру комсомольца-радиста, которого отобрала в ЦК комсомола. А руководителем группы назначили подполковника нашей службы Василия Михайловича Иванова, по имени и отчеству тезку епископа. Владыку Василия с его будущими помощниками знакомила каждого в отдельности. Подполковник епископу пришелся по душе, что же касается комсомольца-радиста (не помню его фамилии), то епископ в нем усомнился и для начала поручил ему выучить хотя бы молитву «Отче наш». Комсомолец вел себя довольно развязно, но я знала, что он первоклассный радист, и надеялась на его благоразумие.
К сожалению, парень оказался легкомысленным и на вопрос владыки, выучил ли он молитву, бойко ответил: «Отче наш, блины мажь. Иже еси – блины на стол неси…» – и нечто непотребное в том же духе.
– Хватит, – остановил его епископ. – Считайте себя свободным.
А мне сказал, что такого несерьезного человека взять с собой не может. Я и сама поняла это.
Посоветовались с руководством и решили выделить вторым в разведгруппу нашего кадрового работника Ивана Васильевича Куликова.
«Когда меня, двадцатидвухлетнего сержанта истребительного батальона войск НКВД, пригласили в кабинет начальника управления по работе в тылу врага П. А. Судоплатова, я очень удивился. Еще большее удивление вызвало присутствие в кабинете Судоплатова молодой высокой женщины, очень привлекательной наружности, в темном платье. И уже совсем ничего не мог понять, когда меня стали подробно расспрашивать, как я отношусь к церкви и часто ли бываю на богослужении.
Рассказ мой сводился к тому, как лет восьми вместе с другими мальчишками я отправился на Пасху в соседнее село в церковь, но так и не попал на службу, поскольку детдомовцы по дороге поколотили деревенских ребят. Зоя Ивановна и Павел Анатольевич заразительно смеялись.
Владыко Василий обучал своих помощников слову Божьему и другим церковным премудростям на квартире у Зои Ивановны. И только церковное обличив примеряли в кабинете у П. А. Судоплатова. Владыко Василий забраковал митру [9], так как этот головной убор был предназначен для церковных служителей более высокого ранга».
(Из воспоминаний полковника в отставке Ивана Васильевича Куликова)
Ивану Васильевичу Куликову было 22 года, он закончил авиационное училище, в начале войны был зачислен в истребительный батальон. Епископу Иван Васильевич понравился.
Иванов и Куликов тоже установили между собой добрый контакт. Получили шифрованные клички: Иванов – «Васько», Куликов – «Михась». Владыка Василий каждый день у меня на квартире обучал их богослужению: молитвы, обряды, порядок облачения. К слову скажу, облачение для епископа и его помощников мы получили из фондов музея. Одно из них, шитое жемчугом, епископ отклонил, заметив, что это одеяние для священнослужителя более высокого ранга и применяется в более торжественных случаях. Обменяли его на другое.
Группа сложилась дружная, удачная. 18 августа 1941 года ее направили в прифронтовой Калинин. Службу они начали в Покровской церкви Пресвятой Богородицы, но 14 октября вражеская авиация разбомбила ту церковь, и епископ со своими помощниками перешли в городской собор.
Вскоре немцы заняли Калинин. Владыка Василий послал Куликова – «Михася» к бургомистру, попросил взять его и помощников на довольствие, магазины в городе опустели. Бургомистр обещал, но тут же епископа вызвали к начальнику гестапо. Через переводчицу, православную немку Линду, владыка объяснил местному фюреру, что он, епископ, при советской власти был посажен в тюрьму и отбывал наказание на Севере, в Коми. Начальник гестапо выразил надежду, что русский священник, обиженный комиссарами, окажет содействие немецкому командованию, в частности, поможет выявить укрытые продовольственные склады. Епископ уклонился от прямого ответа: его главной заботой является духовная жизнь паствы, ею он крайне озабочен, к этому обязывает его высокий духовный сан.
Молва о владыке Василии, столь ревностно пекущемся о своих прихожанах, быстро распространилась в городе. Жители потянулись к собору. А молодые, статные и красивые, отличавшиеся скромностью и строгостью нравов помощники владыки завоевали симпатии у людей, и в особенности у девушек.
Разведгруппа оперативно выполняла задание. «Васько» и «Михась» налаживали связи с населением, выявляли пособников оккупантов, собирали материалы о численности и расположении немецких штабов, складов и баз с военным имуществом, вели учет прибывающих пополнений. Собранные сведения немедленно передавались в Центр через заброшенную к ним радистку-шифровалыцицу Аню Баженову («Марту»). Аня сняла комнату у местной жительницы, и «Михась» регулярно с ней виделся.
Злодеяния гитлеровцев начались с первого часа их появления в городе. На улицах то и дело возникала стрельба, одиночная и автоматная. Под угрозой смерти жителей согнали на центральную площадь и на их глазах на виселице казнили обнаруженных коммунистов и партизан.
Город находился в руках оккупантов два месяца, это были адовы дни.
Разведгруппа «Васька» получила указание Центра уходить из города с немецкой армией. По состоянию здоровья епископ идти пешком не мог. Бургомистр обещал прислать машину или подводу со старостой, но никто так и не появился.
После освобождения города к нашему командованию посыпались заявления о «подозрительном» поведении епископа и его служек. СМЕРШ готов был арестовать группу, но Москва приказала взять ее под охрану. Тем временем при выходе из собора откуда-то появившийся милиционер схватил епископа за руку и, скомандовав: «Пошли в НКВД», увел его. «Васько» и «Михась» последовали за владыкой. Дежурному по НКВД милиционер заявил, что привел «попов, продавшихся немцам». Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы в дело не вмешался заместитель начальника местного управления Крашенинников (только он знал о группе «Васька»), и инцидент был исчерпан.
Результат работы разведгруппы был убедительный. Кроме ранее переданных шифрованных радиодонесений, «Васько» и «Михась» доложили, что ими выявлено более тридцати агентов гестапо, поименно и с адресами, составлен перечень и указаны места тайных складов оружия; гитлеровцы, видимо, еще надеялись вернуться в город.
Патриотический подвиг епископа Василия Ратмирова был высоко оценен. За то, что он проявил мужество и не бросил в трудный час свою паству, решением Синода ему был присвоен сан архиепископа. От советской разведки Василий Михайлович получил в знак благодарности золотые часы. «Васько», «Михась» и радистка были награждены орденом «Знак Почета». По указанию патриарха Алексия владыка Василий был назначен архиепископом Смоленским.
История эта имела и лирическое продолжение. В декабре 1990 года Иван Васильевич Куликов навестил меня в Переделкине. Мы вспоминали события полувековой давности, и он, улыбаясь, поделился со мной такой деталью, которая не нашла отражения в официальных материалах о деятельности разведывательной группы в Калинине.
Деталь трогательная и многозначительная. Ежедневно на богослужение в собор приходила миловидная девушка. Она усердно молилась и не упускала из виду каждое движение «Михася». И «Михась», признаться, размахивая кадилом, искал глазами эту привлекательную незнакомку и старался поймать ее ласковый взгляд. Безмолвное объяснение в любви.
Что ж добавить? После Победы игумен стал снова капитаном, сбрил бороду и усы и явился к этой девушке с предложением руки и сердца. Очень смущена была Люда таким превращением «Михася» и чуть не сбежала, но попала в крепкие объятия Ивана Васильевича Куликова. Так они нашли свою судьбу. Поженились. Счастливо живут и по сегодня, вырастили двоих детей. Семья полковника Куликова пестует сейчас четверых внуков.
Глава 7. По Баренцеву морю
Предстояла разлука с мужем. Борис Аркадьевич направлялся советником посольства в Швецию [10].
Накануне его отъезда все перевернулось в моей судьбе. Меня вызвал нарком и спросил, чем занимаюсь. Я сказала, что готовлюсь идти работать в тыл. «В качестве кого?» – «Железнодорожной сторожихой на переезде». Нарком рассмеялся. «Немцы такую сторожиху арестуют и расстреляют. Ехать вам надо в Швецию».
Это было в один из октябрьских дней 1941 года, когда враг рвался к Москве. Александра Михайловна Коллонтай, под руководством которой мне довелось работать раньше, запросила Наркомат иностранных дел направить и меня в Стокгольм в качестве пресс-атташе посольства.
Пришлось сдавать дела.
Взвалив на спину рюкзак с партбилетами, я иду в ЦК партии, в учетный отдел к товарищу Воробьевой. Выкладываю партбилеты на стол, и этот милый старый товарищ сверяет билеты с ведомостью. Кончится война, и к ней придут за своими партбилетами. Многие погибнут в боях с фашистами, некоторые, попав в плен, последуют примеру генерала Карбышева – станут бойцами движения Сопротивления. На многих партбилетах рукой Воробьевой будет написано: «Погиб в бою с фашистскими захватчиками», но ни на одном партбилете бойца ОМСБОНа не потребуется написать: «Проявил малодушие», «Перебежал на сторону врага». Таких не было. Так, Лазарь Паперный, бывший рабочий московского часового завода, спортсмен-лыжник, был направлен с заданием в тыл врага и напоролся со своей группой на немецкую засаду. В бою погибли все двадцать три его бойца. Поняв свое безвыходное положение, Паперный выдернул чеку и бросил гранату себе под ноги. Взорвал себя и окруживших его гитлеровцев. Бойцы группы Паперного были посмертно награждены орденом Ленина, а Лазарь Паперный удостоен звания Героя Советского Союза. Бойцы ОМСБОНа в плен не сдавались.
ОМСБОН – отдельная мотострелковая бригада особого назначения, в состав которой входили спортсмены-динамовцы – солдаты и офицеры органов государственной безопасности и внутренних Дел. ОМСБОН был создан с началом Великой Отечественной войны, и его члены, сформированные в небольшие мобильные отряды численностью от десяти до тридцати человек, показали пример мужества и героизма в партизанских отрядах и во вражеском тылу. Достаточно назвать имя одного члена ОМСБОНа – Николая Кузнецова – и читателю станет ясен характер и содержание этой организации.
Московский стадион «Динамо» явился тем местом, где впервые были сформированы боевые группы ОМСБОНа, куда завозилось снаряжение и необходимое вооружение для новых групп, постоянно уходивших отсюда в тыл врага. На «Динамо» до сих пор собираются ветераны ОМСБОНа.
Через несколько дней мы вдвоем уже летели на «уточке» (У-2) в Архангельск. Самолет шел низко над ржаво-бурыми осенними кронами деревьев. Вечернее небо с угасающей зарей было слюдянисто-серое. Мы летели с юга на север, а с северо-запада на нас шла темная гремящая туча. Это была армада фашистских бомбардировщиков. Черные зловещие машины в несколько ярусов прошли над нами, и наш самолет совсем вжался в лесную чащобу. В страшном грохоте мы не слышали друг друга, но понимали: враг летит бомбить Москву. На востоке всплеснулась и запульсировала огневая щетка противовоздушной обороны.
В Архангельске наш самолет долго кружил над аэродромом, где пылали костры, – немцы здесь только что «отбомбились». В городе темным-темно. Идем, вытянув вперед руки, натыкаемся на прохожих, спрашиваем, как пройти до гостиницы.
Утром мы в английской военной миссии. Борис Аркадьевич предъявляет дипломатические паспорта и спрашивает, есть ли возможность в ближайшее время лететь или плыть в Англию. Английский капитан учтив и вежлив:
– Вы прибыли вовремя. Завтра утром в Великобританию летит «Каталина».
– Летающая лодка? – со знанием дела осведомляется муж.
– Да, да, и вам мы можем предоставить одно место.
– Но нас двое.
Английский офицер разводит руками:
– Но «Каталина» – военный корабль, и для того чтобы занять в нем место, женщина должна быть королевой.
– Как же быть?
– Не беспокойтесь. Через двадцать четыре часа вы будете в Шотландии, а мадам через несколько дней отправится пароходом, который возвращается в Англию. Но это займет, конечно, длительное время. – Что-то похожее на снисходительную улыбку появилось на лице офицера. – На днях в Скапа-Флоу отправится наш пароход, он гражданский, пассажирский, мадам будет предоставлено место.
Утром на следующий день муж улетел. На душе у обоих было тревожно. Муж пробовал шутить: «Не огорчайся и знай, что для меня ты всегда королева. До скорой встречи!»
…В Швеции я бывала и раньше. Путь из Москвы до Стокгольма на самолете занимал тогда что-то около шести часов. Сейчас, во время войны, Швеция, объявившая о своем нейтралитете, оказалась в кольце: со стороны Балтийского моря – фашистская Германия и оккупированные ею Польша, Дания и Нидерланды; с северо-запада – оккупированная Норвегия и с северо-востока – выступившая на стороне Германии против Советского Союза Финляндия.
Самый короткий путь в Швецию теперь был по Баренцеву морю в Англию и оттуда самолетом через Северное море и Норвегию.
…Я получила каюту на большом пассажирском пароходе, который привез в Советский Союз английскую экономическую делегацию и увозил в Англию польских офицеров, бывших у нас в плену.
Пароход принял на борт пассажиров и вышел в море, чтобы стать на рейд. Простояли на рейде несколько суток – ждали «погоды», а она должна быть дождливой, туманной или штормовой, чтобы шансы на успех немецких подводных лодок и авиации были наименьшими.
На седьмой день, когда над морем навис туман, тронулись в путь. Каждое утро в семь часов раздавался сигнальный свисток и над головой топот ног. Двести офицеров-поляков выходили на палубу и занимались зарядкой.
Море было серое, неприветливое, довольно бурное, качало основательно. Так прошел второй день нашего путешествия.
Я оказалась в кают-компании вместе с капитаном и его помощниками, а также несколькими министрами, назначенными в состав польского эмигрантского правительства в Лондоне.
Моим соседом по столу оказался словоохотливый старичок, министр земледелия, отлично говоривший по-русски. Он ежеминутно уверял, что влюблен в море и нет большей радости для него, чем встреча с морем. «Оно напоминает мне пашню, а корабль – пахаря, – говорил он с пафосом. – После войны и нашей победы мы проделаем большую работу по демократизации нашей страны. Я даже за ликвидацию помещичьих хозяйств, землю надо раздать крестьянам. Но я противник вашей коллективизации, – продолжал он. – Коллективизация – это техника, тракторы, гарь, это химические удобрения, а земля приемлет только натуральное удобрение – навоз, который дают коровы и лошади. Долой химию и технику, да здравствует живая лошадиная сила и коровий навоз!» – восклицал он, щелкая пальцами.
На третий день в небе появились зловещие силуэты самолетов. Наш пароход ощетинился десятком зенитных пушек и пулеметов, которые безостановочно взметали в небо огненные стрелы. Трассирующие пули прошивали яркими стежками темнеющее небо. Однако ни один самолет не был сбит. Вот от самолетов отделилась тяжелая темная капля и понеслась вниз. Чмокнула в бурные волны, вздыбила фонтан воды. Издали казалось, что на раскаленную сковородку разбили яйцо и оно зашипело в кипящем жиру.
Мы собрались в кают-компании и слушали эти всплески, заглушающие треск пулеметов. Мой новый знакомый министр земледелия сидел и, сложив руки, читал какую-то молитву по-польски. Люди мрачно прислушивались, все в напряжении, в ожидании. «Справа по курсу. Слева по курсу», – определял взрыв бомб полковник, возглавлявший отряд польских офицеров. Не скрою, мне было страшно. До этого я пережила много бомбежек, но на земле. А когда под ногами бездна…
Однажды около пяти часов вечера бомбежка была особенно интенсивной, над нами летали два или три самолета. Традиционный файф-о-клок – пятичасовой чай – на столе не появился. В кают-компанию вошел помощник капитана и, увидев наше угнетенное состояние, воскликнул: «Как, уже семнадцать ноль пять, а чай еще не сервирован?» И, вызвав стюарда, приказал накрыть столы. В это время где-то поблизости грохнул взрыв, заглушая треск орудий. Помощник капитана весело рассмеялся и сказал: «О, эти асы сбрасывают свой груз в море, чтобы доложить командованию, что они потопили несколько наших кораблей. Они слишком высоко летают, и шансы попасть в цель равны один к ста. Я вам сейчас продемонстрирую». Он отщипнул от своей булочки кусочек, скатал горошину, положил на пол маленькую "плоскую зажигалку, высоко поднял руку, прицелился, разжал пальцы. Горошина упала далеко от цели. «А они летают намного выше, чем я показал, – добавил он. – Поупражняйтесь, и вы поймете, что можете с аппетитом выпить прекрасный чай со свежим кексом». И он стал разливать чай, приглашая к столу.
Через несколько дней дежурные налеты фашистских бомбардировщиков прекратились. Наш пароход, не получив никаких повреждений, двигался к месту назначения. Мы стали чаще выходить на палубу. Светило солнце. Большие стаи касаток, обгоняя пароход, резвились, высоко выбрасываясь из воды. Свободные от вахты моряки с увлечением бросали им кусочки хлеба и объясняли мне, что дельфины прокладывают курс кораблю, умело обходя мины.
Так мы «шлепали» по Баренцеву морю больше недели и наконец вошли в бухту Скапа-Флоу, расположенную на Оркнейских островах. Это главная операционная военно-морская база флота Великобритании – английский Кронштадт.
Неба не видно: колышутся воздушные заградительные аэростаты, серые, под цвет воды. На фоне вечерней зари из моря вырастали причудливые силуэты гор, окружавших бухту.
В круглой бухте множество военных и вспомогательных судов, буксиров, катеров. Среди них, как сигары в пепельнице, торчат разных размеров корабли. Кормами вверх. Штук шесть-семь. Это я видела собственными глазами и вспомнила, что в печати было сообщение о том, что германская подводная лодка, пройдя под минные заграждения, ворвалась в бухту, выпустила торпеды, потопила эсминец. Но я вижу, что не один корабль зарылся носом в воду.
Я распрощалась с капитаном, командой. Меня и польских министров на катере в сопровождении морских офицеров доставили на материк. Затем на разбитом грязном автобусе, словно побывавшем в боях, двинулись по раскисшей дороге. С фанерных щитов на оконных проемах, обклеенных плакатами, смотрели строгие глаза, а из раскрытого рта вылетали строчки: «Молчи, тебя слушает враг!», «Враг рядом с тобой, помни!». Стало жутковато.
Уже совсем развиднелось, автобус вырвался из распадка гор в долину. Пологие склоны гор во многих местах были густо засыпаны серыми валунами. Мне даже показалось, что они шевелятся. Старичок министр, сидевший рядом, пояснил: «Это отары знаменитых шотландских овец. Когда-то они сделали Англию богатой. Недаром спикер в парламенте и сейчас занимает свое высокое место, сидя на мешке, набитом овечьей шерстью».
Горы оборвались внезапно, и открылось море – хмурое, мглистое. Дорога шла теперь вдоль морского берега. Потянулись длинные сельские улицы с серыми каменными домами, обнесенными низкими оградами. Время от времени возникали островерхие крыши и за зубчатыми стенами высокие башни старинных замков.
Но вот автобус остановился, пропуская оркестр, наигрывавший на длинных волынках какой-то бравурный мотив. За оркестром шли шотландские солдаты в коротких клетчатых юбках, запахнутых и застегнутых на бедре огромной английской булавкой. Короткие куртки, на голове шапочки с перьями, через плечо, как скатка шинели, свернутый клетчатый плед и на ремне – автомат.
Въехали в Эдинбург, столицу Шотландии. Город-парк. Город-музей древней и современной причудливой архитектуры, с балконами, выступами, башенками, колоннами по одной стороне улицы, а по другую сторону – парк с памятниками, фонтанами.
Автобус остановился у какой-то замысловатой башни. Многоярусные готические ниши с орнаментами, фресками и шпилями над ними. Все устремилось ввысь, и сооружение кажется кружевным, легким, летящим. Под нижними сводами беломраморная фигура пожилого мужчины с мудрым лицом, сидящего в глубоком раздумье. Это памятник писателю Вальтеру Скотту. Вот он, поэт и романист, волнующий и сегодня души молодых и взрослых. И рядом с грандиозным монументом Скотту – скромный памятник его современнику, величайшему поэту Шотландии Роберту Берн-су, прожившему, как и Пушкин, всего тридцать семь лет, но оставившему человечеству богатое поэтическое наследство.
Следов войны в городе не видно. Разве только на клумбах вместо роз пожухлая картофельная ботва, кочерыжка от капусты и многочисленные плакаты на щитах: «Копай ради победы!», а на стенах знакомые уже: «Молчи, тебя слушает враг!»
Переночевала в гостинице при Северобританском вокзале, где было сыро и даже в шубе холодно. Чаю не было, грызла галеты, запивала ледяной водой.
В ресторане тоже холодно, дымно от табака. Зал с витражами и лепными украшениями заполнен офицерами, среди них молодые женщины в мундирах, но, в отличие от мужчин, они сидели в пилотках.
Подошли два офицера: один в английской, другой в шотландской форме, но не в юбке, а в длинных ярких клетчатых брюках. Официантка в полувоенной-полуспортивной одежде принесла по мисочке супа и на крохотной тарелке жаркое: кусочек консервированного мяса, листок серой тушеной капусты и одна картофелина в мундире. Потом подала большой чайник, розетку с горкой сахарного песка и одну чайную ложку. Я шепнула ей, что она забыла подать чайные ложки. «Забыла? – изумилась официантка. – Миссис, наверное, иностранка и не знает, что у нас весь металл идет на нужды фронта, и мы подаем только одну ложечку на столик».
Шотландский офицер, сидевший рядом, протянул мне ложечку. «Остальные пять ложечек перекованы на снаряды против Гитлера, миссис, – улыбнулся он и пододвинул мне розетку. – Я отказываюсь от своей порции в вашу пользу». Английский офицер поступил так же. Мне осталось их поблагодарить. «Сенк ю вери мач!» – «Вы иностранка, миссис?» – спросил шотландец. «Да, я из Советского Союза». – «Из Москвы?» – «Из самой». – «О, русские изумляют мир. Поздравляю вас!» – сказал шотландец, встав из-за стола.
Глава 8. Тот самый Ллойд Джордж
Утром поездом выехала в Лондон. В вагоне разноязычный говор, улавливаю – плохо с продовольствием. Нет топлива. Но главная тема все же – прорыв гитлеровских войск к Москве. Отчаянные споры – отстоят ли русские свою столицу? Я заставляю себя не ввязываться в дискуссию. Мой английский язык слишком беден для полемики. Весь путь до Лондона провела в вагоне как глухонемая.
В Лондоне еду на такси в наше посольство. Глядя по сторонам, холодею от ужаса – деловой центр города, Сити, изуродован, искалечен. Каменные основания зданий, построенных на века, все же устояли под натиском гитлеровской авиации, но повсюду горы бесформенных глыб мрамора, скрюченных железных балок. И над всем этим хаосом возвышается собор Святого Павла с зияющей пробоиной на куполе. Улицы тем не менее расчищены, и девушки в защитных комбинезонах и кокетливо надвинутых на лоб пилотках тащат на тросах аэростаты.
Шофер такси, поняв по адресу, который я назвала, что я советская, на прощание сказал: «Мы молимся Богу за победу русских, иначе гитлеровцы ковентрировали бы весь наш великий остров». Это был новый глагол в английском языке, возникший после варварского уничтожения гитлеровцами города Ковентри…
С сильно бьющимся сердцем поднималась я по ступенькам нашего посольства в Лондоне – что-то ждет меня там? Долетел ли муж? А если долетел, то почему не встретил на вокзале? Ведь в посольстве о прибытии парохода должны были знать. Что с Москвой? И горячие споры пассажиров в поезде, и газетные афиши на стендах: «Бой за Москву», «Гитлер назначил парад в Москве»… Как все это понимать? Как добрались до Ижевска мама с Володей? Эти вопросы жгли сердце.
Первый, кого я увидела в вестибюле, был наш старый друг Иван Андреевич Чичаев.
И вот Иван Андреевич идет ко мне навстречу, распахнув руки. Но почему он, а не Борис? И работает Чичаев в другом советском посольстве – при эмигрантских правительствах стран, оккупированных гитлеровцами… Значит… Я окаменела. И вдруг из-за колонны выходит – чур меня, чур меня! – мой муж, Борис. Нервное многодневное напряжение взорвалось, и радость встречи я обильно полила слезами, хотя всю жизнь считалась неплаксивой.
Иван Андреевич скомандовал:
– Сырость не разводить, и без того здесь хватает, и марш в машину, поедем к нам домой обедать. Ксюша мировой пирог испекла, целый месяц карточки на муку сберегала.
– Здесь тоже карточки? – спросила я.
– Да еще какие, сахар в мизерных дозах, его берегут только для детей, хлеб, молочные продукты – в общем, все, все. И мы, дипломаты, живем по карточной системе. Говорят, и короли тоже, а здесь собрались многие короли Европы – норвежский, югославский и греческий, нидерландская королева.
Вечером пытались ловить по радио Москву, но фашисты усердно забивали московское радио трещотками, звонками, барабанным боем.
Вот она, Москва-матушка, как ее усердно забивают. Жива, стало быть, и гитлеровцы по ее улицам не гуляют, – заметил муж, пытаясь сквозь хаос визга, какофонии звуков поймать сводку Совинформбюро. Из эфира слышались отдельные слова – «продолжалось…», «оставили город…», «потери фашистских захватчиков…».
На следующее утро мы с мужем пошли в наше посольство с визитом к послу Ивану Михайловичу Майскому, которого муж хорошо знал.
МАЙСКИЙ Иван Михайлович (1884 – 1975) – советский историк и дипломат.
С 1929 по 1932 год был Полномочным Представителем Советского Союза в Финляндии. С 1932 по 1943 год – Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Великобритании, а с 1943 по 1946 год – заместителем наркома иностранных дел Советского Союза. В 1946 году избран действительным членом Академии наук СССР.
Перу И. М. Майского принадлежат труды по истории всемирного рабочего движения, по истории Испании и книга воспоминаний.
Иван Михайлович принял нас в своем просторном кабинете. На стене большая карта Советского Союза, утыканная красными и черными флажками, обозначавшими линию фронта.
Майский расспросил меня, как прошло путешествие, очень интересовался организацией и засылкой в тыл врага наших диверсионных и разведывательных групп. Сообщил, что через день в Швецию летит английский самолет и для нас уже заказаны два места, а затем с лукавинкой в голосе спросил, не хотим ли мы посмотреть живого Ллойд Джорджа?
– Как, того самого? Про кого мы в комсомольские годы сочиняли не очень вежливые частушки? Ведь он был наш злейший враг, – не удержалась я от реплики.
Майский засмеялся:
– Именно тот самый, именно был врагом. Он автор страшного для Германии Версальского договора. Он поддерживал Черчилля в его планах удушить новорожденное Советское государство в колыбели. Их замыслы не оправдались. Одно время он ориентировался на Гитлера, как на «санитара от коммунистической заразы». Но когда Гитлер захватил почти всю Европу и ринулся на Советский Союз, Ллойд Джордж пересмотрел свои позиции. Он до сих пор возглавляет либеральную партию, выступает за открытие второго фронта и стал ярым врагом фашизма. Завтра он с супругой придет ко мне на завтрак.
Могла ли я когда-нибудь представить себя в обществе Ллойд Джорджа? Он вошел, вернее, его ввела крупная, еще не старая, довольно красивая женщина, его жена. Ллойд Джордж невысокого роста, на розовом черепе, щеках, подбородке белые пушистые клочки волос, ноги его слушаются плохо.
Ллойд Джордж что-то говорит, я не могу разобрать даже, на каком языке, видно, у него нелады с дикцией. Его не понимает и Майский, в совершенстве владеющий английским языком. Жена Ллойд Джорджа – его многолетняя секретарша – является своеобразным переводчиком с английского на английский, только она и понимает своего супруга. Ллойд Джорджа интересует судьба Москвы – «ведь Гитлер назначил парад на Красной площади».
– На Европейском континенте только одна столица не даст себя полонить – это Москва, – категорически опровергает досужие вымыслы фашистской пропаганды советский посол. – Никогда не бывать Гитлеру в Москве, разве только в качестве военнопленного. Никак иначе!
Майский делает решительный жест рукой.
Ллойд Джордж улыбается, показывая великолепные зубные протезы под стать белоснежным бакенбардам.
После весьма скромного завтрака посол приглашает посмотреть короткометражный фильм о Москве. На экране Кремль, часы на Спасской башне показывают 12 часов, полдень.
– Биг Бен [11], – с удовольствием произносит Ллойд Джордж, произносит четко. Сравнивает часы на башне Кремля с часами на Вестминстерском аббатстве.
Мирная Москва, с витринами, не заваленными мешками с песком, улицы без противотанковых ежей, площади, не закамуфлированные под здания и парки, на крышах нет зенитных орудий. Милая солнечная Москва, беспечные дети, веселая молодежь, на речном трамвае молодые люди что-то поют (фильм немой), наверное, «Мы кузнецы, и дух наш молод…».
Вспомнилось, как в последний вечер мы с мужем шли по улице Горького, предъявляя почти на каждом углу ночные пропуска. Напротив Моссовета в темноте вдруг остановились, пораженные странной картиной: посередине улицы вертелись сами по себе серебристого цвета сапоги, высоко над ними поворачивался из стороны в сторону такой же серебристый шлем, а между ними четко регулировал движение транспорта блестящий жезл, самой же фигуры регулировщика не было видно. Мы догадались, что сапоги, каска и палочка покрыты какой-то краской, которая серебрится под синим светом ламп. Очевидно, этот камуфляж страховал регулировщика от наезда машин. В других районах столицы мы такого не видели.
Фильм закончился широкой, раздольной песней Лидии Руслановой. Ллойд Джордж был восхищен.
– Так, значит, немцев в Москве нет! Я очень рад слышать это.
– Есть, есть немцы в Москве – Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Бертольд Брехт, Анна Зегерс, – сказал Майский.
Ллойд Джордж рассмеялся и крепко потряс руку посла.
Прощаясь с Борисом Аркадьевичем, Ллойд Джордж спросил:
– Вы впервые в Лондоне?
– Да.
– Вам интересно, наверное, побывать в парламенте, – подхватил Майский. – Давайте попросим мистера Ллойд Джорджа получить туда пропуск.
– О, я был бы весьма признателен, – откликнулся Рыбкин.
Проводив Ллойд Джорджа, Майский сказал:
– В парламенте сейчас происходят непривычные для нас вещи. Всерьез обсуждался, например, вопрос – можно ли приравнять командиров воздушных кораблей к морякам и разрешить им курить трубку.
– А на днях, – добавила жена Майского, – был депутатский запрос насчет дамских чулок. Их нет в продаже, а ходить на работу с голыми ногами считается неприличным. Нашли выход. В дамских парикмахерских на ногах рисуют чулки – шов, пятку и даже штопку.
Бориса Аркадьевича сопровождал в парламент сын Ллойд Джорджа и по пути рассказал занятную историю. В парламенте шла горячая дискуссия – что делать со шпагой на статуе Ричарда Львиное Сердце, надломленной осколком снаряда. Следует ли реставрировать эту шпагу или оставить «в назидание потомству». Спор был жестокий. Сын Ллойд Джорджа высказался так: «Ричард был король драчливый. Он постоянно с кем-то воевал и почти всю жизнь прожил вне Англии. Но король есть король, и памятник ему должен быть таким, каким задуман». Добавлю к этому одно: недавно я видела памятник королю Ричарду Львиное Сердце по телевизору. Шпага в его руке выпрямлена. Англичане верны себе. Традиция превыше всего.
Борис Аркадьевич до моего приезда успел ознакомиться с Лондоном, а так как у нас оставались только сутки, то мы решили, что он будет моим гидом и покажет мне самое-самое. Но этого «самого» оказалось весьма много.
Что меня потрясло – это почти начисто уничтоженные фашистскими бомбардировщиками целые районы. Невольно подумалось о Москве, которую гитлеровская авиация бомбила каждый вечер. Таких бомбежек мы успели пережить множество, но Москва не была разрушена. ПВО была на высоте.
А вот английские газеты пишут, что осенью 1940 года в течение двух месяцев фашисты методично с десяти вечера и до семи утра бомбили британскую столицу. За ночь налетало по 300 – 500 бомбардировщиков. Было уничтожено и основательно повреждено более миллиона домов и коттеджей. Из-под развалин извлечено 50 тысяч трупов. Раненых не считали. Последний массированный удар гитлеровцы нанесли Лондону в мае 1941 года.
Мы ехали через восточный район Лондона – Ист-Энд. Поразил нищенский вид кварталов, узеньких улочек, поперек которых протянуты веревки, и на них сушилось рваное белье. По улицам текли мутные потоки. Оборванные ребятишки возились в грязи. Ни деревца, ни зеленого кустика, низкие серые домишки перемежались с развалинами.
Желтый смрадный воздух становился все гуще, и дальше десяти – двадцати метров ничего уже не было видно.
В метро спустились по эскалатору. Стены оклеены яркими довоенными рекламными плакатами. Когда вышли на перрон, были потрясены: вдоль всей платформы тянулись в три яруса нары, сбитые из досок. Для пассажиров оставалась узкая полоса по краю платформы. На нарах люди лежали, сидели, спали, читали, играли в карты. Много женщин с малолетними детьми. Под головой у каждого на нарах большой узел с домашним скарбом. Иные прикрыты «одеялами», сшитыми из четырех номеров газеты «Таймс», каждый номер страниц двадцать, не менее. Удушливый запах, мусор, слабо освещенные платформы являли собой жуткое зрелище. Я невольно подумала о нашем московском метро, в котором даже в дни войны было тепло, чисто и светло…
Хайгетское кладбище походило на огромный город. Широкие проспекты, улицы, переулки, тупики. На центральных проспектах тяжелые гранитные склепы, кружевные мраморные часовни, острокрылые ангелы и высеченные из мрамора скульптурные портреты усопших.
В длинном ряду маленьких мраморных и гранитных плит, тесно уложенных друг к другу, Борис Аркадьевич разыскал могилу Карла Маркса. На седой гранитной плите было высечено:
Здесь покоится
ЖЕННИ МАРКС
1814 – 1881
КАРЛ МАРКС
5.5.18 – 14.3.83
АНРИ ЛОНГЕ
ЕЛЕНА ДЕМУТ
Никакого памятника. Только серая плита в рамке желтого гравия на месте последнего пристанища любимой жены Женни, самого Карла Маркса, внука и служанки – друга семьи.
…Через несколько дней на самолете ночью – в Швецию. Обрядили меня в комбинезон, нацепили парашют, лайфджекет (спасательный жилет) с лампочкой и свистком. Удивилась свистку. «Отпугивать акул в Северном море, если попадете в воду», – отшутилась служащая аэродрома.
Тьма… Гул мотора – говорить невозможно. Иллюминаторы в самолете плотно зашторены. Летели час, два. Муж, как я понимаю, сладко спит. Осторожно отодвигаю уголок материи. Делаю щелочку – тьма… тьма… Еще часа два полета, и вдруг стюард раскрывает шторки на иллюминаторах. Сквозь круглые оконца видны блестящие пунктиры. Под нами Швеция. Она не затемнена. Пролетаем над поселками, городами. Опускаемся на аэродроме.
Летели через Северное море шесть часов.
МОЯ МИССИЯ
Глава 9 Бюллетень находит читателей
И вот я в кабинете посланника в Швеции – Александры Михайловны Коллонтай. Мне шел в ту пору тридцать пятый год. Александра Михайловна готовилась отметить свое семидесятилетие.
– Приступим к делу, – говорит Коллонтай после приветствия. – Завтра вечером я хотела бы подробно поговорить с вами и вашим мужем, а сейчас…
– Что я должна делать?
– Вот это мы сейчас и обдумаем. Задача такая: противопоставить клеветнической пропаганде гитлеровцев и их пособников в Швеции правду о СССР и советском народе. Задача непростая. Швеция наводнена фашистскими газетами, книгами, листовками и брошюрами, постоянно крутят кинофильмы и ведут радиопередачи, которые прославляют так называемую «великую миссию» нацистской Германии. Например, на центральной улице Стокгольма Кунгсгатан германское посольство в огромной витрине каждый день помещает устрашающие шведов военные фотографии и карту мира, на которой они старательно закрашивают все новые и новые территории, отошедшие к «непобедимому» «третьему рейху»… Мы должны довести до шведской общественности правду о положении в СССР. В первую очередь наладить регулярный выпуск «Листка советских новостей» или, – Александра Михайловна задумалась, – пожалуй, назовем это более нейтрально: «Информационный бюллетень». Будем сообщать шведам сводки Совинформбюро.
Далее она посоветовала «ловить» радиосводки по ночам, когда их Москва передает для районных и областных газет. Нацисты глушат эти передачи, но разобрать кое-как можно.
– Статьи заказывать по телеграфу, – продолжала она. – Но основное – это радио. В вашем распоряжении работники торгпредства, инженеры-приемщики, которые сейчас остались без дела и по одному, по два уезжают в Советский Союз. Отъезд их зависит от английских самолетов, которые берут на борт не более одного-двух человек.
– Где же будем печатать бюллетени, в какой типографии? – спрашиваю я.
Александра Михайловна задумалась, словно что-то другое отвлекло ее мысли, а потом вдруг сказала:
– Посольство имеет право использовать собственный множительный аппарат. Купим ротатор. Мне кажется, – она постучала по столу сложенным лорнетом, – наш бюллетень надо издавать на трех языках: на русском – для советской колонии, на английском – для наших союзников и иностранных посольств и, конечно, на шведском…
Я сидела и записывала в блокнот указания посла.
– Далее, – продолжала Коллонтай, – договоритесь с кинотеатрами о демонстрации наших кинофильмов – будем заказывать их из Москвы с диппочтой. Установите связь с прогрессивными газетами. Подумайте, каких советских писателей и журналистов привлечь… Итак, начинайте действовать, – заключила Александра Михайловна. – Нельзя терять ни одного дня. Тут недавно вечерняя газета «Афтонбладет» оглушила шведов известием, что «Москау ха фаллит» («Москва пала»), и шведский нейтралитет сразу дал крен в сторону фашистской Германии.
…Александра Михайловна информировала шведский МИД, что в советском посольстве образовано пресс-бюро и его возглавляет «мадам Ярцева». Мне позвонили из пресс-центра МИДа и пригласили в «Гранд-отель», где заведующий отделом прессы представит меня корпусу иностранных и шведских журналистов.
В банкетном зале «Гранд-отеля» собралось человек сорок – корреспонденты из разных стран. Среди них две женщины – одна из Соединенных Штатов Америки, другая из Норвегии. Шведский дипломат выстроил мужчин, как на параде, во главе с женщинами, и стал представлять. «Соединенные Штаты Америки…» Маленькая, подвижная женщина, улыбнувшись, дружески пожала мою руку. «Норвегия…» Статная, крупная, голубоглазая блондинка с мягким любопытством смотрела на меня и даже обхватила меня за плечи. «Корреспондент из Великобритании…» Обмен рукопожатиями и улыбками. «Венгрия…» Плотный молодой мужчина протянул руку. Я сжала обеими руками свою сумочку, и его рука, повиснув в воздухе, опустилась. В зале возник сдержанный шумок и какое-то движение. «Румыния…» Я сделала вид, что не заметила наклона его головы, и шагнула вперед. «Япония…» Слышу, вижу. Рядом с ним стоят навытяжку несколько человек в одинаковых костюмах и с одинаковыми лицами. «Корреспонденты Германии…» – уже не так торжественно произнес шведский дипломат. Они развязно протянули (хорошо, что еще не вскинули) руки. Не взглянув на них, я проследовала дальше. Цепочку замыкал наш корреспондент.
Ряды журналистов смешались, и тут немцы, итальянцы, венгр – все те, кому я не подала руки, покинули банкетный зал. Я увидела, что это обстоятельство огорчило заведующего отделом прессы, а наш представитель ТАСС принялся мне популярно объяснять, что Швеция нейтральна и что журналисты здесь работают в общей комнате и нормально общаются друг с другом.
– Шведы нейтральны, но не мы с вами, – заметила я.
Об этом инциденте я рассказала Александре Михайловне, спросила, так ли надо было мне поступить. Она сказала, что позиция моя правильная.
…Через неделю начал выходить «Информационный бюллетень» советского посольства.
Рассылаем его в редакции газет, журналов, информационным агентствам, видным политическим и общественным деятелям, союзным посольствам. Но как распространить его среди населения? Придумали. Закупили телефонные справочники городов и поселков (в Швеции телефон уже тогда имелся в каждом жилом доме) и стали рассылать наугад каждому пятому, десятому. Бывало, бюллетень возвращался с ругательным письмом обратно, но появились и первые подписчики: «Мой сосед Свенсон получает, а мне почему-то не присылают». В большом количестве шли письма-приветствия, в которых шведы выражали свою поддержку сражающемуся Советскому Союзу, желали ему скорейшей победы над захватчиками. Писали шахтеры из Кируны, священнослужители, жители провинциальных городов.
На первых порах тираж бюллетеня не превышал тысячи экземпляров, но скоро возрос до двадцати, потом и до тридцати тысяч.
…7 ноября 1941 года. Под Москвой развернулась небывалая по своим масштабам и героизму битва. На Красной площади столицы состоялся парад частей Красной Армии. Суровый, заснеженный город. На Можайском, Волоколамском направлениях соединения Рокоссовского и Говорова отбивают бешеные атаки нацистских полчищ. На Ленинградском шоссе у поселка Химки фашисты подошли близко к столице, установили дальнобойные орудия для обстрела.
Весь мир потрясен тем, что на Красной площади состоялся традиционный парад и красноармейцы, пройдя строевым шагом, уходили прямо на поле сражения.
…Идет война. Швеция объявила себя нейтральной. Но какой зыбкий этот нейтралитет. Вместе с продвижением гитлеровских войск на советском фронте нейтралитет дает крен в сторону Германии и, того и гляди, опрокинется. Швеция разрешила транзит через свою территорию на северный финский фронт немецких войск и немецкой техники. Шведская руда, шарикоподшипники оснащают германскую военную промышленность. Немцы требуют кредиты. Служба пропаганды распространяет слухи о «зловещих» планах Советов в отношении Швеции, сеет панику.
Нацистские клеветники из германского посольства публиковали фотографии, «свидетельствующие о зверствах Красной Армии». Фотографии действительно ужасающие, но… изображена на них «работа» самих фашистов на Восточном фронте, на временно оккупированных территориях.
Наше посольство получило по телеграфу текст ноты советского правительства о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных злодеяниях германских властей в захваченных ими советских городах и поселках. Нота датирована 2 января 1942 года и адресована послам и посланникам стран, с которыми СССР имел дипломатические отношения.
Мы решили ознакомить шведскую общественность с этой нотой, поскольку газеты Швеции информации о зверствах гитлеровцев не давали. Мы напечатали 200 тысяч экземпляров бюллетеня – тираж неслыханный по здешним меркам.
Бандероли наши на почте не принимали, поэтому ноту пришлось рассылать в закрытых конвертах с наклеенными марками. Работали над печатанием и упаковкой двое суток. Наняли два грузовика, чтобы перевезти наше послание из пресс-бюро на почтамт.
Ждали реакции читателей. Что скажут, как отзовутся? Прошло несколько дней, и вот в пресс-бюро ко мне пришел посетитель-мужчина, отказавшийся назвать, кто он и откуда. Сказал лишь, что немецкое посольство прознало о нашей работе, заявило протест шведскому министерству иностранных дел и, по указанию властей, все наши пакеты свалены в подвал и, как приказано, «подлежат уничтожению». Выпалив все это и сказав «адье», незнакомец быстро ушел.
Я позвонила по нескольким адресам знакомым шведам и спросила, получили ли они наш бюллетень с нотой. Никто не получал.
Помчалась в посольство к Александре Михайловне и рассказала ей об этом. Действия почты незаконны: ведь каждое письмо оплачено в тройном размере, поскольку пакеты довольно увесистые, – нота занимала больше десяти страниц.
Александра Михайловна была крайне возмущена, красные пятна покрыли лицо и шею. Она позвонила министру Гюнтеру. Тон у нее был необычный – приказной, командирский. Она потребовала немедленной рассылки нашей почты. «Оплачено все по существующим нормам, конверты, перевозка, и притом это почта советского посольства, неприкосновенная. Как можно было так распорядиться? Надеюсь, – заключила Коллонтай, – господин министр проконтролирует и пресечет беззаконие чиновников почты». В разговоре с министром она дала понять, что это беспрецедентная акция совершена под давлением германского посольства.
Звонок возымел действие.
Вскоре к нам посыпались письма. Были они разные. Большинство корреспондентов с чувством гнева отзывалось о фашистских злодеяниях и выражали свое искреннее сочувствием пострадавшим. Пастор из Северной Швеции написал благодарность от его прихожан и сообщил, что он ежедневно молится и просит Господа Бога о даровании победы Красной Армии.
Самое любопытное то, что министр Гюнтер пригласил нашего посла к себе и заявил протест против распространения среди населения этой ноты, которая «наносит ущерб здоровью, расшатывает нервную систему людей, и, что самое страшное, эту ноту читают дети». Запоздалый демарш министра Понтера, несомненно, был результатом дальнейшего нажима германского посольства. Немецкие дипломаты использовали положение на нашем фронте: оно оставалось тяжелым.
Приведу еще одну деталь, так сказать, «бытового» характера. В те дни хозяин дома, у которого мы с мужем снимали квартиру, потребовал арендную плату за полгода вперед, мотивируя тем, что «вы скоро станете эмигрантами, немцы вот-вот займут всю страну и платить вам будет нечем».
С демонстрацией советских фильмов ничего не получалось. Владельцы кинотеатров отказывали нам под «благовидным» предлогом: «Ваши ленты некоммерческого характера». В этом тоже сказался диктат германского посольства, любым путем стремившегося подорвать нашу работу.
Но выход был найден. Александра Михайловна порекомендовала подыскать для пресс-бюро помещение с кинозалом. Во вновь строящемся здании мы арендовали и вскоре заняли нижний этаж, оборудовали в нем зал для демонстрации кинолент и ротаторную с двумя, а затем с тремя множительными аппаратами. Наше помещение обладало статусом «экстерриториальности», поскольку считалось собственностью советского посольства.
Жители Стокгольма получили возможность регулярно знакомиться с нашим киноискусством. Помню, начали мы с трилогии Марка Донского, запечатлевший языком кино автобиографические повести Максима Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». Желающих получить пригласительные билеты на советские кинофильмы было много и мы устраивали несколько сеансов.
В противовес немецкой витрине с фальсифицированными фотографиями мы устроили свою витрину в помещении «Интуриста» на Вокзальной площади. Помещали там сводки Совинформбюро, фотографии с фронта и из тыла, изоматериал.
Наша витрина сразу же стала популярной у жителей и гостей Стокгольма. С гордостью вспоминаю, как вагоновожатые трамваев, чьи маршруты пролегали мимо нашей витрины, останавливались перед «Интуристом», чтобы пассажиры могли познакомиться с новой информацией.
Немцы и их местные приспешники не давали нам покоя. То по требованию шведских властей после протеста германского посольства приходилось снимать разящие карикатуры Кукрыниксов на Гитлера, то фашиствующие юнцы промчатся на велосипедах и закидают нашу витрину грязью. Однажды эти молодчики обстреляли ее тяжелыми чугунными гайками из рогаток, и грандиозное зеркальное стекло рухнуло… Возмущенные вандализмом шведские рабочие пустили «шапку по кругу» и на вырученные деньги помогли восстановить витрину и организовали ее охрану.
Глава 10. Незримые связи
Два дня спустя после приезда мы с мужем пришли к Александре Михайловне. Она, характеризуя положение в Швеции, напомнила, что успехи немцев на фронте активизировали здесь антисоветские элементы, вырос тираж правых и профашистских газет. Шведы попали в ловушку, расставленную Германией, поскольку страна не имеет минерального топлива (нефти, газа, угля) и даже автомашины стали ездить на дровяном топливе.
– Да, – не сдержал улыбки Борис Аркадьевич, – эти прицепы у автомашин похожи на походные кухни. На улицах дышать нечем от дыма.
– Даже король разъезжает с таким прицепом, – сказала Александра Михайловна, – хотя его машина, как и наши дипломатические, двигается на бензине… И вот, друзья мои, хотела бы вас предупредить, мы вынуждены считаться со шведским нейтралитетом. Он весьма своеобразен. Вы видите, немецкая и английская разведки здесь хорошо укоренились, а мы, как всегда, опаздываем…
Действительно, опаздываем, подумала я. Не случайно мы с «Кином» (таково его имя по нашей службе) уже обдумывали, как организовать на в общем-то пустом месте активно действующую нашу резидентуру.
– Немцы имеют грандиозный пропагандистский аппарат и тщательно следят за каждым нашим шагом. Германское посольство чуть ли не каждый день заявляет протест в шведский МИД по поводу любого нашего культурного мероприятия. И разрешите мне быть откровенной, во всем, что касается вашей работы, будьте архи-архиосторожны. – Александра Михайловна многозначительно подняла указательный палец. – Недавно шведская полиция арестовала сотрудника нашего военного атташе, он вечером встретился с каким-то человеком в парке, и, когда здоровался с ним, вдруг со всех сторон засветились прожекторы и застрекотала кинокамера. Молодому человеку грозит многолетнее тюремное заключение. Имейте в виду, по шведским законам вас могут обвинить в шпионаже даже за сбор официальных печатных изданий, газетных вырезок на какую-то определенную тему, затрагивающую государственную безопасность страны. На мою помощь вы всегда можете рассчитывать, и я надеюсь, как говорят дипломаты, на взаимопонимание…
– Можете в этом не сомневаться, – сказал «Кип». – Мы заинтересованы, чтобы Швеция и далее оставалась нейтральной, ведь это одна из важнейших площадок в Европе, с которой мы можем вести наблюдение за противником.
– Понимаю, понимаю. Вам надо выходить в свет, устанавливать связи с интересующими вас кругами, – заметила Александра Михайловна, – и полагаю, что смогу появляться на вернисажах, премьерах в опере и всяких благотворительных вечерах в сопровождении нашего милого пресс-атташе. – Дружелюбием было проникнуто каждое слово Александры Михайловны. – Но… о вашей работе, – усмехнулась она, – я ничего не знаю. Не так ли?
Я порадовалась такому обороту дела и вспомнила, что два года назад ситуация у меня складывалась совсем иная.
В конце 1939 года, когда началась печально известная так называемая «зимняя война», я была направлена в Стокгольм с задачей восстановить связи с агентурой в Финляндии. Необходимо было знать истинное положение в стране. Прилетела самолетом, явилась в полпредство к Коллонтай, но Александра Михайловна встретила меня холодновато:
– О вашем приезде я не была осведомлена. С какой миссией вы прибыли?
– Война с Финляндией, – пожала я плечами.
– Вот этого я и опасалась. Вы понимаете, что происходит, – сказала она, и я почувствовала ее встревоженность. Она так волновалась, что вопреки присущей ей деликатности даже не пригласила меня сесть. – Шведы создают отряды добровольцев, которые направляются в финскую армию. Недавно в газетах сообщали, что один из них в подтверждение своего «геройства» привез отрезанную голову русского солдата… Ужас… Французы в помощь финнам формируют корпус. За нашим полпредством и всеми нашими работниками ведется наблюдение. Любое неосторожное действие может привести к тяжелейшим последствиям.
– Я все понимаю, Александра Михайловна, и сделаю все от меня зависящее, чтобы не осложнить обстановку.
В тот раз она не предложила мне жить в ее квартире, а распорядилась предоставить мне гостевую комнату. Мало того, она направила телеграмму Молото-ву, бывшему тогда наркомом иностранных дел, с просьбой немедленно отозвать меня, «поскольку деятельность советской разведки в Швеции в данной обстановке может привести к осложнениям». На эту шифровку последовал ответ: «…товарищ такая-то выполняет задание своего руководства».
Задание я выполнила, срывов не произошло. Поэтому можно понять, какой камень сейчас свалился с моей души. Понимание нашей службы со стороны Александры Михайловны воодушевляло.
Мы с «Кином» включились в работу. Первое время пришлось очень трудно, сложности одолевали. Кроме нас в резидентуре поначалу были двое – шофер и дворник. Затем прибыли два оперативных работника. Мы вместе с ними подготовили подробный план. Один должен был организовать наблюдение за германским воинским транзитом через Швецию, второму было поручено создать агентурную группу, которая бы фиксировала характер грузов, транспортируемых морским путем между Швецией и Германией. Оба были инженеры, и им поручалось искать источники информации о поставках Швецией Германии военной техники.
Центр утвердил меня заместителем резидента. Душой и главой резидентуры был «Кин». Разведчик первого поколения, он имел значительный опыт чекистской работы – в контрразведке и в разведке внешней.
Семья Рыбкиных была большой. В основном – землепашцы, виноградари. Старший сын работал на заводе кузнецом, а его сын получил образование инженера-авиаконструктора. Средний в семье – Борис мечтал отправиться в дальние края, чтобы разведывать земные недра. Но нужда заставила 10-летнего мальчугана идти в типографию учеником наборщика. Восемь лет простоял он у наборной кассы. Память об этом осталась на всю жизнь: указательный палец у левши был непоправимо искривлен.
Жил типографский ученик впроголодь, часть денег посылал родителям и старался все же хотя бы немного скопить для своей будущей учебы. Много читал, усердно занимался самообразованием.
Свершилась революция. Его, сдавшего экстерном за вечернюю школу, приняли студентом в Петроградскую горную академию. К этому времени он успел познакомиться с разными политическими течениями и партиями, их появилось множество, побывал на собраниях и митингах эсеров, меньшевиков, анархистов, но больше всего ему понравилась программа партии большевиков.
С головой ушел в учебу, но судьба распорядилась по-иному.
Рыбкин стал чекистом…
По представлению коллегии ВЧК он был назначен оперативным работником в Разведывательный отдел. Вскоре его направили на работу в Персию (Иран) в составе закупочной комиссии Внешторга. Понадобилось закупить у персов зерно. Речь шла о солидной сделке.
Персидские купцы сочувственно кивали головами, наполняли пиалы чаем и неизменно повторяли, что охотно помогут «добрым соседям». Когда же заходил вопрос о цене, купцы махали руками: «Ай, ай, какой разговор, бери задаром». На возражение, что наша страна имеет возможность и обычай расплачиваться за купленное, они хором уговаривали принять сотни тысяч тонн зерна «в подарок». Волынка такая продолжалась несколько дней, пока наконец купцы назвали свою цену, которая намного превышала среднемировую. Наши закупщики ахнули. Купцы развели руками: «Ну, вот и договаривайся с русскими. Предлагаем – бери задаром, не хотят, назначаешь самую малую цену – говорят «дорого», не подходит. Ай-ай, ничего не поймем». В конце концов наши закупщики сумели настоять на своем и договорились с персидскими торговцами о сходной для нас цене.
Замечу к слову, что так вели себя купцы во многих странах, где нам приходилось вести закупки. Подобное было у Коллонтай с норвежской сельдью. Схожая ситуация сложилась и у меня в Китае в 30-е годы. Работая экономистом в представительстве Нефтесиндиката в Харбине (моя «крыша»), я оформляла сделку на продажу нескольких вагонов, наполненных великолепно раскрашенными банками с бензином. Бензин был нами направлен китайской фирме, и вскоре мы получили письмо, в котором фирмач писал, что его «больные трахомные глаза увидели в бензине мутный цвет, грязный осадок, песок. Я верю, что ваш бензин прозрачен, как утренняя роса с цветов лотоса, но что делать с моими глазами. Прошу вас, помогите моим глазам видеть в ваших нарядных банках такой же безукоризненно чистый бензин, как в тусклых банках «Стандарда» и «Шелла»…
За время пребывания в Персии Рыбкину удалось приобрести несколько агентов. После этого он побывал в ряде стран – во Франции, Болгарии, Австрии. Несколько лет работал в аппарате в Москве, участвовал в разработке планов и осуществлении разведывательных операций. В 1936 году был направлен резидентом в Финляндию. Это государство в ту пору занимало не ключевое, но важное положение в стратегических планах гитлеровской Германии.
Я к этому времени уже шесть-семь месяцев была в Финляндии, успела познакомиться со страной и нашей резидентурой. Прежний резидент был отозван в Москву; и вместо него прибыл консул Ярцев, он же Рыбкин. Приехал один, без семьи. Очень официальный, подтянутый, требовательный.
Поначалу у нас не сложилось взаимопонимание. Мы спорили по каждому поводу. Я решила, что не сработаемся, и просила Центр отозвать меня, в ответ мне было приказано помочь новому резиденту войти в курс дел, а потом вернуться к этому вопросу. Но… возвращаться не потребовалось. Через полгода мы запросили Центр разрешить нам пожениться. Я была заместителем резидента, и мы опасались, что Центр не допустит такой «семейственности». Москва дала «добро».
Глава 11. Мадам Терва Пяа
В Финляндии мадам Вуолийоки была весьма популярна. В деловых кругах ее называли мадам Терва Пяа (здравомыслящая голова). Талантливый, обаятельный прогрессивный деятель с мировой известностью, она была великим экспериментатором. Разносторонняя предприимчивость в сложных жизненных обстоятельствах, широкая эрудиция характеризовали ее.
Эстонка по национальности, она вышла замуж за финна, и Финляндия стала ее второй родиной. Получив отличное образование в Петербургском университете и в Берлине, она была удостоена звания магистра философии.
На наследство, доставшееся от умершего мужа, Вуолийоки приобрела лесопильный завод и основательно изучила лесопромышленный мировой рынок.
Кризис, разразившийся в 1929 году, разорил ее. На последние деньги она завела на севере сыроваренный завод. Но и он обанкротился. Тогда ее деловой дар перебросился на сельское хозяйство. Купила небольшое имение, наняла рабочих, завела животноводческую ферму, углубилась в сельскохозяйственную науку, и поместье ее приносило немалый доход.
Затем бразды правления она передала в руки компетентного управляющего, а сама засела за письменный стол и принялась писать пьесы, которые быстро обрели известность, шли во многих странах мира. На наших сценах ставились ее драматические произведения «Женщины Нискавуори», «Каменное гнездо», «Юстина».
Вуолийоки была большим другом Советского Союза, не скрывала своих симпатий к нам. Она и ее единомышленники оказали влияние на мирное разрешение непопулярной «зимней войны», советско-финского конфликта 1939 – 1940 годов. Активно выступала она против финляндско-германского альянса в 1941 году и возглавила финляндскую «шестерку» горячих сторонников мира.
В бытность в Финляндии мы с мужем подружились с мадам Вуолийоки. Узнав, что мы в Швеции, она в 1942 году приехала в Стокгольм. Ей понадобилось лечить больную печень, и она устроилась в местную больницу Красного Креста. Отсюда позвонила мне домой и просила ее навестить.
Я приехала в больницу с цветами и фруктами, прихватив в сумочке два тоненьких блокнота, на которых можно было писать заостренными палочками. Блокноты были с «секретом». К верхнему краю гладкой деревянной дощечки была прикреплена прозрачная пленка, и на ней четко проступали оттиснутые черные буквы. Но стоило приподнять прозрачный листок, как все написанное исчезало.
Один блокнот я передала мадам Вуолийоки и написала на нем палочкой: «Нас здесь могут подслушивать. Будем переписываться». Меры предосторожности были необходимы. За нашим другом, приехавшей из воюющей Финляндии, шла слежка, и мой визит к ней не мог остаться незамеченным.
Хэлла Эрнестовна хорошо владела русским языком, но говорила с очень милым акцентом, сопровождавшим смешные обороты речи (например: «безрабочие волноваются», или «я сегодня повесилась – сто тридцать килограммов, майн гот, как много», или «я не могу обходиться без шинка» (ветчины).
Экспериментировала она и над собой, глотала динамит, чтобы похудеть, потеряла тридцать килограммов, но разрушила организм и целый год пролежала в больнице.
Несмотря на свой вес, она была весьма энергичной, подвижной. Приобрела автомашину, которой пользовался царь Николай II во время посещения Финляндии. Ей пришлось купить эту царскую машину не случайно, в любую другую она втискивалась с трудом. Но и тут случился казус. На царскую машину наехал грузовик, произошла авария. У Хэллы Эрнестовны были поломаны ноги, руки, ребра, как осталась жива – непонятно. Вновь длительное время пробыла в больнице и все же, как птица Феникс из пепла, возвратилась к жизни.
С самой ранней молодости Вуолийоки пользовалась известностью в разных слоях общества. А уж общительность ее рождала легенды. Словно магнитом, она притягивала к себе людей.
Еще в 1917 году к ней в имение по рекомендации друзей явился Джон Рид, молодой американский журналист, который пробирался через европейские воюющие страны в Россию, только что свергнувшую царя.
Вуолийоки помогла Джону материально и зарядила его своим восторгом перед начавшимся великим обновлением России. На обратном пути уже после Октября он снова остановился у Хэллы Эрнестовны и там набрасывал план своей знаменитой книги «10 дней, которые потрясли мир».
Дарование Вуолийоки проявлялось во всем, с чем она сталкивалась. Владея пятью или шестью языками, она переписывалась со многими крупными политическими деятелями, писателями, художниками, деловыми людьми.
…В больнице я пробыла у нее часа три. Нас, безусловно, прослушивали. Заходила то одна сестра, то другая, спрашивали: «Не угодно ли чего?» Кто-то открывал дверь и заглядывал: уже который час мы общались молча.
В своем блокноте Хэлла Эрнестовна подробно описала (все той же волшебной палочкой) положение в Финляндии, взрыв антисоветской кампании, охватившей страну. Силы оппозиции, которые стоят за выход Финляндии из войны, поясняла она, не имеют пока значительного числа сочувствующих, но в их рядах есть весьма авторитетные трезвые головы, понимающие, что поражение фашистской Германии неизбежно и что Финляндия должна как можно раньше выйти из этой бойни.
«Кто же возглавит оппозицию? Кто стоит за нею?» – спрашиваю я кончиком палочки в своем блокноте.
Хэлла Эрнестовна чертит:
«Паасикиви. Левые социал-демократы, депутат сейма Кай Сундстрем, журналистки Мирьям Рюдберг и Сюльви-Кюлики Кильпи. Поэтесса Синерво. Врач Маури Рюэмя. Это влиятельные люди. Ну, и без меня дело, конечно, не обходится, хотя я почти безвыездно живу у себя в имении. Круглый год. В городе бываю редко, я боюсь бомбежек, а на мое имение русские сбрасывать бомбы, надеюсь, не будут».
Палочка быстро бежала по прозрачному листку, и я успевала прочитать написанное, пока легким щелчком не отрывала пленку и все исчезало. Высказанное ею было для нас необычайно важно.
В то свидание я передала мадам Вуолийоки книгу шведского классика Стриндберга «Виттенбергский соловей» («Nдkterojalen i Wittenberg») и написала, что по этой книге мы будем переписываться тайнописью.
«Ключ к ней вы найдете на странице 6 этой книги. Запомнить легко, цифра «6» – месяц и год вашего рождения».
Хэлла Эрнестовна все понимала с полуслова.
– Хорошо, используем конспирацию… Ах, какой вкусный виноград! – воскликнула она, увидев вошедшую медсестру, и угостила ее ягодами.
Я распрощалась и ушла домой.
Через пару месяцев мы получили от Хэллы сообщение: «В связи с тяжелым положением на советском фронте гитлеровское командование требует все больших поставок солдат на фронт». Послание завершала фраза: «Я верю в победу!» Письмо было закамуфлировано ключом, взятым с 6-й страницы романа Стриндберга.
Прошло еще несколько тяжелых месяцев. Однажды мне принесли домой корзину с цветами, и в ней вместо визитной карточки в конверте была записка на английском языке: «Я здесь проездом, навещу вас завтра утром. Мэри».
Мы с «Кином» поняли, что это та самая Мэри, кузина Хэллы Эрнестовны, которая и раньше жила в Финляндии, вышла замуж за англичанина и сейчас возвращается домой в Лондон. В свое время мы с «Кином» встречались с Мэри в Хельсинки.
Утром Борис Аркадьевич ушел на работу, а я осталась ждать Мэри. Она привезла горестную весть. Хэлла Эрнестовна арестована, находится в тюрьме. Дело в том, что Вуолийоки приняла у себя в имении советскую парашютистку-разведчицу. Среди рабочих в имении был агент финской охранки. Он донес своему начальству о появлении у Вуолийоки подозрительной женщины, которая так же внезапно исчезла. Весной в лесу, когда растаял снег, был найден парашют. Советская разведчица была обнаружена в Хельсинки во время работы на рации и арестована. Газеты сообщали, что она в тюрьме и психически больна.
Хэлле Эрнестовне грозит пожизненное заключение, а учитывая чрезвычайное военное положение, не исключена и смертная казнь.
Мэри спешит сейчас в Лондон, чтобы организовать кампанию в защиту Вуолийоки.
– Прогрессивные люди мира откликнутся, защитят Хэллу от расправы, – уверенно заключила Мэри.
Вскоре писатели и ученые подняли голос в защиту мадам Вуолийоки, несгибаемой Терва Пяа, и суд вынужден был под давлением общественности заменить ей смертную казнь пожизненным заключением.
Хэлла Эрнестовна осталась верна себе. В тюрьме она написала две части автобиографической трилогии, свято веря в победу СССР над фашизмом и в силы демократической Финляндии.
После подписания перемирия с Финляндией в сентябре 1944 года Хэлла Вуолийоки новым демократическим правительством была назначена председателем радиокомитета страны, но вскоре оставила эту должность и уехала в свое имение, написала третью часть биографии «Я не была заключенной».
Умерла бесстрашная Терва Пяа в 1954 году. Но ее книгам, пьесам суждена долгая жизнь, в народе сохраняется о ней благодарная память.
Глава 12. Острее детектива
Сочельник – канун Рождества – в Швеции, как и в других европейских странах, самый торжественный праздник. В сочельник не ходят в гости, все собираются дома. Окна ярко освещены, и шторы раздвинуты. Видно, как на другой стороне улицы люди хлопочут вокруг елки, сервируют столы: традиционные шинке, капуста, колбасы и, конечно, всякие сладости.
В большом зале посольства собралась советская колония. Одной семьей. Рядом в столовой дети, для них приготовлены лакомства.
Я увлекла мужа в курилку, чтобы иметь возможность выкурить сигарету. А Борис Аркадьевич, который за всю свою жизнь не выкурил ни одной, подошел к окну. Улицы были пусты. В ярком свете фонарей сверкали снежинки и, как бертолетова соль, украшали голые ветви деревьев и стены домов.
– Ни одной машины, ни одного велосипедиста. – Борис Аркадьевич вглядывался в поблескивающую темноту. – Я шел сюда мимо генерального штаба, там светится одно-единственное окно, наверное, в кабинете дежурного. В такую ночь гитлеровцам ничего не стоит оккупировать Швецию… Ну, пойдем в зал, там что-то зашумели.
В зале действительно было оживленно. Возгласы, приветствия. Все окружили гостя – Мартина Андерсена-Нексе. Да, это он, знаменитый датчанин, автор знакомых всем нам романов «Пелле-завоеватель», «Дитте – дитя человеческое»… Я увидела среднего роста, плечистого человека лет за семьдесят, пышноволосого, седого, с высоким выпуклым лбом. К нему обратилась Александра Михайловна:
– Дорогой Мартин, как я рада, что ты сегодня пришел к нам. Благодарю тебя.
– Я пришел к себе домой. Сочельник – праздник семейный, а моя семья здесь. Я с вами всеми, и я привел с собой свою семью. – Он представил жену. – Прошу любить и жаловать. – Взял ее под левую руку и поцеловал в щеку. – Очень горжусь тем, что здесь и мой младший сын, не подумайте, что это мой правнук. – Он погладил по голове мальчика лет десяти, и тот вскинул на него такие же синие, как у отца, глаза.
Когда застолье близилось к концу и взрослые увлеклись игрой с детьми вокруг елки, я улучила момент и подошла к писателю. Сказала, что я его давняя читательница и поклонница и сейчас, как пресс-атташе посольства, хотела бы получить у него интервью.
– Охотно, охотно, – согласился он и поведал историю, происшедшую с ним несколько дней назад.
– Как вы знаете, я коммунист, моя родная Дания оккупирована гитлеровцами, в их лапах оказался и я. У меня больное сердце, и мне хотелось, чтобы оно поскорее перестало биться. Я сидел в холодной камере и простудился. Наши датские врачи, которых гитлеровцы заставляли работать, диагностировали воспаление легких и настояли на переводе меня в госпиталь. Я лежал и мысленно писал трилогию о Мартине Красном, но не имел возможности изобразить это на бумаге. Мне не разрешили пользоваться моим оружием – пером и бумагой. А я задумал большую работу. Я пишу реальную жизнь и презираю писателя, выкидывающего самое головокружительное сальто-мортале под куполом храма искусств. Мне всегда хотелось согреть простое человеческое сердце или осушить хотя бы одну слезу отчаяния и безнадежности… Он приложил платок ко рту, чтобы отдышаться.
– Понимаете, искусство для искусства никогда не владело моим сердцем. Я предпочитал выпекать для своих собратьев чистый ржаной хлеб, а не кондитерские изделия.
– Как вы попали сюда, как вам удалось выбраться?
– О, это было детективное приключение… Я лежу в палате, задыхаясь от кашля, и вдруг поздно вечером появляются четыре эсэсовца в своей черной форме и говорят, что меня везут на допрос к самому Гиммлеру. Датские врачи запротестовали: «Вы не довезете его до Берлина. Он очень болен. Умрет по дороге». – «Небось не помрет, он красный, а все покойники белые или черные». Меня закутали в несколько одеял, перевязали веревками и понесли. Швейцар в госпитале, увидев меня, всплеснул руками: «Прощай, Мартин, не поминай нас лихом на том свете». «Schattap!» («Заткнись!») – гаркнул один из эсэсовцев. Меня втиснули в машину, и, когда она тронулась, сидевший рядом эсэсовец, не стесняясь других, неожиданно вымолвил: «Дорогой Мартин, мы – коммунисты, а не нацисты. Мы долго готовились к этой операции, мы увозим тебя в Швецию. Шведские товарищи разминировали проход в проливе». Трудно было мне поверить этим словам. Я сомневался. Думаю, провокация. Хотят выведать у меня адреса моих друзей-коммунистов. Меня погрузили в лодку, мы немало времени шли по проливу, пока не пристали к берегу. Где это было, я понять не мог. Наконец меня внесли в дом рыбака-шведа. Он был необычайно радушен, сказал, что я на шведской земле, в безопасности. Обнял меня, дал чашку ячменного кофе, спросил, куда собираюсь дальше. Я поблагодарил его. «Конечно, к Коллонтай, моему старому другу». – «Тогда я подарю тебе свой праздничный костюм». – «Нет, нет, – ответил я. – Дай мне какую-нибудь старую рыбацкую робу и непромокаемые сапоги». Вот в таком виде я и заявился сюда. Коллонтай сначала не узнала меня, встретила холодным взором. Но когда я сказал ей: «Александра, это я, Мартин, я прибыл из гитлеровской тюрьмы, чтобы выпить у тебя чашку экта кофе (настоящего кофе)», она распахнула объятия: «Мартин, это ты, дитя человеческое». А я ей в ответ: «Что ты, Александра! Я теперь не дитя человеческое и не Пел-ле-завоеватель, а Мартин Красный…» Из Копенгагена приехали моя жена и младший сын, и вот мы здесь. Какое счастье! Теперь продолжу трилогию о Мартине Красном, моем любимом герое…
На всю жизнь запомнилось это исповедальное интервью Мартина Андерсена-Нексе, данное мне, пресс-атташе советского посольства, в Сочельник 1942 года в Стокгольме. История поострее любого детектива, но закончившаяся благополучно благодаря мужеству датских подпольщиков-антифашистов.
Взявшись за руки, мы примкнули к хороводу вокруг елки, а Борис Аркадьевич объявился в моей шубе с наклеенымй белой бородой и усами и стал раздавать детям подарки, которые заблаговременно и в изобилии заготовил.
АНДЕРСЕН-НЕКСЕ Мартин, настоящая фамилия Андерсен, псевдоним Нексе (1869 – 1954), писатель, видный представитель литературы социалистического реализма, заложил основы реалистической датской литературы. Член Коммунистической партии Дании с 1919 года.
Автор известных романов «Пелле-завоеватель» и «Дитте – дитя человеческое», а также «В железном веке», «Кротовьи кочки», «Черные птицы», «К свету», исторической трилогии биографического характера «Мартин Красный», «Потерянное поколение» и «Жанетта», сборника очерков и рассказов «Солнечные дни», публицистической книги «Навстречу молодому дню», драмы «Люди с Дангор-да», пьес «На рассвете» и «Два мира».
Глава 13. Кто есть кто
Наша дружба с профессором Шайковичем началась еще в Финляндии. Незадолго до войны он перебрался с женой и дочкой в Швецию, получил кафедру в старинном Упсальском университете, основанном еще в XV веке. Шайкович – высокообразованный человек, в свое время окончил Петербургский университет. Происходил он из старинной сербской семьи, но всю свою жизнь связал с Россией. Дружил с Горьким, Марией Федоровной Андреевой, Репиным, Бурениным; его первой женой была дочь художника Шишкина, рано умершая. Второй брак был тоже с незаурядной женщиной из русской дворянской семьи. Полиглот, она владела, помимо европейских языков, древнееврейским ивритом и современным идиш.
Шайкович мастерски рассказывал всяческие житейские истории, происходившие с ним. В 1905 году ехали они с Горьким из Финляндии в Петербург. На границе в вагон зашел таможенный чиновник и спросил: «Что везете недозволенного, господа?» На что Горький весело ответил: «Везем русскую революцию». Таможенник опешил.
Профессор был гурманом и сам любил готовить сербские национальные кушанья. При этом он вспоминал какие-то экстра-блюда у Репина. Известно, что Илья Ефимович был вегетарианцем, мяса, рыбы и прочей живности не ел. Но, по словам Шайковича, Репин был не только живописцем, но и кулинарным скульптором и из всяких каш мог подать на блюде роскошную перепелку или поросячью голову из овощей…
Шайкович ревностно служил делу прогресса, без колебаний перешел на сторону Октябрьской революции, близко к сердцу принимал все перипетии в истории нашей страны.
Одним из первых он просигналил нам в 1941 году о концентрации немецко-фашистских войск в Финляндии. Сообщил, что немцы прибывают туда в гражданской одежде. Его наблюдения подтверждали добываемые нами разведывательные сведения: Финляндия готовится выступить на стороне Германии. Живя в Швеции, он поддерживал старые связи с финской профессурой, имея информацию «из первых рук». Через родственников, своих и жены, он располагал данными о положении в оккупированной Югославии.
Другим нашим помощником, выполнявшим эпизодические задания, стала американская журналистка Аннетта, работавшая в те дни в Стокгольме. Она была нашим верным союзником, статьи и заметки, которые помещала в своем журнале, отличались и оперативностью и достоверностью. Я установила с ней дружеские отношения. Помню, что Центр, выполняя просьбу ЦК партии, поручил нам найти в Швеции человека, желательно американца, через которого можно было бы пересылать деньги Розе Тельман, жене Эрнста Тельмана, находившейся в Германии в тяжелейшем положении. После прихода гитлеровцев к власти она была без всяких средств к существованию. Аннетта охотно выполнила это поручение. Во всей своей деятельности она была надежным человеком.
Круг нашей работы расширялся. Мы работали по шестнадцать – восемнадцать часов в сутки и справиться с таким объемом не могли (днем обязанности по посольству, вечерами – наша служба). Осложняло жизнь и то, что мы постоянно находились под наружным наблюдением. Чтобы ввести в заблуждение охранку, установили режим выезда за город. Ежедневно в определенные часы тянули за собой «хвост». «Мол, они каждый день выезжают кататься на лыжах, на подкурях (сани) – зимой, на велосипедах и на автомашине – летом».
Мы сами занимались шифровальной работой, печатали «почту» на пишущей машинке, фотографировали документы, писали тайнописью, стряпали и сооружали тайники. Мне было запрещено иметь домработницу, поэтому уборкой занималась сама. Приходилось иногда готовить кушанья для дипломатических посольских приемов, и после ухода гостей порой обнаруживала на кухне чаевые «для повара».
Мы запросили Центр прислать шифровальщика с женой-машинисткой. Вот об этой супружеской паре и пойдет дальше речь.
…Это был «дитя своего времени». В 20-е годы мальчишка потерял родителей, стал беспризорником. Пристроился в воровскую шайку «форточником» – так он сам говорил о себе. Фамилии своей не знал, и его записали «Пролетарский». Пролетарский и стало его паспортной фамилией.
Из разговора с ним выяснилось, что он был в колонии правонарушителей. Слыл «стукачом», за сообразительность был взят в органы. Окончил школу НКВД и при распределении приглянулся начальнику шифровального отдела.
Он всячески старался оправдать свою фамилию, обладал даром речи, особенно когда кого-либо или что-либо обличал.
Так случилось, что Пролетарский под именем Петрова был послан к нам на работу шифровальщиком. Но теперь этот бывший «форточник» с трудом пролез бы и в окно. Плотно скроенный, среднего роста, темноволосый, неторопливый, он был самоуверен и самодоволен.
«Кин» предложил мне ввести эту пару – Пролетарского и его жену – в курс дела, рассказать им о местных обычаях, о правилах поведения, показать город, магазины, вечерами передавать «хозяйство». Им дали комнату для жилья рядом с «шифровалкой».
И вот мы идем по городу. Жена много моложе его, вертлявая, жеманная, просит пойти в магазин, чтобы «приодеться», хотя оба были экипированы в Москве вполне прилично. Повела их в универмаг «ПУБ» в центре Стокгольма. Перед витриной оба остановились и ахнули – их поразило изобилие товаров. «Вот это да! – воскликнул он. – Давайте зайдем». И оба кинулись к прилавкам с лихорадочно горящими глазами. Она набирала все подряд. «Обождь, надо сперва рассчитать, давай приглядывайся пока и не забывай, что там у нас война, кровь льется, а мы тут безделицы перебираем. О фронте думать надо», – произнес он старательно рассчитанным голосом, а у самого глаза рысью бегают, полки обшаривают.
В это время продавщица распаковывала коробки и раскладывала по прилавку наборы ножей, вилок и чайных ложечек. «Это что, серебряные?» – спросил он у меня. Продавщица подтвердила, серебряные. «Заверните всего по полдюжины». Я перевела, помогла ему расплатиться в кассе. Его жена взяла покупку, но он выхватил из ее рук. «Зазеваешься, у тебя и слямзят. Дай-ка я понесу».
По дороге домой он все время оправдывался: «Хоть и война, но мы люди культурные, я, например, без ножа и вилки обедать не могу, просто есть не стану… А вот когда ем, все думаю, как там на фронте. Я бы добровольцем пошел, да знаю, начальство не пустит. А если бы и пустили, так все равно в штаб засадят, а здесь тоже ведь штаб, да еще какой…»
Вечером я рассказала «Кину» о своих впечатлениях.
– Я еще никогда не видела такого азарта и такой страсти к приобретению. Но самое неприятное то, что вся их возня сопровождалась какими-то фальшивыми патетическими возгласами… Впрочем, может быть, я ошибаюсь, на такую должность знают, кого отбирают.
«Кин» ответил как-то неопределенно:
– Поглядим, поглядим…
В работу Пролетарский и его жена включились нормально.
Однажды утром зашла к ним в комнату, предварительно постучав, требовалось отправить срочную шифровку. То, что я увидела, меня поразило. Они завтракали. На засаленной бумаге была нарезана дешевая колбаса, ломти хлеба лежали на голом столе, рядом казенные стаканы с чаем без блюдец, хотя на днях они говорили, что приобрели сервиз. Ножей, вилок, чайных ложек видно не было. Канцелярский стол, весь в чернильных пятнах, скатертью покрыт не был.
– Что это вы так по-студенчески?
– Мы патриоты, на фронте знаете, как едят. Вот и мы по-скромному, не так как некоторые, – с ударением произнес он.
Я поняла намек. С детства я была приучена мамой красиво накрывать на стол, и супруги Петровы это видели.
Прошло еще несколько месяцев. И вот однажды утром Петров передает «Кину» закрытое письмо с сургучной печатью и просит направить диппочтой в Москву.
– Что за письмо? – осведомился «Кин».
– Это мой секрет.
– Но не от меня.
«Кин» взял ножницы, вскрыл пакет и, прочитав,
помрачнел.
– Это гнусный донос на честного человека. Вы знаете, что он наш работник, офицер, жена его педагог, преподает здесь в школе, у них двое детей. И вы занимаетесь таким подлым делом. Подсчитали, сколько за месяц они съели мяса, хлеба, что купили для ребят.
– А шуба, шуба, – прервал «Кина» Петров. – Знаете, сколько она стоит? Наверно, тыщи. А откуда у него такие деньги? Не иначе как от английской разведки.
– Почему вы решили – от английской?
– Так он же английский изучает.
«Кин» бросил письмо в камин и поджег его.
По совместительству с работой шифровальщика Пролетарский ведал кассой резидентуры. Мы получали у него деньги, давали расписки, затем заменяли их документами о понесенных расходах, чеками из магазинов или почтовыми квитанциями. Свои же расписки забирали обратно и тут же уничтожали.
Как-то я получила у Петрова крупную сумму и спустя некоторое время передала ему квитанцию почтового перевода и отчет о других расходах. Расписку попросила вернуть. Он в это время собирался сжечь собранные у сотрудников черновые документы. Бросил в камин и мою расписку в ворох бумаг и поднес зажженную спичку.
Я ушла.
Месяц-два спустя он напомнил мне, что за мной «есть должок, и немалый». Я удивилась, тем более что речь шла о крупной сумме, за которую я отчиталась.
– Я вам передала квитанцию на денежный перевод и отчет о расходах.
– Совершенно верно. Расписку я вам вернул, и вы ее при мне уничтожили. Но ведь это совсем другая сумма…
Я была ошеломлена. Можно забыть расход на какую-то мелочь, на несколько крон, но речь шла об огромной сумме – о трехстах кронах.
Я стала мучительно вспоминать все свои расходы. Гнала от себя мысль, что он мог эти деньги присвоить.
Получив зарплату, я тотчас внесла названную сумму в кассу резидентуры и все ждала, что Петров «вспомнит» и вернет мне мою расписку…
Самое страшное произошло много времени спустя. Уже в 1944 году, когда я сдавала дела резидентуры и готовилась первым же самолетом вылететь из Стокгольма в Лондон и затем в Москву, Петров предъявил моему преемнику якобы непогашенную мною долговую расписку. Вот в эту минуту я поняла всю меру падения этого человека. Он просто присвоил возвращенные мною деньги. И не только мои. Он систематически обворовывал товарищей по резидентуре. Пьянство, разгул – его стихия.
Я сделала все, что могла, дабы погасить предъявленную мне сумму. В акте о сдаче дел внесла постскриптум: «В свое время я полностью отчиталась в полученных деньгах, расписку при мне, как всегда, Петров бросил в камин, но, оказывается, он расписку не сжег, а деньги присвоил».
По приезде в Москву я написала по этому поводу рапорт, указала, что этому человеку доверять нельзя и его надо немедленно отозвать. Но руководство решило запросить о нем нового резидента и получило ответ, что «Петров его вполне устраивает и он ему доверяет», а у «Ирины» (моя кличка), мол, с Петровым не сложились отношения.
После окончания войны Петров вернулся в Москву, его повысили в должности и через несколько лет вместе с женой вновь направили за рубеж. В Австралии он захватил кассу посольства и резидентуры и стал невозвращенцем «по политическим мотивам». Как выяснилось, его завербовала австралийская разведка. В Австралии он и умер в июне 1991 года.
Уже в наши дни, а именно 15 сентября 1991 года, в газете «Московские новости» появилась корреспонденция из Мельбурна обозревателя газеты «Эйдж» Виталия Витальева, которую, полагаю, уместно здесь привести.
Называется корреспонденция «Шпион, который умер в богадельне». Вот ее текст:
«Это были странные похороны: ни безутешных родственников, ни внезапно попритихших детишек, ни даже традиционной вдовы с заплаканными глазами. Покойного провожала в последний путь лишь небольшая группа мужчин в черных костюмах, в основном сотрудники австралийской секретной службы АЗИО…
Владимир Петров умер в одном из мельбурнских приютов для престарелых в возрасте 84 лет. За 17 лет, проведенных в приюте, его всего лишь несколько раз навестила жена Евдокия. Но формально навещала она не Владимира Петрова, а Свена Эллисона. Именно под этим именем Петров жил в Австралии с тех достопамятных дней 1954 года, когда и произошли события, сделавшие его имя чуть ли не нарицательным.
Кстати, Владимир Петров, так же как и Свен Эллисон, не являлось истинным именем умершего в Мельбурне русского старика. Человек, выдававший себя за Петрова, родился 15 февраля 1907 года в маленькой сибирской деревушке и получил имя Афанасия Шорохова. В 1923 году он вступает в комсомол и одновременно меняет свою фамилию – нет, пока еще не на Петрова, а на Пролетарского, дабы подчеркнуть свой революционный пыл.
В 1927 году Шорохов – Пролетарский становится большевиком и после непродолжительной службы на флоте зачисляется в ОГПУ, где получает должность шифровальщика. В 1937 году он впервые попадает за рубеж, на юго-запад Китая, где НКВД готовил большевистский переворот. За хорошую службу он получает орден Красной Звезды. В Китае он женится на своей коллеге, молодой шифровальщице Дусе, и уже вместе шифровальная чета едет в 1942 году в Стокгольм, в советское посольство под именем Владимира и Евдокии Петровых.
В Швеции Петров занимался слежкой за русскими эмигрантами, однако основной его функцией было шпионить за послом Советского Союза Александрой Коллонтай. Евдокия Петрова тоже не теряла времени даром и пыталась завербовать собственного преподавателя шведского языка, однако безуспешно.
Через несколько лет чета получает новое назначение – в Австралию. В канберрском посольстве Петров был в должностях третьего секретаря, консула и атташе по культурным вопросам одновременно. Однако главной его обязанностью, как и раньше, оставался шпионаж.
В июле 1951 года АЗИО – австралийская разведка – заинтересовалась Петровым. К нему прикрепили внештатного агента по имени Майкл Бялогуски, музыканта, поляка по происхождению. Петров и Бялогуски становятся завсегдатаями канберрских пивных, ресторанов и ночных клубов.
Все чаще и чаще в присутствии Бялогуски Петров поругивает своих коллег по посольству и самого посла Генералова, из чего делается вывод: Петров готов стать перебежчиком. В 1954 году за 5 тысяч фунтов стерлингов он согласился предоставить АЗИО информацию о советских агентах в Австралии и некоторых других странах, но с условием: после этого ему будет предоставлено политическое убежище.
Условие было принято, и 2 апреля 1954 года Петров официально становится невозвращенцем. Интересно, что его жена Евдокия не имела ни малейшего представления о его планах.
Откровения Петрова произвели в Австралии и во всем западном мире эффект разорвавшейся бомбы. Мало кто представлял себе истинные размеры советской шпионской сети. Это был мощный удар по лейбористскому движению, которое в представлении многих ассоциировалось тогда с коммунизмом и Россией.
Но вернемся к Петровым. 20 апреля 1954 года дипкурьеры, они же агенты МГБ, предпринимают попытку насильно вывезти Евдокию Петрову из Австралии в СССР [12]. Информация об этом просочилась в австралийскую прессу, и на аэродроме в Сиднее состоялась демонстрация протеста. Но Евдокию затолкали в самолет, который взял курс на Москву.
Присутствовавший в аэропорту член парламента Билл Уинворт заявил премьер-министру Австралии Мензису, что Евдокию Петрову, по-видимому, увозят против ее воли. Мензис приказал посадить самолет в Дарвине.
В Дарвине она сказала ожидавшим поодаль гебистам: «Вы свободны… Я остаюсь…» На самом-то деле все было как раз наоборот: свободной становилась Евдокия.
Свобода эта оказалась, впрочем, весьма относительной. Всю оставшуюся жизнь Петровым суждено было провести под чужими именами и под охраной. Никто не знал, где они жили, никто не ведал, что под видом больного старого шведа Свена Эллисона скрывался один из самых известных перебежчиков двадцатого столетия. Информация о месте пребывания Петровых до недавнего времени считалась в Австралии государственной тайной, и на сей счет существовал особый декрет. Тем не менее австралийский автор Роберт Манн в 1981 году издал подробное исследование «Дело Петрова».
До конца своих дней Петров жил в постоянном страхе, опасаясь возмездия.
Как верно заметила одна из мельбурнских газет, перебежав из сталинской России на Запад, Петров всего лишь изменил географию своего страха».
Вспоминаю эту мерзкую историю и с горечью думаю: в нашей службе такие ЧП стали появляться все чаще…
В архиве Службы внешней разведки Российской Федерации хранится дело на Зою Ивановну Рыбкину под псевдонимом «Ирина» за № 24267. В нем более двухсот пятидесяти страниц. Оно состоит из различной переписки резидентур в тех странах, в которых Зоя Ивановна работала, и Центра. Большая часть, причем значительно большая, это письма-кляузы Петрова на 3. И. и Б. А. Рыбкиных. Есть и письма самой Зои Ивановны из Стокгольма, в которых она была вынуждена доказывать начальству свою непричастность к якобы исчезнувшим из кассы резидентуры деньгам. Но таких писем немного.
Глава 14. Гётеборгский оркестр исполняет седьмую…
Встреча Нового, 1943 года. За столом большинство – женщины. Многие мужчины – работники торгпредства уже улетели на английских самолетах в Лондон, а затем с конвоем кораблей отправляются в Советский Союз, чтобы вступить в действующую армию.
Новый год советские люди встречают в Швеции на час раньше, по московскому времени. Мы выслушали сводку Совинформбюро. Она радовала. Красная Армия под Сталинградом завершила окружение 22 гитлеровских дивизий и громит их. Все взволнованы, свершен великий подвиг, приближающий нас к победе. В сводке названы освобожденные города и районы. Враг оставляет за собой пепелища, виселицы, выжженные земли.
Бьют куранты. Никогда, кажется, не замирает так сердце и не испытываешь чувство огромной, нежной и неистребимой любви к Родине, как слушая бой кремлевских курантов на чужбине.
И неожиданно, даже не знаю, с чьего почина, люди стали снимать с себя золотые кольца, серьги, мужчины расставались с часами, военный атташе выложил на стол портсигар с дарственной надписью, в годы Гражданской войны он сражался в буден-новской коннице. Александра Михайловна позвонила из санатория, спросила, как советская колония встречает Новый год, и сказала, что вносит в Фонд обороны свою золотую цепочку от лорнета. «А для меня в универмаге «Темпо» купите за крону цепочку «под золото» – кто посмеет подумать…» Уборщица Нюра сняла с плеч настоящую черно-бурую лису, на которую копила два года деньги, чтобы удивить потом своих рязанских земляков. И я сдала свои золотые часы. Бухгалтер составит опись и первой оказией ценности отправит с Советский Союз. Еще раньше работники посольства отдали облигации Государственного займа в Фонд обороны.
– За победу! За нашу славную Советскую Отчизну! – поднимаем мы бокалы.
Ночь… У нас в комнатах пресс-бюро сотрудники «ловят» по радио сквозь хаос вражеских помех новости из Советского Союза. Бюллетень выходит теперь ежедневно, а советские газеты появляются в Швеции раз в два-три месяца.
Сажусь у радиоприемника. Передают из Москвы информацию для областных и районных газет. Записывают сразу несколько человек, вылавливают по слову, иногда схватывают только начало слова, потом соединяют вместе. Закончена сводка. И вдруг из эфира доносится музыка. Что это? Сквозь вой, треск сильно, как родник, пробивается мощная мелодия. Все замирают… Музыка волнует и своей суровостью, и светлыми нотами, горем и надеждой. «Мы передавали Седьмую, Ленинградскую симфонию композитора Дмитрия Шостаковича», – заключает диктор.
И в ту же ночь в Москву летит телеграмма с просьбой выслать партитуру новой симфонии.
Проходит немного времени, и партитура, заснятая на фотопленку, летит через Средний Восток и Африку, плывет на корабле в Америку, оттуда в Англию и затем опять на самолете в Швецию.
Я по совету Александры Михайловны еду в Гётеборг к главному редактору газеты «Гётеборгшё-ок-ханделстиднинген» Сегершельду и прошу помочь установить контакт с известным не только в Гётеборге, но и далеко за пределами Швеции симфоническим оркестром.
Сегершельд весьма доброжелателен и готов содействовать организации концерта. Приглашает посетить вместе с ним его друга-мецената, «шведского Третьякова», коллекционера произведений художников северных стран, за которым и будет решающее слово в этом деле.
Еще несколько недель – и Ленинградскую симфонию Шостаковича исполняет лучший в стране Гётеборгский оркестр. Публика сидит завороженная. Женщины смахивают слезы. Язык музыки интернационален. Заключительные аккорды симфонии собравшиеся выслушивают стоя…
Это было первое в Европе исполнение симфонии Шостаковича. Министру иностранных дел Гюнтеру пришлось выслушать протест германского посольства против «нарушения шведского нейтралитета».
И никто не знал тогда, в каких условиях Дмитрий Дмитриевич писал это свое сочинение – в нетопленной квартире, с огарком догорающей свечи на рояле. Блокадный Ленинград…
Могла ли я в тот момент представить, что пройдет четверть века и в 1968 году я буду удостоена высокой чести в Свердловском зале Кремля вместе с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем получать государственную премию СССР.
…Удалось договориться с рядом шведских газет о публикации в них очерков, статей, рассказов ведущих советских писателей и журналистов.
«Дорогой Алексей Николаевич! – идет за подписью Коллонтай телеграмма Алексею Толстому. – Очень прошу прислать Ваши замечательные рассказы для публикации в шведских газетах». Просьба встречена добром. В шведской периодике появляются «Рассказы Ивана Сударева» Толстого, его острая, емкая, полная драматизма художественная публицистика. Шведы постигают русский характер. Клеветнической геббельсовской пропаганде противостоит суровая, убеждающая правда советского русского мастера слова.
Одновременно Александра Михайловна обращается к своему другу Илье Эренбургу с просьбой присылать специально для шведов статьи, написанные «так ярко, как Вы умеете…».
С Ильей Григорьевичем Эренбургом я была уже знакома. Расскажу, когда и как это случилось.
Однажды в 1936 году я оказалась в Стокгольме у Александры Михайловны Коллонтай. Приехала в полпредство рано утром, чтобы до начала работы повидаться с ней, поделиться впечатлениями и заботами, она всегда обогащала меня своим знанием и пониманием обстановки.
У дежурного охраны я увидела человека, по облику своему рабочего, в дешевом мятом костюме, в темной рубашке с повязанным пестрым, плетенным из гаруса галстуком.
– Я где-то вас видела и сейчас мучительно думаю где? – сказала я.
– Не мучайтесь, – ответил незнакомец. – Я Эренбург.
– Боже мой, простите, Илья Григорьевич.
– Нет проблемы, – ответил он и стал выбивать в пепельницу свою трубку.
– Скажите, это ваша четырнадцатая трубка?
– Это делает вам честь, значит, вы знаете мои «Тринадцать трубок». Браво!… И пойдемте к Александре Михайловне. Она наверняка уже у себя в кабинете.
Александра Михайловна обрадовалась встрече с Ильей Григорьевичем, пригласила нас обоих к себе на обед. Мы провели вместе и вечер. И тогда я впервые услышала его слова о полных мужества, горечи и разочарования днях, проведенных им в республиканской Испании. Эренбург возвращался из Мадрида в Москву.
Не было ничего удивительного в том, что шведские читатели с необычайным интересом встретили публикации Ильи Эренбурга. Более того, в одно из моих посещений редакции газеты «Гётеборгшё-ок-хандел-стиднинген» главный редактор Сегершельд прямо заявил: день, когда мы печатаем Эренбурга, для нас самый доходный день – все экземпляры распроданы, и печатаем дополнительный тираж.
Ко мне обратилась журналистка из женского журнала с просьбой дать интервью на тему «о социализации детей в Советском Союзе». Я долго не могла понять, что от меня хотят. Она сказала, что шведских женщин очень интересует вопрос, имеет ли право женщина-мать в Советском Союзе встречаться со своими детьми, знают ли дети своих родителей, имеют ли право родители давать им имена, или «все это делает государство». У меня мурашки забегали по телу – так страшно стало от подобного представления о нашей жизни. Впрочем, чему удивляться, если шведская интеллигенция, ее элита судили тогда о нашей литературе главным образом по Достоевскому, он был самым читаемым писателем, а о географии Советского Союза шведы в дни войны знали по газетным сообщениям и фронтовым сводкам.
Хотелось познакомить шведскую общественность с нашим образом жизни. Я понимала, что начинать надо с публикации материалов непропагандистского характера. Взяла две книги – воспоминания генерал-лейтенанта А. А. Игнатьева «Пятьдесят лет в строю» и сборник о религии в России. С этими книгами отправилась в издательство «Боньер» – самое крупное издательство в Северной Европе. Находилось оно в Стокгольме.
Меня принял генеральный директор, он же владелец издательства господин Боньер. Шла к нему в кабинет через длинную анфиладу – сквозному ряду комнат-книгохранилищ, где под зеркальными стеклами на полированных полках размещались тысячи и тысячи книг, выпущенных издательством «Боньер» за все годы его существования. Меня поразила эта анфилада – Храм книги.
Господин Боньер выслушал мою просьбу издать названные книги на шведском языке. Я принялась доказывать, что весьма желательно сделать это быстро, выпуск этих книг поможет шведам и всем северным народам лучше понять русского человека, его характер, взгляды, мировоззрение.
Директор издательства заинтересовался обеими книгами и стал объяснять, что очень быстро сделать это невозможно, требуется время, чтобы перевести текст на шведский язык, подготовить оформление, выполнить многообразные типографские работы.
– Раньше чем через три месяца нечего и думать, – извиняющимся тоном произнес господин Боньер.
Удивлению моему не было предела. В такие сроки в нашей стране печатался и печатается только «официоз», директивные материалы, поступающие из высших эшелонов власти. А литературные произведения и тогда и сейчас приходили и проходят анфилады издательских лабиринтов и появляются на свет не через месяцы, а через годы…
Глава 15. Подснежники и ненависть
Она пришла ко мне в пресс-бюро в лыжных ботинках, в шерстяном толстом костюме и шапке, молодая, красивая и очень усталая.
– Я к вам с большой просьбой, – обратилась она по-норвежски.
Я ответила:
– Jaoj icke tala norske. Tabar ne tusk Sprechen Sie Deutch? (Я не говорю по-норвежски. Говорите ли вы по-немецки?)
– Назовите себя. Кто вы?
– Я член Народного антифашистского общества. Зовите меня просто Альма. Дело в том, что мы организовали у себя подпольное кино. Очень просим дать несколько советских кинофильмов, которые мы могли бы показывать нашим людям. У нас есть возможность переснять эти ленты на узкую пленку. Хоте лось бы иметь фильмы о ваших партизанах, о Ленинграде, о Сталинграде и, конечно, о любви…
Мы пересели за круглый столик. Я вскипятила кофе, и разговор принял задушевный характер.
Альма рассказала, что норвежская молодежная организация Сопротивления, которая входит в антифашистское общество, сожгла помещение, где хранились копии паспортов норвежских граждан с фотографиями. Гитлеровцы часто проверяют у жителей паспорта и сверяют их с теми фотографиями, которые хранят в картотеке.
– А теперь они этой возможности лишены, и мы можем сегодня жить по одному паспорту, завтра по другому.
– В Норвегии немцы создали концлагеря для русских военнопленных. Имеете ли вы с ними связь?
– Да, это так, – подтвердила Альма. – Всем, чем могут, норвежцы помогают русским, а недавно произошло уникальное событие. Немцы привезли в Норвегию на корабле большую партию советских военнопленных, погрузили их в железнодорожный состав и отправили с юга на север страны. На одной из остановок русские перебили охрану и ушли в лес, в горы, в направлении к Швеции. Гитлеровцы устроили облаву. С самолетов сбрасывали листовки, призывали население задерживать беглецов и сдавать немецким властям. Угрожали: за любую помощь русским – расстрел на месте. И несмотря на это…
– Да, да, – перебила я ее. – Около двух тысяч человек уже добрались до Швеции. Шведские власти их интернировали.
Пленные рассказывали нам подробности. Пробираясь через лесные чащобы, которыми покрыты горы Норвегии, наши товарищи, вырвавшиеся из концлагерей, находили на деревьях развешанную одежду, обувь, перевязочный материал, бинты, вату, карты, хлеб, сыр, даже молоко, компасы, записки: «Идите прямо на восток, чтобы вам в глаза всегда светило солнце». Были даже чертежи с указанием тропинок, дорог, мостов через горные реки, по которым можно безошибочно обойти расположение немецких гарнизонов у границ со Швецией.
Анонимная щедрая помощь спасла жизнь нашим соотечественникам, хотя некоторые норвежцы и жестоко поплатились за это.
У нас еще мало знают, какой размах приобрели силы сопротивления фашизму в Норвегии, в этой небольшой стране отважных мореплавателей и первопроходцев, стране Амундсена, Нансена, Тура Хейердала. В годы войны норвежцы были крепко спаяны ненавистью к оккупантам, их мужество и отвага беспредельны. Норвежский флот – большие и малые суда сумели вовремя уйти в Англию и вывезти с собой золотой запас, правительство и короля Хокона VII.
Немцы мстили норвежцам за все.
Идет молодой человек, в руке семь красных гвоздик. «Семь гвоздик в честь короля Хокона VII». Красный цвет, гвоздики – символ борьбы и свободы. Гестапо хватает юношу. Расстрел.
Из кармана пожилого человека торчит кончик гребенки. Жители почтительно приветствуют его. Они знают: гребенка – это призыв: «Вычешем интервентов из страны!» Старика хватают гестаповцы.
Даже канцелярская скрепка на нагрудном кармане приводит гитлеровцев в ярость. Ведь она означает: «Скрепим в борьбе единство!»
Девизом норвежских патриотов были стихи поэта Нурдаля Грига, призывавшего к борьбе:
Смерть озаряет, как вспышка, Путь непреклонной судьбы. Самые лучшие гибнут В пламени нашей борьбы. …………………………… Лучших смывают волнами, Пулей сметают с земли. Будущему эти люди Отдали все, что могли [13].Нурдаль служил во время войны в английской армии капитаном. В декабре 1943 года он полетел бомбить Берлин и там погиб.
Молодые подпольщики в горах, селах, фиордах выводят из строя технику врага. Ими руководят вожаки комсомола, обосновавшиеся в горах. Наш разведчик, нелегал «Антон», находившийся в первые месяцы оккупации в Норвегии (о нем я еще расскажу), подобрал себе среди этих молодых людей надежных помощников.
…С Альмой установились добрые, дружеские отношения. Мы организовали печатание бюллетеней на тонкой бумаге, чтобы их удобно было тайно проносить в Норвегию и чтобы в случае проверки немецкие патрули не смогли их обнаружить. Прятал бюллетени в корешках книг, в спичечных коробках, в одежде, в обуви. Печатали их на шведском языке, который хорошо понимают норвежцы. Раз в неделю в пресс-бюро за бюллетенями являлся курьер от Альмы. Так новости из Советского Союза доходили до жителей оккупированной Норвегии. К слову скажу, что бюллетени, специально отпечатанные на тонкой бумаге, мы переправляли и в Финляндию, где шведский язык государственный.
Альма стала нашим помощником в разведке. Она первой передала нам информацию чрезвычайной важности о том, что немцы готовят сверхсекретное оружие, способное уничтожать все живое. Немцы расширили производство «тяжелой воды» на заводах компании «Норск гидро». Добытая с помощью сложного технологического процесса «тяжелая вода» вывозилась немцами из Норвегии в Германию. Акционерами «Норск гидро» были шведские мультимиллионеры братья Валленберги, с которыми нам еще предстоит познакомиться.
Со своими курьерами Альма изо дня в день сообщала нам о передвижении в Норвегии немецких войск и военно-морских судов.
Вскоре после Сталинградской битвы норвежское антифашистское общество прислало в Швецию свою делегацию. Их было пятеро – двое мужчин и три женщины, нелегально пробравшиеся в Стокгольм. Возглавляла их Альма.
Была торжественная и трогательная минута, когда норвежцы, пришедшие в пресс-бюро, развернули перед нами пронесенное через вражеские кордоны знамя с вышитой на нем красной звездой. Это символ интернациональной солидарности они просили передать жителям Сталинграда, героически помогавшим Красной Армии отстоять свой город.
Я принимала это знамя по поручению нашего посла и высказала слова благодарности и пожелание успехов норвежцам в освободительной борьбе. С чувством признательности говорила об их бесценной помощи советским военнопленным, отважно вырвавшимся из концентрационных лагерей.
…Всегда испытывала и испытываю самое сокровенное чувство любви и уважения к Норвегии и ее людям. Эту небольшую северную страну омывает теплое Северо-Атлантическое течение. В апреле в столице Осло цветут миндаль и подснежники, а на севере – район вечной мерзлоты. Норвежцы обладают нежным и отзывчивым сердцем. Наше поколение помнит бескорыстную щедрую помощь норвежского народа, спасавшего от голода двадцатых годов наше детство.
Глава 16. Пароль: «Золотые Коронки»
В Европе во время второй мировой войны оставалось немного нейтральных государств.
Советская разведка в Швеции имела своей основной задачей собирать информацию о политическом и экономическом положении Германии и ее военных планах. С этой целью наша разведка создала несколько опорных пунктов – разведывательных групп. В портах Норвегии действовала группа «Антона». На севере Швеции в приграничной полосе с Финляндией наша агентурная группа регистрировала переброску в Финляндию немецкой военной техники и воинских частей. В южных портах Швеции другая агентурная группа наблюдала за взаимными германо-шведскими поставками.
С «Антоном» я поддерживала связь еще до войны. «Антон» – ветеран германского революционного движения, бывший моряк-подводник, один из руководителей известного Кильского восстания немецких моряков в ноябре 1918 года. С советской разведкой он был связан с начала ее существования. Это был своего рода немецкий Дыбенко, он пользовался большим авторитетом и любовью моряков германского флота. Человек крепко сбитый, суровый на вид, весьма организованный и требовательный. Одно время еще в буржуазно-юнкерской Веймарской Германии, до прихода к власти Гитлера, он был избран членом ЦК германской компартии, и связь нашей разведки с ним была прервана. Коммунистов, как правило, мы в разведку не привлекали. Это было запрещено, дабы не нанести компартиям ущерба и не давать повода обвинить Советский Союз в «экспорте коммунизма».
Когда Гитлер пришел к власти, «Антон» вынужден был выехать в Норвегию. Здесь мы и восстановили с ним связь.
Шел 1938 год. Понадобилось снабдить группу «Антона» новыми паспортами, шифрами, деньгами, инструкциями. В Норвегии в то время резидентуры у нас не было, и мне поручили поехать к «Антону». В случае опасности я обязана была уничтожить паспорта и шифры и найти возможность передать ему деньги.
Я была тогда представителем советского «Интуриста» в Финляндии. Поехала в Норвегию через Швецию, куда добиралась пароходом, а оттуда поездом в Осло.
Поезд пришел рано утром. Я направилась в гостиницу. У дежурного администратора заполнила бланк, уплатила за номер. Было часов семь утра. Для того чтобы вызвать «Антона» на встречу, я должна была посетить зубного врача и просить его сделать «шесть золотых коронок на передние зубы». Таков был своего рода пароль для вызова «Антона».
Врач принимал с десяти утра. Я решила передохнуть, заперла комнату, надела халат и прилегла. В девятом часу раздался стук в дверь. Слышу за дверью топот ног, видимо, нескольких человек.
– Кто там? – спросила я по-немецки.
– Директор гостиницы, мадам, откройте, пожалуйста.
– Я отдыхаю, прошу зайти часов в десять.
Шаги отдаляются. Приход нежданных гостей меня насторожил. Нам было известно, что в Норвегии гестапо действует активно и создало там «пятую колонну». Если приход в гостиницу дело их рук, то следует немедленно сжечь шифры, а паспорта разрезать на мелкие кусочки и спустить в унитаз. Но это значит надолго затормозить работу группы «Антона» и ее связь с Москвой.
Села в кресло и стала соображать, что же делать. Несколько раз сжимала пачку тоненьких листков шифра, но не набралась духу разорвать их. Кроме того, у меня в сумочке, если не ошибаюсь, было шесть паспортов. В них спасение для группы «Антона». Нет, встречу с «Антоном» срывать нельзя. Засовываю паспорта за «грацию», в левой руке сжимаю шифр, готовясь в случае чего сжевать его и проглотить. Нарушу данную мне инструкцию? Да, нарушу. Но любым путем надо передать «Антону» тайную ношу, которую запрятала на себе.
Около десяти часов я стояла у двери с сумочкой в руке, решив никого к себе в номер не впускать и вести диалог в коридоре.
Ровно в десять стук. Я мгновенно распахиваю дверь и перешагиваю через порог в коридор.
– Мадам, разрешите зайти.
Передо мной трое мужчин. Один из них отвернул лацкан пиджака, и я увидела на нем какой-то металлический знак. «Из полиции», – поняла я. Он сделал движение, как бы подталкивая меня обратно в номер, но я стала нарочито громко, почти истерически кричать:
– Ни в одном цивилизованном государстве, ни в одной гостинице я не встречала такого приема. Вам известно, я директор «Интуриста» в Финляндии, и мы в наших отелях в Москве не нарушаем покоя и оказываем приезжим гостеприимство.
Двери гостиничных номеров, вижу, открываются, вокруг нас собираются люди.
Рассерженная, оскорбленная, я громогласно заявила, что ни одной минуты не останусь в этой гостинице и с первым же поездом уезжаю обратно.
– Подайте мне чемодан, – потребовала я.
Директор отеля пытался уладить конфликт, просил остаться, зайти к нему, и он объяснит, что никаких злых умыслов здесь нет.
Я взяла свой маленький чемоданчик, сердито сказала: «Адье, господа» – и спустилась вниз. У подъезда стоянка такси. Я села в первое попавшееся и нарочито громко, чтобы услышал швейцар, приказала:
– На вокзал!
Машина тронулась. Когда мы свернули на другую улицу, я попросила шофера подвезти меня к магазину на углу проспекта. Из магазина вышла на другую улицу, поймала такси и назвала другой крупный магазин, где – я это знала – тоже был выход на две улицы.
Убедившись, что «хвоста» нет, поехала к зубному врачу. В приемной сидела женщина, у которой только что удалили зуб, и врач пригласил меня к себе в кабинет.
Я удобно уселась в зубоврачебное кресло и произнесла условную фразу:
– Шесть золотых коронок на передние зубы.
Доктор глянул на мои белоблестящие, без единого изъяна зубы, все понял, широко улыбнулся и сказал: «Будет сделано». Это означало, что через час мы встретимся с «Антоном» на Холменколен, в живописном пригороде Осло.
Я вышла на улицу, убедилась, что слежки нет, на минутку забрела в кафе, съела пару бутербродов с лососиной и ветчиной, выпила чашку кофе и пошла «проверяться». Все было спокойно. На одной из тропинок Холменколен еще издали увидела «Антона». Он смотрел на часы и с беспокойством озирался вокруг. Я пришла на место встречи с опозданием на одну минуту.
«Антон», увидев позади меня какого-то прохожего, взял меня под руку и увлек в лес.
– Изобразим влюбленную парочку.
Мы уселись на пеньки. Он очень тщательно прочитал шифр, пролистал паспорта, поворчал, что одному из членов группы прибавили возраст на три года, поставили вместо «24 года» «27 лет».
– Узнаю русское «авось». Сойдет, мол. Ты мне скажи, как вы готовитесь к войне с Германией? Или все еще исповедуете заповедь «Чужой земли не хотим, но ни пяди своей никому не отдадим»?…
– Милый «Антон», ты мне не нравишься, желчный, раздражительный. Я таким тебя не знаю.
– Признаюсь, я болен, у меня Horbes soster, опоясывающий лишай.
– Лекарство есть?
– Вот оно, лучшее лекарство, – похлопал он по паспортам. – Ребята примутся за дело, и я сумею пару деньков полежать. У нас все готово к операции. Будем хоронить немецкий транспорт с оружием для Франко… Скажи в Москве, чтобы на честность фюрера не рассчитывали. Я подготовил здесь письменный отчет о работе группы и финансовых расходах.
«Антон» вручил мне коробку игральных карт. В ней вместо карт была вложена его докладная записка. Я ее прочитала, записала содержание своим кодом в блокнот и объяснила ему, в какой обстановке я оказалась и что меня может ожидать. Отчет посоветовала немедленно сжечь.
Со свойственной ему прямотой «Антон» спросил:
– Ты уверена, что не притащила за собой «хвост»?
– Наверняка нет, – ответила я.
Его интересовало положение в нашей стране, в партии. Он очень неодобрительно отозвался о чинимых у нас репрессиях, сказал, что он этого не понимает и воспринимает как «массовый террор против ленинцев». Признаюсь, я не располагала аргументированными возражениями, хотя мы с мужем часто на эту тему говорили, сами не понимая, откуда вдруг в нашей партии оказалось столько врагов. Я так ему и сказала.
…«Антон» стал свидетелем оккупации Норвегии фашистской Германией. Его группа провела крупную акцию: потопила несколько военных немецких кораблей, заложив в них мины замедленного действия с часовым механизмом.
Гестапо удалось напасть на след «Антона», и он нелегально перешел в Швецию. Но и здесь гитлеровцы его обнаружили и потребовали у шведов его выдачи. Тогда мы предприняли свои меры.
«Кин» добился разрешения на свидание с «Антоном» в тюрьме и посоветовал ему «признаться» в шпионской деятельности против Швеции. «Об остальном мы позаботимся сами», – добавил «Кин». «Антон» этот маневр принял и дал показания, что занимался в Швеции шпионажем в пользу советской разведки. Тем временем в Москве оформлялось принятие в советское гражданство Вольвебера – таково было настоящее имя «Антона».
Переговоры со шведами закончились тем, что они отказались выдать его немцам, мотивировав свой отказ так – он должен быть судим по шведским законам.
После окончания войны Вольвебер, так и не дождавшись суда, был шведами освобожден и выехал в спасенную от фашистов Германию. Он был назначен министром внутренних дел ГДР. Во время венгерских событий в 1956 году Вольвебер, как мне рассказывали немецкие товарищи, занял резко отрицательную позицию в отношении ввода войск в Венгрию. За это он был снят с должности министра и исключен из партии (СЕПГ). Вскоре он умер.
Глава 17. «ФАУ-1»
В кабинете Александры Михайловны Коллонтай собрались ее советники и военный атташе. На столе были разложены разного размера чугунные осколки какой-то бомбы. Их доставили помощники военного атташе и члены нашей разведгруппы, действующие на севере Швеции. Из утренних газет мы уже знали, что в Северной Швеции взорвался неизвестно откуда запущенный снаряд огромной разрушительной силы. Что это? Своего рода тунгусский метеорит? Но на каждом осколке выдавлено четко «Made in Germani».
В тот же день гитлеровцы оповестили мир через газеты и радио, что «Советы запустили на нейтральную Швецию таинственный снаряд». В правых и профашистского толка шведских газетах началась разнузданная антисоветская истерия.
– Несомненно, – вертит в руках бесформенный осколок Александра Михайловна, – это провокация.
Но надо разобраться, что к чему. Не первый раз Германия старается поссорить Швецию с Советским Союзом, вовлечь ее в войну, заполучить свежие шведские дивизии, флот. На какие только ухищрения не идут немцы, чтобы запугать шведского обывателя советской угрозой.
– Почему гитлеровцы указывают обратный адрес, почему бы им не выдавить штамп: «Сделано в СССР»?
– По моим данным, – отвечает военный атташе послу, – немцы изобрели новое оружие, ракету дальнего действия. Запускают ее с катапульты.
– Но зачем было запускать снаряд на Швецию? – задает вопрос Александра Михайловна.
– Наши сведения таковы: идет испытание этого оружия, – говорит Николай Иванович. – В самой Германии его не испытаешь: и территория не позволяет, и зачем разрушать свое, когда можно использовать нейтралов?
Завязался оживленный обмен мнениями. Сошлись на том, что это действительно испытание и немцам необходимо знать, где упал снаряд, какие разрушения причинил, какой глубины воронка, ее диаметр. Им необходимо получить точные сведения. По дипломатическому протоколу МИД Швеции обязан направлять ноту МИД Германии с описанием времени, места и разрушительных действий, причиненных снарядом, о человеческих жертвах. А это немцам и требуется. Если их расчеты будут нотой подтверждены, шведы могут спать спокойно, если же нет – нужно ждать очередного скорректированного удара, нового запуска.
Военный атташе развернул карту Европы, взял со стола линейку и измерил расстояние от центра Германии до места падения снаряда в Швеции, затем измерил расстояние до Великобритании, Швейцарии, Турции, СССР и, потерев ладонью лоб, решительно сказал:
– Мне кажется, этот снаряд рассчитан в первую очередь против Англии.
– Совершенно согласна с вами, – говорит Александра Михайловна.
И, развивая эту мысль, подчеркивает, что не случайно применение этого оружия совпадает с предстоящим открытием второго фронта. Живая сила у немцев на исходе, им нужно деморализовать народ Великобритании, заставить Англию уступить, выйти из войны, заключить с Германией сепаратный договор.
– Пока же нам надо сделать все, чтобы погасить здесь антисоветскую истерию. Я поеду сейчас в МИД, – заключила Александра Михайловна.
Проходит несколько дней, и гитлеровцы уже в открытую заявляют, что новое оружие возмездия – «Фергельтунгсваффе», кратко «ФАУ-1» – предназначено для Англии.
За последующие месяцы тысяча четыреста две ракеты были применены против Англии. Пятьсот семнадцать «ФАУ-1» взорвались в Лондоне, крушили, сжигали жилые дома, целые кварталы. Но англичане выстояли, и никакие ракеты спасти Гитлера и его клику уже не могли.
…В советскую колонию прибыли в командировку два молодых человека. Они не скрывали того, что являются военными летчиками, фронтовиками. На собрании в посольстве они полушутя-полусерьезно заявили, что посланы сюда с целью ознакомить советских людей с положением на фронтах.
На самом деле их приезд был связан с секретной операцией по закупке инструментов из знаменитой шведской стали, необходимые для нашей авиационной промышленности. По договору с Германией шведская руда и стальные изделия начисто вывозились немцами. Военная техника Германии – танки, артиллерия, самолеты на одну треть были оснащены шведскими шарикоподшипниками (СКФ), и немцы строжайше следили за тем, чтобы ни один грамм шведской стали не попал в руки их противников.
С советской стороны в операции по закупке шведских инструментов участвовали торгпред, косвенно, посол и «Кин». Переговоры велись втайне, и шведы шли на эту сделку с опаской. Они потребовали, чтобы оплата за их изделия была осуществлена русской платиной. «Кин» получил бруски платины диппочтой и, показав их мне, спросил: «Что это?» Я увидела на столе продолговатые тусклые чушки со скошенными краями и какими-то вдавленными знаками. «Это олово?» – спросила я, вспомнив свою работу в юности паяльщицей на заводе в Смоленске. «Пощупай», – предложил он. Я схватила чушку, но еле оторвала ее от стола – такая она была тяжелая. Первый раз в жизни я видела внешне не столь блистательную, но безмерно тяжелую, дорогую, благородную русскую платину…
Летчики прилетели прямо из Москвы, пересекли линию фронта, и шведское правительство организовало их посадку на запасном аэродроме.
Рано утром пилот и штурман уехали из посольства. Им дали с собой большую сумку с очень красивыми яркими зажигалками – подарок от работников советской колонии их воинской части. Исчезли они так же внезапно как и появились.
Коллонтай направила телеграмму о вылете самолета. Командир заверил, что обратный путь тщательно отработан и согласован с соответствующими штабами. Но до Москвы они не долетели – были сбиты огнем вражеской артиллерии.
Наши товарищи хотели сфотографироваться с этими веселыми, обожженными войной парнями, но они были суеверны…
Облик озорного пилота и чернявого штурмана, влюбивших в себя всю советскую колонию, до сих пор в моей встревоженной памяти.
Глава 18. Диалог
В то утро «Кин», как всегда, поднялся рано, сунул мне под подушку записку и умчался. Он каждое утро один час играл в теннис, а летом – в регби. Это не было просто спортивным увлечением. На теннисном корте по утрам собирались дипломаты, шведские промышленники, связанные коммерческими отношениями с иностранными государствами. Здесь заключались торговые сделки, дипломаты старались сформировать общественное мнение по актуальным вопросам. И разведчики, конечно, тоже не упускали своего интереса.
Я проснулась, пошарила рукой под подушкой, нашла записку, в которой после слов признательности и любви написано: «А. М. пригласила меня для длительного конфиденциального, весьма важного разговора «t?te-a-t?te» [14]. Понятно, значит, теннис не состоялся, и «Кин» сидит сейчас в кабинете у Александры Михайловны.
Что же мне делать, раздумываю я, продолжить работу над историей Аландских островов [15], о которых наши газеты тогда писали как о револьвере, нацеленном на Ленинград, или испечь давно забытые пироги, тем более что сегодня воскресенье и по радио сообщили о нашем летнем успешном продвижении на Курском выступе и на Кавказе.
«Кин» вернулся взбудораженный, озабоченный, рассказал мне о беседе с Коллонтай. Постараюсь восстановить в памяти их диалог.
По моему восприятию, он выглядел так.
А. М. Очень, очень важно мне с вами посоветоваться. Сейчас даже шведы пересматривают, вернее, выправляют свой нейтралитет. Я вспоминаю, что король Густав V пожелал победы Гитлеру в войне против Советского Союза и грозил отречься от престола, когда шведское правительство готово было отклонить германское требование о транзите их войск и техники через Швецию… Времена наступили иные.
К. Вы правы. Вспомните, вопреки давлению Берлина шведы не пошли на запрет компартии.
А. М. Я все время думаю, как при помощи тех же шведов вырвать Финляндию из этой войны. Вы хорошо знаете эту войну, ее людей. Давайте вместе подумаем, как подойти к этому.
К. Да, мне довелось работать там четыре года.
А. М. И вы вели с финнами переговоры о заключении добрососедского соглашения.
К. К сожалению, финал был драматичный.
А. М. Мне бы хотелось знать, как все это начиналось и проходило. Я об этом наслышана, много читала, а сейчас мне важно узнать обо всем из первых рук.
К. Это было в 1938 году. В начале апреля я был вызван из Хельсинки в Москву. Обычно каждый вызов объяснялся – к чему следует быть готовым. Но даже прибыв в Москву, на Лубянку, мне было сказано только то, что меня вызывают на самый верх.
Хорошо помню – это было 7 апреля утром у Спасских ворот я предъявил дежурному офицеру свое удостоверение личности. Молодой человек в гражданской одежде предложил проводить меня. В правительственном корпусе Кремля я был впервые. В приемной, очевидно, дежурный секретарь, взглянув на часы, сказал: «Присядьте, пожалуйста, через пять минут вас примут». Я еще не понимал, кто меня примет и по какому вопросу. Но вот раздался тихий звук зуммера. Секретарь распахнул дверь и пригласил меня пройти. Я вошел в кабинет и, к моему изумлению, увидел Сталина. Я стал по стойке «смирно».
Иосиф Виссарионович вышел из-за стола.
«Здравствуйте, здравствуйте, надеюсь, вы знакомы, – указал он рукой на присутствующих здесь Молотова и Ворошилова. – Присаживайтесь. Расскажите, пожалуйста, о себе, мне тут дали о вас «объективку», а я предпочитаю лучше раз увидеть и услышать».
Я доложил свою несложную биографию.
Затем Сталин стал подробно расспрашивать меня о Финляндии и проявил при этом хорошее знание истории и культуры нашего соседа.
«Сосед невелик, но границы его с нами уже растянулись более чем на тысячу километров. Кроме того, мы соседствуем с ним на Баренцевом море и на Балтике».
Сталин был хорошо осведомлен не только о политической, экономической и культурной жизни страны, он интересовался вооруженными силами, регулярной армией, воздушными и военно-морскими флотами и военными формированиями партии ИКЛ [16].
Когда я сказал, что финны имеют два крейсера – «Ильмаринен» и «Вяйнямойнен», Сталин живо отреагировал: «О, это из древнего финского эпоса «Калевала». Спросил он также, много ли сохранилось у финнов карельской березы, поинтересовался, чем финны привлекают в свои реки и водоемы угрей из Саргассова моря [17]. Задал вопрос, знаком ли я с композитором Сибелиусом. Я был поражен широким диапазоном познаний Сталина. Как видно, к этой беседе он основательно подготовился.
А. М. О, я знаю, он на это и рассчитывал. Иосиф Виссарионович любит произвести впечатление.
К. Иногда Сталин делал паузу, молчал и молча чистил свою трубку, набивал ее свежим табаком. Трубка в его руке походила на четки. Он все время «играл» ею – постукивал по столу, посасывал, разжигал, и я заметил, что Сталин, как и я, левша. Но я, как и он, пишу правой рукой.
A. M. A мне кажется, что он больше действует не правой, – многозначительно сделала она ударение на последнем слове.
К. И все же я не понимал, зачем я тут понадобился.
А. М. Какие вопросы вам задавали Молотов и Ворошилов?
К. Пока Сталин меня расспрашивал, они молчали. Наконец Иосиф Виссарионович, обратившись к ним, спросил: «Ну, как ваше мнение, поручим ему?» Оба в знак согласия кивнули головой. «Так вот, дорогой товарищ, товарищ…» – замялся Сталин. «Рыбкин», – подсказал я. Сталин засмеялся. «У вас, разведчиков, всегда столько фамилий, профессий, что вы, наверное, в них сами запутались… Мы решили уполномочить вас вести строго секретные переговоры с правительством Финляндии. Молотов вставил: «Полпреда Асмуса мы отозвали, и вы будете временным поверенным в делах. До приезда нового полпреда». – «Вы решили, – спросил Сталин у Молотова, – послать туда этого директора электростанции, как его? Древесный? Деревянный?…» – «Деревянский», – уточнил Молотов. «Но об этих переговорах ни одна душа не должна знать, – предупредил Сталин. – Речь идет о нашем желании заключить с Финляндией двусторонний оборонительный договор на случай, если Германия через территорию Финляндии напала бы на Советский Союз. СССР со своей стороны даст гарантии о своих мирных намерениях в отношении Финляндии и обеспечит независимость страны».
А. М. Оборонительный договор, – как бы взвешивая произнесла Александра Михайловна. – Это было бы то, что надо.
К. Я выразил сомнение: Финляндия вряд ли согласится на такое соглашение. Она увязла в своих обязательствах гитлеровской Германии. С помощью и силами германских специалистов финны возводят мощную линию укреплений на границе с Советским Союзом. «Это нам известно, – подтвердил Ворошилов. – Маннергейм большую часть времени проводит в Германии. Финские военачальники окончили германские военные академии». Я заметил, что следует учитывать и то, что профашистские военные отряды втрое превосходят регулярную армию Финляндии. Антисоветская кампания приняла в стране широкий размах.
«На кого ориентируется министр иностранных дел Холсти?» – спросил меня Молотов. «Безусловно немецкой ориентации», – ответил я.
Сталин сказал: «Объясните финнам, что советское правительство полно желания уважать независимость и территориальную целостность Финляндии. Но мы абсолютно убеждены, что Германия вынашивает далеко идущие планы агрессии против СССР, и следует Дать понять, что если германская армия высадит свои войска на территорию Финляндии и обрушит оттуда атаки на нашу страну, Советский Союз не собирается пассивно ждать, пока немцы прибудут в Райяёки [18].
А. М. Очень, очень интересно. Я знаю, что за год до этого Холсти приезжал в Москву, заверял советских руководителей, что Финляндия желает жить в мире со своим восточным соседом и что Ворошилов предложил дать какие-то гарантии этому, но Холсти сослался на то, что такие вопросы решает правительство. А финское правительство никак не реагировало.
К. Сталин стал шагать по ковровой дорожке в своих мягких сапогах и размахивал трубкой, которую он все время держал в левой руке.
А. М. У Сталина правая рука плохо действует.
К. Я этого не заметил… Сталин продолжал ходить и как бы разговаривал сам с собой. «Вы подумайте, – говорил он, не обращаясь, собственно, ни к кому, – современная артиллерия способна расстрелять Ленинград с Карельского перешейка. Было бы очень важно заключить соглашение с Финляндией об обмене территориями. Они отодвигают свою границу, скажем, за Выборг, а мы их компенсируем районом, богатым карельской березой и мачтовым лесом с территории Карелии. Ведь финны на своей стороне все вырубили, лес снесли. Но это следующий этап…»
Я выразил сомнение, что коалиционное правительство Каяндера в этой антисоветской обстановке, создавшейся в стране, способно пойти на какие-то шаги, в которых не заинтересована гитлеровская Германия.
Сталин сердито посмотрел на меня и спросил: «Вы сомневаетесь в своих способностях?» – «Нет, Иосиф Виссарионович, сомневаюсь в способностях финляндского правительства».
«А с Таннером можно говорить? Ведь он основатель социал-демократической партии Финляндии, партии очень влиятельной, известный государственный деятель, президент Международного кооперативного альянса». Я сказал, что Таннер занимает резко антисоветские позиции.
Разговор длился, наверное, два часа. Сталин интересовался также возможностями разведки.
Я вернулся в Финляндию, встретился с Холсти. Тот выслушал и сказал, что доложит премьер-министру, но поинтересовался, подразумеваю ли я, говоря о возможной советской помощи Финляндии, продажу ей советского оружия. Я ответил, что при переговорах об экономической помощи, возможно, будет принят во внимание и этот вопрос. Холсти сказал также, что без консультации с правительствами других Скандинавских стран едва ли Финляндия может решать эти вопросы.
Переговоры с финнами велись целый год. В октябре 1939 года, когда уже началась мировая война, советское правительство пригласило финскую правительственную делегацию в Москву, но переговоры закончились полным крахом.
А. М. Да, во всем мире эта война стала весьма непопулярной. Такой колосс, как Советский Союз, обрушился на маленькую Финляндию. Стоило многих усилий уговорить шведов не ввязываться в эту войну на стороне Финляндии… Сейчас ситуация иная, – резюмировала Коллонтай. – Теперь, думаю, можно уговорить шведов выправить свой нейтралитет, запретить немцам транзит войск и военной техники через Швецию на север Финляндии, а также использование шведского воздушного пространства для курьерских самолетов и шведских морских вод для перевозки немецких военных грузов. Скажите, есть ли в Финляндии сильная организованная антигитлеровская оппозиция, готовая вывести финнов из войны?
К. Конечно, есть. Это прежде всего Паасикиви, дипломат, бывший посол в Швеции, молодой парламентарий Кекконен, жена главного редактора газеты «Сосиали Демократи» журналистка Сюльви Кюлики-Кильпи. Жена Таннера, как ни странно, в отличие от мужа стоит на крайне левых позициях, но большого влияния в социал-демократической партии не имеет. К сожалению, активная группа борцов за мир изолирована от общества – большая часть оппозиции заключена в тюрьмы.
А. М. Нам сегодня необходимо действовать сообща. Я надеюсь на вашу помощь, на помощь военного и военно-морского атташе, на моих советников, на торгпреда. Мне нужна очень подробная информация – кто нам может способствовать в этом деле и кто будет препятствовать в Швеции и в самой Финляндии против ее разрыва с Гитлером.
…И началась целенаправленная работа всех звеньев: посольства и торгпредства, нашей службы, поиски контактов с людьми, которые могут способствовать выводу Финляндии из войны.
Александра Михайловна почти каждый вечер общалась с членами своей «команды», чтобы выслушать информацию и различного рода рекомендации. Она старалась воздерживаться от комментариев, вынашивая какой-то свой план.
Глава 19. Директор
«Красная капелла» – наша разведывательная группа – действовала в Берлине еще до войны. Первые ее шаги связаны с приходом к власти Гитлера. В эту глубоко законспирированную группу входили представители прогрессивной немецкой интеллигенции, офицеры генерального штаба, бывшие руководящие деятели либеральных партий.
Еще находясь в Москве, мы восхищались самоотверженной деятельностью «краснокапельцев» и каждый раз с душевным трепетом ждали от них вестей…
И вот здесь, в Швеции, в 1942 году мы получаем сверхоперативное задание Центра: немедленно подыскать подходящего человека, которому можно доверить передачу для «Красной капеллы» нового шифра и кварцев для радиостанции.
«Кин» и я прибыли в здешнюю резидентуру практически на пустое место и только-только обзаводились нужными связями и приобретением агентуры.
Прежде всего надо было найти человека, имеющего деловые связи с Германией, совершающего регулярные поездки из Стокгольма в Берлин. Стали искать такого среди наших довоенных промышленных и коммерческих клиентов. Но, увы, многие из них, после того как война прервала торговые отношения с Советским Союзом, связались с фирмами других стран, преимущественно с английскими, а некоторые предпочли немецкие.
Кроме всего прочего, нам требовался человек абсолютно надежный, кому мы могли бы доверить уникальную ценность, которой располагала наша разведка в Европе, – неповторимую «Красную капеллу».
Мы понимали всю важность и ответственность задания. Тем более что срок нам был дан архикороткий – две недели.
Трудно передать наши переживания и каких усилий стоило найти такого человека. Дорожили каждой минутой. Перебрали десятки и десятки персонажей. «Проиграли» самые, казалось бы, невероятные и непредсказуемые варианты. И наконец – о счастье! – нашли.
Меня пригласила жена чехословацкого посланника на дамское чаепитие, и там я познакомилась с женой шведского промышленника, русской по происхождению, но родившейся в Швеции. У нас сразу установился контакт, и мы с «Кином» подружились с этой семьей.
…Это был человек, назовем его «Директор», который в любое время мог отправиться в Берлин по своим коммерческим делам. Я не называю его имени, возможно, он еще жив.
Нужно побывать в нашей шкуре, чтобы понять, как невероятно сложно в течение фактически нескольких суток не только привлечь, но и обучить нового агента правилам конспирации, умению вовремя учесть назревающий срыв, предусмотреть и предотвратить любые случайности.
Наш новый знакомый, теперь уже друг, с немалым трудом воспринимал тонкости и сложности предстоящей работы. Ведь раньше ничего подобного он не знал.
А задание выглядело так. Он должен по приезде в Берлин посетить кладбище и под скамейкой у одной могилы закопать крохотную коробочку с кварцами для радиостанции. На следующий день встретиться со «Старшиной» – руководителем «Красной капеллы» – и передать ему шифр.
Но как провезти шифр? Я придумала. Взяла кусок тончайшего белого шифона, приклеила кончики воздушной материи к листу бумаги. Вставила эту комбинированную прослойку в пишущую машинку и напечатала на ней шифр, порядок пользования им и условия работы радиостанции. Затем углы шифона срезала и сняла его с бумаги. Напечатанный текст оказался совершенно незаметным. Прочитать можно было, только наложив шифон на белый лист бумаги.
Я купила два одинаковых галстука, распорола один и вырезала из его внутренности часть фланели, которая прилегает к шее. Эту часть я заменила сложенным раз в восемь шифром с текстом, напечатанным на машинке. Зашила галстук и с победным видом предложила «Кину» определить, в каком галстуке спрятано письмо на шифоне. «Кин» долго прощупывал оба галстука, обнаружил – и то не сразу – швы, но похвалил за первоклассную портновскую работу.
Весь вечер «Кин» растолковывал «Директору», как действовать. Галстук «с начинкой» он должен повязать себе на шею, а в коробочку для запонок вложить кварцы и закопать на кладбище в условленном месте. При встрече со «Старшиной» передать ему галстук с шифром, а другой такой же надеть на себя. Все, казалось, проще простого, но «Директор» никак не мог уяснить, почему понадобилось два одинаковых галстука. Понял лишь после популярного объяснения «Кина»: «За вами и «Старшиной» может быть слежка. Пришел на встречу в одном галстуке, а ушел в другом. Явная улика!»
Пока «Кин» обучал «Директора» элементарным правилам поведения разведчика, я занималась с его женой, назовем ее «Катрин», учила вышивать русской гладью. «Катрин» с восторгом восприняла мои уроки и сказала, что у нее сохранился вышитый гладью ночной чепец ее бабушки.
Все эти дни мы вели активную шифрованную переписку с Центром. «Добро» на вербовку «Директора» под личную нашу ответственность было дано, план действий утвержден.
И вот он улетел на три дня в Берлин. Мы напряженно ждали его возвращения. И что же? «Кин» в условленное время пошел к нему и вернулся вконец расстроенный.
– Ты знаешь, «Директор» не выполнил нашего задания. – Я ахнула. – Он уверял меня, что, как только сел в самолет, все стали обращать внимание на его галстук. Когда шел по Берлину или ехал в метро, тоже отмечал подозрительные взгляды. Галстук не давал ему покоя. Он даже не решился ехать на кладбище. И все привез обратно. Ты подумай…
Признаться, мы были потрясены этой неудачей. Но психологию человека, впервые выполняющего конспиративное задание, можно понять. Его «заклинило» на этом злосчастном галстуке. Всю дорогу ему мерещилось, что встречные только и глядят на коварное украшение, повязанное под воротником его рубашки.
Мы доложили Центру об этой истории, объяснили случившееся неопытностью человека. Сообщили, что на следующей неделе он снова полетит в Берлин и мы со всем тщанием морально и «технически» подготовили его к выполнению задания. В ответ получили крепкий нагоняй. «Плохо работаете». Все же Центр вторичную поездку «Директора» разрешил.
На этот раз «Директор» вернулся сияющий, заявил, что все сделал, как поручено, и сам удивляется, откуда У него появилась такая смелость.
Шлем шифровку в Центр. Деловую, спокойную.
Прошло три-четыре недели. Вдруг получаем телеграмму, похожую на разряд шаровой молнии. «Ваш «Директор» – провокатор. Все члены «Красной капеллы» арестованы и казнены». Центр предложил направить «Директора» в Берлин на связь с нашим бывшим агентом, работавшим в гестапо и разоблаченным, как «двойник». Связь с этим «двойником» прервана. «Вы увидите, – говорилось далее в шифровке, – что «Директор» вернется из Берлина еще более готовым к услугам нам…»
Мы просидели с «Кином» всю ночь, не сомкнув глаз. Оплакивали гибель героев «Красной капеллы». Обдумывали происшедшее. Взвешивали все «за» и «против». Как мы могли напороться на провокатора? Неужели ошиблись? И оба пришли к заключению, что в этом провале «Директор» не повинен.
«Директор» – честный человек. Словно рентгеном мы просветили множество деталей в его поведении, в его биографии, в его отношениях с нами, все нюансы, которые не изложишь ни в письме, ни в устном докладе.
Мы запротестовали. Что же получается? Если «Директор» – провокатор, он останется ненаказанным, если он честен, в чем мы уверены, его там схватят и он безвинно погибнет на плахе. Этого допускать нельзя. Погибнет ради чего? Ради того, чтобы Центр убедился в своем неправильном предположении? Не велика ли цена этой жертвы?
Мы настойчиво пытались доказать Центру свою правоту. Последовал приказ: «Выполняйте указание». Мы снова просим все взвесить. В ответ – грубый окрик. Тогда мы решили обратиться к наркому. Просили отменить указание главка, не губить человека.
Через пару дней пришел ответ. Посылка «Директора» в Берлин отменяется, с ним предложено прекратить всякую связь. «Кину» приказано отбыть в Москву. Я все поняла – нас решили наказать за непослушание.
…Борис Аркадьевич улетел на английском самолете в Лондон. Взял с собой теплые вещи: смену белья, плед, какие-то консервы, пару обуви. Багаж его не мог превышать пятнадцать килограммов. Так положено, ни грамма сверх!
А в это время в Лондоне наши торговые представители закупили партию пенициллина – новейшего антибиотика, который англичане уже ввели в промышленное производство.
Посол Иван Михайлович Майский объяснил Борису Аркадьевичу, что это чудодейственное лекарство способно спасти жизнь сотням тысяч людей. Просил взять с собой пятнадцать килограммов пенициллина.
Борис Аркадьевич все понял. Чемодан со своим имуществом передал жене Майского в пользу Красного Креста. Поблагодарил за драгоценный груз и сказал: «Только бы не сбили проклятые фрицы в пути. Везу ведь тысячи жизней».
Лететь в Москву ему довелось через Францию, Португалию, Испанию, Алжир, Ливию, Египет, Иран, Ирак, Баку. В Африке шла война. По прибытии в Москву Борис Аркадьевич был направлен на фронт.
…Только после окончания войны было документально установлено, что «Красную капеллу» провалил не «Директор», а другой европейский агент из военной разведки. «Директор» был реабилитирован, а с полковника Рыбкина снято тяжкое обвинение.
ЕЕ ГЛАВНЫЙ ПОДВИГ
Глава 20. Вблизи
Мы встретились с Александрой Михайловной Коллонтай у входа в посольство. Она вышла из машины, я соскочила с седла велосипеда.
– О, кстати, вы мне нужны, – сказала Александра Михайловна.
Горничная Рагнер ждала у раскрытого лифта, чтобы его кто-нибудь не перехватил и не заставил посла ожидать. Я обратила внимание на ярко-красные пятна на лице и шее Александры Михайловны. Глаза ее лихорадочно блестели и были, как мы их называли, «грозовыми». Я молчала и решила не задавать вопросов, видя, что Александра Михайловна чувствует себя плохо, явно поднялось давление. Она заметила мой тревожный взгляд и сказала:
– Была у Гюнтера, изругалась. Министр всячески оправдывался. Мол, это никакое не нарушение нейтралитета: немцы везут через Швецию раненых или возвращают выздоровевших, то же самое с военной техникой, в ремонт и из ремонта. Я выложила ему всю цифирь, которую от вас получила…
И тут я, к ужасу своему, вижу, что у нее вдруг скривились губы, перекосилось лицо и она медленно сползает по стенке лифта. Мы с Рагнер подхватили ее. Лифт остановился, и бесчувственную Коллонтай мы внесли в ее квартиру.
Мгновенно был собран консилиум. Врачи признали положение безнадежным. Пришла карета с красным крестом. Александру Михайловну положили на носилки, она была без сознания. Ее поместили в больницу.
Слухи о болезни Коллонтай распространились по всей стране, газеты предсказывали печальный конец. Журналисты с блокнотами в руках круглосуточно дежурили в приемном покое на первом этаже больницы Красного Креста. У Александры Михайловны перебывали все «звезды» здешней медицины и все предсказывали неминуемый летальный исход. Кто-то посоветовал пригласить молодого профессора Нонну Сварц, уже имевшую в Стокгольме хорошую репутацию.
В холле перед палатой Коллонтай были советники и дипломатические работники посольства, сменяли друг друга. Нонну Сварц разыскали на каком-то ученом симпозиуме. И вот она здесь. Высокая, спортивной стати, красивая, очень молодая, по виду лет 25 – 30. Профессор подробно ознакомилась с заключениями других специалистов, обследовавших Александру Михайловну, и с чувством неудовлетворенности отодвинула папку.
– Я должна обследовать госпожу министра, – сказала она и прошла в палату.
Мы сидели молча. Ждали заключения профессора. Она вышла погруженная в свои размышления. Наши мужчины поднялись.
– Положение весьма и весьма тяжелое. Жить мадам министр осталось недолго, несколько дней. Она лишена дара речи, парализована вся левая сторона. Однако надежда у меня теплится. Я могу предложить одно средство, которое прошло процесс эксперимента, но еще не утверждено, – и она назвала по-латыни лекарство. – Это сильное средство, оно должно вызвать кризис: или – или… Продлить существование можно лишь на несколько дней, лекарство же это даст немедленный эффект…
Я видела, как растерялись наши мужчины. Запрашивать Москву нет времени. А все мы в таких вопросах некомпетентны. Разгорелась острая дискуссия шепотом. Одни говорили, что надо довериться профессору Нонне Сварц, другие считали, что немедленная
смерть от этого лекарства ляжет невыносимо тяжелым грузом на наши плечи.
– Я жду, – раздался требовательный голос профессора. – Я ждать могу, но болезнь ожидания не терпит.
Старший советник Владимир Семенович Семенов сказал:
– Надо вверить судьбу Александры Михайловны в руки профессора. Иного выхода нет.
Получив согласие дипломатов, профессор Сварц сделала знак сопровождавшей ее медсестре, та подала ей свежий халат и понесла за ней аккуратный кожаный саквояж, очевидно медицинского назначения.
– Omnia mea mecum porta [19] – кивнула профессор на саквояж.
Наступили мучительные минуты. Курильщики нервно поглощали антиникотиновые леденцы, боялись произнести лишнее слово. Прошло десять, пятнадцать минут, полчаса, сорок пять минут, прошел уже час. Что же это значит? Хорошо это или плохо?…
Наконец профессор вышла из палаты. Все краски погасли на ее цветущем лице. Она была бледна.
– Мадам Коллонтай будет жить, – говорит она и почти падает в кресло. – Мадам министр пришла в себя и даже узнала меня.
Владимир Семенович расцеловал руки профессора, даже не заметив, что они были в резиновых перчатках.
Нонна Сварц выходила из здания больницы Красного Креста сквозь строй журналистов, повторяя: «Мадам министр будет жить, мадам Коллонтай родилась под счастливой звездой».
На следующий день газеты писали, что в отличие от прошлогодней утки, подкинутой Геббельсом в шведскую печать, о смерти Черчилля, на этот раз шведские газеты воздержались от преждевременных мрачных прогнозов и сообщили, что «мадам Коллонтай будет жить».
Шли недели и месяцы медленного, но верного выздоровления. Восстановилась речь, но левая рука и нога остались неподвижны. Александра Михайловна передвигалась в коляске. После больницы, осенью 1943 года, ее перевезли в санаторий Мёсеберг, на юге Швеции. Туда к ней не реже двух раз в неделю (чаще врачи не разрешали) приезжали работники посольства.
Со мной в то же время произошла беда. Мне пришлось перенести тяжелую операцию, после которой врачи рекомендовали реабилитироваться в санатории, и Александра Михайловна потребовала, чтобы меня привезли к ней в Мёсеберг.
Я провела с Александрой Михайловной целый месяц, который стал для меня университетом. За эти дни совместного пребывания в санатории мы ближе узнали друг друга и о многом было переговорено. Я глубже и лучше познала ее облик и хочу рассказать о своих собственных наблюдениях, о которых ни в каких книгах не сказано. Ведь большинство биографов лично не встречались с Александрой Михайловной и писали со слов других или использовали архивные материалы.
С чего же начать? Начну с ее образа жизни, с ее облика женщины.
…Квартира Александры Михайловны. Здесь редко кто бывал. Встречи с сотрудниками посольства, иностранными дипломатами, шведскими гостями происходили в официальных апартаментах посольства на Виллагатен, 16, на втором этаже. А ее квартира – на третьем. Три маленькие комнаты: гостиная, кабинет и спальня. В гостиной круглый стол, покрытый старинной плюшевой скатертью, два кресла возле, у стены диван. На столе всегда ваза с цветами… Домашний кабинет не больше шести-семи метров. Маленький дамский письменный стол на выпуклых точеных ножках, на нем чернильный прибор. На стенах в рамочках портреты родных и близких. Книжный шкаф с любимыми книгами. В спальне торцом к стене широкая тахта, зеркальный шкаф. У двери на балкон – кресло-качалка. На балконе кормушка для птиц и ящичек с конопляным семенем. У тахты на стуле старенький патефон с единственной пластинкой: под мелодию вальса «На сопках Маньчжурии» Александра Михайловна утром делала зарядку. Никаких статуэток, украшений, картин в квартире не было. В спальне – большой портрет подруги, Ларисы Рейснер, погибшей в 1926 году.
РЕЙСНЕР Лариса Михайловна (1895 – 1926) – русская писательница. В годы Гражданской войны была бойцом и политработником в частях Красной Армии. Член КПСС с 1918 года. Автор цикла очерков «Фронт» о событиях Гражданской войны в период 1918 – 1922 годов, опубликованных в 1924 году. Ее перу принадлежат также книги «Гамбург на баррикадах», «Уголь, железо и живые люди», «Берлин в октябре 1923 года», «Афганистан», «В стране Гинденбурга». Лариса Рейснер является также автором исторических очерков о декабристах и пьесы «Атлантида», опубликованной в 1913 году.
Я уверена, что у горничной Коллонтай, Рагнер, квартира была обставлена более комфортабельно, за исключением книг, конечно.
…А вот служебный кабинет был в другом стиле. Светлые стены увешаны фотографиями. В простенке между окнами – портрет Владимира Ильича Ленина. Такая необычная фотография: лицо гладко выбрито, умную усмешку не скрывают усы и борода, и под высоким лбом особенно привлекают внимание темные глаза. Фотография 1910 года в Париже. Именно тогда Александра Михайловна металась и искала свой путь – с кем идти и решила: с большевиками, с Ильичем. Но решение это пришло не сразу. Она находилась в плену обаяния личности Георгия Валентиновича Плеханова. Его фотография висит между книжными шкафами… Старые добрые друзья и единомышленники: Клара Цеткин, Роза Люксембург, Карл Либкнехт. Александра Михайловна несколько лет работала в германской социал-демократической партии, в левом крыле ее… Лаура и Поль Лафарги. С дочерью Маркса Лаурой и ее мужем Полем Лафаргом Александра Михайловна подружилась в Париже в годы эмигрантских скитаний… В комиссарской куртке Яков Михайлович Свердлов… Надежда Константиновна Крупская… Алексей Максимович Горький… Анатолий Васильевич Луначарский… Джон Рид… Бернард Шоу, изображенный карикатуристом Леем в виде боксерской перчатки. Фритьоф Нансен… Август Стриндберг… Соратники, друзья, добрые знакомые. Почти на каждой фотографии – автограф.
Одна стена в кабинете занята книжными шкафами. Здесь пухлые в желтом картонном переплете томики первого издания собрания сочинений Ленина с многочисленными закладками. Большая справочная библиотека по вопросам международного права, дипломатических отношений, книги видных государственных деятелей мира. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Сочинения Пушкина, Гоголя, Некрасова, Гёте, Гейне, Шиллера, Шекспира, Мольера, Бальзака, Ибсена, Стриндберга. Многоязычная библиотека говорит о том, что владелец ее – полиглот с широким кругом интересов. Александра Михайловна читает все только в подлиннике.
На полу ковер неброских тонов, с протоптанной дорожкой от дверей к столу, подарок Серго Орджоникидзе.
В полированной поверхности письменного стола отражается хрустальная ваза. В ней всегда свежие розы золотистых оттенков. К чайным розам у Александры Михайловны страсть с юных лет. Большой перекидной календарь испещрен пометками не только на день сегодняшний, но и на много дней вперед. В нем Александра Михайловна записывает памятные даты: дни рождения членов советской колонии, своих друзей, чтобы вовремя поздравить, национальные праздники иностранных государств, предстоящие приемы. В маленькой изящной конторке – стопки нарезанной бумаги, конверты, остро отточенные карандаши, визитные карточки. В особом отделении – письма, требующие ответа, впрочем, это отделение к вечеру освобождается. В обычае Александры Михайловны отвечать на письма, от кого бы они ни поступили, в тот же день. Деликатно тикают настольные часы в деревянной оправе. Каждая вещь всегда на своем месте, можно найти ощупью. Даже в самые бурные дни деятельности советского посла на столе образцовый порядок.
Письменный стол стоит торцом к окну. С левой стороны от рабочего жесткого кресла – тяжелая портьера. И мало кто знает, что за портьерой скрывается продолговатое зеркало и полочка под ним с расческой, пудреницей, губной помадой, духами, карандашом для бровей. Секретарь докладывает об очередном посетителе и знает, что надо помедлить минутку, пока Александра Михайловна отвернет портьеру, взглянет в зеркало, проведет расческой по челке, обмахнет лицо пуховкой, проконтролирует себя – не слишком ли усталый вид.
…О нарядах Коллонтай писали газеты, и Александра Михайловна смеялась до слез, читая о драгоценных фамильных шиншиллах, в которые досужие журналисты превратили ее шубу из канадской кошки, или о фамильных бриллиантах. Нет слов, Александра Михайловна была одета элегантно, чуть-чуть модно и из моды выбирала только то, что ей шло, нравилось. У нее был свой, «коллонтайский» стиль во всем. Тонкие руки не соответствовали несколько располневшей с годами фигуре, но пышные рукава, перехваченные в нескольких местах лентами, воротник «а-ля Медичи» превращали скромное строгое платье в королевское.
Александра Михайловна не признавала вязаных кофт. «Это старушечье одеяние», – говорила она, и, если в квартире или кабинете было прохладно, она набрасывала на плечи накидку, сделанную, очевидно, из старого бархатного платья и опушенную по краям беличьим или кроличьим мехом.
Она умела носить вещи и часто очень тактично давала советы нашим женщинам на этот счет. Скажем, придет машинистка на работу в платье из парчи. Александра Михайловна скажет: «Весьма милое платье, очень вам идет, но дело в том, что в этой стране принято носить на работу или костюм, или свитер неблестящий. Понимаете, мы должны приспосабливаться к местным обычаям. Хотя и в нашей стране вы вряд ли наденете такое платье на работу». Она охотно давала советы, что сделать, как сшить, и говорила. «Модно то, что вам к лицу, модно то, что скрывает какие-то недостатки в фигуре». И женщины на всяких собраниях, приемах, праздничных вечерах ловили взгляды Коллонтай, и каждой она умело подсказывала, что «хорошо», что «лучше», не говоря о том, что плохо.
Любимые духи Александры Михайловны были «Суар де Пари», и в свои семьдесят лет она пользовалась духами, карандашом для бровей, губной помадой, пудрой, но только «чуть-чуть».
Александра Михайловна всегда подбирала к своему костюму шляпу и потом сидела и подправляла ее, тоже «чуть-чуть». То снимет лишний цветок, то вуалетку повяжет иначе, вместо перышка приколет булавку под цвет платья, опустит ниже поля или, наоборот, поднимет. Я не раз заставала ее за этим занятием, и это было ее единственное рукоделие.
Кухонную стряпню она не любила. К еде относилась равнодушно. Утром чашка не очень крепкого чая с крохотной булочкой, кусочком сливочного масла и чайной ложкой мармелада. Обед самый неприхотливый, но зато к пятичасовому чаю всегда ждала от посольской поварихи Анны Ивановны меренги, или булочку с тмином, или какой-то новый, изобретенный Анной Ивановной кекс. Вечерний чай называла пиршеством, хотя это «пиршество» составляло всего одно небольшое пирожное. На ужин простокваша и ломоть черного хлеба.
В посольстве на приемах, как обычно, гостям предлагался коктейль, о котором в дипкорпусе подшучивали, и часто всякие безалкогольные напитки называли «коктейль а-ля мадам Коллонтай». Застолье в советском посольстве всегда, а особенно во время войны, было скромным. И если у американского посла к обеду подавалась фаршированная индейка и зимой свежая клубника, Александра Михайловна потчевала гостей вкусно, но не перегружая излишней пищей и не дурманя голову алкоголем. Сервировку стола она брала на себя. Для этого в буфете у нее был набор всевозможных фигурок, ваз. Посередине стола могли быть поставлены низкие вазы с цветами, или фарфоровые статуэтки, или шахматные фигуры – изделия и подарки художников-стеклодувов с фарфоровых заводов, палехских мастеров, резчиков по дереву, кости и других умельцев.
Я была свидетелем, когда Александра Михайловна указывала хозяйственнику развесить в столовой тарелки, которые она получала в подарок в первые годы революции от рабочих фарфоро-стекольных заводов. «Повесьте, пожалуйста, – говорила она, – вот эту». «Тарелка будет висеть, – продолжала она, – как раз напротив американского посланника Джонсона». На тарелке были изображены серп и молот, а по краю написано: «Кто не работает, тот не ест». «Он поймет намек, что давно уже пора открыть второй фронт». А против английского посланника сэра Виктора Маллета она распорядилась повесить тарелку с надписью: «Царствию рабочих и крестьян не будет конца». И при этом с усмешкой добавила: «Говорят, Маллет принялся изучать русский язык. Если не поймет, я ему переведу».
Александра Михайловна гордится тем, что ни одной государственной копейки на официальные подарки она не тратит: посылает дипломатам и государственным деятелям цветы, которые дарят ей.
…Коллонтай собирается на обед к английскому послу и осматривает многочисленные корзины с цветами. Цветы в посольстве всегда в изобилии – в корзинах, в вазах. Их присылают Александре Михайловне союзные дипломаты, шведские общественные деятели, писатели, художники – по всякому поводу и без повода, просто в знак почитания и признательности.
«Пошлите сэру Виктору Маллету вот эту, – говорит она секретарше, указывая на золоченую корзину с ландышами и крокусами, – только замените там карточку на мою визитную». И шофер отвозит корзину в английское посольство.
Вскоре в кабинете Коллонтай раздается телефонный звонок. Говорит сэр Виктор. «Мадам министр, неужели я огорчил вас – прислал цветы, которые вам не понравились, и вы их мне вернули». Александра Михайловна молниеносно находится: «О, что вы, сэр Виктор! Мне так понравилась ваша очаровательная корзина, что я заказала точную копию». – «Целую ваши руки и восхищаюсь вашим искусством», – отвечает посланник Маллет.
…В 9 часов утра Александра Михайловна спускается из своей квартиры в рабочий кабинет. По стуку каблуков на лестнице дежурная охрана посольства сверяет свои часы. И уже слышится звонкий, удивительно мелодичный и молодой голос: «Доброе утро! Вы не забыли, что сегодня приезжают дипкурьеры? Приготовлена ли для них комната? Очень хорошо. Спасибо… Анна Ивановна, чем это вам удалось так отчистить медные заслонки, сверкают, как на военном корабле. Да? Великолепно, но к этому порошку нужны еще и золотые руки… Александр Николаевич, поручите перевести статьи, отмеченные мною синим карандашом. В первую очередь из «Хувудстагбладет» и «Обсервера».
Александра Михайловна приходит к себе в кабинет, по пути в приемной чуть задерживается перед трюмо. Зеркало отражает среднего роста женщину в темном платье, о котором не скажешь «строгое». Какая-то деталь – брошка, белая кружевная подпушка под воротником, а главное, рукава придавали всегда нарядный и элегантный вид. Платьев не так много, а рукавов к ним несколько пар. Можно скомбинировать целый гардероб, отдать чуть-чуть дань моде, дипломатическому протоколу.
Голова увенчана слегка вьющимися подстриженными волосами, в которых поблескивают серебряные нити, высокий выпуклый лоб прикрывает челка.
На шее неизменная тоненькая золотая цепочка, к которой прикреплен лорнет.
Очки? Да, она ими пользовалась, когда сидела одна в кабинете и писала, но… «Очки больно давят на переносицу, очки можно забыть, потерять, лорнет же всегда при себе, а впрочем, – смеется Александра Михайловна, – не люблю я очков, не идут они мне».
Внимание собеседника приковывали глаза Александры Михайловны, большие, чуть скошенные складочками век, очень синие глаза, не поблекшие даже в преклонные годы. И над ними, как два чутких крыла, густые темные надломленные брови. Ни один портрет не мог передать этих глаз, освещенных большой мыслью, то по-матерински ласковых и чуть грустных, то лукавых и веселых, то грозовых. Но никогда их не заволакивало безразличие, равнодушие.
Рядом с ней не уживались будни, скука. Живая, темпераментная, веселая, она не любила даже на официальных приемах чинных и монотонных разговоров, всегда взрывала чопорную напыщенность остроумным словом. И никто так не умел смеяться и наслаждаться смехом, как Коллонтай. Смеялась она звонко, открыто, душевно.
Александра Михайловна обладала редким даром быть доступной, находить контакт с каждым человеком. В настольном календаре рядом с записью «обед у сэра Виктора Маллета» отмечен день рождения жены инженера торгпредства – послать открытку. Внимательна ко всем. С ней легко и просто и шоферу, и школьнику, и какой-нибудь старушке, пришедшей в посольство справиться о сыне, живущем в Советском Союзе. С первых слов пропадали у человека скованность, смущение. Она умела не подавлять, а возвышать человека.
Тяжело приходилось с ней иностранным дипломатам, сановникам, промышленникам. Сидит, бывало, в приемной какой-нибудь банкир, ворочающий миллионами, курит сигарету за сигаретой, поглядывает на часы. И, когда стрелка приближается к той минуте, на которую назначена аудиенция, начинает сдувать с себя пылинки, нервно поправляет галстук, одергивает полы пиджака, весь подбирается и перед самыми дверями старается отдышаться, чтобы не внести табачного дыма в кабинет.
Как-то я сидела у Александры Михайловны и докладывала ей о ходе работы в пресс-бюро. Она посмотрела запись в календаре, отвернула обшлаг, глянула на часы и сказала:
– Через пару минут ко мне придет Генеральный консул оккупированной Бельгии. Его эмигрантское правительство в Лондоне. Вы оставайтесь здесь. Этот визит вежливости продлится не более пяти минут, и мы с вами продолжим…
В назначенное время порог кабинета переступил высокий элегантный старик. Представился. Александра Михайловна сразу завязывает разговор не о погоде, не о театре, как принято на таких приемах, а о жгучем вопросе объединения сил против фашизма, о втором фронте.
Затем незаметно взглянула на часы – неуловимое, одной ей свойственное движение, означающее, что аудиенция закончена.
А старый консул замялся. У него еще личный вопрос. Он извлекает из нагрудного кармана небольшую фотографию на плотном картоне, протягивает ее Александре Михайловне.
Она вскидывает лорнет:
– Как? Это моя фотография. Здесь мне, наверное, лет семнадцать, но у меня нет такой. Откуда она у вас?
Консул широко улыбается:
– О, мадам, с тех пор прошло более полувека, а точнее – пятьдесят три года. Ваш папа был тогда начальником иностранного отдела русского генерального штаба. Я был всего адъютантом у нашего военного атташе. Вы иногда появлялись на балах.
– Да, но это бывало редко, я уже тогда бежала от светской жизни.
– Я же был на каждом балу, искал вас. Имел Дерзость посылать вам цветы, часами ходил возле вашего дома в надежде увидеть вас. Перед отъездом из России мне посчастливилось купить у фотографа этот ваш портрет. И сейчас, когда мое правительство предложило мне пост Генерального консула, я просил направить меня в Швецию, зная, что вы здесь. Я всю жизнь следил за вами. Читал ваши статьи и книги о рабочих, о социалистическом движении, не понимал вас. Когда узнал, что вы стали министром большевистского правительства, просто ужаснулся. Мне казалось, что вам уготована другая судьба. Увы, должен признаться, что в числе многих я не верил в прочность Советского государства. Сожалел о вас. А теперь пришел к вам, чтобы низко поклониться и высказать свое восхищение и глубокую признательность вам, вашей стране, вашему народу, который выносит на своих плечах судьбу нашей планеты.
Александра Михайловна протягивает консулу руку. – В большой жизни какие только дороги не перекрещиваются, какие только встречи не происходят.
Консул ушел. Александра Михайловна сидит, задумавшись, постукивает лорнетом по столу, улыбается своей далекой юности. Рассказывает мне, что тогда, в семнадцать лет, она шла вместе с отцом, стуча каблуками о торцы, прислушиваясь к звяканью шпор позади нее. О, юность! Жалеет ли она о ней? Нет. Каждая пора жизни по-своему прекрасна, неповторима, и, умудренная опытом большой жизни, старость тоже красива, если только каждый день заполнен заботами о чем-то большом, когда некогда оглянуться назад, а смотришь все время вперед. Тогда и старость отстает, не может угнаться за мудростью.
Вспоминается день 7 ноября 1943 года. В посольстве готовятся к приему. Прибудут шведские официальные лица и дипломаты союзных стран, а также стран, с которыми у Советского Союза существуют дипломатические отношения. Но японский и болгарский посланники на общий прием прийти не могут. Япония и Болгария в состоянии войны с США и Великобританией, а с Советским Союзом сохраняют дипломатические отношения.
Александра Михайловна предлагает мне помочь ей «занять» японского, а затем и болгарского посланника. Первым приходит поздравить с национальным праздником японский посланник. Входя, он низко кланяется, широко улыбается и поздравляет. Подают чай. Александра Михайловна заводит разговор о погоде, спрашивает, как переносит посланник шведский климат. Японский дипломат покашливает, нервничает, слова у него застревают в горле. Наконец он улучает момент и спрашивает:
– Госпожа министр, я имею поручение моего императорского правительства выяснить ваше личное мнение, как сложатся отношения между нашими странами после войны с Германией, которая, как теперь можно полагать, окончится вашей победой.
Лицо Александры Михайловны непроницаемо. Она звонит в серебряный колокольчик.
– Пожалуйста, – еще чаю, – говорит она вошедшей горничной и обращается с вопросом ко мне:
– Вы знакомы с японским искусством составлять букеты цветов? Это изумительное искусство – икебана.
Я отвечаю, что нет, не знакома. Александра Михайловна начинает живо рассказывать об этом сложном искусстве под одобрительные и восхищенные реплики посланника. Но он заинтересован в другом.
– Госпожа министр, я хотел бы знать ваше личное мнение. Существует ли соглашение СССР с вашими великими союзниками в отношении Японии?
– Одну минуточку, – говорит Александра Михайловна, подходит к столику, берет толстую японскую книгу со множеством цветных фотографий икебана и спрашивает посланника:
– Скажите, это последнее издание? Я очень внимательно слежу за развитием этого вида искусства.
Японский посланник смахивает платком обильный пот со лба, умоляюще смотрит на советского посла.
Александра Михайловна делает какое-то неуловимое движение, означающее, что аудиенция закончена. Распаренный японец с отчаянным видом встает со стула, низко кланяется и уходит.
Александра Михайловна тоже вздыхает, снимая напряжение, и звонко смеется:
– Бедный посланник, он сейчас возьмется за эту книгу и будет гадать. Я ему показала несколько сочетаний букетов, никакого отношения к интересующему его вопросу не имеющих. Я же его не спрашивала, почему Япония держит Квантунскую армию у наших границ в Маньчжурии.
Затем является болгарский посланник. Его занимает тот же вопрос. Он тоже пытается узнать «личное мнение» мадам Коллонтай, каковы планы Советского Союза в отношении Болгарии. Правительство царя Бориса связало судьбу страны с гитлеровской Германией. Болгарский народ ведет героическую борьбу против фашизма, в стране действуют сотни партизанских отрядов. Все это известно Коллонтай, и она понимает состояние посланника фашистского правительства Филова, но… Александра Михайловна спрашивает болгарина, каков был урожай на розовое масло в истекшем году, вспоминает свое ранее детство, проведенное в Болгарии, когда ее отец, полковник царской армии, участвовал в русско-турецкой войне, освободившей Болгарию от турецкого ига, и был одним из авторов первой болгарской конституции. Предлагает посланнику попробовать печенье, которое напоминает ей болгарскую баницу.
Но посланник Филова настырен.
– Болгария высоко ценит подвиг вашего отца, генерала Домонтовича, и во имя старой дружбы… – болгарский посланник машинально вынимает из кармана пачку сигарет, вертит ее в руках.
– О, я доставлю вам сейчас удовольствие, – говорит весело Александра Михайловна. – Курите, разрешаю. Кстати, мадам, – указывает она на меня, – тоже курит и, наверное, уже проголодалась, – а затем следует движение, означающее: «Пора и честь знать»…
Болгарин ищет глазами пепельницу, сует сигарету в чашку с недопитым кофе и откланивается.
– Я уверена, что он сейчас пойдет гадать на кофейной гуще, – замечает Александра Михайловна, обмахиваясь веером.
…Александра Михайловна много читала. Читала быстро, схватывая основную мысль, не забывая проследить и за формой, и за средствами изображения. Мне кажется, что ничто так не характеризует и не раскрывает человека, как его отношение к книге, обращение с ней. Александра Михайловна брала в руки книгу каким-то удивительно бережным движением и перелистывала страницы с верхнего угла.
За утренним кофе она просматривала кипу газет. Толстый карандаш, с одной стороны красный, с другой синий, всегда лежал перед ней на столе. Она отчеркивала красным то, что следует немедленно перевести и по линии ТАСС сообщить в Москву; синим – что надо перевести и с чем ознакомить военного, военно-морского, торгового атташе или своих советников. Тогда она писала на полях инициалы: «Н. И.», что означало «Николаю Ивановичу» (военный атташе), и такие характерные пометки «нотабене», знаки восклицания, вопросительные. Опустошенные газеты сбрасывались ею на пол. Газета интересовала ее, пока она была в ее руках, а затем она превращалась, как говорят сейчас, в макулатуру.
Иное дело книга. К книгам, особенно любимым, она возвращалась не раз и, протягивая руку за ней, как бы приглашала к собеседованию.
В чтении, в разговоре Александра Михайловна очень легко переходила с одного языка на другой, скажем, с французского на шведский или с итальянского на немецкий, с английского на болгарский. Читала газеты на всех европейских языках, в том числе на нидерландском, румынском, греческом, чешском и других. На скандинавских языках она говорила с милым акцентом, который восхищал шведов, норвежцев, датчан. Натренированная память ее хранила сотни стихов, поэмы, и тоже на многих языках. Рядом с ней становилось совестно, что не можешь справиться с произношением шведского «у» (среднее между «ю» и «у») и, садясь в такси, несколько раз повторяешь водителю адрес посольства «Виллагатан шюттон» (Виллагатан, шестнадцать).
…Впервые я увидела Александру Михайловну Коллонтай в Москве в Главконцесскоме в 1929 году. Она приехала с норвежскими коммерсантами для переговоров о концессии по отлову тюленей в наших водах. Она поразила мое и не только мое воображение и своей элегантностью, и простотой, и восхитительной манерой интересно говорить о юридических пунктах договора, о выплавке тюленьего жира и выделке шкур. Она была и прекрасной дамой, и бизнесменом, и дипломатом, и поэтом одновременно.
Позже, когда я познакомилась с Александрой Михайловной ближе, я спросила, откуда у нее такие коммерческие навыки. Она пояснила, что в начале 1923 года Ленин посоветовал ей поехать в Норвегию торговым представителем и закупить там сельдь. Наша страна только-только выходила из голода. Но Александра Михайловна не умела торговать. Где, у кого учиться? «Учитесь у приказчиков», – посоветовал Владимир Ильич. В Норвегии она встретилась с рыбопромышленниками. Торговались. Понимала, что каждая выторгованная крона на центнере – это лишние рыбины, лишний килограмм рыбьего жира, так необходимого изголодавшимся людям, особенно детям. А предприниматели не уступали. Александра Михайловна вынула блокнот и принялась писать столбики цифр. «Мадам проверяет средние мировые цены на сельдь?» – поинтересовались норвежцы. «Нет, – ответила Александра Михайловна, – я высчитываю, сколько лет мне нужно будет прожить и проработать, чтобы покрыть разницу из своего заработка между ценами, назначенными мне моим правительством, и теми, которые предлагаете вы. Получается очень много, что-то около двухсот лет». Норвежцы умеют ценить шутку. Коммерсанты оказались джентльменами и установили нормальную, принятую на мировом рынке цену на сельдь…
Обаяние Александры Михайловны было огромно. Она обладала редким даром входить в контакт с людьми, окружать себя талантливыми помощниками. В некоторых очерках, появившихся в печати, и в кино Александра Михайловна показана во время войны одинокой, несчастной, изолированной. Даже в посольстве, по мнению иных авторов, бродили какие-то бестелесные тени. Это глубокое заблуждение, если не сказать, досужий вымысел. На самом деле она умела выкристаллизовывать и собирать вокруг себя здоровые силы. Так было и в самом посольстве, и в стране пребывания, в данном случае в Швеции.
Александра Михайловна встретилась с известным профессором-химиком Пальмером, который в свое время был на симпозиуме в Ленинграде, влюбился в этот город, в его людей, в архитектурные памятники и ансамбли Северной Пальмиры, и предложила ему создать в Швеции Общество друзей Советского Союза и стать его президентом. Профессор охотно согласился и, более того, помог развернуть филиалы общества в крупных городах страны. В Гётеборге общество возглавил главный арбитр страны Пинеус.
Это общество, в свою очередь, способствовало возникновению клубов, в которых женщины шили, вязали теплые вещи для наших людей, главным образом для детей Ленинграда и партизан. Таких клубов в Швеции было более трехсот. Устраивались также благотворительные вечера, на них знатные дамы из влиятельных слоев общества сервировали столы, угощали чаем, за стакан которого приглашенные платили крупные суммы. Один видный судостроитель заплатил за чашку чая с русским бубликом пятьсот крон. На эту сумму можно было купить пять-шесть детских меховых комбинезонов.
Александра Михайловна откликалась на просьбы посетить вернисажи художников.
– Сегодня мы с вами идем к принцу Евгению. Он будет показывать свои новые картины, – сказала она мне. – Кстати, заедем в «Темпо» и чем-то освежим платья.
В магазине «Темпо» любая вещь стоит одну крону: перчатки, чулки, воротнички, украшения, пуговицы и прочее. Александра Михайловна выбрала две брошки: одну для себя с хрустальными камешками и другую для меня с сиреневыми стекляшками.
– Эта брошка хорошо будет выглядеть на черном бархате, – говорит она задумчиво.
Я смущена:
– Александра Михайловна, ну как можно вам являться к принцу в таких «драгоценностях»?
Коллонтай быстро парирует:
– Я надеюсь, что принц Евгений не приглашает на прием ювелиров. Он художник, понимает толк в живописи, а вот отличить хрусталь от бриллиантов чистой воды едва ли может. Кроме того, мне кажется, он близорук. И кто посмеет подумать, что мадам Коллонтай носит украшения из простого стекла. На бриллианты у меня нет ни денег, ни охоты их носить. Будешь думать – как бы не потерять, а у меня голова занята другими, более важными заботами, – смеется она. – Вам, полагаю, полезно познакомиться со многими великосветскими дамами. Они не чопорны, вместе с тем плохо знают нас, советских, и Россию вообще и поэтому проявят к вам интерес.
И действительно, на этом приеме я познакомилась с графиней Поссе, которая тут же пригласила к себе на дамский чай, затем с четой иранского посланника, он после войны был послом Ирана в Москве, с рядом крупных промышленников, деловых людей. Все они, за малым исключением, приветствовали Коллонтай, и советский посол была, как сказал бы Лев Николаевич Толстой, «главным угощением» на вернисаже.
…Длинными зимними вечерами мы устраивались у радиоприемника. В Швеции во время войны радиоприемниками пользовались свободно, их не сдавали. Но гитлеровцы глушили радиопередачи из Советского Союза, Великобритании и даже из Швеции, что вызывало яростный протест шведов.
В полночь, как обычно, я слушала и записывала московские передачи, сводки Совинформбюро, утром за завтраком рассказывала последние новости Александре Михайловне. Она строго выполняла предписанный врачами режим – ложилась спать в 10 часов вечера.
У Александры Михайловны была потребность высказаться, поделиться своими мыслями. Мы говорили обо всем – о любви, о семейных отношениях, о положении наших женщин, и, конечно, главной темой была война. Как-то, передавая сводку Совинформбюро, я прочитала, что наши части понесли большие потери. Александра Михайловна, постучав лорнетом по столу, что означало крайнюю степень ее волнения, произнесла:
– Вы знаете, война началась значительно раньше, в 36, 37, 38-м годах. С тех пор вокруг меня образуются пустоты, исчезали один за другим мои друзья. Я знала всех наших военачальников. Кто из них остался?… Я до сих пор гадаю, в чем провинился Михаил Николаевич Тухачевский. Старые военные специалисты, например Сергей Сергеевич Каменев, считали маршала Тухачевского одним из крупнейших военных теоретиков.
В эти минуты я вспомнила: в 30-е годы наша разведка получила сведения от нашего агента из Германии, что Тухачевский, находясь в плену у немцев во время первой мировой войны, был завербован ими и ему был организован «побег» из лагеря военнопленных.
Накануне войны я искала в архиве НКВД следственное дело на Тухачевского, но нашла лишь одну папку с двумя-тремя листочками-«объективками». Следственного дела в архиве НКВД не оказалось, и никаких материалов, подтверждающих версию о «шпионаже» Тухачевского, я не обнаружила. А версия приобрела уже официальный характер, была прочно пригвождена в сознании общественности.
После смерти Сталина в ЦК партии была создана комиссия по расследованию дела Тухачевского. Меня вызывали на Старую площадь. Я изложила в объяснительной записке официальную версию о Тухачевском и написала свое мнение, смысл которого заключался в том, что это дело, по всей вероятности, сфабриковано в недрах германской разведки, чтобы уничтожить ведущего военачальника враждебного им Советского государства. Сейчас выясняется, что тогдашний наш агент в Германии – жена высокопоставленного чиновника германского МИДа – была расшифрована как наш агент и через нее подбрасывалась эта чудовищная «деза» о Тухачевском.
…Александра Михайловна положила мне руку на плечо и с горечью сказала:
– Знаете, как страшно было открывать газеты. Еще один… еще несколько… Враги народа… Как страшно… Когда я вхожу в свой кабинет и смотрю на развешанные фотографии, передо мной мемориал, я ступаю на ковер и каждый раз вспоминаю незабвенного Серго. Многое покрыто неизвестностью… Безумно, горько терять друзей. И наконец, этот выстрел Павла Дыбенко. Он понимал, что за ним пришли, и покончил с собой…
Я все время слушала молча, но здесь спросила::
– Это была ваша самая страшная потеря?
– Нет, – ответила Александра Михайловна. – Павел уже не был для меня крылатым эросом. Но товарищем по партии, по идее он оставался.
В комнату вошла горничная, принесла «дежурную» простоквашу.
– Так [20], – принимая стакан, поблагодарила Коллонтай.
– Так, – ответила горничная, забирая поднос. – Гут нат, – пожелала спокойной ночи она и сделала книксен. Уходя, снова сказала: – Так со мюкет!
Александра Михайловна рассмеялась:
– Норвежцы в этом смысле более рациональны. Они сразу говорят: «Тюссен так!», отпускают вам одним разом тысячу благодарностей, а шведы эту тысячу выдают поодиночке…
– Я влюблена в Норвегию, – призналась я.
Александра Михайловна обратилась ко мне с неожиданным вопросом:
– Зачем вы вышли замуж?
– Брак по любви, – ответила я.
– Я за любовь, самую крылатую, поэтическую, красивую, но зачем брак? Зачем эти узы?
– Я хочу иметь мужа, и каждый раз дома, когда я прихожу с работы часа в четыре утра, а случается так, что он приходит раньше, я сажусь на сундук перед вешалкой, смотрю на висящую шинель, папаху, начищенные, приготовленные к утру сапоги, я знаю, это шинель моего мужа, любимого мною человека.
– Но почему на любовь нужно иметь документ? Я против этого. Брак обязывает женщину следовать за мужем, быть его принадлежностью. Мне тоже была уготована судьба быть женой комдива, а затем ком-кора. Я на это не согласилась. Но и Павел не согласился стать мужем советского полпреда.
– Ваш брак был зарегистрирован?
– Да, но это было сделано в пропагандистских целях. Чтобы люди знали, что помимо церковного брака есть и гражданский… Я за свободную любовь. Эту мою позицию многие истолковывают превратно, как «стакан воды». Нет, я враг пошлости и распущенности. Любовь для меня – это прежде всего поэзия.
…В санаторий приехал Михаил Владимирович Коллонтай с цветами, любимыми лакомствами мамы. Он осторожно прикоснулся губами к руке, лежавшей неподвижно, и перецеловал пальцы правой руки матери. Сколько взаимной любви и нежности я уловила в глазах и жестах Александры Михайловны и ее сына.
После обеда мы с нею и Михаилом Владимировичем выбрались в парк, покрытый толстым слоем снега, устроились на расчищенной скамеечке. Михаил Владимирович щелкнул фотоаппаратом и поспешил на поезд.
– Мишуля, свет души моей, – с пронзительной нежностью и грустью прошептала Александра Михайловна, глядя вслед удаляющейся высокой, стройной фигуре сына.
– Признаюсь, – обратилась она ко мне, – я всегда чувствую свою вину перед ним, моим самым драгоценным сокровищем. Мишуля талантлив, хорошо образован, на редкость грамотный инженер, мог бы быть организатором крупного предприятия. У него дар слова, он способен к общественной деятельности. Но он не стал ни тем ни другим, и в этом повинна я.
Я вопросительно посмотрела на Александру Михайловну:
– Чем же вы ему помешали?
– Я заслонила его. Он стал сыном известной Коллонтай, а не самостоятельной личностью. Я много позже поняла, почему он в девятьсот пятнадцатом году отказался от поездки в Соединенные Штаты Америки, когда я работала там по поручению Владимира Ильича. Мишуля оставался в Питере, голодал, но чувствовал себя самостоятельным… Он всегда должен был спрашивать у меня не совета, а разрешения и лишь единственный раз поставил меня постфактум со своей женитьбой. В нем был заложен мой бунтарский характер, но я, того не желая, его погасила. Я была эгоистична, старалась всегда, даже в студенческие каникулы, держать его при себе, ежечасно знать, где он, что с ним. А когда обнаружилось, что у него порок сердца, я просто увезла его с собой в Швецию, «устроила» его – талантливого конструктора инженером-приемщиком в нашем торгпредстве.
Много лет спустя я вспомнила этот разговор, когда мой старший двадцатилетний сын Володя с чувством укора сказал мне:
– Как мне хотелось, чтобы у меня была старенькая мама, о которой бы я заботился. Я бы горы мог сдвинуть ради нее. А то приходишь куда-нибудь, говоришь: «Я – Рыбкин». А тебя спрашивают: «Полковник Рыбкин и подполковник Зоя Рыбкина, это не ваши родственники?» Или говорят просто: «Вы сын полковников Рыбкиных?» – и сразу сникаешь, и гаснут всякие идеи и замыслы.
Слушая это, я действительно сожалела, что я не старенькая мама, что я родила его в 19 лет и что я тоже заслоняла его, мешала развернуться его многим способностям, и прежде всего таланту конструктора – изобретателя новейшей радиотехники.
Глава 21. Контакт
Александру Михайловну заинтересовала подробная характеристика шведских магнатов-банкиров братьев Валленбергов. Их влияние и роль весьма существенны, и они могут быть полезными в осуществлении плана, который в ту пору безраздельно владел Александрой Михайловной, – скорейшее выведение Финляндии из войны. Но как к ним подойти, к Валленбергам, что предпринять? Мысль эта бередила сознание, и Александра Михайловна вспомнила…
Эстрадный концерт на открытой сцене. Выступает любимец шведской публики Карл Герхард. Он не только актер-сатирик, он чемпион Швеции по теннису и общественный антифашистский деятель. «Я проигрываю в теннис только королю», – признается он. Публика хохочет. Королю Густаву 85 лет, но он играет в теннис с чемпионом и каждый раз «выигрывает» у него. «Мой проигрыш ничего не стоит по сравнению с проигрышем наших соседей, – продолжает Герхард. – Они играли в поддавки с «колон фем» (пятой колонной гитлеровцев) и вовлекли свои народы в беду. У одних хозяйничают в доме бандиты, другие сами вступили в бандитскую шайку». И публика понимает, что Герхард говорит об оккупированных фашистами Норвегии, Дании и втянутой в войну с Советским Союзом на стороне Германии соседней Финляндии. «А мы с вами избежали участи наших незадачливых соседей. Нас не завоевали, и мы не воюем. Почему?» Зал затихает. Герхард прохаживается вдоль сцены, помахивая стеком, – высокий, стройный, в белоснежном фраке и цилиндре. Потом останавливается и, многозначительно подняв указательный палец, говорит: «Потому что в нашей стране не было «колон фем», а была и есть Коллонтай!» Взрыв аплодисментов покрыл слова актера.
Александра Михайловна поднялась и раскланялась. Она видела, как присутствовавшие на концерте братья Валленберги аплодировали этой остроумной юмореске. Их искреннее расположение к любимому артисту Карлу Герхарду говорило о многом, и Александра Михайловна это учла.
Имена братьев Валленбергов были широко известны, их мультимиллионное состояние – капиталы, поместья, банки безграничны. Но их, как бы мы сейчас сказали, альтернативная позиция была неясна. По данным разведки, братья Валленберги распределили между собой сферы деятельности. Якоб Валленберг был связан с германскими фирмами, занимался реэкспортом немецких товаров в страны антигитлеровской коалиции – США и Великобританию. Якоб получил из рук Гитлера самую высокую награду – Орден немецкого орла – «за особые заслуги». А брат его Маркус Валленберг способствовал укрытию германских капиталов в латиноамериканских и других странах на случай капитуляции Германии.
Оба брата Валленберги контролировали известную шведскую фирму СКФ, и производимые ею шарикоподшипники экспортировались для военной машины Германии, в первую очередь самолето– и танкостроения, артиллерии.
Германская и английская разведки пристально следили за деятельностью Валленбергов.
Крупные капиталы Валленбергов вложены в финскую промышленность, и исход войны для таких дельцов, как они, был ясен: Германия потерпит поражение, а вместе с нею и Финляндия, что и принесет им огромный ущерб.
Коллонтай взвесила все обстоятельства. Она решила установить контакт с братьями Валленбергами, и прежде всего с Маркусом, который был совладельцем «Эншильдабанка» в Стокгольме. Банк этот финансировал ряд предприятий в Финляндии. Идти на прямой контакт с домом Валленбергов Александра Михайловна считала для себя пока преждевременным. Поэтому она предпочла использовать знакомство с артистом Карлом Герхардом, которому особенно покровительствовал Маркус Валленберг.
Герхард взялся выполнить это поручение, и в результате Маркус Валленберг почтительно попросил у Коллонтай аудиенции. Встреча состоялась.
Валленберг почувствовал, что в его миссии мы заинтересованы много больше, чем он сам, сказалась коммерческая жилка. Он набивал себе цену.
– Я думаю, мадам Коллонтай, – сказал он, – ваша страна по-настоящему оценивает то обстоятельство, что мы, несмотря ни на что, сумели сохранить нейтралитет в течение всех этих военных лет и тем оказали вам реальную помощь.
На эти слова последовала убедительная реплика Александры Михайловны:
– Чера вен (дорогой друг), для вас не был тайной разработанный в начале этого (тысяча девятьсот сорок третьего) года германский план вторжения в Швецию под девизом «Полярная лиса». И все понимают, что этот коварный план был похоронен нашими «катюшами» на Курской дуге. Жаркое лето в центре России остудило пыл немцев.
Но Валленберг не успокаивался.
– Что говорить, мы однажды нарушили наш нейтралитет в пользу Советского Союза, когда продали для вашей военной авиационной промышленности столь необходимые ей инструменты из нашей сверхпрочной стали.
– Но ваш «Эншильдабанк» получил за это неслыханно высокую цену в виде русской платины, не имеющей аналога во всем мире.
И Валленберг понял, что перед ним не просто обаятельная женщина, а умный государственный деятель. И он изменил тон разговора. Он согласился поехать в Финляндию и повидаться с его другом Паасикиви. Паасикиви в свое время был посланником Финляндии в Швеции, и с Маркусом у них установились доверительные отношения. Маркус галантно предложил в распоряжение Коллонтай апартаменты в принадлежащем ему роскошном санатории «Сальчшёбаден».
– Паасикиви – противник этой войны, – сказал Маркус, – и я постараюсь внушить ему необходимость немедленного выхода Финляндии из войны. Иначе исход будет ужасный, страна просто исчезнет с географической карты…
– Не надо так страшно… – прервала его Коллонтаи. – Финляндия будет существовать. Мы не помышляем уничтожить даже Германское государство, не покушаемся на судьбу немецкого народа и, разумеется, народа Финляндии.
Глава 22. Тишина…
Александра Михайловна вернулась на работу в посольство и 7 ноября 1943 года устроила грандиозный прием в самом большом ресторане гостиницы «Гранд-отель». Собралось человек четыреста, в посольстве такое количество гостей разместить было негде.
Она прибыла на прием, когда гости уже заняли места за столами. Ее везли в коляске, но Коллонтаи не производила впечатления больного человека. К этому дню она заказала себе элегантное платье, на фоне высокого воротника выделялась красивая голова, в волосах прибавилось серебра, оно блестело в свете софитов, установленных в зале. На коленях ее атласного платья, сиреневого с серым, лежали роскошные розы. Гости встали, и разразилась буря аплодисментов и восторженных возгласов. Она кланялась и широким жестом правой руки приветствовала интеллектуальную элиту Швеции и не могла сдержать слез. Смахнула их лорнетом, и счастливая улыбка осветила ее лицо, она поняла, что это дань ее Отечеству и что ее уважают… С таким восторгом Коллонтаи еще никогда не приветствовали. И зазвучал ее мелодичный, вечно молодой голос.
Выступление Александры Михайловны было кратким, изящным, сильным. И снова овация и речи представителей прессы, литературы, искусства, промышленного мира, различных партий. Речь лидера компартии сменилась речью лидера влиятельной партии Центра. Выступали редакторы ведущих газет «Арбетет», «Дагенс Нюхетер», «Гётеборгшё-ок-ханделстиднинген». Создалась обстановка открытости и дружбы. Об этом приеме воскресшей Коллонтай писали газеты, астрологи предвещали удачное расположение звезд. Печать не забывала подчеркнуть, что шведская общественность единодушна в своем пожелании соседке-Финляндии успеть вовремя выйти из войны.
…Наступила пора мартовского солнца 1944 года. Александра Михайловна заявила в посольстве, что по рекомендации врачей ей следует в это переходное время, изобилующее капризами погоды, выезжать на ночь к берегу моря, где она будет спать с открытыми окнами и дышать морским воздухом. И люди понимали, что после напряженного дня семидесятидвухлетняя Александра Михайловна может позволить себе ночной отдых на берегу залива.
Я в те дни собиралась к отъезду домой. Александра Михайловна доверительно сообщила мне, что завязывает мирные переговоры с финнами и что эти встречи будут проходить в «Сальчшёбадене».
– Приезжайте с Владимиром Семеновичем ко мне на ужин. Нужно, чтобы я примелькалась там, поскольку переговоры с финнами я буду вести по ночам… Спасибо вам за помощь.
Я передала приглашение Александры Михайловны Владимиру Семеновичу Семенову. В нашем посольстве он был вторым лицом – старшим советником. Во время отсутствия Коллонтай исполнял обязанности поверенного в делах. Молодой дипломат, имевший философское образование, он впоследствии занимал ответственные посты, был нашим послом в ФРГ, заместителем министра иностранных дел.
…Шофер умело ведет машину по лесной дороге. Блеснул залив, в который опускалось затуманенное солнце. На высокой скале расположилось нарядное, изысканной архитектуры здание, отделанное мрамором, со львиными бронзовыми головами на парадных дверях. Это и был отель-санаторий «Сальчшё-баден». Дорога к нему шла серпантином, на пригорках, очищенных от снега, цвели разноцветные крокусы. Вечнозеленые голубые ели украшали зимний пейзаж.
У подъезда медсестры помогли Александре Михайловне перебраться из машины в коляску, швейцар и горничная приветствовали высокую гостью низким поклоном.
– Завтра приедете за мной, как всегда, утром, в восемь тридцать, – распорядилась Александра Михайловна. – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, приятных сновидений, – отвечает шофер.
Для Коллонтай были подготовлены апартаменты в бельэтаже. Во всех комнатах вазы со свежими цветами. Александра Михайловна попросила распахнуть дверь на террасу и накинуть на плечи накидку, опушенную мехом.
– Со вакра! (Так красиво!) – восхищенно сказала медсестра, оправляя накидку. – Что бы желала мадам на ужин?
– Стакан простокваши не очень холодной и вечерние газеты. И вы можете быть свободной. Я доберусь до кровати сама, но закройте дверь на террасу и опустите портьеры на окна.
Медсестра сказала, что в случае надобности мадам может вызвать ее, нажав на кнопку звонка.
Александра Михайловна вынула из сумочки зеркало. О, очень бледна. Чуть-чуть пудры. Тронула губы розовым карандашом. Поправила челку на высоком лбу. В углу комнаты деликатно тикали напольные часы-башня. Еще есть время немного отдохнуть, собраться с мыслями.
Ровно в одиннадцать часов стук в дверь. Александра Михайловна устроила левую руку на подлокотнике кресла, выпрямилась:
– Дверь открыта. Прошу!
В комнату вошли трое мужчин в смокингах, поклонились, не подавая руки, – они представляли воюющую сторону.
Александра Михайловна разрядила скованность:
– Я протягиваю вам руку.
Паасикиви подошел первым и осторожно пожал ее маленькую ладонь.
– Господин Паасикиви, мы с вами старые знакомые, и это знакомство было всегда под добрым знаком. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча должна принести удовлетворение обеим нашим странам.
Паасикиви представил ей своих советников, отрекомендовав их как единомышленников.
– Итак, приступим к делу. Садитесь, господа! Паасикиви продолжал стоять.
– Считаю для себя за большую честь начать эти переговоры именно с вами, госпожа министр, – сказал он. – Мы весьма ценим ваше сочувствие судьбе нашей страны. И как приятно, что мы разговариваем без переводчика на нейтральном шведском языке.
Переговоры были нелегкие. Несмотря на то что Паасикиви искренне примкнул к мирной оппозиции, требовавшей выхода Финляндии из войны, он стремился этот выход сделать беспроигрышным, без территориальных уступок и материальных возмещений. Иногда казалось, что из тупикового положения нет выхода, и аргументы и контраргументы повторялись с обеих сторон, как на испорченной пластинке. Но Александра Михайловна, глядя на угрюмые лица финнов, неожиданно произнесла по-фински:
– Ома мао мансика, му маа мустика. (Своя страна клубника, чужая черника.)
Паасикиви рассмеялся:
– Ойкен хювя! (Здорово!)
И разговор, похожий на угасающий костер, снова разгорался.
Паасикиви выезжал в Хельсинки и, как он позже говорил, «ломал хребты упрямцам».
– Я им втолковывал, госпожа министр, смысл русской поговорки: «Скупой платит дважды». Они даже заучили ее на русском языке.
Встречи длились весь февраль и март. Что и говорить, шли они мучительно тяжело. Порой казалось, что к соглашению прийти невозможно, что надо разойтись. Разойтись по домам и продолжить войну?
Нет!
Александра Михайловна проявила в этих переговорах незаурядный талант дипломата и полемиста. Непреодолимые, казалось, преграды разбивались такой убедительной логикой советского посла, что умудренный политик Паасикиви только разводил руками и, тяжело вздохнув, говорил:
– Быть по-вашему.
…Утром 20 сентября 1944 года газеты и радио известили народы мира, что Финляндия порвала свой союз с фашистской Германией и подписала перемирие с Советским Союзом. Мировая общественность расценила этот акт как гуманное и великодушное отношение советской стороны к своему соседу.
Эту победу завоевали советские бойцы, и среди них старый ветеран – дипломат Александра Михайловна Коллонтай.
В этот день сыпались поздравления с одержанной победой.
Александра Михайловна с огромным удовлетворением поглядывала на карту Европы, окидывала мысленным взором почти полуторатысячную линию советско-финляндского фронта, на котором отныне наступила тишина, та особая тишина, которую так благословляют люди. Советские дивизии отходили на новые позиции, перебрасывались для решительного удара против основного врага – германского фашизма.
Как дорога человеку каждая минута такой тишины, когда не рвутся снаряды, не воют сирены, не полыхают зарева пожарищ, когда слышен звоночек велосипедиста на проселочной дороге, повизгивает пила лесоруба, журчит ручей.
Голова в седеющих кудрях откинута на спинку кресла, глаза полузакрыты, больная рука покоится на подлокотнике кресла, губы улыбаются.
Это был главный подвиг ее жизни.
Тишина…
Тишина – это мир, это жизнь, свет в окнах, цветы на земле…
ОПАСНОСТИ, ПОТЕРИ
Глава 23 Под удары колоколов
Когда-нибудь я опишу эти девять месяцев тяжкого одиночества после отзыва «Кина». Жила в сложной обстановке. В полной неизвестности о сыне, братьях, матери, где и что с ними. Из Центра шли телеграммы с запросами по делам, которые вел «Кин». Справлялись у меня, в то время как «Кин», считала я, уже давно находился в Москве. Не могла постигнуть, что происходит…
Но вот в начале 1944 года мне прибыла смена, и я должна была выехать в Москву.
Сдавала дела новому резиденту Василию Петровичу. Передавала ему наших агентов. С одним из них случился казус. Он («Карл») заупрямился и не пожелал продолжать сотрудничество. Василий Петрович и после моего отъезда пытался наладить с ним связь, но безуспешно. Истинные причины невозможно было понять. Центр настаивал: агент должен действовать. Василий Петрович измотался и в конце концов в своей шифротелеграмме доложил: «Карл» был просто влюблен в «Ирину», этим объясняется его отказ работать со мной, – и, чтобы не было недомолвок, добавил: – Влюблен платонически». История смешная, но говорю о ней всерьез, подобные случаи в разведке бывают. В нашей деликатной работе, построенной на еще мало познанной науке, именуемой человековедением, нельзя отбрасывать значение личных контактов, симпатий и антипатий, возникающих у людей, связанных с нами.
…Я должна была выехать в Москву. Легко сказать выехать, а на чем и как? Прежде всего требовалось отвоевать место в английском самолете, которые нерегулярно, но все же курсировали между Стокгольмом и Лондоном.
Вскоре возможность лететь в пассажирском «Дугласе» мне была предоставлена, назначен день рейса. Я подписала обязательство, что предупреждена об опасности перелета из Швеции в Англию и посему прошу родственников и всех близких в случае аварии самолета не предъявлять Королевскому правительству, другим властям и должностным лицам Великобритании каких-либо претензий и не требовать возмещения убытков. О каких убытках шла речь, было неясно, но обязательство я подписала, и меня облачили к полету.
Сидела в помещении английской миссии на аэродроме и ждала команды на посадку. Ждать пришлось долго. Но вот появился помощник английского военного атташе. Я обрадовалась.
– Можно идти в самолет? – с нетерпением спросила я и вскочила.
– К сожалению, мадам, я должен вас огорчить. Мы получили приказ отправить в Англию двадцать норвежских летчиков, им удалось перебраться из Норвегии в Швецию, и они теперь по их просьбе зачислены в военно-воздушные силы Великобритании. Будут помогать русским громить врага. Простите, но предоставить вам место мы не можем. Приносим глубокие извинения.
– Понимаю, понимаю, – не без нервной ноты сказала я, – претензий не имею.
Пришлось отправиться к себе в посольство.
Представьте мое состояние, когда наутро мы получили известие, что этот английский самолет с норвежскими летчиками был сбит фашистскими истребителя-Ми над Северным морем. Экипаж и летчики погибли. Непредсказуемы, непостижимы перипетии военной поры. Эти славные ребята-норвежцы наверняка не подписывали обязательства, которое подписала я, и так безвременно и безвинно ушли из жизни. Память о погибших своих сынах свято хранит норвежский народ в своем опаленном войной сердце.
И снова потянулось томительное ожидание. Прошло еще несколько дней. Наш военно-морской атташе Алексей Иванович Тарабрин поделился со мной новостью:
– Завтра прибывает английский самолет, на нем летят моя жена и двое моих малолеток и жена моего помощника тоже с двумя детьми. Все они пережили ленинградскую блокаду. Наконец-то мы обретем свои семьи. Все самое страшное позади.
Разве мог этот человек даже подумать, что непомерно тяжкая беда еще впереди.
Английский самолет, на котором летели семьи наших посольских товарищей, был расстрелян врагом в упор над нейтральной шведской землей. Взорвался… загорелся… рухнул… Все погибли. Чудом спасся шведский пастор. Взрывом его выбросило в кустарник, и он уцелел, хотя и сильно пострадал.
В ожидании семей Тарабрин и его помощник покупали игрушки, лакомства для своих ребят. Что говорить, эти семьи ждала вся наша колония. Любовью и подарками готовились встретить их, перенесших и ленинградскую блокаду, и переход с конвоем из Мурманска в Глазго, и перелет через коварное Северное море…
Ночью меня разбудил резкий стук в дверь. Я не удивилась. Тарабрин еще днем предупредил, что по приезде с аэродрома он придет за мной: «Как не выпить шампанского в честь приезда?»
Услышав стук в дверь, я откликнулась:
– Поздравляю, поздравляю, Алексей Иванович! Разреши мне приветствовать твою семью утром, сейчас я не в форме.
– Открой дверь! – не сказал, а выкрикнул Тарабрин. Выкрикнул так, что мне стало не по себе.
Я накинула халат, включила свет. Алексея Ивановича трудно было узнать. Мертвенно-бледный, ни кровинки в лице. Каким-то потусторонним голосом он сказал:
– А мои-то сгорели. Все сгорели, все шестеро, четверо деток.
Он рыдал, закрыв лицо ладонями.
Я усадила его, обхватила за плечи, сама не в силах сдержать рыданий.
– Сейчас поедем опознавать трупы. – Он тяжело поднялся с кресла.
В обгоревших останках Тарабрин и его помощник едва узнали своих. На одной руке спеклись золотые часы и браслет, которые Алексей Иванович подарил жене к ее тридцатилетию…
К вечеру в посольстве было установлено шесть урн. Две большие и четыре маленькие. Большие урны были окутаны газовыми шарфами, приготовленными для жен. На маленьких – октябрятские звездочки. В почетном карауле бессменно стояли отцы погибших. Оба познали войну. Один был на Халхин-Голе, другой – в республиканской Испании. Они никогда не применяли оружие против детей, они отважно защищали детство. Сейчас с мокрыми платками у лица они не могли сдержать слез. Обоих обуревало чувство мести, они рвались в действующую армию.
А по улице Виллагатан растянулась бесконечная цепочка жителей шведской столицы. Люди пришли в советское посольство со словами соболезнования, возмущения актом вандализма, совершенного гитлеровцами.
Взрыв самолета потряс шхеры…
Взрыв в шхерах потряс сердца шведов…
На этом самолете в обратный рейс должна была лететь я.
…И наконец я сижу в военно-транспортном «Дугласе». На спине – сумка с парашютом. Широким ремнем меня пристегнули к креслу. В наступивших сумерках самолет взмывает и набирает высоту. Член экипажа задраил бортовые окна черными непроницаемыми шторками и раздал пассажирам кислородные маски.
– Будем лететь высоко над Норвегией, занятой врагом, – говорит он. – Там и в небе хозяйничают они.
Кислородная маска непривычна. От дыхания на подбородке обмерзает край, и нужно все время обламывать ледяную бахрому. Когда невольно сдвигаешь со рта клапан, в ушах возникает колокольный звон. Слезы застилают глаза, не говорю уже обо всем остальном, что творится в организме. Внутреннее давление намного превышает внешнее, и это вызывает болезненное ощущение. Водворяешь маску на место – и колокольный звон в ушах затихает…
Моторы зарокотали глуше, словно куда-то отдалились. Опять слышу колокол. За ним другой, третий. Вот уже много колоколов звонят чистым серебряным звоном, чувствую их совсем близко. Чудится, будто мы летим над рощей, освещенной солнцем, и из зеленых крон выглядывает высокая колокольня и до нее рукой подать, вроде она под самым брюхом самолета…
Руки шарят по лицу, натягивают на лицо холодную резину маски. Можно вдохнуть прохладную струю воздуха. Колокола звучат тише, рокот моторов усилился. В такт дыханию хлопает клапан кислородной маски. Самолет снова забирается высоко, и от разреженного воздуха сильно колотится сердце. Выдержат ли барабанные перепонки?
Штурман все чаще выходит из экипажного отсека, пробегает синим лучиком фонарика по рядам кресел, проверяет, все ли в порядке, как мы себя чувствуем.
Самолет пересек Северное море и приземлился в Шотландии. Пассажиры, держа друг друга за руки, в темноте добрались до аэродромного штаба.
Только тут мы узнали, что, когда мы пролетали над Норвегией, наш самолет атаковали немецкие истребители и один мотор машины вышел из строя. В фюзеляже и крыльях одиннадцать пробоин. Из-за шума моторов пассажиры не слышали стрельбы и спокойно реагировали на ненормальную вибрацию машины, полагая, что так и должно быть: воздушные ямы.
В помещение штаба привели залитого кровью человека, нашего пассажира. Им оказался инженер советского торгпредства. Мы решили, что он ранен, но он «успокоил» нас: на большой высоте у него лопнул пневмоторакс, наложенный на больное легкое, и у него горлом хлынула кровь. Инженер страдал тяжелой формой туберкулеза, но скрывал свою болезнь. Он рвался на фронт и добился отправки домой вне очереди. Он просил меня никому в Москве не рассказывать про его пневмоторакс. «Не то отправят в тыл», – поморщился он.
И вот я снова в Лондоне. По-прежнему туго здесь с продовольствием. По карточкам выдают самое необходимое. Главная забота – питание детей. В городе немало мелких лавок, в которых по более высокой цене можно что-то купить без карточек.
Захожу в такую лавчонку. Владелец, он же продавец, судя по моему плохому английскому, спрашивает, кто я, и, узнав, что русская, из Советского Союза, достает откуда-то лимоны, сыр, сахар и предлагает все это мне. Просит принять как подарок. Я категорически отказалась, объяснив, что могу расплатиться. «Ну, тогда по казенной цене», – отрезал он, и я стала обладательницей трех лимонов, четверти головки сыра и кулечка с драгоценным сахарным песком.
В советском консульстве мне сказали, что через несколько дней в Глазго начнет собираться конвой, который направляется в Мурманск.
Глава 24 Конвой
В Глазго прибыли поездом рано утром. Огромный, грохочущий, дымный, мрачный, закопченный город-завод. Такси у вокзала не нашла и поехала в порт на автобусе. У въезда на большую площадь путь автобусу преградили танки. Они выползали из раздвинутых ворот, окутанные синим чадом, громыхая гусеницами. Разворачивались на площади и выстраивались в Ряд. За танками бесконечной вереницей шли рабочие в синих комбинезонах.
– Придется переждать, – сказал шофер автобуса и, отведя стеклянную дверь кабины, спустился на асфальт. Пассажиры тоже вышли. Толпа из проходных ворот вываливалась на площадь, и казалось, ей нет конца…
Взмыли вверх транспаранты: «Привет советским солдатам!», «Смерть фашизму!», «Требуем немедленного открытия второго фронта!»
На трибуну, установленную посредине площади, поднимались ораторы, произносили короткие горячие речи. В ответ – гул одобрения, крики «виват!».
Между тем в толпе из рук в руки переходили кусочки мела и баночки с краской, и броня танков покрывалась надписями: «Спасибо, русский брат Иван!», «Good luck uncle Joe!» («Удачи, дядя Джо!») – так англичане называли Сталина. «Желаю скорой победы!» – рабочий срисовывал русские буквы с плаката «Смерть фашистским оккупантам!».
На танке недалеко от нас девушка в рабочей робе чертила на броне «V» («Виктори» – победа), кто-то рисовал эмблему серпа и молота. Крупными значками «Виктори» были исписаны и стены завода и краны.
Эти грозные танки рабочие создавали для Красной Армии и понимали, что значит работать на общую победу. Делали по-хозяйски, быстро, хорошо. Рабочая солидарность порождала радость труда, ответственность.
На трибуну поднялся очередной оратор. В наступившей тишине прозвучал его голос: «Поможем восстановить Сталинград!» – «Поможем!» – откликнулась единым возгласом площадь.
В толпе появились люди с беретами в руках. Пустили «шапку по кругу». Береты наполнялись монетами, денежными купюрами. Чувство единодушия, чувство локтя царило здесь. Но вот взревели моторы, и танки, сопровождаемые приветственными возгласами, двинулись в сторону порта.
Тронулся и наш автобус. В порту я пробиралась по бесконечным лабиринтам из штабелей ящиков, тюков, бочек. Шла погрузка на пароходы. Причал уставлен десятками кранов, похожих на черных аистов. Клювами они поднимали в воздух танки, проносили их в выси и осторожно, как в копилку, опускали в пароходные трюмы.
Тысячи чаек хлопотливо носились над пароходами, из-под ног взлетали стаи голубей. Над портом колыхались десятки связок аэростатов воздушного заграждения.
После долгих расспросов я нашла нужный мне пароход. Добралась до капитана. Он стоял у трюма, в который в это время спускался танк, испещренный значками «V», изображениями скрепленных в пожатии рук, и я поняла, что наш пароход повезет танки в Советский Союз.
Я дождалась, пока капитан обратит на меня внимание. Боялась, что он тоже скажет сакраментальное: «Чтобы идти на пароходе, груженном военным снаряжением, надо быть королевой». Но он оказался весьма галантным человеком. Когда улыбался, выглядел совсем молодым, хотя легкая седина уже проступала на висках.
– Джордж, – окликнул капитан молодого матроса, – покажите миссис каюту, помогите устроиться, передайте коку, чтобы он принял на довольствие в кают-компанию даму.
Каюта была небольшая, с четырьмя койками в два яруса. Верхние койки были откинуты и прикреплены к переборкам. Между койками стоял рундук, по бокам две тумбочки с углублениями на крышах, в которые вставлены графины с водой и стаканы.
Я передала Джорджу квитанции на получение моего багажа. Джордж был радушен:
– Располагайтесь, пожалуйста, миссис. Чемоданы принесут. Завтрак в восемь ноль-ноль, ленч (второй завтрак) – в тринадцать ноль-ноль, затем файф-о-клокти (пятичасовой чай), обед в двадцать ноль-ноль.
По совету Джорджа я заняла койку у внутренней переборки: здесь меньше качает.
Вверху грохотало, визжало, скрипело. И вдруг в этом неумолчном гаме, где-то совсем близко, раздались удивительно нежные звуки, казалось, кто-то играет на тоненькой флейте. Вспомнился душистый подмосковный лес после дождя, отдаленный гром из завалившейся за лес тучи, и почему-то захотелось плакать. Музыка становилась все явственнее. Я раздвинула дверь, за нею стоял черный человек в тельняшке, с белоснежной бородой, бахромой обрамлявшей подбородок от уха до уха. В руках у него была музыкальная шкатулка. Она-то и издавала эти нежные звуки, тонко пробивавшиеся сквозь железный хаос.
– Здравствуйте, леди. Пожалуйте кушать, – пригласил старик. – Разрешите, я вас провожу.
Мистер Мэтью, как я узнала позже, много лет служил стюардом на пассажирском пароходе и будил своей музыкальной шкатулкой богатых путешественников, приглашая их к столу. Во время войны он стал помощником боцмана. С ним была неизменная шкатулка. Матросы любили слушать шотландские песенки, у них в кубриках шкатулка Мэтью была единственным музыкальным развлечением. Оторванные от дома, всегда в напряжении, они прислушивались к дивным звукам, обещавшим желанную встречу с родными, с землей и, главное, вселявшим надежду на обретение мирной жизни. Они готовы были без конца слушать волшебную музыку.
За столом в кают-компании капитан представил мне своих помощников. Старший помощник мистер Эдгард, по словам капитана, был хладнокровным, как огурец, но мог, если понадобится, быть едким перцем.
– Мой второй помощник, он же штурман, мистер Джефри, – продолжал капитан, – отличный парень. Мой третий помощник, мистер Рудольф, сейчас на вахте, познакомитесь с ним позже. Он замучает вас рассказами о своем беби, которому исполнился уже год и которого он ни разу не видел. Если фотография его беби вам понравится, он станет лучшим другом. А вот и старший механик, мистер Стивен, наш уважаемый дедушка…
Это был действительно пожилой человек, сухой, жилистый, чисто выбритый. Он по-старомодному поклонился без улыбки, чуть склонив голову.
– А теперь, миссис, познакомьтесь с нашим врачом мистером Чарлзом. – Капитан представил мне единственного на пароходе человека в очках, с маленькими черными усиками. – Доктор притворяется, что не любит море, но ходит на кораблях уже лет двадцать. Коллекционирует страшные морские истории, записывает их и когда-нибудь издаст интересную книгу. Отличный врач, признает только одно лекарство – крепчайший чай с морским воздухом.
– Как видите, миссис, у нашего капитана все гуси выглядят лебедями, – сверкнул золотыми зубами доктор Чарлз.
Он правда оказался интересным собеседником и по пути нашего следования вводил меня в курс событий.
– Прежде всего я хотела бы знать, что такое конвой, на котором мы поплывем? – спросила я у доктора.
Он весело рассмеялся.
– О, миссис, моряки не плавают, они ходят по морю и плавать ох как не любят. Впрочем, многим из них уже довелось это испытать. Наш капитан, к примеру, дважды был торпедирован. Мне тоже довелось раз плавать в Тихом океане, когда нас торпедировала японская подводная лодка. Меня спас тогда обломок от кормы нашего ушедшего в небытие корабля. А вот если придется плавать в Баренцевом море, – с грустью добавил он, – не приведи Дева Мария. Пять минут в ледяной воде, и, если Даже спасут, ноги и руки… чик-чик… – Доктор Чарлз сделал выразительный жест, вроде бы отрубая себе руки и ноги.
– Так что же такое конвой? – нетерпеливо повторила я свой вопрос.
– Извольте.
И он объяснил, что сейчас в Глазго и на базе Лах-Ю формируется конвой и окончательно собирается в Рейкьявике в заливе Хваль-фиорд. Транспортные пароходы, груженные танками, пушками, самолетами, консервами, зерном, медикаментами, всем, что американцы поставляют Красной Армии по ленд-лизу [21]. Таких пароходов насчитывается в одном конвое до шестидесяти. Это преимущественно английские корабли, среди них – старые, изношенные, но застрахованные. Поэтому расстаются с ними не жалеючи.
Для охраны конвой сопровождают военные суда Великобритании – крейсер, миноносцы, торпедные катера, авианосец. Их задача – отразить нападение на конвой как гитлеровских субмарин, так и бомбардировщиков с воздуха.
Доктор Чарлз окинул меня критическим взглядом и сказал:
– Напрасно, миссис, вы пустились в это путешествие.
– Неужели и вы думаете, что женщина на корабле может принести несчастье? – удивилась я.
– Я убежден, что пребывание на корабле в конвое приносит неприятности самой женщине. Ее место на земле. В одном только я готов согласиться с немцами: кирхен, киндер унд кюхен (церковь, дети и кухня) – ее океан. Нельзя нарушать веками сложившиеся традиции.
– Мне кажется, война нарушила все эти условности. И в вашей стране я видела многих женщин в военной форме, – убежденно сказала я.
Спустя несколько дней в порт прибыл советский консул, чтобы проводить наш конвой и следовавших на одном из военных кораблей советских дипкурьеров.
Караван собрался в водах Северной Атлантики. Теперь это был большой отряд кораблей, растянувшийся на много миль по морю. Даже в ясную погоду не видно было его конца и края. Вокруг каравана сновали быстрые миноносцы, сторожевые корабли словно вглядывались в морскую даль своими наклонными мачтами. Авианосец, как на раскрытой ладони, нес на себе двенадцать самолетов.
На флагманском корабле помещался командный пункт с адмиралом во главе – командиром конвоя. На одном из транспортных судов располагался командный пункт командора – начальника транспортов. Сигнальщики на высоких мачтах с биноклями, флажками и свистками просматривали море, передавали команды.
Конвой шел противолодочным зигзагом: по сигналу с флагманского корабля все пароходы резко меняли курс каждые 15 – 20 минут, чтобы сорвать возможные атаки вражеских подводных лодок.
Я вышла на палубу. Порой налетал мокрый снег, или, как называют его моряки, снежный заряд, и тогда с кормы не был даже виден нос своего корабля.
На пароходе шла размеренная напряженная жизнь. Доктор Чарлз предложил спуститься с палубы в кают-компанию.
– Не то схватите насморк, – сказал он, – и доставите мне много хлопот.
Пароход стало сильно качать. В кают-компании ленч подавали, вставляя тарелки в глубокие гнезда. Я еле держалась на стуле, есть мне расхотелось. Я только старалась не упасть.
– Какой ужасный шторм! – сказала я с отчаянием.
В кают-компании раздался дружный смех.
– Это далеко не шторм, – сказал капитан. – Всего четыре балла. Хотя в этом море и такой ветер разводит порядочную волну. Настоящие штормы еще впереди.
Я спустилась к себе в каюту. В коридоре меня, как булавку к магниту, приклеивало то к одной переборке, то перебрасывало к другой. Еле добралась до койки.
Пришел доктор Чарлз и предложил прикрепить меня к койке ремнями. Я отказалась.
– Напрасно. Хорошая волна вас сбросит, и вы будете кататься по полу.
Я подчинилась.
Море разыгралось не на шутку. Меня выворачивало наизнанку. Очень раздражала моя черно-бурая лиса, которая висела на стене, она раскачивалась и подпрыгивала. Казалось, она смеется надо мной своими стеклянными глазами. Вот ее хвост пополз вверх по переборке до самого потолка, а морда продолжает издеваться.
Ветер все глубже подкапывался под пароход, вычерпывал воду то из-под одного борта, то из-под другого, и было ощущение, что корабль проваливается в пучину по какой-то чертовой лестнице. Качка как зубная боль, к ней все время прислушиваешься и с напряжением ждешь, когда же она оставит тебя в покое.
Я вцепилась обеими руками в бортик, боясь свалиться с койки. «Неужели не будет конца этому терзанию? Ненавижу штормовое море, да простят меня моряки…»
К вечеру рев ветра стих. Шторм словно с головой зарылся вглубь и теперь раскачивал пароход откуда-то изнутри, от самого дна. Белые барашки исчезли. Море не вздыбливалось волнами, а покрылось огромными впадинами, с гладкими, отполированными боками, а внутри впадин все пузырилось, кипело, ревело, не в силах угомониться.
Свирепый шторм сменился мертвой зыбью, изматывающей и корабли, и людей.
Аварийная тревога заставила меня сжаться в комок. Что это? Собралась с силами и решила добраться до кают-компании. По пути увидела старшего механика мистера Стивена, который, громыхая по трапу, бежал к капитанскому мостику, крича: «Танки, танки…»
Сирена аварийной тревоги продолжала выть. По трапам сыпались матросы, кочегары, радисты, коки. Никто ни о чем не спрашивал, все понимали – в трюме беда, с крепления сорвался танк.
Ломами, лопатами, топорами и просто голыми руками моряки отдраивали смерзшийся брезент, прикрывавший трюм. Работали лихорадочно и, слыша грохот там, внутри трюма, думали об одном – успеть укротить чудовище.
А я стояла и чувствовала свою беспомощность, ненужность. Я ничем не могла помочь этим людям, сумевшим быстро забраться в трюм и закрепить сорвавшийся танк, грозивший изнутри протаранить корабль…
Утром на безоблачном небе взошло солнце. Было оно бледное, затянутое дымкой, словно и его измотал шторм.
…Морозный тихий день. Я вышла на верхнюю палубу и ахнула. Корабли не были похожи на те, что вышли из порта. По морю плыли сказочные хрустальные дворцы, сверкая на солнце бело-голубыми блестками. Мачты и тросы обросли ледяной бахромой сосулек. Палубные надстройки покрылись ледяным панцирем.
– Как красиво! – невольно воскликнула я.
– О, миссис, – покачал головой боцман, – это коварная красота. Сколько тонн льда висит на такелаже, приросло к палубам. Кораблям идти опасно…
Я поняла, что проштрафилась со своими эмоциями.
Матросы срубали лед. Сверкающие брызги летели вокруг. Сбитые глыбы льда сползали за борт.
…Около девяти часов вечера я поднималась по трапу в кают-компанию к ужину. Встала на ступеньку и не успела перешагнуть на другую, как неимоверной силы взрыв сбросил меня с лестницы. Можно было подумать, что само море раскололось до дна. На секунду свет погас. Я поспешила наверх, где слышались громкие взволнованные голоса. Навстречу мне шел стюард Мэтью.
– О, миссис, это торпеда в наш корабль. Вы свою шлюпку знаете?
Я не успела ответить: грохнул второй взрыв.
Я очутилась на палубе и увидела красную ракету, взмывшую вверх, и на ее фоне черный силуэт разломившегося корабля. Со зловещим свистом в кипящую пучину моря опускались порознь нос и корма.
– Слава Богу, не в наш корабль. Видите, у нас спускают шлюпки, кое-кого спасти еще можно…
В кают-компанию собрались, словно ничего не произошло. Принесли ящики с виски. Началась попойка. Пили виски, не разбавляя водой. И каждый вертел перед лицом какой-то предмет: кто птичье перо, кто заячью лапку, кто куколку или статуэтку. Спешили своими амулетами отвести беду…
С моря доносились взрывы.
– Глубинные бомбы, – сказал доктор Чарлз. – Их сбрасывают наши военные корабли, чтоб поразить немецкие подводные лодки.
– Но эти бомбы поражают главным образом рыбу, – сыронизировал Мэтью. – Сейчас море покрыто слоем глушеной рыбы. А субмарину не так-то легко поразить.
Разговор подхватил доктор Чарлз и поведал мне удивительную историю.
В маленьком шотландском городе на берегу Северного моря жил часовых дел мастер. Много лет жил. Звали его онкел Питер, дядюшка Питер. Откуда и когда он приехал в этот город, никто не помнил, но главную улицу города невозможно было представить без маленькой мастерской, в окне которой всегда виднелась согбенная фигура дядюшки Питера с круглой лысиной на затылке и неизменной лупой в глазу.
Дядюшка Питер жил один, работал с утра до позднего вечера. Часто после обеда он шел прогуляться на парусной яхте в море, чтобы размять затекшие мышцы, проветрить легкие свежим морским воздухом. В этом случае он оставлял на подоконнике записку: «Ушел в море, вернусь в 14.30». Клиенты ценили аккуратность дядюшки Питера.
Особенно часто заглядывали к часовщику моряки. Дядюшка Питер мог отремонтировать часы, побывавшие в морской соленой воде и, казалось, неисправимо испорченные. Он мог оценить хронометр, купленный в любом порту мира. У него была своя страсть, или, как говорят англичане, хобби – коллекционирование часов. И часы, начиная от крохотных, вделанных в дамский перстень, и кончая большими напольными башенками, заполняли его маленькую чистенькую комнату.
Когда в Европе началась война, дядюшка Питер освободил от часов самое видное место на стене и прикрепил плакат: «Молчи, тебя слушает враг!» Теперь часто он вовсе отказывался брать деньги с моряков, особенно с военных, подводников, минеров. «Самое главное, – советовал дядюшка Питер, – не допускать в свои базы германские субмарины, чтобы они не нанесли ущерба славному британскому военно-морскому флоту». И моряки заверяли, что дядюшка Питер может быть спокоен: только что поставили донные мины и противолодочные сети на подходах к порту и оставили секретный фарватер для своих кораблей…
В один из октябрьских дней 1939 года произошло что-то непонятное. У двери часовщика собрались клиенты. Окно было завешено, на занавеске записка: «Ушел прогуляться в море. Буду в 12.00».
Часы на ратуше отзвонили двенадцать раз, но дядюшки Питера не было. Стали стучать в дверь, звонить. Дядюшка не откликался. Позвали полисмена. Взломали дверь. На голой стене комнаты вместо плаката «Молчи, тебя слушает враг!» висел портрет Гитлера. Все часы были разбиты, исковерканы. Кто учинил такой погром, уничтожил плоды труда многих лет?
Люди недоумевали. И только позже узнали, что в это время дядюшка Питер был на борту фашистской субмарины. В руках у командира подводной лодки была карта английских минных заграждений на подходах к военно-морской базе Скапа-Флоу. Карту изготовил и передал своим хозяевам старый немецкий шпион дядюшка Питер. Фашистская субмарина на заданной глубине прошла по тайным проходам и торпедировала английские военно-морские корабли. «Дядюшка Питер» принимал поздравления от команды германской подводной лодки с «блестящим завершением операции»…
…Всю ночь слышались разрывы глубинных бомб. И всю ночь я просидела в кают-компании в шубе, шапке, с расшнурованными башмаками. Так велел капитан, предупредив, что, попав в воду, надо первым Делом сбросить башмаки, а то они потянут на дно. И все время я старалась запомнить путь к шлюпке № 4, в которую я должна была сесть, если наш пароход будет торпедирован.
На палубу страшно было выйти, но мне хотелось понять, почему мы так медленно стали двигаться и нас бгоняют другие корабли. Поняла это, услышав разговор капитана со старшим механиком. Механик убеждал капитана, что с углем все в порядке и что это «сумасшествие остаться одним в море без всякой защиты. Нельзя идти на верную гибель». Капитан ответил ему резко: «Я знаю, что делаю. Объясните матросам, что отстаем потому, что плохой уголь. Машины не в состоянии работать на полную мощность».
Действительно, остаться в море одним страшно. Но доктор Чарлз заверил меня, что капитан знает, что делает, и по секрету сообщил, что в трюмах нашего парохода не только танки, но и боеприпасы, снаряды, патроны, динамит… Немецкие субмарины прорвались внутрь каравана. С утра, как обычно, может начаться бомбежка, на конвой обрушатся с воздуха немецкие бомбардировщики. Наш пароход может взорваться даже не от прямого попадания, а от детонации. Поэтому лучше отстать от каравана и остаться одному. Так вернее. Сейчас охота идет против всего конвоя, и немцы не будут отвлекать силы на наш пароход.
– Капитан умница, – сказал доктор. – Мы догоним конвой – он идет противолодочным курсом, а мы идем прямым и пройдем в три раза быстрее.
…В эту ночь, кроме меня, на пароходе наверняка никто не спал. Я же не ведала об опасности. А смерть в железном рогатом шлеме ходила вокруг корабля. Порой терлась шершавой щекой о борт, покачивалась на пологой волне. Днем я стала невольным свидетелем разговора капитана со своими помощниками. Пароход попал на минное поле. Это были мины, очевидно сброшенные с германских самолетов в море, а возможно, сорванные штормом с якорей и теперь разгуливающие по волнам.
Заметили их на рассвете. Срочно была усилена вахта, команда приведена в боевую готовность. Матросы, вооружившись баграми, биноклями, свистками, лежали на палубе у фальшборта и зорко вглядывались в волны. От резкого звонка впередсмотрящего все превращались в слух и зрение.
Матросы, завидев рогатую гостью, осторожненько отводили ее баграми, и огромная чугунная голова медленно уходила за корму, покачивая рогами. Матросы бегали по палубе на цыпочках, говорили вполголоса. Я не видела такой тревоги даже во время торпедной атаки. Матросы, не стесняясь меня, высказывали самые страшные прогнозы, что, мол, стоит такой мине стукнуться как следует о борт корабля, как сработают взрыватели и двести пятьдесят килограммов взрывчатки разнесут судно вдребезги.
Я холодела от ужаса, лучше б не знать.
С наступлением темноты капитан приказал заглушить машины и положил корабль в дрейф. С обоих бортов на воду были спущены шлюпки, матросы вглядывались в черные волны – не покажется ли страшная морда мины, а завидев ее круглую шишковатую макушку на волне, протягивали багры и самыми ласковыми словами провожали ее за корму, а вслед пускали страшные ругательства. Утром, когда на востоке обозначилась бледная полоска рассвета, вахтенный сигнальщик доложил, что море спокойно, мин не видно…
Спустя два дня между островами Шпицберген и Медвежьим мы снова примкнули к каравану и увидели наши советские военные корабли, которые приняли транспортные суда под свою охрану.
Да, советские военные корабли перепахали Баренцево море, охраняя конвои, спасая английские и американские экипажи с гибнущих и погибших транспортных кораблей. Высматривали каждый плотик, каждый обломок, за который мог ухватиться тонущий.
Еще мили две хода – и видны Мурманские сопки. Шестнадцать суток позади. Караван втягивается в горло Кольского полуострова.
Я с трудом перевожу на английский команды лоцмана: «Восемнадцать метров…», «Трави якорную Цепь…» Опускаю непереводимый с обеих сторон морской жаргон, стараюсь как можно быстрее превратить Метры в футы.
Здравствуй, причал родной земли!
Глава 25. Горбушка хлеба
Мурманск. Почти весь день ушел на организацию причалов и якорных стоянок для пароходов. Капитан Эндрю попросил меня быть переводчиком у советского лоцмана и в благодарность за дружеское участие и добрую компанию в походе подарил мне цветную мозаику – фигурные кубики для взрослых. Храню их до сих пор.
Матросы помогли мне перенести вещи в гостиницу. Было начало марта 1944 года. Над Мурманском уже на несколько часов появлялось солнце. Оно освещало мрачную картину разрушенного города. Руины, руины, руины…
И все же город жил. Торговали магазины. Сновали прохожие. Гуляли влюбленные парочки. Маршировали солдаты. Инвалиды на костылях в бушлатах и тельняшках. Это они изведали «купание» в Баренцевом море, где теряли руки и ноги. Фронтовой город.
Вечерним поездом я отправилась в Москву. Пассажиров было мало. Моим соседом по купе оказался капитан 2-го ранга с девочкой, вид которой меня поразил. Голубая прозрачность лица и не по-детски печальные глаза. «Больная девочка», – решила я.
Поезд отправился. Я познакомилась с попутчиками. Он – командир подводной лодки, ленинградец, везет дочку на Украину к родственникам. Увидев наклейки на моих двух мешках и чемодане, он понял, что я прибыла из Великобритании с конвоем. Он и сам встречал и охранял конвои. Мой новый знакомый обратился ко мне на английском языке и сказал, что его жена, мать и младший сын погибли от голода в Ленинграде, а чудом оставшуюся в живых дочку знакомые привезли к нему в Мурманск. Просил ни о чем девочку не расспрашивать, она еще не может прийти в себя после пережитого. Назвал ее по-английски Элизабет.
Девочка мрачно смотрела на отца и потом сказала: «Я хочу есть». Я предложила устроить ужин. Достала сыр, лимон, сахар, купленные у английского торговца. Капитан вынул большой термос, американскую тушенку, хлеб. С изяществом, столь свойственным русским морякам, он расстелил салфетку, нарезал ровные ломтики хлеба. Я сняла красную корочку с сыра и заметила, что девочка схватила ее и проворно сунула под подушку. Я нарезала лимон, положила каждому в стакан. Капитан, которого, если память не изменяет, звали Сергеем Сергеевичем, подал чай и бутерброд прежде всего Лизе, а когда протянул бутерброд мне, она вскрикнула и схватила его за руку.
– Лиза, милая, хватит всем, всем, и тебе я дам еще много.
В руках у Сергея Сергеевича была большая горбушка хлеба.
– Дай, – сказала девочка повелительно. Он положил горбушку перед нею.
– Это горбушку съешь завтра утром. Ты же умница, знаешь, что много есть тебе еще вредно. Пей чай и ложись спать не раздеваясь. Мы с тетей пойдем покурим.
Мы вышли в коридор. Он закрыл дверь в купе и теперь уже по-русски шепнул мне:
– Моя девочка перенесла такой ужас, она крайне истощена и все съестное прячет даже от меня. И сейчас она вынимает спитой лимон из стаканов, подбирает крошки хлеба и куда-нибудь засунула горбушку. Врачи не разрешают ее обильно кормить. Это опасно после девятисот голодных дней. Подумайте только, Лиза сказала мне со слов мамы, они съели умершую собаку…
Мы вернулись в купе. Спитой лимон исчез. Горбушки не было. Кусок еще не нарезанного сыра тоже исчез. Лиза спала, обхватив обеими руками подушку.
Неожиданно поезд затормозил и остановился. Дверь в купе резко отодвинулась, и проводница объявила, что поезд подходит к фронтовой линии. Близится время обстрела, поэтому надо быть готовыми в нужный момент покинуть вагон.
Вскоре послышался артиллерийский залп. Сергей Сергеевич схватил девочку на руки. Она проснулась, прислушалась и испуганно спросила:
– Это наш квадрат обстреливают?
– Нет, нет, – успокоил отец, – но нам надо выйти из вагона.
Мы спрыгнули из тамбура и спустились вниз по крутой насыпи.
Начался артиллерийский налет. Снаряды летели в сторону поезда, либо не долетая до нас, либо ложась где-то вдалеке.
Вдруг Лиза поднялась с земли, вскарабкалась на верх насыпи и бросилась в темный вагон. Отец поспешил за нею, и через несколько минут оба вернулись.
Обстрел усиливался. Сергей Сергеевич расстелил на снегу шинель и уложил на нее дочку.
Я устроилась рядом. При каждом новом залпе девочка что-то гладила рукой и приговаривала: «Не бойся, миленький, это не наш квадрат обстреливают. Я тебя никому не отдам. Ты ведь мой, мой…»
Я решила, что у девочки в руках кукла.
Артиллерийский налет кончился. Проводница пригласила пассажиров в вагон, и поезд тронулся дальше.
Спящую девочку Сергей Сергеевич принес на руках, бережно уложил на постель, отвернул подушку и взглядом пригласил меня посмотреть. Он посветил лучом фонарика, и я увидела корочку хлеба, обрезки сыра, кружочки спитого лимона, яичную скорлупу. А в руке у Лизы была крепко зажата горбушка черного хлеба. Вот за ней она и бросилась в вагон.
– Я знаю, что сейчас будет. Она ляжет на эту горбушку, ей лежать неудобно, но это сокровище отобрать у нее я не могу. Вспылит, и кончится все истерикой. Знаете, – продолжал Сергей Сергеевич, – у нас, подводников, самое сокровенное желание – отомстить за наших жен и детей. В норвежском фиорде стоит гитлеровский линкор «Тирпиц». Он стал пиратом Баренцева моря. Ликвидировать «Тирпиц» – вот чего мы хотим. Командиру подводной лодки Лунину удалось атаковать проклятый линкор, в него было попадание двух торпед, он минимум на три месяца выходил из строя, но все же остался на плаву…
Утром, когда девочка проснулась, отец разжег спиртовку и в маленькой железной кружке сварил два яйца. Лиза с жадностью проглотила одно и потянулась за вторым.
Отец запретил брать.
– Второе только через два часа, так велел доктор, ты же знаешь.
Я стала расспрашивать Лизу, куда она едет, к кому. Она очень серьезно спросила меня:
– А вы знаете стих «Они сожгли родную хату?» – И, не дожидаясь ответа, без запинки прочитала стихотворение Михаила Исаковского.
Я похвалила ее за прекрасную память, великолепную декламацию, и подобие улыбки появилось на ее измученном лице.
Поезд приближался к Москве.
Глава 26. Мама
Я не отрывалась от окна вагона. Всюду следы погрома, учиненного войной. И за всем этим бесконечные человеческие жертвы.
Поезд подходит к платформе. Кто меня встретит – мама? муж? сын? братья? Об их судьбе я ничего не знаю, и это незнание терзало сердце. Я так ждала маминых писем, они всегда были маяком в нашей жизни, и мне очень полюбилось мамино слово, которым она заканчивала каждое письмо: «Кребко тебя Целую». Эта милая ошибка умиляла сердце, и всегда приходило на ум пушкинское: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю» [22]. И вот эта буква «б» усиливала крепость Материнского чувства.
Где же мама? Ах, вот… Я выскакиваю из вагона. Боже мой, неужели это она? Нет, это ее тень. Такая худенькая, маленькая, хрупкая, а ведь совсем еще не старая, ей и шестидесяти нет. Рядом с нею Надюшка, мой старый друг. Мы звали ее Пампушкой за пышность форм, а сейчас она превратилась в тростинку с опавшего одуванчика. Где же муж?… Впрочем, все потом…
Мы едем домой. Москва искорежена войной, но ни в какое сравнение не идет с Лондоном, который так меня поразил. Москву отстояли на земле и с воздуха. Вот и наш дом. Большинство окон зашиты фанерой или досками. Стекла вставлены только на стороне, которая выходит на улицу Горького.
Дома, как всегда, чистота и порядок и пахло натуральным кофе, от которого я уже давно отвыкла. Мы с мамой были заядлыми «кофейницами» и все наши серебряные ложечки еще до войны отнесли в Торгсин в обмен на кофе. Но сейчас откуда этот кофе?…
Разговор идет вперемежку обо всем.
– Где Борис?
– На фронте, – отвечает мама. – Но уже по дороге домой.
– Володя кончил десятилетку? – спрашиваю о сыне.
– Он удрал от меня в армию. Жив. На днях получила письмо.
– А братья?
– Женя (младший) недавно был здесь, сейчас по дороге на фронт. Из госпиталя. А вот последнее Колино письмо.
Мама протянула мне открытку, грубый желтый картон. Коля-«середняк», как мы его называли, средний между мною и младшим Евгением. Открытка помечена июнем сорок третьего года. В ней слова сыновней любви. Открытка заканчивалась фразой: «Мама! Завтра в бой. Кончатся патроны, буду грызть зубами фашистскую гадюку… Спасибо тебе за все. Николай».
– Где он сейчас?
Мама тяжело вздохнула:
– Написала ему письмо, но мой треугольник вернулся обратно с припиской: «Выбыл в госпиталь». С тех пор ни звука. Несколько раз писала в полевую почту. Ответа нет.
– Мамочка, ты больна, почему так безумно похудела?
– Знаешь, я получала по твоему распоряжению тысячу рублей, этого хватало на десять килограммов картошки.
Мне стало холодно. Я переводила всю свою зарплату в валюте и считала, что мама с моим сыном обеспечены. Но ей валюту обменивали по твердому курсу на рубли.
Мама весело рассмеялась:
– Но уж чего у нас вдоволь, так это кофе. Я была в эвакуации в Уфе, и там в магазинах стояли мешки с кофейными непережаренными зернами. Жители покупали их, считая, что это бобы. Долго их варили, ругались, что не развариваются, и перестали покупать. Я привезла этого кофе килограммов пять, сама высушиваю и выжариваю. Хорошо получается.
Я понимала – мама уводит меня от мрачных мыслей.
Она принялась рассказывать, как жила в Уфе в полуподвальной комнате вместе с беременной молодой женщиной, женой офицера. Маме пришлось быть повивальной бабкой и обучать молодуху обращению с младенцем. Затем полтора года работала в госпитале бесплатно нештатной нянечкой. Писала письма раненым. Один безрукий офицер, прочитав написанное ею по диктовку письмо, сказал: «Целую крепко надо писать не через «б», а через «п».
– А ты меня никогда не поправляла и поставила в неловкое положение.
Я обняла ее.
– Мамочка, я так люблю это слово, очень «кребкое». Всегда пиши так.
– А ты что ж? – забеспокоилась она. – Опять собираешься куда-то?
– Мамочка, ты же знаешь, что мы с Борисом служим. Всякое может быть. Себе не принадлежишь. Своей судьбой сами не распоряжаемся. Ты ведь сама была со мной и в Китае, и в Скандинавии.
Мама говорила, как, работая в госпитале, всегда искала среди прибывавших раненых своих сыновей, внука, понимала, что страдающему человеку нужно ласковое слово. Придумала гадание на картах. Раскидывала колоду и всегда выходило: «Письмо в дороге», «Свидание с трефовой дамой», «Любовь до гроба», «Бубновый интерес».
– А все твои блузки, что я прихватила с собой, я там поменяла на чеснок для раненых. Главврач считал меня своей помощницей.
Меня мучила мысль: моя месячная зарплата, на которую в Швеции можно было купить отличную шубу, превращалась в ведро картошки, которой мама делилась с молодой соседкой. Как-то этой женщине, кормившей ребенка, захотелось котлет, и мама выменяла свое платье на мясо и поджарила десяток роскошных котлет. Голодная женщина съела их в один присест.
Какое счастье чувствовать руку матери на своем плече, прижаться головой к ее груди и никогда не услышать от нее ни упрека, ни жалобы. И ее чувство любви к людям, к Родине. Каждый раз, когда шла подписка на заем, она говорила нам: «Подписывайтесь на три зарплаты, не жалейте, нам хватит, а страна вон как разрушена, сколько несчастных живет без крова…» Мы с мужем много лет работали за границей. Привозили оттуда теплые вещи, одежду, обувь, но, когда началась война, все, что имели, отдали в фонд Красного Креста. По маминому совету.
Мама была удивительным человеком. После смерти отца отправилась со станции Алексин в Калугу хлопотать о пенсии. Мой отец Иван Павлович Воскресенский был помощником начальника железнодорожной станции в Алексине. Он умер от малярийного туберкулеза в октябре 1920 года. Но, потолкавшись по разным канцеляриям, мама плюнула и сказала: «Прокормлю детей сама». Из казенного дома нас выселили, дали теплушку, в которой мама уместила все наше имущество: двуспальная кровать, на этом ложе мы все четверо спали, швейная машинка, комод, стулья. За кроватью – стог сена и рядом – корова Красавка, она никак не хотела ступить на помост, и ее железнодорожники силой затолкали в вагон.
Ехали в Смоленск, где жила старшая сестра мамы, тетя Верочка. Добрый, красивый человек. Они снимали хорошую трехкомнатную квартиру. Ее муж – инженер, начальник железнодорожного депо. Для коровы Вера Дмитриевна заарендовала сарай. Приняла нас ласково и по-русски широко.
Было лето 1921 года. На рынке уже все можно было купить, появился весомый червонец, серебряная разменная монета. Медные пятачки были солидные, на пятачок покупали французскую булку и вдобавок кусок колбасы.
Вечером, когда Александра Дмитриевна и Вера Дмитриевна сидели за столом в кухне и обсуждали, чем заняться и как заработать, явился с работы Садоф Алексеевич, намного старше своей жены, лысый, с белыми усами, в чесучовом костюме, любящий во всем порядок, его ценили на службе, он жил интересами своего дела. Их квартира выходила окнами на железную дорогу. Вера Дмитриевна рассказывала, что муж ночами напролет мог сидеть у окна и делать подсчеты, сколько раз прогудели маневровые паровозы. Каждый гудок, по его расчетам, стоил 10 золотых копеек. За ночь набирались рубли, и он выкладывал эти цифры на собрании машинистов. Сам ходил по железнодорожным путям, выявлял сгнившие шпалы, проверял работу стрелок, семафоров. Опускался в паровозные ямы. Машинистов и кочегаров знал по имени и отчеству и вместе с тем в немалой степени был наделен барством…
Он вошел, увидел нас, сидящих и жующих за столом, и сказал, проведя пальцем по усам:
– Это что же, четверо ртов на мою голову?
Мама вскочила с места и вышла. За ней выбежала тетка Вера. На следующий день мама продала корову, сено, сняла по Кукуевской улице у домовладельца Федорова двухкомнатную с кухней квартиру в деревянном доме с проваленным полом, куда мы и переселились. Мама купила на базаре огромный чугун. Тетка Вера сказала знакомому летчику, что одна женщина, пожелавшая остаться неизвестной, может принимать у военных белье в стирку. И мы с мамой в этом котле, подогреваемом в русской печке, стирали белье. Тетка Вера подарила огромный трехведерный самовар, чтобы кипятить в нем воду для стирки.
Но этого заработка не хватало, а деньги, полученные за корову, таяли, и мама устроилась уборщицей на биржу ломовых извозчиков. Утром на рассвете мы ходили убирать огромное помещение. Сначала выгребали грязь лопатами, а потом мыли тряпками и холодной водой пол.
На столе в конторе я увидела какой-то странный железный ящик. Приподняла крышку, и мне бросилось в глаза полукружье рычажков с причудливыми навыворот буквами. Дотронулась до какой-то кнопки, и длинный черный валик уехал в сторону. Я испугалась, толкнула его обратно, а он уперся. Стала прилаживать крышку, но валик не пускал. Мама опешила.
– Это пишущая машинка, ты ее, кажется, сломала. Не надо было трогать. Но не расстраивайся, дождемся, пока придет секретарша.
Пришла секретарь, посмеялась над нашим невежеством, нажала какую-то кнопку, водворила на место валик. Все обошлось благополучно.
Но мама как раз в этот вечер заболела, высокая температура, я на извозчике отвезла ее в больницу. «Тяжелый фурункулез, – сказал мне врач. – Истощение организма».
Я осталась за хозяйку в доме. Восьмилетний Женя и одиннадцатилетний Коля были предоставлены сами себе, озорничали, приходили домой побитые, грязные, голодные. И здесь выручил счастливый случай. Я встретила на улице товарища отца, военного, он часто бывал у нас в доме в Алексине. Рассказала ему о своих бедах. Он велел прийти к нему в штаб батальона, что находился у Молоховских ворот.
Меня зачислили красноармейцем 42-го батальона войск ВЧК Смоленской губернии. Так я вошла в самостоятельную жизнь. Мне было четырнадцать лет.
Глава 27. Было и такое…
Через несколько дней после моего приезда в Москву дома появился усатый и бородатый полковник Рыбкин, которого я доселе не видела в армейской форме ни с усами, ни с бородой. Я до слез обрадовалась, что он живой, невредимый, но никак не представляла в таком облике. Спросила, удалось ли ему побывать в местечке Ясно-Витебск, что на Днепропетровщине, повидаться с родными. Борис махнул рукой, отвернулся и убежал в другую комнату. Я услышала заглушённые рыдания. Справившись с отчаянием, он рассказал, что старший брат погиб в бою на фронте, а всех остальных гитлеровцы загнали в гетто. «И моих престарелых родителей тоже, – выдавил из себя он. – В живых остался младший брат Исаак, участник войны, фронтовик. Родители в гетто заболели сыпным тифом, но выжили. После гитлеровцы их повесили, по другим сведениям, – расстреляли. Расстреляли за то, что их сын – «важный комиссар в Москве». Заодно со стариками гитлеровские изверги казнили и двоих внуков, моих племянников…» Обо всем этом Борису сказала соседка – здешняя колхозница. На столе у нее в комнате Борис увидел скатерть, на плечах шаль, вещи знакомые, мы с Борисом купили их в Финляндии для родителей. Хата, где жили старики, была сожжена…
Борис Аркадьевич сбрил усы и бороду, переоделся в штатское, и мы позвонили в секретариат управления с намерением на следующий день объявиться на Лубянке и включиться в работу.
Война еще не кончилась. Шел март 1944 года. Прибалтика, Белоруссия, Крым, часть Украины все еще были заняты врагом, но близилось время, когда бои перейдут за пределы наших государственных границ.
По телефону доложили о своем прибытии и просили выписать пропуска, но нам ответили, чтобы ждали вызова. Ждали несколько дней, неделю, две, все без толку. Мы не понимали, почему в такое горячее время должны бездействовать. В чем дело? Борис Аркадьевич позвонил начальнику управления, вновь просил нас принять и вновь получил все тот же ответ: «Ждите…»
Наконец нас вызвали аж к наркому Абакумову. В другие времена докладывать наркому всегда ходили в сопровождении начальника управления, а здесь отделались настораживающим: «Идите сами».
Нарком Абакумов поздоровался, спросил о самочувствии, здоровье и затем, пожав плечами, произнес:
– Не знаю, что мне с вами делать.
Мы недоумевали. Нарком пояснил:
– Дело в том, что не распутана ваша связь, характер вашей дружбы, – он указал на Рыбкина, – с резидентом английской разведки.
Я была потрясена.
– Я вас не понимаю, товарищ нарком, – протестующе сказал Рыбкин.
Абакумов нажал кнопку, вызвал секретаря и велел ему пригласить заместителя наркома по кадрам Свинелупова с личным делом полковника Рыбкина.
Абакумов принялся нас расспрашивать, кто мы, в каких странах работали, состав семьи. Свинелупов пришел с довольно объемистым личным делом «Кина».
– Так какая там дружба была у Рыбкина с английским разведчиком? – спросил Абакумов у своего зама.
Свинелупов полистал дело и зачитал:
– Вот выписка из показаний резидента английской разведки: «Моим ближайшим другом был полковник Рыбкин, с которым мы постоянно общались, играли в теннис, увлекались бильярдом…»
– О ком идет речь? – спросил Борис Аркадьевич. – Кто этот резидент?
– Петр Петрович О., – ответил Свинелупов.
– Полковник О.? – переспросил Рыбкин.
Замнаркома замешкался.
– Да, да, вроде он.
Рыбкин резко повернулся к наркому и с негодованием отрапортовал:
– Мы оба, – указал он на меня, – товарищ нарком, находимся в резерве у начальника управления внешней разведки полковника А., который года два назад был арестован по клеветническому обвинению в принадлежности к английской разведке. Год просидел в тюрьме, был освобожден за отсутствием состава преступления, полностью реабилитирован. До ареста был начальником отдела, после освобождения назначен начальником управления, и мы находимся у него в резерве.
Абакумов стал краснее помидора. С гневом захлопнул папку.
– Вам понятно? – спросил он своего зама. – Следственный материал поспешили подшить к делу. Двух разведчиков держим на консервации, могли бы, чего доброго, и уволить… Это черт знает что у вас происходит.
– Это не у меня, – попытался оправдаться Свинелупов. – Я все это получил в наследство.
– Наведите порядок, – уже рассерженно прорычал Абакумов. – Будьте здравы…
Мы получили назначение. Я – в одно управление заместителем начальника отдела, Рыбкин – в другое управление начальником отдела.
Я снова занялась германскими делами.
В наш отдел поступали архивы гестапо, абвера, захваченные Красной Армией. Мы их разбирали, составляли описи, занимались переводами и, конечно, добывали информацию о положении в самой Германии. Определяли, какими еще человеческими ресурсами обладает в этот момент фашистская Германия. Подсчитывали по переписи 1939 года фольксдойче – немцев иностранного гражданства, проживавших в Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, Норвегии и в других странах и подлежащих призыву как в действующую армию, так и на трудовой фронт.
Именно в это время и наш Генеральный штаб занимался подсчетом ресурсов Германии в живой силе и технике. На одно из совещаний по этому вопросу начальник управления направил меня.
Непривычно было мне, женщине в штатском, оказаться среди генералов и маршалов. Впрочем, «сугубо штатской» я не была, мне присвоили воинское звание полковника, и совсем недавно мы с моим товарищем по прежней работе Дмитрием Георгиевичем Федичкиным [23] вспоминали, как он, будучи заместителем начальника управления, принес мне домой приказ наркома, полковничьи погоны с тремя звездочками, папаху и в ней бутылку шампанского…
Так вот, возвращаясь к совещанию в Генеральном штабе, могу с удовлетворением констатировать, что данные нашей разведки и наши подсчеты по фольксдойче высокими военачальниками были признаны ценными, приняты и учтены в соответствующих расчетах.
Никогда мне не забыть ночь на 9 мая 1945 года. Никто не ушел домой. Мы сидели и ждали объявления о подписании Акта о капитуляции фашистской Германии. Были включены все радиоприемники. Желанная весть пришла в два часа ночи. Какое счастье! Радость, слезы, боль утрат…
Итак, свершилось то, чего с верой и надеждой добивались и добились люди Земли!
Мы с мужем шли домой по улице Горького, видели, как москвичи срывали с окон затемнение и загорался свет. Вспыхнули уличные фонари. На площади Пушкина двое пожилых людей, очевидно муж и жена, принесли горшочек с цветущей геранью и поставили к памятнику Пушкина. Мы подошли к ним.
В огромном доме, в котором мы жили, распахнуты двери во все квартиры. На лестничные площадки выносили столы, покрывали скатертями, выставляли вино, припасенное с первых дней войны ко Дню Победы, в которой не сомневались.
Это было ликование, великое братство, великое единение!
Глава 28. В огненно-рыжую метель…
…Впервые за двенадцать лет совместной жизни нас отправили в отпуск в Карловы Вары на сорок пять дней. 6 сентября 1947 года ночью мы улетели из Москвы в Вену. Москва сияла огнями. Сверху особенно явственно выступали кремлевские стены и башни, обведенные ярким пунктиром электрических лампочек. Столица праздновала свое 800-летие.
Мы с Борисом Аркадьевичем в Вене уже бывали, но в разное время и в одиночку. А сейчас вместе совершили восхитительную прогулку в Венский лес, гуляли по Пратеру, парку, пересекающему центр города.
В свое время я не упускала возможности послушать знаменитого Стефана Цвейга. В переполненном зале театра, сидя на сцене за письменным столом с рукописью в руках, он монотонно читал свой новый рассказ. Тишина абсолютная. Перевернув последнюю страницу, он раскланивался и уходил за кулисы. Зал приветствовал его и долго-долго аплодировал. Он больше не выходил, в его манере этого не было, но венцы знали, что через неделю-две писатель вновь придет в этот зал с новым рассказом…
Всюду и во всем Вена оставалась верной себе. Музыку, вальсы Штрауса можно было услышать и в опере, и в маленькой закусочной-бистро.
В Карловы Вары ехали на автомашине. Вот мы пересекли границу с Чехословакией, собственно, границы не было, просто на шоссе подняли шлагбаум. Увидев вывеску, похожую на ресторанную, зашли туда, чтобы закусить. Чех-хозяин узнал, что мы советские, из Москвы, и тут же на столе появились ветчина, отбивные, паштеты, салаты, фрукты.
– Хватит, хватит, – уговаривала я хозяйку, но она подносила все новые и новые блюда.
Все было вкусно, и мы плотно позавтракали.
Борис Аркадьевич достал бумажник и спросил, сколько мы должны. Хозяин и хозяйка замахали руками.
– Вы русские, вы спасли нас, мы считаем за честь угостить вас.
Они категорически отказались принять, деньги. У нас с собой в машине было несколько бутылок вина и коробки конфет. Мы подарили их гостеприимным хозяевам. Жена корчмаря прослезилась. А хозяин, узнав, что мы едем в Карловы Вары, поинтересовался, есть ли у нас с собой лопата.
– Лопата? Лопаты у нас нет. Зачем она?
– Может пригодиться, – убежденно сказал корчмарь. – В этом году большой урожай на яблоки и груши, случится ветер – дороги будут ими завалены. До самых Карловых Вар шоссе обсажены фруктовыми деревьями.
Так оно и было. Нам не раз приходилось выходить из машины и расчищать путь. На многих деревьях были подвязаны маленькие соломенные снопики, означавшие, что урожай с этого дерева муниципалитетом продан.
Следы войны всюду. У обочин дороги – то остов сгоревшего танка, то брошенное орудие, в жерло его засунут пучок травы.
В Карловы Вары приехали к обеду. Нас поместили в «Империал», один из двух санаториев, которые чехи подарили Советской Армии.
Работать вместе мы умели, а отдыхать… С утра бежали за газетами, покупали свежие советские, чешские, читали, спорили, не давали себе покоя. Все же постепенно вошли во вкус, к отдыху располагал и роскошный номер: кабинет, гостиная, спальня. Рано утром – к гейзеру, посасывали водичку из носиков карлсбадских кружек. Потом разгуливали по холмам вблизи «Империала», ходили и вдаль.
Чешских крон у нас было немного, но на газеты И каждый день на букетик цветов у Бориса Аркадьевича хватало. Принес, помню, в день свадьбы букет роз и торжественно заявил: «Отныне и до самых последних дней у тебя всегда будут цветы». Он приносил их мне на мой рабочий стол в служебном кабинете. В воскресенье букет свежих цветов появлялся дома на обеденном столе. Этот сдержанный, немногословный, на вид суховатый человек имел большое, доброе и умное сердце. Как-то в порыве откровенности он сказал мне: «Если я прожил день и не совершил ничего полезного, не подарил никому радость и мне никто не улыбнулся, это потерянный для меня день».
Прогулки по окрестностям Карловых Вар были полны впечатлений. Мы оба умели мечтать, заглядывать в будущее, думали о том, что когда уйдем в отставку, то попросим дать нам какой-либо самый отсталый поселок или район, в который мы вложим весь наш жизненный опыт, все, что мы познали во время заграничных странствований: финскую чистоплотность; немецкую экономность; шведский менталитет – национальный характер, в чем соединились и благоразумие, и благополучие, и зажиточность, и тот внешний вид, когда трудно определить возраст шведа – от 30 до 60; норвежскую любознательность, свойственную вечным морским путешественникам; австрийскую любовь к музыке, книгам; болгарскую – к песням и танцам; английскую привязанность к традициям, в ней объединилось все – от великого до смешного.
В семейной жизни не было у нас жажды наживы, «вещизма». Мы ничего не нажили. У нас была жажда познания.
В те карловарские дни мы пережили взлет нашей влюбленности. Забрались как-то на вершину горы, на которой установлен памятник Петру Первому. «Петр Алексеевич, будьте свидетелем того, как я влюблен. – Борис Аркадьевич обхватил меня. – Вчера мне казалось, что это вершина любви, а сегодня я люблю больше, чем вчера. Неужели наступит час, когда любовь превратится в привычку? Нет, Петр Алексеевич, подобное не случится. Это наше, хотя и запоздалое, свадебное путешествие».
Но осуществить задуманное не довелось. Путешествие наше неожиданно прервала телеграмма из Москвы. Мне предлагалось немедленно вернуться домой, а Борису Аркадьевичу отбыть в Баден и дожидаться дипкурьеров, которые привезут «особо важное задание».
Решили, что я полечу в Москву из Вены. С Прагой авиасообщения тогда не было.
Мы отправились в Баден, близ Вены, остановились в гостинице. Баден со всех сторон окружен лесистыми горами, они были расцвечены осенними красками – от темно-рыжих до ярко-красных, и казалось, ни один листик еще не облетел. Было почему-то очень грустно. Утром я улетала и должна была ехать на Венский аэродром.
Помню нашу тревожную ночь. Налетела буря. Ветер выл, стонал, трещали деревья, предчувствие беды разрывало сердце. Я очень редко плачу. Разучилась с детства. Но в эту ночь я рыдала, не знаю отчего.
Под утро мы увидели, что за окном бушует рыжая метель, сквозь которую на мгновение возникали совершенно обнаженные деревья. А ветер, как погромщик, вздымал и вздымал копны пожухлых листьев…
Поехали на аэродром. Буря продолжала свирепствовать. По пути видели вырванные с корнем деревья.
На аэродроме самолеты были укреплены стальными стяжками. Полеты отменены. Разрешили подняться только большой грузовой машине. К ней нас и направили. Видим, один крохотный самолетик сорвался с тросов и, ломая крылья, кувыркаясь, вдруг оказался выброшенным за пределы аэродрома. Страшное зрелище.
Меня усадили в грузовой самолет, наполненный пустыми ящиками, бочками, картонными коробками. По бокам фюзеляжа – скамейки и одно подобие кресла, в него меня и усадили. Выяснилось, что летят в Москву за продовольствием к ноябрьскому празднику.
Борис Аркадьевич сунул мне в карман какую-то коробочку. Догадалась: духи «Шанель». Знала, что в Москве буду искать в перчатках, в пижамных карманах, в несессере записку. Крохотный листок с объяснением в любви он обычно упрятывал в моих вещах.
– До скорого свидания, – сказал он.
– Желаю удачи, – ответила я.
Мы простились. И оба каким-то шестым чувством поняли, что расстаемся навсегда. Чувство это не покидало меня два с лишним месяца и даже тогда, когда я получила его записку: «Новый год встретим вместе».
Но неожиданно меня вызвал заместитель начальника управления, в котором работал Борис Аркадьевич Рыбкин, и, пригласив сесть, по-солдатски прямо заявил:
– Ты прошла все: огонь и медные трубы и сейчас мужайся. – Он набрал воздух и глухо выдохнул: – Борис погиб.
Два эти слова не свалили меня с ног. Они просто не дошли до моего сознания, и я спросила:
– Совсем погиб?
– Да, совсем… Погиб там, но хоронить его будем здесь.
Советский разведчик Борис Аркадьевич Рыбкин погиб при исполнении служебных обязанностей.
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – значилось в приказе.
Каждое воскресенье с маленьким сыном мы ездили на Новодевичье кладбище.
– В Парк культуры, – объясняла я трехлетнему сыну, – сажать цветы на нашей клумбе.
Отец для него оставался живым. Он ждал его каждый день. Но через три года поехал на кладбище с бабушкой и сам прочитал: «Рыбкин Борис Аркадьевич. Родился 19 июня 1899 г. – Погиб 27 ноября 1947 г.».
Мальчик залился слезами, он все понял.
Глава 29. Воркута
Наступил 1953 год. С группой работников я была в Берлине. В конце февраля стали распространяться слухи, они проникали в здешние печать и радио, о тяжелой болезни Сталина. Помню, 4 марта все заговорили о его смерти, но московское радио молчало…
Наша группа жила в гостинице в Карлсхорсте. В ночь на 5 марта товарищи собрались в моем номере, мы пили чай и ждали подтверждения или опровержения этих все более и более обволакивающих нас слухов. Вполголоса спрашивали, кто может заменить вождя, и приходили к выводу, что «замены ему нет»… Глубокой ночью московское радио передало сообщение о кончине Сталина. Каждый из нас испытывал в ту минуту странное ощущение, позже мы признались в этом друг другу. Чувство невосполнимой потери и освобождение от страха…
Мы пошли в наше посольство. На здании, расположенном на Унтер-ден-Линден, уже висел огромный портрет, рама которого была обвита красными и черными полотнищами. Под портретом объявление, извещавшее, что утром состоится траурный митинг.
Пошли бродить по городу. Берлин еще лежал в руинах, но бывшая Фридрихштрассе, названная Сталин-аллее, отстраивалась красивыми, светлыми домами. На площади возвышался грандиозный монумент Сталина. Нас поразило, что со всех сторон к этому теперь уже памятнику шли берлинцы. Они несли в горшочках комнатные цветы и аккуратно устанавливали их вокруг постамента. Сотни горшочков уже покрывали площадь, а люди все шли и шли. Мы воспринимали это как знак благодарности советскому народу, освободившему страну от гитлеровской чумы. Но ведь многие из этих людей с таким же энтузиазмом совсем недавно прославляли Гитлера. Когда же они были искренни?
В гостинице нас ждала телефонограмма, обязывающая возвращаться в Москву. Мы вылетели самолетом, но неожиданно приземлились на аэродроме под Варшавой.
– Придется вам потерпеть, – сообщил пассажирам командир экипажа. – Москва не принимает. Вылетим не раньше чем часа через два.
Несмотря на раннюю весну, день выдался невероятно жаркий, спрятаться было некуда. Под крышей самолета дышать нечем, горячо. Летевший с нами капитан-директор китобойной флотилии, знакомый всем Соляник, решил съездить в Варшаву и привезти оттуда хотя бы лимонада и чего-нибудь съестного. Вскоре он вернулся и привез несколько спасительных бутылок.
В Москву мы прибыли поздно вечером. Смерть Сталина всколыхнула народ. Я видела плачущих женщин и мужчин. В автобусе пассажиры разговаривали шепотом. В дни похорон тысячи граждан были подавлены в буквальном смысле этого слова, затоптаны…
После траурных дней стали приоткрываться черные страницы неоднозначной личности «отца народов». Начались аресты тех, кто участвовал в расправах 1937 – 1938 годов. На Лубянке поспешно освобождались от старых кадров, увольняли, как это обычно у нас делалось, всех подряд. Под подозрение брали каждого. В конце августа арестовали начальника Четвертого управления НКВД генерал-лейтенанта Павла Анатольевича Судоплатова, которого сочли причастным к делу Берия (позднее был реабилитирован военной коллегией Верховного суда России).
Вскоре у нас в управлении состоялось отчетно-выборное партийное собрание. В состав нового парткома была выдвинута и моя кандидатура. Я выступила с самоотводом, объяснила, что в связи с арестом Судоплатова, с которым была в добрых отношениях в течение двадцати лет, считаю, что до выяснения его дела не могу быть членом парткома. Мою кандидатуру сняли. В перерыве ко мне подошли товарищи и осудили мой поступок, говоря, что мое заявление похоже на то, что я несу ответственность за Судоплатова…
После перерыва я выступила вторично и сказала, что несколько лет я находилась за кордоном и была связана с Судоплатовым, который жил на нелегальном положении. Передавала ему указания Центра, принимала от него информацию. Мы обсуждали вместе тактику его поведения в стане врага. Эта совместная служебная работа перешла затем, когда Судоплатов был в Москве, в знакомство семьями.
На следующий день меня вызвал член коллегии НКВД Панюшкин и объявил, что я увольняюсь «по сокращению штатов». «Но моя должность не сокращается», – возразила я. «Вам объяснят это в управлении кадров». Я просила сказать, какие ко мне имеются претензии. Он молчал. Я поднялась и ушла.
В управлении кадров мне предложили ехать в Омск старшим оперуполномоченным. Я сказала, что это вызовет недоумение – полковник, начальник отдела становится оперуполномоченным, понижается на пять ступеней. «Тогда поезжайте в Балашов. Там Никита Сергеевич решил выделить из Куйбышевской области Балашовскую область. Будете там начальником отделения контрразведки». – «Я контрразведки не знаю, и ехать, очевидно, надо с семьей». – «Безусловно».
Я категорически отказалась и попросила объяснить мне причину такого ко мне отношения: в чем и как я провинилась? Как и в последующем во всех инстанциях, мне объяснили, что меня увольняют по сокращению штатов, в Москве для меня места найти не могут. До пенсии (25 лет службы) мне не хватает около года, а приказа о моей двухлетней работе в Китае найти не могут.
Я заявила начальнику управления кадров, что всю свою сознательную жизнь, все силы и здоровье отдала работе в разведке. Здесь я потеряла мужа. И сейчас ехать на периферию со старенькой больной матерью и восьмилетним сыном я не могу. Поэтому я прошу направить меня работать на Крайний Север, с тем чтобы я имела возможность оставить в Москве семью и в свое время возвратиться к ней.
Меня направили в распоряжение ГУЛАГа. Принял меня генерал Долгих. Он сказал, что ему позвонили из управления кадров МВД и распорядились направить меня на работу в один из лагерей. «Куда?» – спросила я. «На Колыму, – ответил он, – согласны?» – «Согласна», – твердо ответила я. «А если в Магадан?» – спросил он. «Тоже согласна», – кивнула я. Долгих развел руками. «Послушайте, я просмотрел ваше дело. Вы сейчас просто кокетничаете. Никуда не поедете, и зряшная это затея!»
Я ответила, что мне сейчас не до кокетства, у меня нет другого выхода: мне нужно доработать выслугу лет и я поеду в любое место, какое мне предложат. Долгих заявил, что ГУЛАГ первый раз посылает на работу в лагерь женщину. «Вас там немедленно проиграют в карты, а я буду вынужден нести за вас ответственность. Потом, вы знаете какие-то иностранные языки, а там в употреблении только матерный». Я ответила, что едва ли будет надобность в освоении этого языка. «Обойдусь без него», – твердо заявила я. «Неужели вы всерьез поедете?» – недоверчиво заметил он. «Мы с вами, товарищ генерал, ведем не светский, а деловой разговор», – ответила я. Тогда он вызвал начальника отдела кадров ГУЛАГа. Начальник отдела кадров сказал: «Пошлем в Воркуту. Это тоже за Полярным кругом, но ближе к Москве». – «Но имейте в виду, – добавил Долгих, – это бандитский лагерь! Для особо опасных преступников». И дал указание оформить мое откомандирование.
Я получила документы, прочитала в энциклопедии справку о Воркуте, попросила дать телеграмму о моем выезде, чтобы меня там встретили. Выехала я, если память мне не изменяет, в конце января 1954 года. Через сутки прибыла в Воркуту. Это был конец железнодорожного пути. Вместо здания железнодорожной станции стоял занесенный снегом под самую крышу вагон, к двери которого была прорыта траншея. Поезд прибыл поздно вечером. Мела пурга. Два прожектора освещали место стоянки грузовых автомашин Я с тремя чемоданами напрасно ждала, что ко мне кто-то подойдет. Машины грузились и отходили одна за другой. Осталась последняя грузовая. Я подошла к шоферу и попросила его подвезти меня до управления лагерями. Он сказал, что довезет меня только до города. «Ну, хотя бы до первой гостиницы», – упрашивала я. «А у нас в городе всего одна», – ответил он и предложил мне садиться в открытый кузов грузовика. В своей легкой шубе, шапочке и тоненьком шерстяном платке в этой круговерти метели я почувствовала себя просто раздетой. Подъехали к гостинице. Шофер сбросил мои чемоданы и поехал дальше. В гостинице мест не оказалось. Я умолила администратора взять на хранение мои чемоданы, спросила, где находится управление лагерями, и пошла его искать… В управлении был один дежурный. Я показала ему командировочное удостоверение и спросила, почему меня не встретили. Он пожал плечами и сказал, что ничего не знает. «Можете ли вы устроить меня в гостиницу?» – спросила я. «Нет!» – ответил он. А время приближалось к полуночи. Я попросила разрешения переночевать в каком-нибудь кабинете. «Диван только в кабинете начальника, – ответил он. – И на нем не улежите, на нем сидеть можно, и то только упираясь пятками в пол».
Он повел меня в кабинет. В комнате было жарко, а ноги быстро застыли. «Под ногами вечная мерзлота», – вспомнила из статьи в энциклопедии. Просидела всю ночь на скошенном диване, упершись ногами в пол. Утром я надела свою «цивильную» шубу и соболью шапку, а под шубой на мне была полковничья форма. Причесаться я не имела возможности.
В десять часов утра явился начальник лагеря в форме подполковника. От дежурного узнала, что фамилия его Прокофьев.
Мое появление там было для всех неожиданным. Прокофьев, просмотрев мои документы, безапелляционно заявил: «А вы нам не нужны. У нас уже есть свой начальник спецотдела – старший лейтенант Юферев. Вы работали в лагерях раньше?» – затем спросил он. «Нет», – ответила я. «А за что вас сюда прислали?» – «Меня прислали сюда не за что-нибудь, а для работы!» – ответила я. «Но я же вам сказал, что начальник спецотдела нам не нужен!» Я посоветовала ему связаться с Москвой и со мной этого вопроса не обсуждать.
Я попросила устроить меня в гостиницу или дать мне комнату, где бы я могла отдохнуть и привести себя в порядок. Он сказал, что этими делами не занимается, и направил к начальнику отдела кадров. Начальник отдела кадров, тоже подполковник, очевидно предупрежденный Прокофьевым, сказал мне, что запросит Москву, так как мой приезд «чистое недоразумение». Что же касается устройства жилья для меня, то в его обязанности это не входит.
От начальника отдела кадров я направилась в политотдел. Судя по любопытному взгляду на меня начальника отдела – майора, я поняла, что он тоже уже предупрежден о моем приходе. «Почему вы входите в мой кабинет в шубе и в шапке, неужели вам холодно?» – резко спросил он. Мой ответ: «Я рассчитывала на более теплый прием. А я не могу снять шубу и шапку, потому что моя меховая шапка не заменит мне папахи». Потом я повторила свой вопрос о жилье. Начальник политотдела сказал, что в его функции это не входит. В спецотделе меня встретил старший лейтенант, который отрекомендовался начальником спецотдела, и спросил, чем он может быть мне полезен. Я показала ему командировочное предписание и сказала: «Как видите, я назначена сюда начальником спецотдела». Юферев побледнел.
Я попросила его собрать сотрудников отдела и представить меня. «Я не знаю, как это делается», – ответил он. Когда сотрудники собрались, а их было человек тридцать, главным образом женщины, я сказала, что прибыла сюда из Москвы и что у меня большая просьба приютить меня на пару дней, пока не выяснится положение с квартирой. А прежде всего прошу дать мне возможность помыться, переодеться с дороги. Наступило гробовое молчание. Я спросила, кто из товарищей может предоставить мне возможность переночевать. Снова молчание!
Наконец одна пожилая женщина поинтересовалась: «А вы не скажете потом, что вам «шестерили»?» – «Не понимаю, что это значит». – «Вы что, лагерного языка не знаете?» – спросила она. «Нет, не знаю, – ответила я, – но обязательно выучу». Оказалось, что «шестерить» – это выслуживаться перед начальством. «Ну, ладно, я могу уложить вас на диване», – предложила эта женщина. Звали ее Клавдией Ферапонтовной. Жила она в коммунальной квартире, занимала небольшую комнату вместе с одной девушкой. Она работала инспектором спецотдела и была одной из первых поселенцев Воркуты. Своими руками построила себе избушку, в которой раз за разом провалились шесть или семь печек. «Уйдешь на работу, затопишь печку, поставишь щи варить, вернешься обратно – ни печки, ни щей. Лед подтаял, и печка провалилась». Суровая на вид, но благородная и доброй души человек. За внешней грубостью и блатным языком скрывалась ее житейская мудрость.
Клавдия Ферапонтовна отвела меня в свое жилище и ушла на работу. Вечером я рассказала ей о своих перипетиях с руководством лагеря. Она заметила: «Они только матерный язык понимают, и их не устраивает, что вы полковник, и к тому же баба».
Я три дня ходила на работу в отдел, знакомилась с сотрудниками, слабо представляя себе функции этого отдела. Моим главным наставником стала Клавдия Ферапонтовна. На четвертый день у меня был тяжелейший сердечный приступ: сказалась нехватка кислорода.
Начальник управления, по-видимому, созвонился с Москвой и долго оправдывался, что меня не встретили, не получили, видите ли, никаких уведомлений о моем назначении и выезде в Воркуту.
Затем он предоставил мне комнату, тоже в коммунальной квартире. Комната была размером около шести квадратных метров. Пурга не раз вламывалась в окно и засыпала комнату до потолка снегом. Зато в спецотделе был большой кабинет с окнами на две стороны. Пол в кабинете был покрыт толстым ковром. Стояла дюжина стульев в белых чехлах, хороший письменный стол, сейф. На окнах топорщились накрахмаленные занавески, впрочем, и здесь окна снаружи на три четверти были занесены снегом. Дом был одноэтажный.
Мое появление в Воркуте произвело сенсацию. Оказалось, что во всей Коми АССР появился единственный полковник, и тот – женщина! Даже министр внутренних дел был майором, начальник внутренних войск – подполковник. Клавдия Ферапонтовна со смехом рассказывала, что в мужских парикмахерских втрое увеличилась клиентура, а в парфюмерном магазине раскупили весь одеколон. Под разными предлогами ко мне заходили начальники и сотрудники других отделов. От моей наставницы мне также стало известно, что Прокофьев, созывая совещание руководящего состава, распорядился, чтобы, поскольку в совещании будет участвовать женщина-полковник, «не материться» и вместо «ссучился», что означало работать на администрацию, говорить «сотрудничать».
Все решили, что в Воркуту меня сослали за какие-то грехи, придумывались разные истории, высказывались всевозможные предположения и версии.
Быстро пролетели полгода, что засчитывалось за год службы. Я уже могла уйти на пенсию по выслуге лет, но в это время произошло слияние нашего бандитского лагеря с Особым лагерем, в котором содержались политические заключенные, и Прокофьев настоял на том, чтобы начальником спецотдела объединенного лагеря, насчитывавшего до 60 тысяч заключенных, оставалась я.
По указанию Центра с заключенными рекомендовалось вести политико-воспитательную работу. Политотдел привлек меня в качестве лектора-международника. Я выезжала в воинские части, бывала у заключенных, работавших в шахтах, в отделениях Особого лагеря. На моих лекциях, проходивших обычно в столовых, было всегда полным-полно народу. Подчас кое-кто из зеков пробовал хулиганить, но их тут же выбрасывали за дверь. Кстати, я часто в лекциях по привычке обращалась к присутствующим со словами: «Прошу внимания, товарищи!» В ответ слышались реплики: «Мы не товарищи, а зеки и каэры» (заключенные и каторжане). «Но вы будете товарищами», – говорила я.
В воркутинских лагерях у меня были любопытные встречи.
Я заболела цингой, и, хотя мама посылала мне лимоны, апельсины и черную смородину с сахаром, ничто не помогало, черные пятна все более и более покрывали ноги. Лагерные врачи рекомендовали вводить внутривенно витамины С-1 и делать массаж. Ко мне прислали расконвоированного заключенного, бывшего личного массажиста президента Эстонии Пятса. Массажист был высокого класса, он просто спас мои ноги.
Во время сеансов я выяснила прошлое массажиста. С ним работала наша резидентура в Эстонии в 30-е годы. Я, в то время начальник эстонского отделения в Ленинградском НКВД, руководила этой разработкой с целью его вербовки. Состоялась ли вербовка, не знаю, так как вскоре уехала в загранкомандировку, но по его поведению в лагере и по его отношению ко мне (разумеется, он не знал, что я разведчик), думаю, что вербовка тогда состоялась и пользу он принес. Я информировала Центр о встрече с этим человеком в воркутинском лагере.
Еще одна встреча.
Я получила указание выявить и собрать в один лагерь всех заключенных немцев. Вернуть им отобранные, при обыске ценности. Выдать новую лагерную одежду и обувь. По соглашению с нашими союзниками заключенные немцы возвращались в Германию.
Опрашивая каждого и сверяя опрос с личным делом, я вдруг узнала в одном пленном эсэсовце своего давнего знакомого. В 1939 году этот человек прибыл в Финляндию на практику из гиммлеровской разведшколы. На одном из дипломатических приемов мы с ним оказались соседями по столу. Я поняла, что он проявляет живой интерес к Советскому Союзу, изучает русский язык. Имеет представление о нашей истории, исторической и художественной литературе. Он заинтересовал нашу резидентуру, и «Кин» просил Центр дать санкцию на его вербовочную разработку. Получили ответ: Центру он известен как убежденный нацист, предан фюреру, вербовка его невозможна. «Кин», помню, рассмеялся и с горечью сказал: «Какой пассаж, наши руководители считают гитлеровцев в идейном отношении крепкими орешками, нам, мол, не по зубам, а нас все время в чем-то подозревают, не доверяют, проверяют, заставляют доказывать, что ты не верблюд…»
Однажды этот молодчик прислал мне скромный букет цветов. «Кин» сказал: «А не имеет ли он задание тебя вербовать?» – «Не говори глупостей», – рассердилась я. Вскоре наш «объект» уехал в Германию.
И вот почти двадцать лет спустя он стоит передо мной в новом лагерном бушлате, вертит в руках часы на золотом браслете и расширенными глазами смотрит на меня. Узнал. Я вижу, как мчатся сквозь время его мысли, он мучительно думает, где и когда он со мной встречался, и, чувствую, вспомнил. Я вижу это по выражению его лица. Он хочет что-то сказать, но я его опережаю общим вопросом ко всем присутствующим здесь немцам: «Все ли ценности вы получили?» Немцы кивают головами. «Все, все». – «Какие у вас имеются претензии, жалобы? Получили ли вы свежее белье и новую одежду, обувь?» – «Яволь, яволь!» (Да. да!) И наконец я спрашиваю: «Soll ich Ihnen adio oder aufwiedersehen sagen?» (Должна ли я вам сказать прощайте или до свидания?) – «Adio, adio!» – хором отвечают немцы. «Ich will liber aufwiedersehen sagen, frau Oberst» (Мне больше хочется сказать до свидания, госпожа полковник), – тихо произносит мой старый знакомый, проходя мимо меня.
Были картины страшные. Однажды в одном лагерном отделении я сидела в кабинете начальника. Туда вошел расконвоированный заключенный и, сделав какое-то резкое движение правой рукой над левой, хлестнул кровавой струей по лицу начальника отделения залил кровью бумаги на столе. Начальник схватил его руку с разрезанной веной, а я нажала на кнопку – вызвала дежурного. Пришли солдаты. Фельдшер жгутом перевязал окровавленную руку. Ворвавшегося поволокли в медпункт. Как выяснилось, это было знаком протеста против отказа в его просьбах снизить срок наказания.
В другой раз, когда я была в спецчасти одного лагеря и проверяла постановку учета заключенных, соблюдение установленных сроков отбытия наказания, один из зеков, угрожая ножом, изнасиловал жену начальника отделения.
Самое страшное произошло в марте 1955 года, в день выборов в Верховный Совет СССР. В лагере был поднят мятеж. Заключенные протестовали против условий лагерной жизни, взяли в заложники несколько человек из администрации, в том числе начальника производственного отдела майора Зосимова. Предъявили ультиматум: всех «двадцатипятилетников», то есть осужденных на 25 лет тюремного заключения и отсидевших 10 лет, выпустить на свободу. На работу в этот день заключенные-шахтеры не вышли. На простынях, поднятых над головами, были начертаны слова: «Даешь уголек Родине, а нам Свободу!»
Мятеж был подавлен прибывшими танковыми и артиллерийскими частями и вооруженной охраной. Шестнадцать человек были расстреляны с вышек.
Приехавшие из Москвы и из столицы автономной республики прокуроры не привлекли никого из мятежников к уголовной ответственности – слишком велик был накал против лагерного режима.
Много десятков тысяч дел хранит воркутинский архив. Среди них дела на матерых бандитов, убийц, насильников, грабителей. Но там же в алфавитном порядке соседствуют дела таких «преступниц», как многодетные женщины, каждая из которых украла на прядильной или ткацкой фабрике моток пряжи или ниток ради того, чтобы заштопать чулки себе или ребенку. Или дела на опоздавших на работу, виновные получали по пять лет заключения, а их детей на эти годы власти отправляли в детские дома. Очень круто судебные органы осуждали людей, у которых бандеровцы – украинские националисты под угрозой оружия забирали кур, яйца, хлеб. Этих мирных жителей, ограбленных бандеровцами, обвиняли «в помощи контрреволюционерам», и им давали аж до 15 лет. Сталинский указ действовал безотказно.
В самом страшном положении в лагере находились женщины. Заключенные в женском отделении работали на кирпичном заводе. Я добиралась туда в корзине, которую передвигали по тросу, протянутому над рекой Воркутой. В тот день мороз был 30 – 35 градусов. На кирпичном заводе в это время раздвигались ворота в грандиозную печь. В ней обжигали кирпич. Женщины в толстых рукавицах и тяжелых сапогах грузили на тачки и вывозили из этого ада кирпич. Я шагнула в эту печь и тут же вылетела обратно, боясь сгореть, а они выполняли норму.
После рабочего дня я зашла к женщинам в барак и увидела, что каждая из них создала на своей наре свой мир. Вышитые, обвязанные кружевом покрывала, белоснежные подушки и расставленные по всей постели иконки, фотографии в рамочках, главным образом детей, цветные открытки, клубки со спицами. Посредине барака стоял большой стол, покрытый свежей скатертью. Женские руки даже это тюремное помещение сумели украсить. Полы чисто выскоблены, и на печке, которая топилась, были навалены робы, рукавицы. От них шел вонючий удушающий пар.
Я сидела и записывала жалобы этих женщин. Некоторые срывались, истерически кричали, проклиная суд и «отца народов». Запомнилась одна заключенная, которая заявила, что за моток пряжи, оцененный в семьдесят копеек, она получила пять лет в лагерях строгого режима, а судьба троих детей ей до сих пор неизвестна, и мужа нет.
После посещения этого лаготделения я отобрала пачку дел и копии с них послала в Центральный Комитет партии, просила обратить внимание на это узаконенное беззаконие. Получила ответ из ГУЛАГа на бланке, который рассылался заключенным. Вижу свою фамилию и ниже типографский текст: «В вашей просьбе отказано».
Были в моей воркутинской жизни и светлые дни. При 2-й шахте действовало дамское ателье, в нем обшивали воркутинских женщин. Возглавляла это ателье расконвоированная заключенная, осужденная на двадцать пять лет «за сотрудничество с гитлеровскими оккупантами». Звали ее Оля. Она шила мне жакет. Я ездила туда на примерку.
В лагере Оля отсидела уже более десяти лет; Было ей около тридцати. Миловидная женщина с роскошными волосами. Я удивлялась, как в таких условиях можно было сохранить такие чудесные косы. Спросила, что она натворила такого, что получила высший срок. «О, гражданин начальник. Я вам расскажу, но все равно вы мне не поверите». – «А все же…»
И она поведала мне свою историю. Оля из Орла. Была комсомолкой. Когда началась война, попросилась на фронт. Немцы подходили к городу. В военкомате молодой человек предложил ей остаться в Орле и, поскольку она в какой-то мере владеет немецким языком, постараться заслужить доверие гитлеровцев, выяснить их планы, настроение, потери, в общем, стать разведчицей. Два раза в месяц она должна была являться в условное место и закладывать в тайник свое донесение и вынимать оттуда (из дупла) очередное задание.
Оля дала свое согласие, отправила мать в эвакуацию, сказала ей, что задерживается здесь по комсомольским делам и потом приедет.
После оккупации города Оля быстро и легко вошла в офицерскую среду, вечера проводила в ресторанах, делая вид, что по-немецки она знает лишь несколько слов. Как условились, она ходила к тайнику в определенные и контрольные дни и… находила там свои донесения и никаких заданий.
Она была в отчаянии. Пыталась улизнуть из города, избежать грязных рук оккупантов. Но это ей не удалось.
Орел находился в руках гитлеровцев больше двадцати месяцев, и все это время Оля не теряла надежды, что ее разыщут.
После освобождения Орла от захватчиков советскому командованию посыпались донесения о предательском поведении этой «девки Ольги», которая плясала с эсэсовцами в ресторанах, пила с ними вино и водку, разъезжала в их автомобилях. Она была арестована и как военный преступник предстала перед военным трибуналом.
Из ее рассказа по специфическим деталям, знакомым мне как разведчику, я поняла, что она говорит правду, и посоветовала ей подробно описать свои злоключения и просить Верховный суд пересмотреть ее дело. Олину исповедь я отправила фельдсвязью.
Минуло несколько месяцев, и вот однажды вечером, разбирая почту, я вскрыла правительственный конверт и, к неописуемой своей радости, прочитала постановление о полной реабилитации Оли «за отсутствием состава преступления».
Я тут же вызвала свой «гнедой ЗИС» и распорядилась вознице быстро ехать на 2-ю шахту. К слову, этот возница тоже был расконвоированный заключенный, бывший путиловский рабочий, осужденный на 25 лет «за теракт против Сталина» (в пьяном виде запустил камнем в портрет вождя).
Мы приехали в ателье, когда работала ночная смена. Оли я не увидела и просила ее срочно вызвать. «Гражданин начальник, – взмолились женщины. – Оля сегодня мыла свои косы, а сейчас мороз за тридцать градусов. Замерзнет». – «Пусть закутается получше. Отнесите ей мой платок».
Оля быстро пришла.
– Добрый вечер, товарищ Оля! – обратилась я к ней.
– Вы, гражданин начальник, все время забываете называть нас зеками.
– Нет, на этот раз я вам по праву говорю «товарищ». Я с доброй вестью. Вы полностью реабилитированы решением Верховного суда СССР «за отсутствием состава преступления».
Оля прижала руку к сердцу и повалилась в обмороке. Женщины успели ее подхватить, уложили на раскроечный стол, окружили, обласкали. И когда Оля пришла в себя, она разрыдалась. Плакали и все вокруг. Это были счастливые слезы.
…Я провела в Воркуте около двух лет. Воркута стала для меня большой жизненной школой. Я познакомилась с тысячами изломанных, исковерканных судеб. Видела и пыталась помочь тем, кто был наказан несправедливо.
За работу в лагере я не получила наград или благодарностей. Никаких. И сегодня со светлым чувством вспоминаю самый большой подарок, полученный мною. Это были два волшебных белоснежных кустика флоксов. Их вырастили для меня заключенные шахтеры и преподнесли мне зимою, принесли на квартиру в сорокаградусный мороз. Флоксы были уложены в старый каркас абажура и бережно закутаны в лагерные куртки. Таких душистых цветов белее воркутинского снега я никогда не встречала.
Настоящая награда!
ЭДУАРД ШАРАПОВ. ДВЕ ЖИЗНИ
Глава 1. Вместо предисловия
В Москве в доме № 29 по Красноармейской улице, где живут в основном писатели, в ее честь нет мемориальной доски. Да мало ли у нас творцов, чей труд не отмечен по достоинству?… Сказать по правде, скромный и добрый человек Зоя Ивановна Воскресенская, лауреат Государственной и многих других премий, автор нескольких десятков книг, переведенных на многие языки мира, в том числе китайский, японский, монгольский, никогда не претендовала на такую высокую честь.
На самом деле судьба Зои Ивановны примечательная и, можно даже сказать, героическая. До недавнего времени мало кому было известно, что писательница З. И. Воскресенская двадцать пять лет своей жизни отдала разведке.
Друзья не один раз советовали ей написать книгу о прежней службе, но, по признанию самой Зои Ивановны, над ней, как дамоклов меч, висел гриф секретности. Поэтому она и отвечала своим советчикам: «Я не знаю, что можно писать о работе в разведке, а что нельзя». Но пришло время, и ее «рассекретили». В газетах появилось множество статей о Воскресенской, в которых правда была перемешана с вымыслом, а порой и ложью. И смертельно больная Зоя Ивановна взялась за перо. Она была готова поведать бумаге эпизоды своей неординарной жизни. Так родилась рукопись «Теперь я могу сказать правду» (Из воспоминаний разведчицы). К сожалению, Зоя Ивановна не увидела даже сигнального экземпляра. Она умерла в январе 1992 года, а книга вышла в свет в декабре. Писательница Воскресенская, из-под пера которой появилось множество произведений для детей и юношества, создала единственную книгу о своей первой профессии – профессии разведчицы.
В ней читатель найдет фотографию 3. И. Воскресенской в мастерской скульптора. На глиняную болванку он накладывает большие и маленькие, продолговатые и круглые кусочки глины. Затем скульптурный портрет будет отлит в гипсе или бронзе, и зритель увидит именно те черты, которые хотел запечатлеть творец. Точно так и писатель, показывая одну черту характера за другой, создает зримый образ своей героини.
В скульптурном портрете Зоя Ивановна предстает перед зрителями в тот момент, когда мастер ее видел. Писатель же, мне кажется, находится в более выгодном положении. Его героиня – не слепок застывшего времени, а мозаичный рисунок, в силу житейских обстоятельств постоянно меняющийся. С годами изменялся и характер Зои Ивановны, неизменным оставался лишь его стержень – честность, преданность делу и друзьям. Кстати о друзьях, которые были одновременно ее коллегами и соратниками, с которыми она делила чаще трудные, чем радостные годы жизни в разведке. Общение с ними тоже влияло на становление ее характера, поэтому здесь пойдет речь и о тех людях, с которыми в разные периоды времени сталкивала Зою Ивановну жизнь.
Я хочу рассказать о женщине, у которой было две судьбы: двадцать пять лет службы в разведке и тридцать пять в литературе. Надо сказать, что эти две судьбы оказались неразрывно связанными: писательница Воскресенская выросла из разведчицы Зои Ивановны Рыбкиной.
Вот о чем я думал, берясь за работу над этой книгой.
Удалось мне это или нет – судить вам.
Глава 2. Знакомство на всю жизнь
Стремление заниматься литературным трудом появилось у меня еще во время учебы в средней школе. Было даже намерение поступить на учебу в Литературный институт имени М. Горького. Но помешали многие обстоятельства. Закончив историко-филологический факультет Ярославского государственного педагогического института имени К. Д. Ушинского, я в том же 1955 году был призван на работу в органы государственной безопасности. Но в глубине души всегда теплилась надежда на возможность заниматься литературой.
Году в 1970-м я написал небольшой рассказ о деревенском мальчике, который позднее получил название «Лешка». Черновик этого рассказа всего на нескольких листах долгое время находился в «потайном» отделении моего портфеля. И вот как-то мы принимали в Германии Михаила Стельмаха (я тогда служил там). Как часто бывает в таких случаях, не хватило водки, и когда решили, кому бежать, я отдал свой портфель приятелю. Потом случайно портфель оказался у писателя, который обнаружил рассказ, прочитал его и счел нужным сообщить моему товарищу свою рекомендацию – заняться литературой… Так неожиданное участие Стельмаха толкнуло меня к дальнейшим литературным занятиям. Но напечатать рассказ было не так-то просто. И наверняка я бросил бы эти попытки, если бы не его письмо.
«Уважаемый Эдуард Прокофьевич!
Извините, что не мог Вам своевременно ответить. Ваш рассказ «Счастье», по-моему, хорош, поэтичен и по-человечески, без назиданий, без дидактики рассказывает, что такое доброе дело для человека. Не огорчайтесь, что Вас не понял корреспондент одной газеты – субъективизм не так легко изжить.
Примите мои самые лучшие пожелания. Михаил Стельмах.
Киев, 20.01.74 г.»
Это письмо и послужило поводом моего знакомства с Зоей Ивановной. Мне нужно было получить консультацию писателя-профессионала. Зная, что она когда-то была начальником того же немецкого отдела, где работал и я, набравшись храбрости, отправился к ней домой. Но об этом несколько позднее, а сейчас мне хотелось бы сказать, каким характером обладала эта женщина.
Одни говорят, что этот человек был соткан из чувства добра, нежности и заботы к окружающим ее людям. Иные утверждают, что основные ее черты – черствость, безразличие и даже жестокость по отношению к другим. Но все сходятся в одном: Зоя Ивановна – человек железной воли. В действительности все эти качества, кроме жестокости, проявлялись в ней по-разному в зависимости от того, с каким человеком ей приходилось сталкиваться и в каких обстоятельствах. Она, например, терпеть не могла в людях расхлябанности, недисциплинированности, и уж совсем выводил ее из себя человек-лгун. Больше всего она ненавидела ложь. А в целом – стержнем ее характера были жажда добра, желание приносить людям пользу.
Расскажу несколько эпизодов, которые показывают многогранность ее характера.
Зима 1974 года. Декабрь. Заснеженная Москва. С трудом найдя букетик цветов (в то время в Москве было трудно с цветами, особенно зимой), еду в метро на станцию «Аэропорт» искать Красноармейскую улицу.
По совету моего товарища, немного знавшего Зою Ивановну, я позвонил ей по телефону и попросил «оказать помощь начинающему литератору». Меня выслушали, и ровный, официальный голос коротко сказал в трубку: «Приезжайте».
Поднимаясь на шестой этаж писательского дома на Красноармейской улице, я вдруг болезненно почувствовал бессмысленность и даже глупость своего предстоящего визита. Известная на всю страну писательница, лауреат нескольких премий, человек, только что издавший трехтомник своих произведений… и я, никогда и нигде не издавший ни одной строчки. Нелепость?! Но отступать было поздно. Я позвонил. Дверь почти сразу же открыли. Передо мной стояла высокая, стройная женщина в темном, строгом платье с небольшим воротничком-стоечкой, отороченным белым кружевом. На ногах домашние тапочки из серого войлока, но без примятых, стоптанных, как обычно, пяток. Темно-русые, заколотые на затылке волосы. И глаза – внимательные, серые, изучающие. Это теперь я могу дать ее подробное описание. А тогда… тогда я ничего не видел. Видимо поняв мою растерянность, Зоя Ивановна сдержанно улыбнулась и сказала: «Проходите, раздевайтесь. Вот вешалка».
Ее улыбка сняла с меня и робость и скованность. Посреди комнаты, которая служила кабинетом и гостиной одновременно, чуть ближе к окну стоял письменный стол. Напротив окна диван-кушетка со съемными подушками, обитый красной, тисненой тканью. Ближе к двери маленький журнальный столик.
Меня усадили на диван. Я робко протянул свое литературное творение. Зоя Ивановна, стоя, взяла листы, присела на краешек стула, прочитала заглавие, перелистала страницы, положила их на письменный стол, встала и сказала: «Соловья баснями не кормят. Хоть вы и не соловей, – при этом она хитро улыбнулась, – но чаем я вас напою. А потом поговорим». Так началось наше знакомство и литературное сотрудничество.
Это потом я узнал, что в квартире всегда бывает много посетителей – и взрослых и детей – писатели, читатели, коллеги-чекисты. Иногда до десятка и более человек одновременно. И всех встречали сердечно, поили чаем, а если нужно, и кормили. Мне неоднократно приходилось помогать Зое Ивановне принимать гостей, особенно в дни праздников детской книги. Делегации детей, учителей и библиотечных работников приезжали не только из близких к Москве областей, но и с Дальнего Востока.
Много позже я узнал, что в квартире есть еще одна комната – спальня. Кроме широкой кровати под голубым бархатным покрывалом и трюмо, все в этой комнате было занято шкафами с книгами. Над кроватью висел голубой ковер и большая картина, написанная маслом, с изображением березовой рощи зимним голубым вечером. Голубой колорит ковра и картины сочетался с голубым бархатом покрывала. Голубой – был любимым цветом Зои Ивановны.
На всю жизнь запомнил еще один эпизод. Несколько первых встреч мы провели с Зоей Ивановной на ее городской квартире. И вдруг, уже летом, она звонит мне по телефону и предлагает провести очередную встречу в Красной Пахре, где она в то время снимала дачу у вдовы писателя Алексея Мусатова. Со свойственной разведчице точностью объяснила, как проехать в этот дачный поселок… «После второй дорожки поверните направо (тогда мы еще обращались друг к другу на «вы»), увидите дом за большим, высоким забором. Это дача Константина Симонова, а напротив, третья, дача А. Мусатова. Я буду вас ждать». И строго, как она это умела, спросила:
– Сколько времени вам нужно на дорогу?
– Минут сорок – пятьдесят.
– Жду вас ровно через час.
Купив по дороге цветы и торт, я через час въехал в поселок писателей в Красной Пахре и без труда нашел нужную мне дачу. Открыл ворота, загнал машину во двор и, окрыленный скорой встречей с Зоей Ивановной, взяв цветы и торт, направился в дом. В большой комнате никого не было. Поставив на стол коробку с тортом и прижав к себе букет красных гвоздик, я стал терпеливо ждать. Никого. Минуты через три громко позвал: «Есть здесь кто-нибудь?» К моему удивлению, из соседней комнаты вышла незнакомая женщина. Я любезно заговорил с ней о житье на даче, не выпуская, однако, из рук цветы. Женщина с улыбкой поддержала мой разговор, ни о чем не спрашивая. Побеседовав еще минут пять, я осторожно спросил: «А где же Зоя Ивановна?» Незнакомка улыбнулась еще приветливее и, хитро посмотрев на меня, показала рукой за окно: «Зоя Ивановна там… живет в том доме». С извинениями и смущением я забрал торт и перегнал машину в соседний двор.
Расставляя на столе чайную посуду, Зоя Ивановна без улыбки слушала мой восторженный рассказ о моем чуть ли не героическом вторжении в чужой дом. Она не перебивала меня, сервируя стол. Но когда я закончил, строго посмотрела на меня и сказала: «Это не делает вам чести. – Потом помолчала и совсем сухо добавила: – Ни как разведчику, ни как литератору». Можно понять мое состояние. Я готов был, как говорят в таких случаях, провалиться куда угодно.
Года через три я напомнил Зое Ивановне об этом эпизоде. На ее лице разлилась мягкая, женственная улыбка. Затем она погасила ее, строго, как в тот раз, посмотрела на меня, но в глазах по-прежнему прыгали веселые чертики и, не сдержавшись, рассмеялась: «Конечно, негодяй, мало того, что заблудился в двух соснах, чуть было не отдал цветы другой женщине, да еще и расхвастался».
Глава 3. Страницы биографии
«Родом я с Тульской земли, как и мои предки, – пишет Зоя Ивановна, – о которых мне известно только до третьего поколения. Родилась в железнодорожном поселке при станции Узловая, там прошли младенческие годы. Но своей настоящей родиной считаю город Алексин, в котором провела детство. Это волшебный край приокских заливных лугов с запахом полевой клубники, кондового бора с толстым мшистым ковром, где даже в пасмурный день светло от бронзовых мачтовых сосен, красавицы Оки с широким правобережным пляжем тончайшего золотистого песка и крутыми левыми берегами, которые осенью являют собой такую яркую палитру красок, от которой сладко щемит сердце. Ока была богата всяческой рыбой, леса – ягодами и грибами, березовые рощи – птичьими хорами. Шесть десятилетий миновало с тех пор, а я помню каждую излучину реки, большак в лесу, огромную березу на краю железнодорожной насыпи, сосну-колдунью, от которой шла многоступенчатая лестница к железнодорожным путям. И наш бревенчатый домик в зарослях сирени, а зимой утопающий в снежных сугробах, а от калитки до крыльца глубокий снежный коридор. И школа… И первая учительница Мария Павловна Малинина. Она умело и уверенно приобщала нас к миру прекрасного, доброго. Враг зубрежки, приучала к самостоятельной работе с книгой. Затем было много учителей и в гимназии, и в трудовой школе, и в вечерней, но ни одного не запомнила. А Марию Павловну – на всю жизнь.
А первое знакомство с театром произошло встречей с труппой московского Малого театра, приехавшего на гастроли в Алексин. В имении «Борок» у художника Поленова познакомилась с его коллекцией картин. В доме хранились замечательные изделия моей прабабки – крепостной художницы, золотошвейки и кружевницы. Друзьями дома были чудомастера Мышегского завода, кружевные изделия из чугуна их соревновались с изделиями моей прабабки Матрены. На Мышегском заводе была изготовлена решетка вокруг Александровского сада в Москве, украшающая его до сих пор. Мышегские мастера отливали фигуры для Триумфальной арки, что стоит до сих пор на Кутузовском проспекте в Москве.
Все вокруг было подлинно полноценным в прекрасном сочетании творения природы и человеческих рук. И, конечно, мама, мама-труженица, мама-певунья, мама – товарищ наших детских игр и всяческих затей. С ней вперегонки плавали, играли в горелки, скатывались с крутых «дачных» гор на самодельных лыжах, мастерили ледянки, зимними вечерами делали украшения для елки. Весной она будила нас ночью, когда Ока с пушечными выстрелами ломала ледовый панцирь, и мы бежали смотреть и слушать это великое чудо природы, когда огромные пластины льда наползали на быки железнодорожного моста и содрогались его кружевные арки и жалобно гудели. Мама водила нас в березовую рощу слушать соловья, а зимними вечерами бабушка Степанида Ивановна рассказывала сказки и легенды, притчи и предания, большинство которых я потом много позже нашла у Толстого.
В нашей большой бревенчатой столовой по вечерам собиралась молодежь к маме на посиделки. Пели песни, в крещенские вечера топили воск, приносили сонную курицу, которая должна была клевать зерна на перевернутых записках с пожеланиями девушек.
Съели все старые телячьи шкуры, которые много лет висели в сарае. Мама обжигала с них в печке волосяной покров, неделями вымачивала в воде, чистила, скоблила и варила суп. Единственной кормилицей была корова, но нам доставалось снятое молоко, и то не всегда. Сливки, масло и творог предназначались для больного туберкулезом отца…
Революция докатилась до нашего городка эшелонами солдат, едущих с фронта в теплушках, исписанных разными лозунгами. На одних вагонах было написано: «Долой временное правительство», «Да здравствует Ленин! Да здравствует партия большевиков!», на других: «Да здравствует временное правительство! Позор большевикам – пособникам германцев», «Долой войну!».
Вместе с Октябрем в жизнь вошло новое удивительное, сильное и доброе слово «декрет». Люди уважительно увенчали его прилагательным «ленинский». Ленинский декрет о мире – стало быть, конец проклятой войне, а значит, и болезням, и голоду, и разрухе. Ленинский декрет о земле, и с земли снимались помещичьи цепи и ограды, земля становилась общенародным достоянием. Однажды классный руководитель в школе объявил нам, что вышел ленинский декрет о бесплатном детском питании. Это означало конец голоду. Нам стали выдавать ежедневно горячую похлебку и кусок хлеба. В те голодные годы это было спасением не только для детей, но Для всей семьи. Почти каждый день в газетах публиковался какой-то новый «декрет», и он нес людям добро, ограждал ото зла, невзгод, несправедливости. Благословенное, ленинское слово «декрет».
Эти воспоминания необходимо дополнить некоторыми, конспективно изложенными, фактами из ее биографии.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ Зоя Ивановна родилась 28 апреля 1907 года в г. Алексине Тульской области в семье железнодорожного служащего – помощника начальника станции Алексино – Ивана Павловича Воскресенского.
В семье было трое детей – Зоя Ивановна и два младших брата: Николай Иванович (1910 года рождения) и Евгений Иванович (1913 года рождения), Николай Иванович погиб на фронте в 1944 году, в Смоленске живет его единственный сын Виктор Николаевич Воскресенский. Евгений Иванович полковник в отставке, всю Отечественную войну прошел сапером, был несколько раз ранен и контужен. В настоящее время живет в Виннице.
Отец – Иван Павлович – умер от туберкулеза в октябре 1920 года. После его смерти мать – Александра Дмитриевна Воскресенская – переезжает с детьми, из которых старшей Зое было 13 лет, к дальним родственникам в Смоленск. Здесь Зоя Ивановна прожила до 1928 года, обихаживая семью в качестве «младшей хозяйки» дома. Ее забота о братьях началась с того, что она вместе с матерью сшила из железнодорожной шинели отца два пальто для маленьких братьев.
Уже в 1921 году, в четырнадцать лет, она начинает трудиться библиотекарем в 42-м батальоне войск ВЧК Смоленской губернии и становится бойцом штаба ЧОН. Маленькая библиотекарша гордится своей работой и особенно тем, что постепенно росло число читателей. В 1923 году Зоя Ивановна становится политруком в колонии малолетних правонарушителей, которая находилась в деревне Старожище под Смоленском. Здесь она проработала всего три года, но в ее памяти сохранилось много волнующих, незабываемых моментов. Один из них, когда старшие ребята из колонии, которым было по 17 – 18 лет (а самой воспитательнице двадцать) совершили кражу продуктов из кладовой. На другой день Зоя Ивановна и заведующий колонией были в Смоленске в губкоме. По возвращении из города на дороге их подстерегали парни из их колонии с топорами и мешками, которые ошибочно считали, что они ездили в Смоленск в милицию жаловаться по поводу кражи.
Зато малыши дарили Зое Ивановне свою нежность и ласку. Они приветствовали свою любимую воспитательницу, как рассказывала Зоя Ивановна, на своем тарабарском языке, который состоял в том, что в каждом слове первый слог менялся на «ШИ», например: «Шивствуй, шилая Шиечка-шисомолочка!» Что означало: «Здравствуй, милая Зоечка-комсомолочка!»
В то время у Зои Ивановны возникла мысль написать книгу о жизни малолетних правонарушителей. Она уже начала собирать необходимый материал, но в это время вышла в свет знаменитая «Педагогическая поэма» А. С. Макаренко, и Зоя Ивановна сожгла все свои записи. Недаром известный литературный критик И. П. Мотяшов в своей книге «Зоя Воскресенская. Очерк творчества» (издательство «Детская литература», 1979 г.) написал: «Выйдя в отставку, полковник Зоя Ивановна Рыбкина и дня не испытывала чувства растерянности. Часы отдыха – это она хорошо знала по себе – в миллион раз слаще, когда они выкраиваются из дней и недель упорной работы. А новое дело – его выбирать было не нужно. Все долгие годы трудной, нередко опасной службы, когда мысль и воля напряжены до предела и себе ни в чем не принадлежишь, а только огромному и важному, что зовется долгом перед Родиной, где-то в сокровенных тайничках души настойчиво и неизгладимо теплилась мечта о литературном труде.
Подчас она ощущалась даже как неосуществившееся призвание, от которого отвлекли обстоятельства. Мечта мечтой, но служба – нелегкая, интересная и любимая – поглощала все время и силы. И все же иногда думалось: «Вот выйду в отставку, и тогда…»
В 1927 году по решению Смоленского губкома Зою Ивановну направляют на завод им. М. И. Калинина для организации пионерских отрядов из детей рабочих и служащих завода, который изготовлял для села ведра, бидоны, бороны и плуги.
В этом же году она вышла замуж за В. Казутина, который вскоре уехал в Москву на партучебу. От этого брака родился сын, которого назвали Владимиром.
В 1928 году Зоя Ивановна, будучи кандидатом в члены ВКП(б), переходит на работу в Заднепровский райком партии Смоленска в качестве заведующей учетно-распорядительным подотделом орготдела. Она гордится тем, что принимала в то время партийные взносы у будущего Маршала Советского Союза А. И. Егорова. В конце 1928 года по партийной путевке переехала в Москву для работы в Педагогической академии им. Н. К. Крупской (теперь это педагогический университет).
В Москве из Педагогической академии ее взяли на работу машинисткой в транспортный отдел ОГПУ на Белорусском вокзале Московско-Белорусской железной дороги (МБЖД).
В апреле 1929-го Зою Ивановну приняли в члены партии, а в августе того же года пригласили на Лубянку, где ей предложили перейти на оперативную работу, а затем поехать в Харбин. Так началась ее жизнь в разведке, которой она посвятила двадцать пять лет. В 1930 году 3. И. Воскресенская уехала в Китай. Перед отъездом развелась с Владимиром Казутиным. Вернулась в 1932 году. Замуж за Бориса Аркадьевича Рыбкина вышла в Финляндии в 1936 году. В личном деле Зои Ивановны, которое находится в архиве Службы внешней разведки под псевдонимом «Ирина» № 24267, есть ее послужной список с указанием занимаемых должностей.
1921 – 1922 гг. 42 батальон войск ВЧК – переписчица
1923 – 1925 гг. Детская колония малолетних преступников – политрук
1926 – 1928 гг. Райком ВКП(б) Смоленск – зав. учетным отделом
11.1928 – 05.1929 гг. ОДТО ГПУ, г. Москва – машинистка
05.1929 – 11.1929 гг. Главконцесском СССР – завмашбюро
11.1929 – 05.1930 гг. Союзнефть, Москва – замзав секретной частью
05.1930 – 05.1931гг. Союзнефть, Харбин – секретарь
05.1931 – 03.1932 гг. Союзнефть, Харбин – экономист
1932 – 1933 гг. Командировка по линии ИНО, Берлин – Вена
1933 – 1935 гг. Переводчик и уполномоченный ИНО по Ленинградской области
1935 – 1939 гг. Командировка в Финляндию
1939 – 1940 гг. Резерв назначения, Москва
1940 – 1941 гг. Оперуполномоченный 2-го отделения 5 отдела 1 управления
1941 г. Замнач отделения 1 отдела 1 управления
1941 – 1944 гг. Командировка в Швецию
1944 – 1945 гг. начальник 1 отделения 1 отдела ПГУ
1946 – 1947 гг. начальник 3 отделения отдела 5 А ПГУ
1947 – 1949 гг. замнач 3 отдела 2 управления Комитета информации
1950 – 1954 гг. начальник 3 отдела ПГУ
Далее послужной список Зои Ивановны обрывается, видимо, в связи с направлением ее в Воркуту, т. к. лагеря заключенных (ГУЛАГ) находились в ведении МВД.
Глава 4. В разведке и так бывает
«Моим «крестным отцом» в разведке, – пишет Зоя Ивановна, – был полковник Иван Андреевич Чичаев, проработавший в ней всю жизнь».
В годы войны полковник И. А. Чичаев находился в Англии и выполнял координационную функцию между внешней разведкой СССР и спецслужбами англо-американских союзников.
Год 1930-й. Харбин. Летняя влажная духота окутала многочисленные магазинчики и торговые лавочки, разбросанные по всему городу среди значительного количества небольших мукомольных и маслоделающих предприятий, сделали вялыми прохожих, среди которых большинство европейцев.
Харбин – центр богатой сельскохозяйственной и лесопромысловой провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая на реке Сунгари, притоке Амура. Сунгари около Харбина очень широкая, мутная, с большим количеством небольших и совсем крошечных островков. В то время по берегам реки еще кое-где можно было видеть ядовитые, как будто полыхающие, опийно-маковые плантации. Это сейчас в Харбине более двух миллионов жителей. А тогда, в 1930 году, население Харбина едва достигало пятидесяти тысяч.
Возник Харбин в 1898 году на месте небольшой рыбацкой деревни. Толчком к возникновению и быстрому развитию города послужило строительство Россией из стратегических соображений Китайско-Восточной железной дороги. Первая узловая станция КВЖД в Маньчжурии так и называется Сунгари или Харбин. Здесь же расположено управление КВЖД, другие официальные представительства Советской России, генеральное консульство.
Лето. Жарко. Около Сунгари влажно. Молодая женщина едет на велосипеде. Велосипед дамский, популярной тогда марки ВС-A. Одета в модную, до колен, широкую юбку-плиссе серого цвета. Белая, без рукавов, кофточка из батиста, на голове легкая соломенная шляпа с короткими полями. Женщина совсем молодая, ей 23 года. Работает она заведующей секретно-шифровальным отделом советского Нефтяного синдиката в Харбине. И поэтому зовут ее, несмотря на молодость, по имени и отчеству – Зоей Ивановной.
Синдикат продает китайцам бензин и другие нефтепродукты. Его конкуренты – две западные фирмы, «Стандарт» и «Шелл». Зое Ивановне почему-то нравится эмблема фирмы «Шелл» – большая красивая раковина.
Вот уже год она живет в Харбине с мамой и сыном Володей. Из-за сына пришлось взять с собой и маму.
Когда крутишь педали, хорошо думается. Вспомнился Иван Андреевич Чичаев – начальник отделения в иностранном отделе ОГПУ, где перед выездом в Харбин она две недели находилась на стажировке. В 1928 году она из Смоленска переехала к мужу, который был на партучебе в Москве. Она – Зоя Ивановна Казутина. В Москву приехала не просто к мужу, а по партийной путевке для работы в Педагогической академии имени Н. К. Крупской (теперь это Московский государственный педагогический университет имени В. И. Ленина). Затем взяли на работу машинисткой в транспортный отдел ОГПУ на Белорусском вокзале Московско-Белорусской железной дороги (МБЖД).
В апреле 1929 года приняли в члены партии, а в августе того же года пригласили на Лубянку. На Лубянку шла волнуясь, хотя уже почти год сама была сотрудницей ОГПУ. Волнуясь, нашла в «сером» доме отдел кадров, а через час уже была в иностранном отделе. Увидев Ивана Андреевича, успокоилась.
Иван Андреевич, разливая чай, сказал:
– Садись к столу, разведчица, – и усмехнулся.
– Как вы меня назвали?
– Разведчицей.
– Я же еще девчонка! – И, смутившись, наклонила голову.
– Что девчонка, это верно. – Иван Андреевич Мешал ложечкой чай в стакане и смотрел на нее внимательными и добрыми глазами. – Девчонка! – повторил он уже серьезно. – Но профессией твоей теперь будет разведка, а значит, ты разведчица. Поедешь в Харбин. – Чичаев отхлебнул чай из стакана. – Для работы в Нефтяном синдикате. Синдикат, – продолжал Иван Андреевич, – это твое прикрытие, это лишь легальная возможность для твоей разведывательной работы.
И началась специальная стажировка. Пароли, отзывы, тайники, конспиративные квартиры… и другие разведывательные понятия. Стажировка бурная, захватывающая, скоротечная, как весенняя гроза.
Ехать на велосипеде становится труднее. Твердый грунт все чаще сменяется укатанным песком. Среди прохожих реже встречаются европейцы, появились рикши. Это пригород Харбина Фудзи-дзян, где живет в основном китайское население. Китайцы внешне добродушны, улыбаются и кланяются даже детям. Женщин не любят.
Зоя Ивановна остановилась и спросила у проходящего европейца нужную ей улицу. Садясь на велосипед, поморщилась от боли – правая нога ниже колена плотно забинтована. Она всего неделю как научилась ездить на велосипеде, ни в Смоленске, ни тем более в Москве ей делать этого не приходилось. А вчера она упала и сильно ободрала правую ногу. Но именно это и поможет ей выполнить задание Центра.
Вспомнила свой первый день рождения в Харбине. Положение и зарплата позволяли ей содержать домашнюю работницу. Но в Харбине эти обязанности выполняли мужчины. Был и у них с мамой домработник, которого все звали русским именем Миша. Встречая гостей, китаец Миша, обращаясь к мужчинам, постоянно говорил: «Капитано, капитано» – что значило господин. Зое Ивановне он говорил: «Мадама-капитано, мадама-капитано…» – и это вызывало у нее усмешку.
…А вот и нужная тебе улица, мадама-капитано. Маленький домик за невысоким палисадником. Проехав мимо, Зоя Ивановна слезла с велосипеда. Огляделась. Зашла в кусты и сняла бинт. Оторвала его от засохшей раны, и снова, как вчера, появилась кровь. Щепоткой земли потерла ногу вокруг раны, спрятала в сумочку бинт, взяла велосипед и, прихрамывая, направилась к калитке того дома, мимо которого только что проехала. Вошла в палисадник, сделала несколько неуверенных шагов к крыльцу. Навстречу вышла женщина. Зоя Ивановна знала – она на семь лет старше ее.
– Господи! Что с вами?
– Упала. Простите, ради бога, еще не умею как следует ездить.
– Больно?
– М-ы-ы-ы…
– Проходите, вот сюда. Садитесь. Я сейчас принесу теплой воды и йод. Садитесь, садитесь.
Зоя Ивановна села и увидела устремленные на нее с противоположной стороны комнаты широко открытые глаза девочки лет четырех. Девочка держала на коленях большую куклу и, не мигая, смотрела на гостью. А та улыбнулась девочке, спокойно оглядела комнату, перевела взгляд на свою кровоточащую ссадину и… похолодела – к засохшему краю раны прилип маленький кусочек нитки от сорванного бинта. Как можно приветливее спросила девочку:
– Как тебя зовут?
– Маша.
– Машенька, какая у тебя красивая кукла! – А в пальцах уже крутила снятый с ноги обрывок нитки бинта.
Вошла мать Машеньки с тазиком теплой воды в руках, улыбнулась:
– Сейчас я промою вашу рану, а потом…
…А потом пили чай, по-бабьи болтали о детях, о жизни в Харбине и ни словом не обмолвились о мужьях.
Возвращалась Зоя Ивановна в центр города уже в сумерках, не домой, а на конспиративную квартиру, в дом, половину которого занимал начальник харбинской полиции. Задание выполнено – установлен хороший, дружеский контакт с женщиной, муж которой, один из руководящих советских работников в Харбине, месяц назад, бросив семью, бежал в Шанхай, прихватив с собой большую сумму казенных денег.
…А потом частые и по-настоящему дружеские встречи с матерью Маши. Ее рассказ о том, что совершил муж. Признания о его тайных приездах в Харбин для встречи с семьей. Его муки и сомнения. И наконец встреча с ним Зои Ивановны и его согласие явиться с повинной.
Зоя Ивановна и ее руководство выполнили обещание, данное матери Маши, о том, что ее муж, если он явится с повинной, не будет репрессирован. Деньги, которые он так «неосторожно» взял в государственной кассе, были им постепенно выплачены, и своим трудом, в том числе и на разведку, он восстановил свое доброе имя.
«Вернулась из Китая в Москву, – вспоминала Зоя Ивановна, – в феврале 1932 года. Некоторое время работала начальником отделения в иностранном отделе ОГПУ в Ленинграде, курировала Эстонию, Литву и Латвию, но недолго, всего несколько месяцев. С этого времени вся моя жизнь была связана только с Европой».
Люди, поверхностно знавшие Зою Ивановну Воскресенскую, говорили, а некоторые даже утверждали, что она когда-то, где-то была на нелегальной работе. В качестве нелегала в действительности она никогда и нигде не работала. Но в народе бытует старая пословица: «Нет дыма без огня». Так вот в данном случае, как я уже сказал, огня вообще не было, а дым появился потому, что Зоя Ивановна готовилась к работе на нелегальном положении, но по ряду причин на эту работу не попала.
Расскажу об этом поподробнее и по порядку. В 1932 году Зоя Ивановна приехала в Германию, в Берлин. Цель ее поездки состояла в том, чтобы изучить в совершенстве немецкий язык. Жила в пансионате «Мадам Роза» на Унтер-ден-Линден и на частной квартире у профессора музыки фрау Альбины Шульц. Воочию видела забастовки, которые в это время происходили в Берлине. Когда забастовали водопроводчики, ей и ее квартирной хозяйке приходилось умываться, готовить еду и пить кофе из воды, которую они предварительно запасли прямо в ванной. В Берлине находилась официально как жена беспартийного специалиста, отсюда в 1932-м и в начале 1933 года несколько раз ездила в Австрию для ознакомления с обстановкой в этой стране и изучения австрийского диалекта.
Уже будучи больным человеком, практически прикованным к постели она неоднократно вспоминала время, проведенное в Германии. Когда ей потребовалось продлить визу пребывания в Берлине, она первоначально решила имитировать болезнь. Но врачи, как вспоминала Зоя Ивановна, будто назло ничего не нашли. Она грустно усмехнулась: «Теперь бы они на меня посмотрели».
Перед поездкой в Берлин Зоя Ивановна несколько месяцев провела в Латвии. Там тоже изучала обстановку, привыкала к заграничной жизни. Было ясно, что руководство намерено использовать ее для выполнения какого-то особого задания.
И вот однажды ее вызвало высокое начальство.
– Поедете в Женеву по соответствующей легенде. Там познакомитесь с генералом «X», который работает в генеральном штабе и тесно сотрудничает с немцами. Станете его любовницей. Нам нужны секретные сведения о его работе и о намерениях Германии в отношении Франции и Швейцарии. Вам понятно?
– Да, понятно. А обязательно становиться генеральской любовницей, без этого нельзя?
– Нет, нельзя. Без этого невозможно выполнить задание.
– Хорошо. Я поеду в Женеву, стану генеральской любовницей, раз без этого нельзя, выполню задание, а потом застрелюсь.
Вспомнив об этом и рассказав, Зоя Ивановна замолчала.
– И что же потом? – спросил я нетерпеливо.
– Потом?! Потом задание отменили. «Вы нам нужны еще живой», – констатировало начальство.
Так закончилась ее первая попытка перейти на нелегальное положение в разведывательной работе.
– А уже во второй половине тысяча девятьсот тридцать третьего года, – продолжала свой рассказ Зоя Ивановна, – я была в Австрии. Жила в Вене в гостинице около Гедехнискирхе (памятник-церковь). Там, в Австрии, я должна была выйти замуж.
– Как это замуж?! – удивился я.
– Фиктивно, конечно. С первым мужем я разошлась еще до поездки в Китай, а с Борисом Аркадьевичем познакомилась позднее, уже в Хельсинки, куда он приехал в тысяча девятьсот тридцать шестом году.
– Так вот, – рассказывала дальше Зоя Ивановна, – была у меня легенда: в Риге получить латвийский паспорт, затем в Австрии выйти замуж. Поехать с мужем в Турцию и по дороге «поссориться». После этого муж должен уехать, а мне предлагалось остаться в Турции и открыть там свой салон мод. Таким образом должна была состояться моя нелегальная работа в разведке. Но и вторая попытка кончилась безуспешно. До Вены-то я доехала, а замужество, хоть и фиктивное, не состоялось. Жених не приехал, – вновь заразительно засмеялась она.
В разведывательной жизни Зои Ивановны было много и курьезных случаев, почти во всех странах, где она находилась по работе: Китае, Финляндии, Швеции. Вот что по ее рассказам осталось в моей памяти. Лето. Лесистая местность близ Хельсинки. Северные низкорослые хвойные деревья, среди которых прогуливались две молодые женщины в летних безрукавных платьях. Очаровательная европейка и изящная маленькая японка. Беседовали, отмахиваясь от комаров сосновыми веточками. Одна из них Зоя Ивановна, другая ее агент – жена японского дипломата, работающего в Финляндии.
Вечером того же дня был прием в президентском дворце. В гардеробной комнате женщины приводили себя в порядок. Невдалеке Зоя Ивановна увидела своего агента. Она была в бальном, глубоко декольтированном платье, а шея и руки у нее были ярко-красные, вспухшие от укусов комаров. Зоя Ивановна посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Быстро накинула на себя накидку, а муж отвез ее домой. Вернувшись во дворец, «Кин» сказал, что его жена неожиданно почувствовала себя плохо. Потом он рассказывал, что многие женщины обращали внимание на жену японского дипломата, а та объясняла мужу и его коллегам, что ездила днем на дачу поливать цветы, где ее и покусали комары.
«А если бы мы обе были в таком виде, что можно подумать? – задавала Зоя Ивановна сама себе вопрос. – Никогда не знала, что комары могут служить в контрразведке. Вообще-то в этой Финляндии, – смеется она, – климат не совсем подходящий для разведывательной работы, особенно летом. Однако, бывают случаи и посмешнее. Разведка – это жизнь, а в жизни всякое бывает».
День выдался морозный и солнечный. Воскресенье. На Садовом кольце Москвы многолюдно. Зима 1935 года принесла много хлопот дворникам. Снег не успевали убирать даже на основных магистралях столицы. Автобусы сбивались с графика.
На остановке в автобус маршрута «Б» вошла высокая, стройная женщина. Подошла к кондуктору. Поискала в сумке-муфте разменные монеты, смущенно улыбнулась, что-то сказала кондуктору. Достала бумажные деньги, громко произнесла: «Товарищи! Кто может разменять рубль?»
Пожатие плечами, молчание, еле слышное: «У
меня нет».
Женщина более твердо повторила, свой вопрос: «Кто может разменять деньги?» И совсем робко: «Что же мне делать?»
Рослый мужчина в шапке-пирожке из серого каракуля протянул кондукторше пятнадцать копеек и, получив от нее билет, протянул его женщине:
– Возьмите!
– Спасибо. Большое спасибо. Как я верну вам эти деньги?
– Когда-нибудь вернете. – Мужчина с любопытством смотрел на молодую, интересную женщину.
– Скажите, пожалуйста, ваш адрес.
– Зачем вам мой адрес?
– Я пришлю вам деньги. Говорите, а то мне скоро выходить.
– Скажите лучше – как вас зовут?
– Зоя Ивановна, – ответила женщина и кокетливо улыбнулась.
Мужчина еще внимательнее посмотрел на случайную спутницу.
– Зоя Ивановна, – повторил он, – а Зоенька нельзя?
Женщина сурово посмотрела на своего собеседника, смерила его с ног до головы строгим взглядом:
– Вам нельзя, – и вышла в открывшиеся двери автобуса.
Прошло три года. В Финляндии советское представительство «Интуриста» возглавляла Зоя Ивановна Рыбкина. Работа в «Интуристе» в Хельсинки давала ей легальную возможность проводить разведывательную работу. Вместе с выполнением других заданий в ее обязанности входило поддержание связи с нашими нелегальными сотрудниками.
Парк на окраине Хельсинки. Низкорослые сосны, огромные, будто декоративные валуны, оставшиеся здесь от ледникового периода, чисто убранные дорожки. Зоя Ивановна не спеша направилась в глубь парка. В руках небольшой тяжелый чемоданчик, который сейчас называют атташе-кейсом. Дышится легко, воздух чистый и свежий. А вот и одинокая скамейка под невысокой, но размашистой сосной. Здесь она должна ждать человека, который придет к ней на встречу. Они не знакомы. Известно только, что это должен быть мужчина, который свяжется с ней по паролю: «Вы позволите отдохнуть мне рядом с вами?»
В пароле каждое слово имеет свое значение. Не просто смысл фразы, подобранной к определенной ситуации встречи, но и особая расстановка слов. Ведь обычный человек, просто случайный прохожий наверняка скажет: «Позвольте мне отдохнуть…», а этот мужчина должен сказать: «Вы позволите отдохнуть мне…» На это она должна ответить отзывом: «Пожалуйста, садитесь, но я больше предпочитаю одиночество».
Порыв ветра прошумел в сосновых ветвях, осыпал на дорожку сосновые иглы и затих за соседним валуном. Зоя Ивановна даже не заметила, с какой стороны перед скамейкой появился высокий плотный мужчина. Он молча сел рядом, внимательно посмотрел на нее.
«Кто это?! – подумала она и внутренне насторожилась. – Почему он молчит?»
Мужчина еще раз пристально посмотрел на нее и, уже усмехаясь, сказал:
– Хорошо отдохнуть рядом с вами.
«Что это? Только часть пароля! Может быть, это провокатор? Нет, не похож на провокатора». А вслух как можно строже сказала:
– Что вам угодно?
– Вы позволите отдохнуть мне рядом с вами?
– Пожалуйста, садитесь, но я больше предпочитаю одиночество, – назидательно добавила: – Почему вы перепутали пароль?
– Ничего я не перепутал. Просто увидел симпатичную женщину и решил пошутить.
– Нашли место для шуток. – Зоя Ивановна пододвинула к мужчине чемоданчик: – Это деньги для вас, проверьте сумму.
Мужчина положил чемоданчик на колени, открыл его, посмотрел на пачки запечатанных долларовых купюр и со вздохом сказал:
– Здесь не вся сумма.
– Как не вся?! – Зоя Ивановна встрепенулась. – Что получили из Центра, то полностью передаем вам.
– Нет, – спокойно сказал мужчина, но в глазах его бегали чертики, – здесь не хватает пятнадцати копеек.
– Каких пятнадцати копеек?!
– Тех самых пятнадцати копеек, которые вы должны мне, Зоенька!
Неожиданно услышав свое имя, да еще произнесенное ласково, с расстановкой и усмешкой, Зоя Ивановна моментально вспомнила заснеженную Москву 1935 года, автобус и мужчину, купившего ей билет за пятнадцать копеек.
Тугой комок подступил к горлу. Хотелось броситься на шею этому человеку, который вдруг стал таким Родным и близким.
– Что же мне делать, – чуть не плача, сказала она, – у меня опять нет пятнадцати копеек.
– Вот и такие бывают встречи, – вздохнула Зоя Ивановна и продолжила рассказ.
– В резидентуру в Хельсинки, где я в то время работала заместителем резидента, поступила шифрованная телеграмма, которая предписывала лично мне выехать в Стокгольм и там провести встречу с агентом, которого я раньше не знала. В телеграмме указывались пароль, опознавательные знаки агента, время и место встречи – у памятника Карлу XII, и тут же – повторялось: у памятника Карлу XIII.
Я перечитала еще раз шифротелеграмму и с досадой вздохнула – так у памятника Карлу XII или Карлу XIII? Запрашивать Москву некогда, и есть ли памятник Карлу XIII. Ведь всем известен шведский король Карл XII.
Приехав в Стокгольм, я некоторое время уделила специальной проверке и поспешила в сквер. Вот он, Карл XII. Стоит в полушубке, показывает шпагой на восток, откуда мол, грозит опасность. Погода хорошая, солнечная. Вокруг памятника скамейки, сидят люди. Почти все мужчины читают шведскую газету «Стокголмс Тиднанген» (как в шифротелеграмме), но ни у кого не торчит из кармана немецкая газета (как должно быть). Подошло назначенное время для встречи, а нужного человека нет. Я сделала несколько кругов около памятника Карлу XII, чтобы посмотреть еще раз внимательно на мужчин, не привлекая чужого внимания. И вдруг, о ужас! Передо мной стоял памятник Карлу XIII в том же сквере метрах в трехстах от памятника Карлу XII. Придя в себя, я присела на скамейку у памятника Карлу XIII. Но и здесь никого, кто читал бы шведскую газету, а из кармана торчала бы немецкая газета. Я вновь устремилась к памятнику Карлу XII. Никого. Затем вновь к памятнику Карлу XIII. Тоже никого. И так целых полчаса с камнем на сердце и со свинцовыми ногами от памятника к памятнику.
Возвратясь в гостиницу, я, как после тяжелой, непосильной физической работы повалилась на кровать. Вечером контрольная встреча. Опять я меряла шагами расстояние от памятника Карлу XII до памятника Карлу XIII. Вновь внимательно осматривала взглядом газеты в карманах и в руках мужчин. Опять нет нужного человека.
А впереди у меня была бессонная ночь, ночь тревоги – задание сорвано, ночь самобичевания. Утром я ехала в стокгольмскую резидентуру, чтобы признаться в своей плохой работе. А там меня ждала новая шифротелеграмма: «Задание отменяется. Агент не придет. Возвращайтесь в Гельсингфорс».
– Обидно, – сказала Зоя Ивановна, – но зато какой урок!
Что касается уроков, то она всегда самым положительным образом относилась к воспитанию молодежи, которая посвятила себя работе в разведке. 3. И. Воскресенская всегда подчеркивала, что мелочей в работе разведчика не бывает никогда. Любая из них способна при определенных условиях сыграть главную роль. Она не уставала повторять: забвение мелочей может на практике привести к роковым последствиям, в особенности при организации связи с агентурой. Много раз вспоминала о своей, как она считала, неудачной встрече с женой японского дипломата в предместье Хельсинки и о комарах, о которых читатель уже знает и которые, оказывается, тоже могут служить на пользу контрразведке.
Зоя Ивановна рассказывала, что несколько лет ей пришлось работать с нашим нелегалом «Павло», выведенным в свое время за кордон и внедренным в Провод ОУНа. Это был преданный нашему, как она любила говорить, делу и Родине человек. Умный, осторожный, обладающий быстрой реакцией. Но у него был один недостаток: он мог забыть час, назначенное место встречи, перепутать день, опознавательный знак, сигнализацию.
Однажды он поехал по делам ОУН в Берлин. Мог задержаться там на несколько недель. Нужно было договориться с ним о способах связи после его возвращения, но его забывчивость… Чтобы он не мог перепутать место и время встречи, Зоя Ивановна предложила ему следующее.
– У тебя, – сказала она ему, – кличка «Павло», которую ты, надеюсь, помнишь. Начинается она с буквы «П», а в ней пять букв. Запомни пять «П» – понедельник, пятница, пять часов, Пакенхюля (название улицы на окраине Гельсингфорса), правая сторона. Кроме того, ты всегда ходишь с палкой. Если палка у тебя будет к моменту встречи в правой руке, то это значит все в порядке. Если в левой, то это сигнал тревоги и, значит, встреча отменяется.
– Запомни, – наставляла Зоя Ивановна, – «Павло», все на «П», и встреча после твоего возвращения состоится в ближайшую пятницу или понедельник.
Вернулся «Павло» из Берлина месяца через два. Пришел на встречу вовремя и в назначенное место, да еще с хорошими результатами. Опирался на палку правой рукой. Когда Зоя Ивановна встретилась с ним, он спросил ее – заметила ли она, какой у него был победный вид. С тех пор «Павло» больше не путал условия связи.
Говоря о подготовке молодежи к разведывательной работе, Зоя Ивановна всегда акцентировала внимание на четком знании иностранного языка, на котором разведчику предстоит работать за рубежом, и приводила по этому поводу такой пример.
После оккупации гитлеровцами Чехословакии на связь с нашим агентом в Прагу был послан сотрудник немецкого отдела Центра капитан Леонтьев. От агента, к которому на встречу был направлен Леонтьев, Центр ожидал важную информацию по Германии, в частности о ведущейся там подготовке к военным действиям против Советского Союза. Но через несколько дней от Леонтьева неожиданно пришла шифрованная радиограмма: «Был по указанному адресу, но в дом нет входа». Начальник отдела П. М. Журавлев послал ему ответную радиограмму примерно следующего содержания: «По нашим предположениям, дом без дверей не бывает, сообщите подробности и повторите адрес и номер дома». Леонтьев ответил: «Адрес такой-то, дом номер такой-то, но на закрытых воротах надпись на чешском языке: «Входа нет». И снова из Центра к неудачливому разведчику идет сообщение о том, что указанная вами надпись на воротах означает: «Прохода через двор нет, а вход должен быть нормальный».
И еще один пример необходимой осторожности и аккуратности при соблюдении конспирации в разведывательной работе.
– Летом в Финляндии, – рассказывала Зоя Ивановна, – встретилась я с агентом в лесу. Мы сели с ним на пеньки и стали разговаривать. Неожиданно пошел дождь. Но мы оба были в плащах и поэтому продолжали наш разговор. Дождь вскоре прекратился. Пора было расходиться – ему в одну сторону, мне в другую. Я посмотрела ему вслед и увидела, что на спине у него часть плаща сухая и светлая, а часть – мокрая и темная. Догнала его и велела сесть на мокрую траву, чтобы намокла и нижняя часть плаща, иначе за три версты видно, что он в лесу где-то сидел. Посмотрела на свой плащ – та же картина. Пришлось и мне в буквальном смысле слова сесть в лужу. Посмотрела на свой плащ – все в порядке, теперь можно было спокойно разойтись.
Зоя Ивановна задумалась. Снова заговорила о конспирации, о том, какую важную роль она играет в разведывательной работе.
– А дети? – спросила она и посмотрела на меня внимательно.
– Что дети? – не понял я.
– Роль детей в вопросе все той же конспирации. Их поведение может одним махом перечеркнуть все усилия родителей в конспирации. Если хочешь, я расскажу тебе два примера на эту тему.
Сотрудник ИНО Брокманн был командирован на работу в Берлин. Было это еще до гитлеровского переворота в Германии. С ним поехали жена и два сына, мальчишки лет по десять – двенадцать. Как-то он пошел с семьей гулять по городу. Ребята увидели в витрине магазина велосипеды. «Купи», – пристали они к отцу. Родители стали объяснять, что пока на такую трату у них нет денег, когда-нибудь придет время… Мальчишки пристали как с ножом к горлу, никакие объяснения и уговоры не помогали.
– Если ты не купишь, я начну кричать, что ты работаешь в ГПУ, – пригрозил старший.
Придя домой, Брокманн в первый и, наверное, в последний раз выпорол сына, чтобы тот навсегда забыл, где работает его отец.
– А мой сын, – улыбается Зоя Ивановна. – Я как ты знаешь, начинала свою разведывательную деятельность в Харбине. Поехала туда с мамой и сыном. Однажды, когда сыну было около пяти лет, мы пошли с ним в парикмахерскую. Я сидела в женском отделении, а его за занавеской стригли в мужском отделении. Слышу – какой-то голос спросил:
– Мальчик, ты чей?
– Мамин.
– А кто твоя мама?
И маленький Володя вдруг ответил:
– Моя мама больше не коммунистка, а папа коммунист, поэтому он остался в Москве.
Я с закрутками на голове зашла за занавеску. Какой-то мужчина стоял рядом с парикмахером, который стриг моего сына. Увидев меня он сказал с масляной улыбкой на лице: «У вас, мадам, прелестный мальчик». Затем поклонился в мою сторону: «Разрешите, представиться – профессор Устрялов». Это был известный в Харбине белоэмигрант, один из идеологов сменовеховства.
После моего возвращения из Китая в 1934 году я попросила направить меня на работу в Ленинград, потому что там с квартирами было легче, чем в Москве. К тому же мне хотелось заняться по-настоящему оперативной работой, я боялась, что здесь меня могут посадить на какую-нибудь канцелярскую работу.
Тогда начальником ИНО был Слуцкий, который и согласился направить меня на работу в Ленинград. Начальником ИНО в Ленинграде в то время был некто Молотковский, которому я не понравилась, думаю, потому, что мне в ту пору не было еще и двадцати пяти лет. Ну, в общем девчонка, хотя я уже два года проработала в Китае. Вскоре Молотковского отозвали, и на его место в качестве начальника ленинградского ИНО приехал А. П. Федоров. Да, тот самый Федоров, который значительно позднее стал известен по делу «Трест» как его организатор и разработчик.
С Федоровым у меня был хороший контакт. И вообще он был исключительный человек. Очень интересный и содержательный. Естественно, нам, его сотрудникам, он ничего не рассказывал о деле Савинкова. Мы об этом не имели никакого понятия. Это все было строго засекречено. Мало кто знал о таких операциях. Очень узкий круг лиц. И это правильно. Широкая гласность в разведке может уничтожить саму разведку. Поэтому здесь надо быть очень осторожным.
Во время службы в Ленинграде Федоров и его заместитель Адамович готовили меня для разведывательной работы в Финляндии, потому что эта страна была соседом Ленинградской области. Во второй половине 1935 года я действительно уехала в Хельсинки в качестве представителя «Интуриста». В резидентуре в то время было всего четыре человека, а резидентом Генрих Бржзовский, позднее отозванный в Москву и арестованный как враг народа.
Добрые воспоминания об Андрее Федорове, как о честном человеке и великолепном профессионале, Зоя Ивановна пронесла через всю жизнь. Но и в этой светлой памяти немало горечи. А. П. Федоров был репрессирован и только много лет спустя реабилитирован. Волновала жизнь брошенной на произвол судьбы его жены и соратницы…
По этому поводу Зоя Ивановна, уже будучи известной писательницей, обращалась в различные инстанции, чтобы чем-то помочь вдове Федорова. Сохранилось письмо 3. И. Воскресенской-Рыбкиной заместителю председателя КГБ СССР Г. К. Ценеву, которого она знала еще по работе в Финляндии.
Привожу его полностью.
«Глубокоуважаемый Георгий Карпович!
Прежде всего разрешите поздравить Вас с успехом многосерийного телефильма «Синдикат-2», главным консультантом которого Вы были. В наше сложное и тревожное время очень важно всячески укреплять в народе уважение, любовь и доверие к работе чекистов, а недругов – грозно предупредить. Эту благородную цель, как я понимаю, Вы и ставили этим фильмом и нашли широкое признание. Заключительный аккорд – высокие слова Леонида Ильича о задачах чекистов звучат убедительно и веско.
Я наслышана о вашей чуткости и внимании к людям. Вы меня едва ли помните, но мы с Вами встречались после войны в Вене в семье Осиповых – Анатолия Ефимовича (ныне покойного) и его жены Надежды Доминиковны. Все это заставило меня обратиться именно к Вам по делу, имеющему отношение за кадром этого фильма.
В тридцатые годы я работала в Ленинграде в ИНО ПП ОГПУ, начальником которого был Андрей Павлович Федоров. Он уделял большое внимание воспитанию нас, молодых разведчиков, передавая свой богатый опыт. Часто он собирал оперативных работников у себя дома. Его жена Анна Всеволодовна подкармливала нас, а Андрей Павлович умело и интересно придавал этим вечеринкам характер своеобразных семинарских занятий.
В настоящее время Анна Всеволодовна (с которой я, к сожалению, с тех пор не встречалась), по рассказам моих товарищей, тяжело больна, с трудомпередвигается по комнате, давно не выходит на улицу, не может себя обслужить (ей за 80 лет). Дочь ее со своей семьей и внуками живет где-то за Уралом, по мере возможности материально ей помогает. Анна Всеволодовна получает персональную пенсию союзного значения в размере 60 (шестидесяти!) рублей. Прожить на такую пенсию невозможно. Она болезненно переживает благотворительную помощь соседей по коммунальной квартире, где она живет. Человек она гордый и самолюбивый, просить и жаловаться не любит.
Сколько ей еще осталось жить? И почему о ней должны заботиться посторонние люди? Она была верной и единственной подругой Андрея Павловича, помогала ему в работе, делила с ним все невзгоды и, как Вы понимаете, испила до дна горькую чашу, после того как Андрей Павлович стал жертвой культа личности.
Я считаю своим партийным и чекистским долгом информировать в Вашем лице руководство КГБ о ее бедственном положении и просить скрасить ее оставшиеся дни, обеспечить ей необходимый прожиточный минимум, прикрепить к ней постоянного человека по уходу и обслуживанию. В славные дела и подвиг А. П. Федорова она внесла и свой вклад. Ведь в отличие от всех профессий жена разведчика всегда является помощником мужа, и Анна Всеволодовна должна быть вознаграждена, должна с удовлетворением познать, что в нашей стране никто не забыт и ничто не забыто.
С глубоким уважением З. Рыбкина-Воскресенская, полковник в отставке,
Заслуженный работник НКВД СССР, ныне – писательница,
Лауреат Гос. премии СССР и премии Ленинского комсомола
6 августа 1981 г.»
Глава 5. Соратники и коллеги
Напомню, что в мае 1941 года Зоя Ивановна Воскресенская и ее коллеги пытались «предугадать» время нападения Германии на Советский Союз. Руководил этой группой аналитиков Павел Матвеевич Журавлев.
Он родился 29 ноября 1898 года в селе Красная Сосна Корсунского района Симбирской губернии, окончил мужскую гимназию в Казани и два курса Казанского медицинского факультета. Читал на французском, немецком, латинском языках.
В личном деле П. М. Журавлева (в заграничные командировки он выезжал под фамилией Днепров) записано: «В августе 1918 года во время захвата Казани белыми бежал с сестрой – женой комиссара штаба Казанского военного округа Родионовой Еленой Матвеевной, муж которой был расстрелян белыми и которая должна была родить. Однако по мобилизации его года П. М. Журавлев явился на призывной пункт Корсунского уезда и был назначен санитаром в плавучий госпиталь. Через месяц, при эвакуации белых, вновь бежал от них, некоторое время скрывался и вышел в расположение 27-й дивизии Красной Армии около города Бугульмы».
До 1925 года П. М. Журавлев – «Макар» работал на различных должностях в ВЧК – ГПУ на губернском уровне, а затем был переведен в Москву в иностранный отдел ОГПУ. Через год началась его служба за рубежом. С 1926 по 1928 год он работал в Литве в должности второго секретаря представительства СССР в Вильно. С 1928 по 1930 год – в представительстве СССР в Праге. С 1931 по 1932 год – в Турции в должности атташе в полпредстве СССР в Анкаре.
В 1933 – 1938 годах П. М. Журавлев был вторым секретарем полпредства СССР в Риме, где с наибольшей силой раскрылись его организаторские способности. Резидентурой НКВД в Италии в этот период было завербовано немало ценных агентов. Один из них был агент Д-36 – Пиетро Капуцци. Итальянец, владелец авторемонтной мастерской с бензоколонкой и в то же время сам разведчик. С ним «Макар» – Журавлев работал с 1937 по 1938 год. В начале второй мировой войны Пиетро Капуцци организовал партизанский отряд, который под его руководством мужественно сражался за свободу итальянского народа от фашизма. В одном из боев убит немецкими оккупантами. В марте 1945 года итальянские газеты много писали о нем как о борце за свободу. А после окончания войны итальянское правительство наградило Пиетро Капуцци золотой медалью посмертно.
С 1938 года Павел Матвеевич Журавлев находился в Москве и возглавлял сначала второе, а затем первое отделение 5 отдела НКВД. В 1940-м восстанавливал связь с полномочным представителем Болгарии в СССР И. Ф. Стаменовым, с которым контактировал еще в Риме. В то время Иван Федорович был первым секретарем посольства Болгарии в Италии. От него «Макар» получал информацию о политике Болгарского государства.
Началась война. И. Ф. Стаменов как представитель Болгарии находился в Советском Союзе. В архиве сохранился меморандум о настроениях И. Стаменова в те годы, составленный по агентурным данным. Интересно высказывание, сделанное им в интимной обстановке в сентябре 1942 года. «Я люблю Россию и русский народ, – говорил он, – восхищаюсь его мужеством и тем не менее предвижу, что в недалеком будущем вы будете тем же, чем и мы. В определенной степени вы будете порабощены после войны, будете рабами. Это будет неизбежно. Ведь вы одни выносите всю тяжесть войны, и это кое-кому очень не нравится. Ведь вы же будете слабыми, народ устанет от войны и жертв, хотя он и будет победителем.
Вы, русские, очень гордые, и это мешает вам оглянуться на прошлое и настоящее маленьких стран, вроде нас.
Оглянитесь на историю, вспомните, как после войны (имеется в виду первая мировая война. – Ред.) с нами поступили союзники, и сделайте выводы и для себя. Ведь к этому направлена политика ваших теперешних друзей» (архивное дело № 34467, л. 134).
В личном деле «Макара» (№ 30535) записано: «С 9 мая 1942 года по 7 апреля 1946 года находился в долгосрочной загранкомандировке в Тегеране сначала в качестве первого секретаря, а затем поверенного в делах СССР в Иране».
Государство Иран и его столица Тегеран вписаны в историю второй мировой войны одним значительным событием – 28 ноября – 1 декабря 1943 года там состоялась встреча глав государств антигитлеровской коалиции, на которой была принята Декларация о совместных действиях в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве трех держав, а также решение об открытии не позднее 1 мая 1944 года второго фронта в Европе.
Разведывательные службы фашистской Германии знали о готовящейся конференции и приняли соответствующие меры по ее срыву. Они намеревались уничтожить И. Сталина и У. Черчилля, а Ф. Рузвельта захватить живым. В Тегеран были заброшены пять опытнейших германских разведчиков, снабженных денежными и материальными средствами (золото, оружие, спецустройства и т. п.). Они создали сильную конспиративную прогерманскую группировку в правящих кругах Ирана и оборудовали военную базу в пустыне на территории одного из племен. Возглавлял эту работу доверенное лицо начальника 6 Управления бригаденфюрера СС Шелленберга Отто Скорцени. Тот самый Скорцени, который 25 июля 1943 года по личному указанию Гитлера освободил Муссолини, арестованного офицерами королевской гвардии Италии. Группу агентов в Иране возглавлял один из доверенных боевиков Скорцени – штурмбанфюрер Рудольф фон Пфлюг. Руководящее ядро немецких диверсантов периодически собиралось в доме иранского подданного Эбтехая, завербованного абвером, а позднее перевербованного разведслужбами союзников.
Планы гитлеровской разведки провалились – 2 декабря 1943 года в 6 часов утра пятеро немецких разведчиков были арестованы.
Павел Матвеевич Журавлев получил звание генерал-майора, а в его личном деле об этом периоде жизни осталась лишь скудная запись: «Раскрыл и предупредил о подготовке со стороны гитлеровской разведки террористического акта в отношении глав союзных держав антигитлеровской коалиции в Тегеране».
Вернулся П. М. Журавлев в Москву из Тегерана в апреле 1946 года. Его служебная характеристика пополнилась двумя лаконичными фразами: «Павел Матвеевич Журавлев, находясь в долгосрочной командировке, проделал большую работу: в 1944 году в сложных условиях создал новую резидентуру МГБ СССР, регулярно снабжавшую Центр ценными разведывательными материалами и активно работающую до настоящего времени.
Лично Журавлевым П. М. и сотрудниками руководимой им резидентуры завербован ряд весьма ценных агентов».
Товарищи и коллеги Павла Матвеевича тепло и с большим уважением отзывались о нем и о методах его работы с подчиненными. Вот что, например, писал ветеран службы внешней разведки Д. Г. Федичкин, работавший вместе с П. М. Журавлевым еще во второй половине 30-х годов, и в том числе в резидентуре в Риме: «Честность и справедливость были отличительными чертами Павла Матвеевича. Ему были чужды корыстные и эгоистические мотивы в отношении с людьми. Он прямо в глаза говорил правду, невзирая на лица. Не терпел карьеристов и двуличных людей, презирал тех, кто искал легкой жизни, выгод, не любил людей беспринципных, способных на ложь и обман. Он не скрывал и не преуменьшал недостатков и просчетов в работе, если они были.
По натуре Журавлев был мягким, вежливым и выдержанным человеком, таких называют «человечный человек». Однако он не терпел расхлябанности и недисциплинированности, был требователен, но его требовательность не была голым администрированием, действовал он методами разъяснения и убеждения. Я не знаю случая, чтобы он когда-либо повысил голос или вел себя грубо. Не терял он самообладания и в период осложнений и неудач».
Умер Павел Матвеевич в Москве в 1956 году и был похоронен со всеми воинскими почестями на одном из московских кладбищ.
Служба тесно переплела судьбы 3. И. Воскресенской и начальника Четвертого (диверсионно-разведывательного) управления МГБ СССР генерал-лейтенанта Судоплатова, его заместителя генерал-майора Эйтингона, полковника Мордвинова, ветерана разведки генерал-майора Зарубина. И хотя эти люди на работе, как говорится, вместе съели не один пуд соли, семьями они не дружили. Не было принято, не поощрялось. Тем не менее, в пятидесятые и последующие годы, Зоя Ивановна была очень близка с дочерью В. М. Зарубина, с сыновьями Мордвинова и Судоплатова и позднее, их семьями.
Мягкий свет от настольной лампы под большим зеленым абажуром выхватывает из полутьмы комнаты лицо моего собеседника, сидящего напротив в кресле. Правильные черты лица, густые, черные, не тронутые временем брови, мягкая, чуть застенчивая улыбка и внимательные карие глаза. Это Павел Анатольевич Судоплатов. Его спокойные руки лежат на набалдашнике трости, зажатой между колен.
Ровным, спокойным голосом Судоплатов рассказывает о своей жизни, полной радостных и горестных событий, как горный поток, несущий с собой живительную влагу и одновременно сметающий ненужное, слабое на своем пути.
«Родился я на Украине, в городе Мелитополе в 1907 году, – говорит он. – Семья бедная, многодетная, кроме меня еще четыре брата и сестра. Родители рано умерли». «Свою трудовую биографию, – смеется Павел Анатольевич, – я исчисляю с 26 июня 1919 года».
В этот день двенадцатилетний Павел Судоплатов с приятелем стояли в длинной очереди за хлебом и беззаботно болтали о мальчишеских пустяках. Неожиданно внимание горожан привлек цокот копыт по главной улице Мелитополя, звуки горна, развевающееся красное знамя и ряды конников. Через город шли конные части Красной Армии. Мальчишеский восторг не знал границ. И когда мимо проезжали полевые кухни, Павел бросил все – очередь за хлебом, семью, друзей и увязался за ними. Так оказался он в Одессе. Некоторое время беспризорничал, кормился случайными заработками. К середине 1920 года уже был дежурным телеграфистом в роте связи 41-й дивизии 14-й армии, помогал в ремонте телефонной линии.
К началу 1921 года полк передислоцировался в село Кочарово близ Радомышля, где вел боевые действия против вооруженных формирований украинских националистов. Пребывание в Галиции не прошло для Павла Анатольевича бесследно. За несколько месяцев он приобрел устойчивый украинско-галицийский акцент.
В то время, о котором идет речь, в 41-й полк из Киева приехал инспектор политуправления Киевского военного округа. Увидев Павла, он удивленно спросил: «А что здесь делает этот мальчишка?» – «Это помощник телеграфиста, – ответил дежурный офицер и убежденно добавил: – Очень способный паренек».
Это и определило дальнейшую судьбу П. А. Судоплатова. Его послали на учебу в Киев на курсы подготовки политработников, а после окончания учебы распределили на работу в политотдел 44-й дивизии в Житомире. 15 мая 1921 года из политотдела его перевели в особый отдел дивизии, где он выполнял мелкие поручения оперативного характера. Какое-то время Павел Судоплатов был в особом отделе «на подхвате» у возглавлявшего агентурную работу Лицкого.
«Решающую роль в моей судьбе, – смеется Павел Анатольевич, опираясь на набалдашник трости, – сыграл секретариат особого отдела». Это они обучили молодого человека печатанию на машинке и шифровальному делу, которое он быстро освоил.
Через некоторое время особый отдел 44-й дивизии слили с Житомирско-Волынским губернским отделом ГПУ и Павла Анатольевича включили в качестве шифровальщика в оперативную группу Б. А. Батажевича, которая занималась агентурной разработкой Волынской повстанческой армии, организованной украинскими националистами при поддержке белополяков, осевших на территории Украины.
В группе Батажевича, а затем уже вне ее П. А. Судоплатов работал в местечке Славута, в городах Яслов, Шепетовка, в родном Мелитополе и затем в Харькове, где в то время находилось Главное политическое управление Украины. И уже в конце 20-х годов он оказался в столице в качестве работника отдела кадров.
«В Москве, – рассказывает Павел Анатольевич, – я первое время занимался работой по формированию кадров центрального аппарата ОГПУ, и поэтому мне приходилось встречаться практически со всеми руководителями управлений и отделов, и в том числе с начальником ИНО Артуром Христофоровичем Артузовым».
На одной из таких встреч А. X. Артузов поинтересовался у Судоплатова, знает ли он украинский язык. Получив положительный ответ, Артузов предложил Судоплатову перейти на работу к нему в качестве оперативного уполномоченного, объяснив это тем, что работой по украинским националистам в ИНО занимается лишь одна женщина по фамилии Кулич, которая уходит на пенсию, и Павел, хорошо знающий украинский язык, мог бы ее заменить.
«Я, конечно, отказался, – улыбается Павел Анатольевич, – ссылаясь на то, что никогда не работал в ИНО и не имею об этом ни малейшего представления, но Артур Христофорович настаивал, и я согласился».
В комнату, где я беседовал с Павлом Анатольевичем, вошел его сын Анатолий Павлович – преподаватель МГУ и пригласил к накрытому для чая столу. Приступая к трапезе, я не удержался от колкостей: много раз, мол, приходилось пить чай с различными известными людьми, но впервые стол сервирует профессор, доктор экономических наук. Судоплатов-младший только улыбнулся.
«Первым моим начальником, – продолжает свой рассказ Павел Анатольевич, – был Андрей Павлович Федоров.
– Да, да, – уточняет Судоплатов, – тот самый Федоров, который вместе с Артузовым провел дело Савинкова – самую крупную в истории ОГПУ агентурно-оперативную разработку. Работать при нем было очень интересно». И задумался…
Затих и я. И чем чаще встречался я с П. А. Судоплатовым, тем больше изумлялся… Человек-легенда. В истории нашей разведки за период с 1929 по 1953 год практически нет ни одного значительного эпизода оперативного характера, с которым так или иначе не связано имя Судоплатова. В 1937 году непродолжительное время он исполнял обязанности начальника ИНО, затем после нескольких закордонных командировок (1936 – 1938 гг.) в качестве нелегального сотрудника П. А. Судоплатов до начала войны был заместителем начальника ИНО.
5 июля 1941 года его назначают начальником отдела (а впоследствии управления), который занимался организацией партизанского движения и диверсионной работой в тылу врага. Борьба с оуновским подпольем на Украине до войны и после нее, борьба с троцкизмом в 1930 – 1938 годах, крупнейшие оперативно-тактические игры второй мировой войны «Монастырь» и «Березино» и, наконец, организация работы по производству атомного оружия в Советском Союзе – все это напрямую связано с именем П. А. Судоплатова. Ему приходилось несколько раз встречаться с И. В. Сталиным для обсуждения вопросов оперативно-политического характера.
В 1953 году после смерти Сталина Судоплатов как «пособник Берия» был арестован и осужден на 15 лет. Закрытый суд над ним проходил под девизом «Ни слова о Хрущеве».
Все 15 лет заключения во Владимирской тюрьме П. А. Судоплатов вел борьбу за свое освобождение и реабилитацию.
Слишком трудно вместить жизнь легендарного человека в несколько строк. Невольно приходится выбирать лишь основное, главное. Размышляя об этом периоде истории внешней разведки в связи с именем П. А. Судоплатова, я отметил, что из всей богатой событиями его жизни четко выделяются три периода: первый – непосредственное участие в качестве нелегального сотрудника в борьбе с оуновским подпольем, а в дальнейшем руководство этой работой; второй – организация и руководство партизанским движением и диверсионной работой в тылу врага и третий – контроль и оказание помощи в производстве атомного оружия в нашей стране.
Вопрос борьбы советской власти с украинскими националистами – сложен и многогранен. Прежде всего отметим неоднородность социальной среды. Если рядовые члены ОУН были искренними сторонниками национальной независимости Украины, то их главари – фашистскими ставленниками, получавшими от Гитлера моральную и материальную поддержку.
К середине 30-х годов организация украинских националистов (ОУН) по сути выполняла роль спецслужбы украинского правительства в эмиграции, была укомплектована офицерами австрийской армии и немецкими офицерами. Финансировалась абвером. Ее лидер Евгений Коновалец неоднократно встречался с Гитлером. В нацистской высшей партийной школе в Берлине несколько мест было «забронировано» для членов ОУН. Штаб-квартира ОУН располагалась в Берлине под вывеской этнографического музея, а ее филиалы находились во многих европейских столицах, в США, на Дальнем Востоке.
Надо сказать, что украинские чекисты в 1921 году вышли на человека, который был оставлен Коновальцем для нелегальной работы на Украине. С его помощью в Москве решили расколоть ОУН изнутри.
Эта задача была возложена на «Андрея» – Судоплатова. После непродолжительной, но очень интенсивной подготовки его нелегально перебросили через финскую границу и внедрили в ОУН как племянника лидера организации на территории СССР. Постепенно он сумел войти в доверие и к Коновальцу.
Работа корабельного радиста давала Судоплатову возможность периодически бывать на Родине. Впервые он вернулся летом 1937 года.
– К тому времени, – говорит Павел Анатольевич, – игра с ОУН велась уже более двух лет. Встал вопрос, что же делать дальше. Обсуждался он и на комиссии ЦК ВКП(б), на которой заслушивали также и меня.
Вскоре после той комиссии Ежов впервые привел Судоплатова к Сталину.
– Я растерялся, долго не мог взять себя в руки, – вспоминает Судоплатов. – Начал что-то лепетать о том, какая честь для любого коммуниста, члена партии увидеть товарища Сталина. Ежов молчал, как воды в рот набрал.
– Мне нужны факты, предложения, – прервал Сталин. – Поезжайте в Киев, посоветуйтесь с украинскими товарищами, проработайте этот вопрос и через неделю доложите мне.
Вторая встреча со Сталиным произошла у Судоплатова в самом конце того же года. В тот день в кабинете у вождя был председатель ЦИК Украины Петровский.
Судоплатов начал доклад с предложения об использовании своих каналов с ОУН для дальнейшего проникновения нашей разведки.
– Неправильно мыслите, – раздраженно перебил Сталин. – Пусть эти убийцы, которые начали грызню между собой, до конца перебьют друг друга.
К тому времени внутри ОУН разгорелась настоящая драка. В 1936 году осмелившийся выступить против Коновальца один из руководителей ОУН Костырев и его группа исчезли. Были стычки у Коновальца и со Степаном Бандерой, который против воли первого организовал убийство министра внутренних дел Польши генерала Бронислава Перацкого.
– Подумайте, как обезглавить ОУН. Эта акция не должна стать просто местью вешателю рабочих киевского «Арсенала», – сказал Сталин. – Подумайте над его слабостями. Он, кажется, любит конфеты?
А вскоре в Роттердаме в кафе «Атланта» «Андрею» вручили большую коробку конфет в красивой упаковке с украинским орнаментом.
– Когда я взял ее в руки, у меня все как будто оборвалось внутри, – рассказывает Павел Анатольевич. – Подарок для Коновальца был уже «заведен». А везти эту коробку предстояло через весь город. В трамвае я даже поближе сел к полицейскому – очень боялся, что какие-нибудь воришки вырвут из рук.
– С Евгением Коновальцем мы встретились, как обычно, в одном ресторане около полудня. При встречах мы подолгу спорили о методах «нашей борьбы» с большевиками. Коновалец словно был одержим идеей террора. Он считал, что, только утопив советскую территорию в крови, можно добиться независимости Украины.
Поговорили. Решили встретиться еще раз вечером. На прощание Судоплатов вручил лидеру ОУН большую коробку конфет.
– Взрыва я не слышал, – говорит Павел Анатольевич, – в тот момент я как раз зашел в магазин купить шляпу, чтобы хоть как-то сменить внешность. Но увидел, как в ту сторону, откуда я пришел, побежали люди.
Интересно, что после гибели Коновальца оуновцы, разумеется с нашей подачи, распространили несколько версий этого убийства. Одна из них «свидетельствовала», что лидер ОУН пал жертвой немцев, гестапо, поскольку Берлин был недоволен выходом Коновальца из-под контроля. По другой версии – его убили польские спецслужбы. Не исключали конечно же и руку Москвы.
Так уж сложилась судьба у Судоплатова, что борьба с украинским национализмом стала одним из главных направлений его деятельности – и как «рядового» разведчика, и как одного из руководителей советской разведки. Его борьба с ОУН не закончилась уничтожением Коновальца. Во время войны и в первые послевоенные годы уже в качестве начальника Четвертого управления МГБ он будет лично руководить разгромом националистического подполья на Западной Украине.
В декабре 1938 года угроза ареста нависла и над Судоплатовым.
– На партсобрании поставили вопрос о моей связи с арестованными руководителями разведки, в том числе с Балицким, Горожаниным, благодаря которым я оказался в свое время в Москве, – вспоминает Павел Анатольевич.
Вскоре на заседании партбюро принимается почти единогласно (воздержался только что возглавивший разведку П. М. Фитин) решение об исключении из партии.
До очередного партийного собрания, которое наверняка утвердило бы решение партбюро, оставалось несколько дней. Ну а потом, конечно, неизбежный арест.
И вдруг – вызов к Берия.
– Мне докладывают, что вы ни черта не делаете. Хватит валять дурака. Едем сейчас же в ЦК, – заявил тот.
В машине Лаврентий Павлович не проронил ни слова. Но Судоплатов понял: снова едут к Сталину.
– Докладывайте вопрос, – тихо обратился Сталин к Берия.
– Товарищ Сталин, после вашего указания мы разоблачили тех, кто обманывал партию. Сегодня мы решили обновить руководство разведкой, укрепить наши агентурные позиции за рубежом…
– Сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы обезглавить троцкистов, – прервал Берия Сталин. – Надвигается война, а они работают зачастую с немцами, заодно с ними. Вам, товарищ Судоплатов, мы поручаем лично возглавить и провести эту операцию. Выезжайте на место, подбирайте людей, партия никогда не забудет тех, кто будет участвовать в этой операции, и навсегда обеспечит их самих и их детей. Вы назначаетесь заместителем начальника разведки для того, чтобы использовать весь потенциал разведывательных органов как военных, так и по линии НКВД. Но помните: вся ответственность целиком ложится на вас. Мы спросим с вас.
В тот же день был подписан приказ о назначении. Вместо изгнания из партии и ареста Судоплатов получил звание майора государственной безопасности. С только что вернувшимся из-за границы Эйтингоном он приступил к работе. Спустя три месяца появился план операции под кодовым названием «Утка».
– Было принято, – говорит Судоплатов, – беспрецедентное решение: моему заместителю Эйтингону разрешили действовать абсолютно самостоятельно с правом выбора и вербовки агентуры без согласования и без санкции Центра. Ему под личную отчетность выделялась астрономическая по тем временам сумма – триста тысяч долларов.
– О том, как убивали Троцкого, сегодня известно достаточно хорошо, и наверняка нет смысла повторяться, – говорит Павел Анатольевич. – Скажу лишь, что, когда первая попытка провалилась, я пережил немало волнений.
Берия узнал о провалившейся попытке из сообщений ТАСС и вызвал Судоплатова к себе на дачу в Петрово-Дальнее. Когда тот приехал, Берия обедал вместе со своими заместителями Кругловым и Серовым. Прервав обед, он вышел к Судоплатову, чтобы проанализировать причины неудачи.
Потом они вместе поехали к Сталину, который после долгого разговора согласился разрешить Эйтингону использовать другой вариант. На этот раз операция прошла успешно.
Разумеется, деятельность заместителя начальника разведки Судоплатова в то время не ограничивалась лишь руководством операцией «Утка». Он вошел в курс многих тайных дел, осуществление которых Сталин доверял разведке.
– В сентябре тысяча девятьсот тридцать девятого года, – рассказывает Павел Анатольевич, – к нам в плен попал польский князь Радзивилл. С ним в тюрьме работал сидевший там «враг народа» Зубов.
Засыпанный просьбами европейских монарших семей, Сталин согласился отпустить представителя древнего и знатного польского рода восвояси. Но перед тем как сесть в международный вагон и отбыть в уже охваченную пламенем второй мировой войны Европу, князь Радзивилл встретился с Берия.
– Нам нужны такие люди, как вы, князь, – говорил на прощание Берия.
– Мы держали его для чего-то экстраординарного, – вспоминает Судоплатов. – В тысяча девятьсот сорок втором году, в частности, планировали устроить покушение на Гитлера с участием князя Радзивилла. С этой целью в Берлин была направлена группа наших диверсантов во главе с Миклашевским.
Но Сталин отменил эту операцию. Он считал, что устранение Гитлера откроет дорогу к власти в Германии фон Папену, и тогда американцы и англичане наверняка заключат с Германией сепаратный мир и оставят его с носом.
– Так что князя Радзивилла, насколько мне известно, мы так и не смогли ни разу по-крупному задействовать, – замечает Судоплатов.
17 июня 1941 года после доклада начальника ИНО Фитина о подготовке немцев к войне, встреченного Сталиным с большим раздражением, Берия тем не менее сумел получить разрешение на дополнительные меры по линии разведки. Судоплатову по указанию ЦК ВКП(б) было поручено создать и возглавить особую группу НКВД СССР.
– Двадцать первого июня я засиделся допоздна на службе, – вспоминает Судоплатов. – Было уже глубоко за полночь, когда меня вызвали к наркому госбезопасности. Обычно очень уравновешенный и спокойный, на этот раз Меркулов был не в себе.
– Война началась, – произнес он и подал несколько листков бумаги с донесениями от пограничников. – Немедленно поднимайте всех, кто у вас есть. Подбирайте конспиративные квартиры. Сотрудников перевести на казарменное положение.
– Пятого июля тысяча девятьсот сорок первого года был подписан письменный приказ о моем назначении и создании особой группы, – продолжает Павел Анатольевич. – Первым делом мы начали формирование парашютно-десантного подразделения. В него принимали комсомольцев, спортсменов, а также многих иностранцев-коммунистов. Тринадцатого октября особая группа в связи с расширением объема работ была реорганизована во второй отдел НКВД СССР, а потом, в тысяча девятьсот сорок втором году – в Четвертое управление НКВД – НКГБ СССР.
– С началом войны, – говорит он, – многое изменилось. Берия понимал, что нужны люди. Грамотные, опытные. Многие из них сидели в тюрьмах и лагерях.
В июне 1941 года на стол Берия Судоплатов положил первый список специалистов, которых предлагал освободить. 60 человек.
– И вот что удивительно, – рассказывает Судоплатов. – Берия не только не спросил, виноваты эти люди или нет, он лишь скользнул по списку взглядом.
– Они все вам нужны? Тогда забирайте, – произнес Берия, подписывая его.
– Действовала логика преступного рационализма внутреннего террора. Если режиму были неугодны те или иные люди, их просто убирали, убивали, сажали в тюрьмы, лагеря. Но вот началась война. Снова нужны люди, и их выпускают. Виновен ты или нет, никого не волновало. Главное – ты нужен в данный момент.
Понимали это люди? Кто знает? Но выпущенные на свободу, они работали не покладая рук, часто рискуя жизнью. О размахе и действенности особой группы Четвертого управления говорят хотя бы такие цифры и факты. 22 подчиненных Судоплатова получили звание Героя Советского Союза. Среди них известные имена: Н. Кузнецов, Д. Медведев, К. Орловский, С. Ваупшасов, В. Карасев, А. Шихов, Е. Мирковский. Несколько тысяч награждены орденами и медалями. Сам Павел Анатольевич и его заместитель Наум Эйтингон были удостоены орденов Суворова. Только они двое из всей разведки получили полководческую награду. И это не случайно. Ведь на счету разведчиков Судоплатова участие в таких операциях, как «Рельсовая война», «Цитадель», «Концерт» и других.
Многие из них хорошо известны. Но есть и такие, которые еще не стали достоянием широкой гласности.
– Пожалуй, самой захватывающей, – говорит Судоплатов, – была начатая осенью тысяча девятьсот сорок первого года агентурная разработка, получившая впоследствии кодовое название «Монастырь». Ее готовили начальник отдела моего управления Маклярский и оперработник Ильин. По сути, она продолжалась всю войну. Главным действующим лицом был принадлежавший к театральной богеме Москвы Александр Демьянов (агентурный псевдоним «Гейне»). Происходил он из родовитой дворянской семьи, к тому же имел немецкие корни. Его прадеду, как одному из видных деятелей кубанского казачества, был поставлен памятник на Кубани. Кроме того, его дядя в свое время работал в белогвардейской контрразведке, позднее был разоблачен как шпион и сослан в Сибирь, где потом и скончался.
В самом конце тысяча девятьсот сорок первого года «Гейне» перебросили через фронт. Причем чуть было не потеряли его в самом начале операции, так как наши саперы неправильно указали место для перехода линии фронта. «Гейне» пошел «сдаваться» по минному полю… И узнал об этом, лишь когда ему закричали из немецких окопов.
– Переход по минному полю произвел, – говорит Павел Анатольевич, – на немцев впечатление. Хотя поверили они ему лишь после нескольких проверок.
Вскоре абверовцы решили использовать в своих целях «представителя монархической группы в Москве» – именно так «Гейне» представился им. В результате «Макс» – так называли его немецкие разведчики – снова оказался в Москве. «Выполнял» задания врага, разумеется, под нашим контролем. По ходу игры с немцами «Гейне» докладывал своим «хозяевам», что ему удалось внедриться в качестве офицера-порученца в окружение маршала Шапошникова. А после смерти Шапошникова его «оставил» при себе вновь назначенный начальник Генерального штаба Красной Армии Василевский. Несколько военных лет наша разведка «кормила» Берлин умело составленной стратегической дезинформацией – смесью правды и лжи.
После войны Шелленберг и Гелен писали в своих воспоминаниях о внедренном ими в советский Генштаб агенте, который давал чрезвычайно важную информацию.
Еще в 1939 году наша разведка получила сведения о том, что за рубежом ведется разработка атомного оружия. Вскоре Центр направил ориентировки, нацеливавшие советские резидентуры в США, Англии и в ряде других стран на добывание сведений по этой проблеме. В сентябре 1940-го наши разведчики в Лондоне сумели получить научную документацию, в которой обосновывалась необходимость создания критической массы для производства супероружия.
В марте 1942 года Берия докладывал Сталину о развернувшихся в США работах по практическому созданию атомного оружия. На основании этого сообщения решением ГКО (Государственного Комитета Обороны) была создана лаборатория № 2 под руководством Игоря Курчатова. В 1943-м правительство приняло решение об организации в недрах разведки группы «С», которой поручено заниматься добыванием информации с целью использования ее создания атомной бомбы в СССР. Возглавил эту работу, так сказать по совместительству, генерал Судоплатов. Одновременно было создано так называемое «второе разведывательное бюро» в правительственном спецкомитете по атомной проблеме, которое объединяло усилия военной разведки и НКВД – НКГБ. Группа Судоплатова просуществовала всего год, затем «атомные дела» были переданы в ведение управления «Т» – техническая разведка. В США по линии разведки разработкой этого направления занимался Григорий Хейфец, который позднее стал одним из создателей американской коммунистической партии. «Наши разведчики, сумевшие выйти на видных западных ученых-атомщиков, организовали буквально поток научной информации в Москву, – вспоминает Павел Судоплатов. – Надо сказать, что Ферми, Нильс Бор, Эйнштейн и другие видные ученые понимали опасность появления атомного оружия и поэтому считали необходимым создать равновесие сил».
По сути, это был международный заговор ученых, в котором приняла участие и советская разведка. Ее роль, по мнению Судоплатова, заключалась в содействии воспитания в среде западных ученых-атомщиков убежденных пацифистов-космополитов, стремящихся спасти мир от ядерной войны.
«Атомная команда» Судоплатова сумела добыть в тот период сведения о расположении исследовательских центров, секретные публикации научных работ, досье на ученых. Информация, которая проходила по его линии, убедила Сталина и советское руководство в серьезности намерений США создать атомную бомбу, а позднее, – в «ядерной готовности» Вашингтона, что заставило советских ученых существенно изменить направление отечественных ядерных исследований. «В Центр, – вспоминает Судоплатов, – поступило описание первой атомной бомбы. К середине июля 1945 года стало известно о готовящемся взрыве ядерного устройства». Таким образом Сталин, по утверждению Павла Анатольевича, был информирован об американских ядерных проектах много раньше, чем ему сообщил об этом президент Трумэн.
Арест Берия был словно гром среди ясного неба. В сложной кремлевской интриге казавшийся всем простаком Никита переиграл хитрого Лаврентия.
– Для многих сегодня, – говорит Павел Судоплатов, – имя Берия связано с чем-то чрезвычайно зловещим в истории нашей страны. Действительно, человек, долгие годы возглавлявший тайную полицию, и не может выглядеть иначе. Тем более что на его совести очень много крови. Но нельзя не отметить и то, что из всего кремлевского окружения Сталина Берия был, на мой взгляд, наиболее динамичным, компетентным руководителем. Возглавляя службу безопасности НКВД, он отвечал еще за многие направления, в том числе за создание атомного оружия, оборонный комплекс.
По мнению Судоплатова, многие реформы, которые позже были представлены как идеи Хрущева, первоначально разрабатывались Берия.
Даже после ареста Берия в июне 1953 года Хрущев не чувствовал себя до конца победителем. Поэтому он наносит удар по «органам». Ему необходимо избавиться от лишних и крайне нежелательных свидетелей, знавших настоящую цену Хрущеву, понимавших, что он повинен в репрессиях 30 – 40-х и начала 50-х годов не меньше, чем кто-либо другой из сталинского окружения. Впрочем, иначе выжить в то время было просто невозможно. Проявить совестливость, сжалиться хотя бы над одним невинным человеком, даже своим близким, означало обречь на верную гибель и себя, и свою семью.
– Именно Хрущев, – подчеркивает Судоплатов, – был инициатором массовых выселений из западных областей Украины. Сохранились документы, письма, подписанные им и министром госбезопасности Украины Савченко, в которых обосновывалась «необходимость» массовых репрессий, говорилось, что проведение таких мероприятий целесообразнее поручить украинским чекистам. Правда, самостоятельно Киев так и не сумел с этим справиться. И в конце концов пришлось обратиться за помощью в Москву.
Излишняя информированность чуть было не стоила Судоплатову жизни. В списке арестованных руководителей госбезопасности и разведки его имя стояло в списке под номером восемь. Первые семь человек из этого ряда были расстреляны очень быстро. Хрущеву надо было спрятать концы в воду, поэтому он спешил избавиться от тех, кто слишком хорошо знал о его грехах.
Что помогло выстоять генералу Судоплатову в тюрьме, не сломаться?
– Прежде всего поддержка семьи, – говорит Павел Анатольевич. – Жене, она тоже работала в разведке, удалось завербовать несколько человек из охраны.
Но главное, она сумела заполучить себе в союзницы одну из тюремных медсестер. Благодаря ей и удалось выходить Судоплатова после голодовки, после того как в тюрьме ему перебили шейный позвонок.
Когда в октябре 1964 года Никиту Хрущева свергли, стараниями Анастаса Микояна первым амнистировали его родственника Людвигова, работавшего в секретариате Берия. Появилась надежда на пересмотр дела Судоплатова. К 20-летию Победы группа чекистов подписала письмо новым кремлевским лидерам с просьбой о реабилитации Судоплатова. Бумага легла на стол Леониду Брежневу. «Не суйтесь не в свои дела», – такую резолюцию поставил Генсек ЦК КПСС на просьбе чекистов.
Через год было написано еще одно письмо, которое подписали более 40 старых чекистов. Среди них – Зоя Рыбкина, Рудольф Абель, другие. В нем приводятся факты, свидетельствующие о невиновности Судоплатова, показывающие, что дело от начала до конца сфальсифицировано. Однако и ему не дают ход. В конце концов по письму Прокуратуры СССР и КГБ в 1966 году в ЦК КПСС принимается решение – «освободить досрочно», когда Судоплатову оставалось сидеть еще два года, но в декабре того же года по неизвестным причинам это решение отклоняется. И Судоплатов остается в заключении до окончания своего 15-летнего срока.
Борьба за восстановление его доброго имени началась в 1960 году и продолжалась более тридцати лет. Только в конце 1991-го Судоплатов был реабилитирован. Полностью.
Как я уже упоминал, заместителем П. А. Судоплатова был не менее легендарный разведчик, генерал-майор Наум Исаакович Эйтингон. (Известен также как Леонид Александрович Наумов и Леонид Александрович Эйтингон.)
Родился в еврейской семье в 1899 году в Могилеве, умер в Москве в 1981 году. В ВЧК поступил в 1921 году по личной рекомендации Ф. Э. Дзержинского, который знал его еще как члена партии эсеров.
С 1925 по 1927 год Эйтингон находился на разведывательной работе в Китае. По дороге в Харбин познакомился с Ольгой Георгиевной Васильевой (первой женой В. М. Зарубина), которая вместе с пятилетней дочерью Зоей уехала вместе с ним в Пекин. С 1928 по 1931 год вместе с Ольгой Георгиевной и приемной дочерью находился в Турции, где выполнял разведывательные задания.
Эйтингон – непосредственный руководитель и организатор убийства в Испании Льва Троцкого по заданию Сталина. В начале Великой Отечественной войны стал заместителем Судоплатова – начальника Четвертого управления НКВД по организации партизанского движения в тылу врага и проведению диверсионных операций. До этого времени его знали как Леонида Александровича Наумова. В 1941-м лично Берия приказал ему носить настоящую фамилию. С тех пор он известен как Леонид Александрович Эйтингон.
В конце октября 1951 года Эйтингон был арестован и содержался во Владимирской тюрьме до марта 1953 года. После смерти Сталина освобожден. В июле 1953 года по указанию Н. С. Хрущева вновь помещен в ту же тюрьму как пособник Берия. Освобожден из-под стражи в 1963 году, реабилитирован в 1990 году посмертно.
Много раз беседовал я с дочерью Зарубина Зоей Васильевной. Перед вами почти дословный ее рассказ об отце, Василии Михайловиче и отчиме Леониде Александровиче Эйтингоне.
«В семье моего отца было четырнадцать человек детей. Когда они стали взрослыми, в живых остались четыре сестры и два брата. И все в той или иной форме были связаны с работой в органах государственной безопасности. Его сестра Анна Михайловна работала во втором отделе много лет и дослужилась до звания подполковника. Брат Сергей Михайлович работал в Московском управлении. В первые месяцы войны он выполнял какое-то оперативное задание и погиб.
И вот папа – Василий Михайлович был участником Гражданской войны, освобождал Дальний Восток. Знаю, что там одна деревня носит его имя. Затем во Владивостоке отец был заместителем начальника губернской ЧК.
Я родилась в 1920 году.
Помню, как мы с мамой ехали к нему на Дальний Восток в каких-то теплушках. Отец очень меня любил. Он был очень спортивный человек и однажды решил научить меня плавать. К ужасу моей мамы, он взял маленький челночок, и мы решили в бухте Золотой Рог немного поплавать. И вот, когда мы были на глубоком месте, он сознательно бросил меня в воду.
Вообще отец был очень добрый человек и до глубины души русский. Конечно, по работе он носил различные личины, но когда приходил домой, просил щи, словом, любил простую русскую еду. Потом играл на балалайке весь свой репертуар.
Более четко я помню Харбин. Естественно, мне трудно сказать, какую функцию он там выполнял. Мы жили в гостинице, другой квартиры не имели. К отцу приходило много друзей. Все они мне известны как чекисты, фамилии, конечно, забыла. К сожалению, они погибли в 30-х годах, были репрессированы. Помню только Павло Грозовского.
Не знаю, как случилось, что мои родители разошлись. Это примерно в 1925 – 1926 годах. Отец уехал в Москву. Мама тоже собиралась к отъезду, но встретила Эйтингона и вместо Москвы отправилась вместе с ним в Пекин. Он – Наум Исаакович Эйтингон. Но когда мы его встретили, его знали как Леонида Александровича Наумова. Он был чудесный человек и очень хорошо ко мне относился. У них через девять месяцев, как и положено, появилась моя сестренка Светлана. Родилась она в Пекине, но в документах значится, что в Москве.
Семья у нас была смешанная. И Леонид Эйтингон, и вторая жена папы Лизочка (Елизавета Юльевна) ко мне очень хорошо относились. С 1931 года мы жили в первом кооперативном доме во 2-м Троицком переулке в Москве. Это было уже после возвращения из командировки в Турцию. Часто ездили на дачу в Плющево, где я родилась.
Поскольку я с папой встречалась временами, то о той работе, которую он выполнял, я узнала только тогда, когда сама стала работать в органах госбезопасности. Есть один момент, который мне кажется важным – у нас в семье, и у отца, и у Леонида, не положено было говорить об оперативной работе. Лишь изредка, вскользь, обмолвившись.
Итак, о моем папе – мы виделись периодически. Мне хотелось бы отметить – папа очень меня любил, всегда поддерживал во мне стремление стать спортсменкой. А я в то время была и чемпионкой Союза, и чемпионкой Москвы, и мастером спорта по легкой атлетике. В 1934 году стала одним из основателей общества «Юный динамовец». Понимая, что папа находится на нелегальной работе, я была очень тронута, когда вдруг в 1939 году он сумел негласно приехать в Москву и поздравить меня с окончанием школы. У нас был очень душевный разговор. Впервые я попала в гостиницу «Москва», в ресторан. Во время этой беседы папа спросил меня: «Дочка, ну и кем же ты хочешь стать?» Я ответила: «Конечно, разведчиком». Отец недовольно посмотрел на меня и заметил, что хватит в нашей семье разведчиков, тогда уж лучше иди в институт физкультуры. А я поступила в Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ). Поскольку я окончила школу с отличием, то в институт была принята без экзаменов. Я проучилась там два года на историческом факультете.
Летом сорокового года я встретила школьного товарища Василия Михайловича Минаева. И он был такой молодой, красивый, мы вспомнили школу, в общем, он вскружил мне голову. И в сентябре я вышла замуж. Отец устроил по тем временам необыкновенную свадьбу. Он снял с петель дверь и сделал из нее большой стол. Гостей собралось человек сорок. Были сосиски, и было все, что надо. Папа был вообще человек широкой натуры. И Михаил Кузьмич Минаев (отец моего мужа) тоже человек широкой натуры и тоже чекист. Дочка моя Татьяна родилась 2 июня 1941 года. Я помню, как по этому поводу Зоя Ивановна Рыбкина сказала: «Что же ты сделала со своей матерью, в сорок лет превратила ее в бабушку?!»
Папа снял нам дачу, чтобы мы могли побыть с ребенком на свежем воздухе. И вот как раз на другой день переезда на дачу старушка, которая у нас была няней, бежит и что-то кричит. Я подумала, наверное, что-то случилось с ребенком, который лежал в коляске на улице. Мы вернулись, а в это время шло выступление по радио Молотова о нападении Германии на Советский Союз. Посидели, няня Таня рассказала про ужасы первой мировой войны, и через несколько часов муж уехал в Москву.
В годы войны я видела отца опять-таки урывками. Однако я хорошо помню, как он в 1939 году вернулся из длительной командировки и привез с собой моего брата Петю, который ни одного слова не говорил по-русски. И поскольку я знала немецкий язык, мне приходилось разговаривать с ним по-немецки и быть у него переводчиком. Помню, как папе выделили первую в жизни квартиру на втором этаже на улице Кропоткинской. И отец заявил: новой мебели мне не давайте, только самое необходимое, а то выкину ее в окно. Папа взял бабушку Прасковью Абрамовну к нам в дом. Вот это был образец нормальной хорошей семьи. С одной стороны – русская ветвь, много родственников, с другой стороны – еврейская, тоже много родственников, и все жили очень дружно. Эта бабушка по линии Лизочки – Елизаветы Юльевны Розенцвейг.
У папы, как я уже сказала, было четыре сестры: Шура, Варвара, Анна и Олимпиада. Сергея, как я отмечала, к этому времени уже не было. И вот интересно, когда бабушка, папина мама, умирала, ей было уже больше девяноста лет, она говорит мне: «Послушай, я хочу тебе сказать. Ты там, кажется, какой-то партийный бог. Я всю жизнь прожила с вами, антихристами. Меня Господь Бог не примет. Так уж ты, пожалуйста, собери всех родственников, чтобы пришли, когда отпевать будут». Похоронили бабушку на Калитниковском кладбище в Москве. Там ее мать покоилась. И папа просил похоронить его рядом с матерью. Когда уходила из жизни наша Лизочка, она тоже просила не разлучать ее с мужем. Она умерла в 1987 году восьмидесяти семи лет ужасной смертью, попав под автобус. Когда папа был в Америке, я ничего не знала о его работе. И уже когда сама имела отношение к переводам документов о производстве атомного оружия, то от товарищей узнала, что папа был с этим непосредственно связан. После возвращения из Америки в нашем доме всегда было много людей. Помню, что отец очень переживал, когда узнал, что Лизочку увольняют с работы. Он понимал, по какой причине, пошел и устроил там шум. Он сказал: «Я не понимаю, когда человек, моя жена и спутница жизни, выполняла оперативные задания наравне со мной, она вам была нужна?! Тогда вы не обращали внимания на ее биографию и ее национальность!» Папа говорил очень резко. Думаю, именно по этой причине очень скоро за этим протестом последовал его уход на пенсию. И это он переживал очень тяжело, жизнелюбивый, образованный, многоопытный человек, любящий Родину, желающий и умеющий много сделать для пользы своей страны, остался не у дел. Это было невыносимо. Позднее папа стал председателем федерации тенниса в обществе «Динамо». Он прекрасно играл, за границей на нелегальной работе ему часто приходилось заниматься теннисом.
И вот еще что! Когда в 1930-е годы начались репрессии, однажды папа пришел и сказал: «Господи, меня бы, что ли, посадили, а то жены моих сослуживцев плюют мне в лицо: что ж ты, сукин сын, ходишь по Улице, когда наших мужей нет». Я знаю, что после возвращения из Штатов и на него был наговор, и он прошел через ряд чистилищ. И все это он выдержал, потому что нашел свою нишу. Он знал, что России нужно служить верой и правдой.
Когда начался 1953 год, папу очень активно теребили. Он говорил, что как на работу ходил в ЦК партии. И писал там характеристики на многих чекистов, которые сидели. И надо сказать, что наш дом превратился в перевалочный пункт. Возвращались люди из тюрем, им показывали оправдательные характеристики, которые на них писал отец, и многие бывали у нас. Отец заражал их энтузиазмом и радостью возвращения. Я помню одного – это был Михаил Боровой, крепкий, сильный, мужественный человек.
Когда в 1953 году, после смерти Сталина, Судопла-тову было дано оперативное задание, суть которого я не знаю, скорее всего речь шла о создании нового подразделения, он пригласил на работу папу, Лизочку и Эйтингона, который на несколько месяцев обрел свободу. Было создано объединение ветеранов, опытных чекистов. Но просуществовало оно всего несколько месяцев. После ареста Берия Судоплатов и Эйтингон были объявлены его прихвостнями и посажены в тюрьму (Эйтингон второй раз).
Хочется рассказать еще один эпизод из жизни папы. Приближалось пятидесятилетие ВЧК. Составлялись списки на награды. Многие считали, что Василий Михайлович Зарубин достоин высшей степени отличия за заслуги перед государством. В списке на присвоение звания Героя Советского Союза папа стоял первым. Но когда этот список попал в высшие инстанции, его внимательно изучил Суслов и сказал: «Не понимаю, как человек такого возраста может быть Героем Советского Союза?» И папу из этого списка вычеркнули. И, как обычно бывает в этой бюрократической среде, исключили его сверху и не позаботились о достойной замене. И когда было торжественное заседание в Кремлевском Дворце съездов, выяснилось, что Василий Михайлович из всех чекистов, которые выжили в эти сложные времена, один из наиболее видных сотрудников, которые были приглашены в президиум, не получил вообще никакой награды. Позднее С. А. Кондрашев, который к тому времени был, кажется, заместителем начальника ПГУ, принес ему домой орден, не помню, какой – Красной Звезды или Ленина. Тогда собрались все члены семьи, были папины сослуживцы Громушкин, Корзников, еще кто-то.
Рассказывая о папе, я не могу умолчать о нашей замечательной Лизочке. Язык у меня не поворачивается назвать ее мачехой. Это была не только любящая жена, но и добрый, чудесный человек. И я горжусь тем, что уже после смерти отца мы с ней долгие годы поддерживали самые нежные, родственные отношения.
Когда вышло постановление ЦК партии о том, что нужно писать о разведке, нашли Зарубина и поручили тогдашнему секретарю партийной организации Союза писателей Тевекеляну написать роман на основе папиной биографии. И в это время он часто бывал у нас дома. Папа рассказывал о своей жизни, уточнял некоторые моменты оперативной работы. Там несколько иначе прописаны семейные отношения, но, во всяком случае, довольно точно. А недавно мне показали книгу Феклисова, в которой несколько страниц тоже посвящены папе. Они работали вместе в США. И я горжусь тем, что у меня был такой отец. Он служил всегда честно, никогда не был формалистом и, конечно, некоторые люди пользовались этим. Когда папа умер, попрощаться с ним пришел Юрий Владимирович Андропов. Он стоял в почетном карауле, потом подошел к нам и сказал, что страна потеряла большого разведчика, но по оперативным соображениям нельзя пускать всех, кто хотел бы быть на его похоронах. Мне было приятно, что таким образом была дана высокая оценка жизни моего отца, который не представлял ее иначе, как служение делу, которому он принадлежал.
Я забыла сказать, что папа всегда стремился к знаниям. Но его отец умер, когда мальчику было 14 лет, и он вынужден был, как старший в семье, кормить ее. Поэтому он бросил учебу и у него было начальное образование. Когда на партийных конференциях он заполнял анкету, к нему обычно подходили и говорили: «Товарищ генерал, вы ошиблись, вместо высшего образования написали начальное». Он отвечал: «Здесь все верно, я имею начальное образование и два года церковноприходской школы. Я даже в хоре пел церковном».
Мама мне рассказывала, что во время Гражданской войны было очень голодно, и папа приспособился к каким-то группам, вместе составляли творческие бригады, выходили и пели. Папа играл на балалайке. Виртуозно. А за труды то какой-нибудь селедки домой принесет, то бутылку подсолнечного масла. Что удавалось, то и приносил. И я еще помню, какой он силой обладал. Он клал пятак, сгибал локоть, и монета тоже сгибалась. Это я видела сама.
Теперь мне хотелось бы еще пару слов сказать о Лизе, когда речь идет о папе. Елизавета Юльевна была человеком, который все время думал о других и не хотел кому-нибудь быть в тягость. Уже в 87 лет она решила сама поехать в аптеку за лекарством. На Кутузовском проспекте вышла на остановке, полы ее длинного пальто затянуло под передние колеса, и она попала под автобус. В больнице ей ампутировали ногу. К сожалению, я и мой брат были далеко от Москвы – в командировках. Врач, проводивший операцию, говорил, что он не видел человека, который бы так безропотно перенес тяжелейшее испытание. Так трагически закончилась ее жизнь. Когда она работала вместе с Василием Михайловичем, фамилия ее была – Горская. В молодости она служила в секретариате у Дзержинского. Была связана с Блюмкиным. В истории с ним принимала активное участие. Она узнала, что какую-то часть партийной кассы Блюмкин отдал Троцкому, и обратилась к Эйтингону, который в тот момент был в Турции. Лиза была женой Блюмкина, но я не знаю, был ли зарегистрирован их брак. Да это и не имеет никакого значения. Гордиевский пишет, что она вышла замуж за Блюмкина по любви. Я не согласна с этим, ибо знаю, что за столько счастливых лет, которые она прожила с моим отцом, я никогда не слышала фамилии Блюмкина, ни его истории. Они с отцом были замечательной парой, и любому мужчине я пожелала бы такую любящую женщину, какой была Лиза. Она верой и правдой служила памяти моего отца, постоянно ухаживала за его могилой и просила похоронить ее рядом с ним.
Почему мой отчим – Эйтингон. Он всю взрослую жизнь носил фамилию Наумов. Но когда началась война, Берия сказал: «Какой он Наумов? Он Эйтингон, и пусть носит эту фамилию. Поэтому по документам он Эйтингон. К чести этого человека надо заметить, что я в какой-то момент своей жизни спросила, можно ли называть его отцом. Он сказал: «Нет, не надо. У тебя есть папа, очень уважаемый человек. И я буду любить тебя не меньше, если ты будешь называть меня дядя Леонид».
Леонид Эйтингон родился 9 декабря 1899 года в Могилеве. Отец его рано умер от язвы желудка. В семье, кроме него, было две сестры и брат. Он – старший. По-моему, был эсером. Я говорю, по-моему, потому что точно не знаю. Когда Феликс Эдмундович Дзержинский бежал из очередной ссылки, он встретил Эйтингона. Молодой человек ему очень понравился. Когда он приехал в Москву, получил комнату на улице Кирова, туда перевез свою маму и сестру. Это была замечательная семья, преданная идеалам революции. Младший брат стал довольно известным ученым-химиком, сестра Соня – прекрасным врачом-терапевтом, работала главным врачом в поликлинике автозавода. Иван Алексеевич Лихачев очень хорошо отзывался о ней. Она так и прожила всю свою жизнь в этой комнате на улице Кирова. Еще одна сестра – Серафима – была инженером.
Все они были интеллигентными людьми, жили очень скромно. Я встретила дядю Леонида, когда мне было пять лет. По существу получилось так, что я познакомила его со своей мамой, хотя я уверена, что они и раньше видели друг друга. Во всяком случае, с этого момента началась моя жизнь в семье Леонида. Язык не поворачивается сказать Эйтингона. Какое-то время мы прожили в Пекине, где он был консулом. В это время там был и Василий Иванович Чуйков. Они вместе закончили военную академию, очень дружили, часто играли в шахматы. Кем был в то время В. И. Чуйков, я не знаю, кажется, военным атташе. В Пекине я пережила трагический момент, когда на консульство напали китайцы, согнали всех в клуб, держали там какое-то время, а моя мама тогда была в положении. Ну да ладно, хотя это все было ужасно.
Потом вернулись в Москву, квартиры не было. Жили в гостинице «Метрополь». И я помню, как лазила около кремлевской стены и играла у храма Василия Блаженного. Затем с 1928 по 1931 год мы находились в Турции. Чем там занимался дядя Леонид, не знаю. Я училась в школе, где изучала немецкий и английский языки. Хочу заметить, что значит знание языка. В школе я была Зоя Наумова. Однажды меня спросили, буду ли я заниматься «Скриптчур», что по-английски означает – закон Божий. А я поняла, как занятия музыкой на скрипке. Пришла домой, сказала маме, что в школе по субботам будут проходить занятия игры на скрипке и спрашивают разрешение родителей. В школе меня спросили: «Ну как? Родители разрешили?» – «Да, разрешили», – ответила я. Это был такой интересный ляпсус.
Когда мы вернулись из Турции, то поселились, как я уже говорила, в первом кооперативном доме. Там жили все крупные руководители Коминтерна, а позднее здесь поселился Берия. Но это совсем другая история.
Когда начались испанские события, Леонид уехал. Куда – мы не ведали. И об истории с убийством Троцкого узнали значительно позднее.
В конце октября 1951 года Леонида посадили. Мы не имели никаких сведений о нем. В марте 1953 года после смерти Сталина его освободили. Реабилитировали. Вернули все ордена, и после короткого отдыха в санатории он вновь вернулся на работу. А в июле 1953 года, во времена Хрущева, вновь посадили. С большим трудом мне удалось добиться, чтобы ему, осужденному на 12 лет, засчитали те два года. А Судоплатова осудили на 15 лет. После уже, после выхода из тюрьмы, ему приходилось каждую неделю отмечаться в милиции, как уголовному элементу.
Когда Леонид находился в заключении, ему потребовалась срочная операция, которая была сделана хирургом-онкологом, и жизнь его была спасена.
Я бы хотела отметить, что он был необыкновенным человеком. Об этом, например, говорят его письма из тюрьмы. Как обычно, они приходили в определенные дни, раз в месяц. Но содержание их поражает. Вот один пример: «Милые девочки! Поздравляю вас с наступающей годовщиной Великого Октября. Как я рад, что вы там готовитесь к празднику, трудитесь на благо страны…» И все в таком духе. Я берегу эти письма, они у меня сохранились. Это действительно была вера в страну, ради благополучия которой он работал всю жизнь. Раз в месяц мы ездили во Владимир на свидание с ним. Старались взять как можно больше родственников. А когда его освободили, много народу собралось проводить его, потому что он помогал всем, кому мог. Начальнику тюрьмы, например, делал контрольные работы и давал полезные советы, что позволило ему заочно закончить юридический институт. Словом, это был человек, нацеленный на служение Родине. Когда он вышел из тюрьмы, здоровье его было подорвано: так же, как его отец, он страдал язвой желудка. После освобождения вся его энергия и все силы были направлены на одну цель – реабилитацию. Он писал ходатайства по административной линии и всегда получал однозначный ответ: подождите, сначала вас реабилитирует партия, а потом уже и мы. И только после его кончины нам позвонили из конторы Пельше и спросили: «Вы знаете, какого человека мы потеряли?» Мы-то как раз знали об этом. Нам ответили: «Да, мы припозднились». Я хочу отметить, что такое возможно только в нашем государстве. Ведь реабилитацию закончили только в 1990 году. Некоторые говорили: «Вы с ним осторожнее, знаете, реабилитировали из КГБ». Не умеем мы ценить людей. Ведь не секрет, что он участвовал в подготовке ликвидации Троцкого. Но ведь это был приказ. Интересно, кто бы осмелился не выполнить приказ Сталина?!
Узнали мы об этом значительно позже, когда приехал Рамон Меркадер и спросил: «А где комерадо Леонидос?». Он перед нами стоял со звездой Героя Советского Союза, а комерадо Леонидос в это время почему-то сидел в тюрьме?! Ему тоже это было непонятно. Это все история. К ней надо подходить очень осторожно. Рамон Меркадер похоронен на одном из московских кладбищ под фамилией Романа Ивановича Лопаса. Я езжу к нему на могилу. Ну, это не важно. Когда у Леонида была беседа со Сталиным на эту тему, тот сказал: «Партия всегда вам будет благодарна, ваше имя будет вписано в историю золотыми буквами. И ваше имя будут помнить не только ваши дети, но и ваши внуки». Имя действительно будет вписано в историю, но в 1951 году он его посадил, а Хрущев сделал то же самое в 1953-м. И все припозднились оправдать его».
К этим бесценным воспоминаниям Зои Васильевны мне хотелось бы, дорогой читатель, добавить несколько строк о ней самой. З. В. Зарубина работала в органах государственной безопасности с 5 июля 1942-го по декабрь 1951 года. В 1939 году с золотой медалью окончила среднюю школу в городе Москве и поступила в МИФЛИ на историческое отделение. В сентябре 1940 года вышла замуж за Василия Михайловича Минаева. 2 июня 1941 года родилась дочь Татьяна. Через несколько часов после выступления наркома иностранных дел В. М. Молотова о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз муж ушел сначала в военкомат, а затем на фронт. Зоя Васильевна поступила на работу в госпиталь в качестве медсестры, затем какое-то время работала переводчиком. После того как от ран умер ее муж В. М. Минаев (она сохранила за собой девичью фамилию), Зоя Васильевна написала заявление с просьбой направить ее на фронт, мотивируя свое желание тем, что она является мастером спорта по легкой атлетике и чемпионом Москвы. Однако в военкомате учли не ее спортивные достижения, а знание немецкого языка, который она изучила в школе, живя до войны с матерью и отчимом в Турции, и направили ее на работу в органы государственной безопасности, где она проработала до декабря 1951 года.
Из разведки была уволена в связи с арестом в 1951 году ее отчима Л. А. Эйтингона. За период работы в разведке, в управлении, которым командовал П. А. Судоплатов (его замом был Л. А. Эйтингон), выполняла различные ответственные задания как переводчик. Кроме немецкого изучила французский язык, окончив с отличием французский факультет Высшей школы НКВД – МГБ, а в 1949 году заочно английское отделение Московского института иностранных языков имени Мориса Тореза. В совершенстве владея тремя языками, З. В. Зарубина работала переводчиком на международных конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме.
После ухода на пенсию была зачислена преподавателем в Высшую школу МГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского, но через несколько дней ей предложили альтернативу – покинуть работу или официально отказаться от отчима – «врага народа» Эйтингона. Зоя Васильевна выбрала первое. Учитывая ее блестящие знания иностранных языков и прежние спортивные достижения, ей предложили должность начальника стадиона «Динамо», от которой она тоже отказалась.
Наконец в 1952 году З. В. Зарубина стала преподавателем английского языка в Московском институте иностранных языков имени М. Тореза, который окончила три года назад, затем – деканом факультета английского языка, а еще позднее организовала при институте первые в мире курсы подготовки переводчиков для ООН и была назначена директором этих курсов.
В 1970-е годы по просьбе А. А. Громыко Зоя Васильевна переходит на работу в Дипломатическую академию, где трудится до настоящего времени, несмотря на свой солидный возраст.
В 1988 году Зарубина принимала активное участие в организации Международного движения – «Педагоги за мир». В настоящее время она является вице-президентом этой международной организации.
С 1972 по 1975 год она принимала участие в подготовке известных Хельсинских Соглашений. Воочию убедилась, что такое «холодная война», какие споры ведут дипломаты, какие аргументы и контраргументы применяют.
Воспоминания З. В. Зарубиной дополнит рассказ ее брата Петра Васильевича Зарубина. Ныне он профессор, кандидат физико-математических наук, советник НПО «Астрофизика». Ранее был начальником Главного управления министерства оборонной промышленности, тридцать лет занимался организацией работ по созданию лазерной техники, в том числе лазерного оружия в нашей стране.
«Мои родители были совершенно разными людьми. Отец из рабочей семьи, сын железнодорожного кондуктора и прачки, уроженец Подмосковья. Свою юность провел на Таганке. В органы государственной безопасности пришел через Гражданскую войну. Был солдатом, участвовал в солдатском комитете. Четырежды ранен, полгода пролежал без движения на доске по причине повреждения позвоночника в результате ранения. Его образование состояло из нескольких начальных классов и какого-то рабфака. Несмотря на ранения и перебитый позвоночник, отец был человеком недюжинной силы. Не чурался любой физической работы, любил собирать грибы. Обожал музыку. Играл на балалайке, гитаре и пианино. Одним словом, отец – самородок со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами.
Совсем другое дело мать. Она родилась в 1900 году в городе Хотине в Бессарабии. В первой половине 20-х годов окончила Сорбонну. Владела французским, английским, немецким, еврейским, русским и немного румынским языками. Мать была интеллигентом в широком понимании этого слова, с аристократическим воспитанием и привычками. Умерла она в 1987 году нелепой и трагической смертью – попала под автобус.
Отец и мать поженились в 1929 году после возвращения отца из Харбина. В начале 30-х, как я теперь понимаю, занялись нелегальной разведывательной деятельностью. Отец работал не то под немца, не то под чеха. Якобы в 1935-м или 1936 году родители ездили в США, как теперь говорят, для рекогносцировки, но я этого не помню, так как родился в Париже в 1932 году. Затем до конца 30-х годов они находились в Европе.
В 1941 году мы с родителями уехали в США, и я уже хорошо помню многое, касавшееся разведывательной работы моих родителей, хотя, конечно, тогда я не понимал, что это значит, и, собственно говоря, не интересовался этим.
Например, мы втроем, отец, мать и я, очень часто путешествовали из Вашингтона, где мы жили, в Филадельфию на автомашине. Но ездили не обычным путем, а останавливаясь в многочисленных ресторанчиках и кафе, которые в изобилии были разбросаны по автотрассе Вашингтон – Филадельфия. Нередко отец, отправляясь с матерью выпить чашечку кофе в ресторане, оставлял меня в машине и, как бы играючи, просил меня замечать, какие машины появятся на стоянке после их ухода. Теперь-то я понимаю, что родители проверялись на предмет обнаружения за собой наружного наблюдения. Приехав в Филадельфию, мы все трое выходили из машины и смешивались с толпой на привокзальной площади, посещали кафе, рестораны и магазины. Затем шли к поезду за несколько минут до его отправления. Мать садилась в поезд и уезжала, а мы с отцом возвращались к машине. На обратной дороге отец просил меня полежать на заднем сиденье, мотивируя тем, что я устал. Теперь-то ясно, для чего. Сторонний наблюдатель должен был понять, что в Филадельфии осталась женщина с ребенком.
Иногда мы просто уезжали из Вашингтона километров на 200 – 250 от города. В маленьких поселках с кем-то встречались, иногда ночевали в таких местах. Надо сказать, что мои родители были исключительно общительны, особенно мать. Это отец умело использовал в интересах разведывательной работы. Сам он мог с одинаковым успехом разговаривать и с людьми искусства, и с простыми посетителями пивной.
Знаю, что в США отец неоднократно встречался с великим русским пианистом и композитором Сергеем Рахманиновым для того, чтобы подготовить его возвращение в Россию. Для него уже был готов советский паспорт, но Рахманинов неожиданно заболел и умер.
Хотя отец в Вашингтоне был резидентом советской разведки, но мог и делал любую работу, когда считал, что сделает ее лучше других. Хорошо помню, что, когда в Вашингтон прилетал министр иностранных дел Советского Союза, отец сам садился за руль и возил В. М. Молотова как простой шофер. Сейчас очевидно, почему он так делал. Во-первых, он прекрасно водил автомашину. Во-вторых, еще на нелегальной работе был автомехаником, и, в-третьих, что, наверное, самое главное, такие поездки давали ему возможность беседовать с Молотовым с глазу на глаз.
Генеральское звание, вернее, звание комиссара третьего ранга, отец получил еще до войны, а после нее в газете появился указ о присвоении генеральских званий и список из тридцати человек, среди которых был отец – генерал-майор В. М. Зарубин и генерал-лейтенант П. А. Судоплатов.
А. С. Феклисов в своей книге «За океаном и на острове» написал об отце, что причина его отъезда из США как персоны нон грата состояла в том, что он из-за большой активности не всегда уделял достаточное внимание вопросу зашифровки своих действий. Эта причина, конечно, имела место, но главным, по-моему, было то, что в советской резидентуре был сотрудник по фамилии Миронов, который в начале 1944 года написал письмо И. Сталину о том, что Зарубин и Зарубина завербованы и работают на одну из иностранных разведок. По возвращении в Москву родители подвергались служебному разбирательству, которое продолжалось шесть месяцев.
В 1968 году, в преддверии пятидесятилетнего юбилея органов ВЧК – КГБ, в ЦК КПСС был направлен список лиц для награждения различными орденами, в том числе нескольким чекистам предлагалось присвоить звание Героя Советского Союза. Первым среди них, в соответствии с алфавитом, стояло имя моего отца. Однако главный тогдашний идеолог партии М. А. Суслов отклонил его кандидатуру, ссылаясь на возраст – отцу было тогда семьдесят два года. Я наверняка не знаю, но думаю, что кроме возраста определенную роль мог сыграть и тот давний навет Миронова. Отец тогда получил орден Ленина.
С матерью была неординарная история. Она ведь попала под обмен. Что это такое? Летом 1941 года она находилась в командировке в Берлине по линии разведки, но, естественно, в качестве сотрудницы советского посольства. И вдруг война. Без всякого объявления. Вероломное нападение. Сотрудники нашего посольства остались в Германии по ту сторону фронта, а сотрудники германского посольства в Москве. Поэтому и состоялся обмен персоналов посольств. Ехали они из Германии в СССР кружным путем, через Болгарию и Грецию, в запечатанном поезде.
Мои родители, так же как многие их коллеги, были начисто лишены чувства стяжательства. Наоборот, отец очень любил застолье в хорошем смысле этого слова. Из гостей, которые не знали отца, никто не мог угадать его профессию. У него была, можно сказать, привычка: если какому-нибудь посетителю нашего дома нравилась какая-то вещь и тот имел неосторожность похвалить ее, отец тут же дарил ее этому человеку».
Одним из ближайших сотрудников З. И. Воскресенской-Рыбкиной был Георгий Иванович Мордвинов. В своей последней книге ему она посвятила немало теплых слов, в частности, в главе 5 «Постель на взрывчатке». Дополнить портрет этого удивительного человека нам помогут строки из его автобиографии.
«Я родился 23.04. 1896 года в деревне Бурнашово Верхне-Удинского уезда Тарбагатайской волости. Отец мой – Иван Ильич имел бедняцкое хозяйство, которое бросил и поступил рабочим на Николаевский винокуренный завод А. К. Кобылкина. Свою мать я не помню, она умерла, когда мне было 2 – 3 года. После смерти отца мне было 7 лет.
Трудовую жизнь я начал очень рано, с 5-классным образованием, работая с детства то на заводе, приучаясь к ремеслу, то мальчиком-учеником в магазине, а затем в фирме «Духай» в Чите. Урывками я пополнял самообразование, но мне не удалось осуществить свою мечту – поступить в городское или ремесленное училище, т. к. приходилось работать, чтобы существовать и еще помогать младшей сестре.
В 1915 году досрочно я был призван в армию и после двухмесячной муштры с маршевой пластунской ротой попал на Юго-Западный фронт в 75-й Сибирский стрелковый полк в команду конных разведчиков, т. к. с детства был хорошим наездником.
В дни Великой Октябрьской революции я, как фронтовик, был за большевиков и с оружием в руках принимал активное участие в борьбе за Советы, участвовал в ликвидации контрреволюционной верховной ставки генерала Духонина в Могилеве и борьбе с контрреволюционными корниловскими войсками, охранявшими ставку, «дикой» дивизией и прочее.
В декабре 1918 года я участвовал в подавлении юнкерского восстания в Иркутске.
С апреля 1918 года я был привлечен к оперативной работе в Забайкальской областной Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ЧК). Здесь я был принят в июне 1917 года в члены партии.
Выполняя задание руководства ЧК, я со своим помощником Митей Ждановым в августе 1918 года, когда чехи наступали с запада, а японцы с востока, проник в стан врага и, выполняя роль связного между отрядами анархистов и штабом белогвардейского подполья в Чите, вскрыл заговор анархистов и подготовленное белогвардейское восстание.
Заговор и восстание были ликвидированы, что обеспечило эвакуацию советских организаций, припасов и наших войск на Амур.
После падения советской власти на Дальнем Востоке я с основной группой работников Читинской ЧК, возглавляемой Григорием Трофимовичем Перевозчиковым, ушел в тайгу в районе ст. Гондати (ныне Шимановская). Здесь по заданию партии я налаживал связи в казачьих хуторах по Амуру и с китайской стороной.
В декабре 1918 года мною был сформирован партизанский отряд, которым я командовал. Дрался с японцами и белогвардейцами до 1920 года.
В 1920 году на Восточно-Забайкальском и Амурском фронтах я командовал 1-й Амурской кавалерийской бригадой и одновременно по заданию командования организовал и руководил разведкой фронта. Здесь мною были выполнены два спецзадания командования. У меня до сих пор осталась книжка полевых донесений, в которой сохранились копии донесений в штаб фронта. В них сообщалось о том, что японцы меня расстреляли. Выполнение этих заданий имело важное политическое значение, обеспечивало успешное начало переговоров и последующее заключение перемирия с японцами.
…В дальнейшем перемирие было заключено.
Выполнение второго задания было связано с тем что, проникнув глубоко в тыл врага, я подчинил себе белогвардейский гарнизон Нерчинска. Это обеспечило успех ликвидации «читинской пробки», семеновцы были отсюда выбиты, и учредительное собрание ДВР собиралось не в семеновской Чите, как хотели японцы, а в городе, занятом нашими амурскими и забайкальскими партизанами.
После ликвидации «читинской пробки» я был начальником транспортного отдела Госполитохраны ДРВ (ЧК).
В конце 1921 года на Восточном фронте под Хабаровском я был комиссаром Особого Амурского полка, сведенного из третьей Амурской дивизии. С этим полком я участвовал в знаменитых имском и волочаевских боях и в «босом» походе полка через ситухимскую тайгу в апрельскую распутицу 1922 года.
В конце лета 1922 года по особому заданию фронта я был послан в тыл врага, где успешно сформировал китайский и корейский партизанские отряды, командуя которыми я подчинил нашему влиянию до 3-х тысяч хунхузов в Маньчжурии и обеспечивал во время наступления на Владивосток наших войск охрану наших границ и железнодорожных коммуникаций нашей армии от белогвардейских диверсий со стороны Маньчжурии, где Чжан Цзолинь всегда оказывал белогвардейцам всяческое содействие.
В 1923-1924 гг. я учился на вечернем рабфаке в Чите и был секретарем партийной ячейки.
Летом 1924 г. меня направили на ликвидацию белых банд в пограничный район на р. Аргунь. Я был назначен начальником 19-го, а затем 54-го Нерчинско-заводского пограничного отряда ОГПУ. Здесь я проработал до весны 1926 года до ликвидации крупного бандитизма, связанного с «Трехгорьем» в Маньчжурии.
В 1926 – 1929 годах я был комендантом Отдельной погранкомендатуры войск ОГПУ и начальником Феодосийско-Судакского отдела ОГПУ. Участвовал в ликвидации «великброгимовщины» и лично руководил операцией, в результате которой в открытом море на пути в Сипон мною захвачен Омер Хайсеров, являвшийся душой националистической организации «милифирка», державший в своих руках все нити этой организации. Оперативное значение этой операции выходило далеко за пределы Крыма. Дело Хайсерова велось непосредственно Москвой.
В 1929 году учился на курсах усовершенствования Высшей пограничной школы ОГПУ.
В том же году был зачислен студентом Института востоковедения на китайское отделение.
В 1930 году по линии иностранного отдела ОГПУ был послан на разведывательную работу за кордон: сначала в МНР, а затем в Китай. По возвращении из Китая в 1935 году сдал экзамены в Институте востоковедения и по линии ЦК партии был послан на учебу в Институт красной профессуры по факультету истории на китайское отделение. На время учебы был в действующем резерве ОГПУ – НКВД.
С 1938 по конец 1940 года я работал сначала старшим референтом, а затем руководителем восточного сектора «группы» в аппарате Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ).
В конце 1940 года я перешел на лекционную работу по международным вопросам и одновременно заочно учился в аспирантуре исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Я уже был готов защитить диссертацию по теме «Единый национальный фронт в Китае», но началась война.
В начале Отечественной войны я был призван в НКГБ и с июля по октябрь 1941 года руководил сектором Четвертого управления по партизанским формированиям и созданием баз в тылу врага.
В октябре 1941 года был послан на выполнение задания, с которого вернулся лишь в сентябре 1944 года».
В октябре 1941 года Георгий Иванович был послан в качестве вице-консула советского консульства в Стамбуле, но весной следующего года попал в провокацию.
…К началу 1942 года нейтральная позиция Турции все больше не удовлетворяла гитлеровскую Германию, несмотря на то что политика этого государства обеспечивала безопасность балканских позиций немцев и облегчала, таким образом, операции германских войск на Восточном фронте. Немцы стремились, чтобы Турция пошла дальше по пути германо-турецкого договора о дружбе, заключенного за четыре дня до нападения Германии на Советский Союз. В этой связи они организовали в Анкаре провокацию – инсценировали покушение на посла Германии в Анкаре фон Папена, чтобы склонить турецкое правительство к открытому вооруженному выступлению против Советского Союза.
Из официального правительственного сообщения Турции:
«24 февраля 1942 года. В 10 часов утра на бульваре Ататюрка в Анкаре взорвалась бомба, разорвав на части одного человека, который в этот момент проходил в указанном месте, неся что-то завернутое в руках. Полагают, что этот завернутый предмет был бомбой, которая разорвалась. Германский посол Папен и его жена, которые шли с противоположной стороны, находились на расстоянии 17 метров от места, где разорвалась бомба. От удара взрывной волны они упали на землю, но затем поднялись невредимыми и достигли здания посольства. Начато расследование обстоятельств взрыва. Министр внутренних дел и прокурор немедленно направились на место происшествия. Президент республики и глава правительства послали в германское посольство своих начальников кабинетов, а министр иностранных дел и генеральный секретарь министерства иностранных дел лично посетили фон Папена. Тот факт, что взрыв произошел поблизости от фон Папена, побуждает прокурора серьезно обратить внимание следствия на возможность того, что злонамеренный акт был направлен против немецкого посла».
Через 24 часа после взрыва полиция арестовала двух турецких подданных – студента Абдурахмана и парикмахера Сулеймана, а также двух советских граждан: сотрудника советского торгпредства в Турции Корнилова и сотрудника советского консульства в Стамбуле Павлова.
Немцы были весьма довольны поведением турецкой полиции и поспешили открыто заявить об этом. Так, выступая перед журналистами в Софии, фон Папен с удовлетворением отметил, что «турецкая полиция очень быстро арестовала виновных».
Слушание дела о «покушении» на фон Папена началось 1 апреля 1942 года в Анаарском уголовном суде. Абдурахман, Сулейман, Павлов и Корнилов обвинялись в покушении на немецкого посла в связи с тем, что первые двое были товарищами убитого Омерома Токата, который нес бомбу. Суд приговорил Павлова и Корнилова к 20-ти годам тюремного заключения, а Абдурахмана и Сулеймана к 10-ти годам заключения каждого (в решении суда чувствовалось немецкое влияние).
В ноябре 1942 года по кассационной жалобе Павлова и Корнилова турецкий кассационный суд, отменив приговор по причине многочисленных нарушений процессуальных норм, допущенных при судебном разбирательстве, направил дело на новое рассмотрение.
Повторный приговор для Абдурахмана и Сулеймана остался прежним, а для Павлова и Корнилова сокращен до 16 лет и 8 месяцев.
И только в связи с успехами Красной Армии, наносившей удар за ударом армии Германии и ее сателлитам на всем протяжении Восточного фронта, 2 августа 1944 года турецкий меджлис принял закон о разрыве дипломатических отношений с Германией. На этом же заседании меджлиса был принят закон, по которому из тюрьмы были освобождены Павлов и Корнилов, просидевшие там два года и пять месяцев.
«В октябре 1944 года был послан на выполнение нового спецзадания, с которого вернулся лишь после капитуляции Германии в конце мая 1945 года».
…Новое задание заключалось в том, что в районе Белоруссии был создан из немцев-интернационалистов и наших специальных групп «Немецкий котел», который поддерживал постоянную радиосвязь с немецким командованием. В «котле» даже принимали инспекторов из Германии, а немцы старательно и регулярно снабжали «войска», попавшие в «котел», оружием, боеприпасами и продуктами питания. Однажды прислали награды за мужество и верность фюреру – Железные кресты.
В дополнение к героической биографии Г. И. Мордвинова считаю необходимым рассказать эпизод из жизни его семьи, изложенный в газете «Вечерняя Москва» № 69 от 22 марта 1969 года «Сын двух матерей (быль)».
«В 1947 году он был еще совсем маленьким китайчонком Ми Ми. За два месяца до его рождения отец мальчика погиб, сражаясь против гоминьдановцев. Двух старших братьев Ми Ми тоже убили гоминьдановцы. И они остались вдвоем: мать и сын. Мать была коммунисткой, а ее народ боролся за свободу. И она решила идти на фронт, стать бойцом народно-освободительной армии, как ее муж и сыновья.
Но с кем оставить грудного ребенка? У матери были добрые друзья – советские люди Мордвиновы, которые в то время жили и работали в Харбине. Георгий Иванович Мордвинов еще в Гражданскую войну командовал партизанским отрядом. В Великую Отечественную был трижды ранен. Его жена, Лидия Августовна – тоже старая коммунистка.
И мать Ми Ми решилась: завернув сына в красное одеяло, она отнесла его русской женщине. Сказала, что может не вернуться, и попросила, когда мальчик вырастет, передать ему письмо. «Я ухожу воевать против ненавистных врагов, – писала она. – Скорее всего я погибну, но я счастлива умереть за новый коммунистический Китай. И мне очень хочется, чтобы ты, мой единственный сын, вырос настоящим ленинцем и больше всего на свете дорожил дружбой с советским народом».
Так маленький Ми Ми стал гражданином Советского Союза Мишей Мордвиновым. Вместе с приемными родителями он приехал в Москву. Шли годы, из неуклюжего карапуза вырос смышленый мальчуган. Он хорошо учился в школе, увлекался спортом.
– Это был чудесный парнишка, – вспоминает писательница Зоя Воскресенская, которая рассказала корреспонденту ТАСС эту историю. – Он очень дружил с моим сыном, часто бывал у нас дома.
За это время на его родине многое изменилось. Свершилось то, ради чего пошли на смерть его близкие, – многомиллионный народ обрел свободу. Китай стал социалистическим государством.
Мордвиновы были уверены, что мать Ми Ми (они ее называли Женя) погибла. Ведь уже десять лет от нее не было никаких вестей. И вдруг…
В жаркий июльский день, когда Миша – Ми Ми с Лидией Августовной был на даче, неожиданно приехала Женя. Оказалось, что в боях с гоминьдановцами ее несколько раз ранило. Однажды враги даже расстреляли ее, но она чудом осталась в живых – истекая кровью, выбралась из наспех вырытой могилы и уползла в лес. После войны она работает на заводе, уже несколько лет входит в руководство Общества китайско-советской дружбы. И вот разыскала сына…
Китайская коммунистка обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой разрешить ей взять мальчика с собой. Получив такое разрешение, она добавила к настоящей фамилии Ми Ми еще один иероглиф – фамилию его советских родителей».
На родину мать и сын уехали вместе. Каждую неделю Мордвиновы получали письма. Миша писал, что мечтает приехать в Москву, чтобы повидать своих Друзей, приемных родителей. Он писал, что обе его Родины – и Советский Союз, и Китай – одинаково ему близки и дороги и так как он не успел стать членом ВЛКСМ в Москве, то вступил в комсомол в Пекине.
А потом письма перестали приходить. Почти два года Мордвиновы не знали, что с их воспитанником, где он. Они с тревогой следили за авантюрой, громко названной в Пекине «культурной революцией». Мордвиновы понимали, что жизнь Миши в опасности. Что, кроме ненависти, могли испытывать к нему маоисты, которые всеми силами старались подорвать дружбу советского и китайского народов?
Позднее сын Г. И. Мордвинова Б. Г. Мордвинов принял меры по поиску своего приемного брата и его матери. Ответ пришел через много лет, только в 1988 году.
Уважаемый Баррикадо Георгиевич!
Извините, что только сегодня пишу вам письмо. Вы уже не надеялись получить его! Хотя я вам не писала, но о вашей просьбе никогда не забывала! Но я пошла по неверному пути, начиная поиски с Харбина, Тайюанъцзе, а нужно было начинать с Пекина. Но слава Богу, сегодня я вам могу сообщить, что женщина, которую вы разыскиваете, жива! Мать Лю Цзиньмо старая и больная женщина (у нее плохо с сердцем), но у нее светлый ум и хорошая память. Она вас всех помнит по именам, помнит вашу маму и встречи в Союзе. Она была очень тронута, что вы не забыли ее, и до сих пор считает себя обязанной за помощь, которую оказала ваша семья ей в трудное время. Она попросила написать вам от ее имени и передать вам привет. Ей пришлось очень много пережить. Как вы догадывались, она перестала вам писать по полит, соображениям. А потом она была в опале и много лет провела в тюрьме. После «культ, революции» ее реабилитировали и она даже занимала ответственный пост на радио, но сейчас она на пенсии, не работает. Когда я ее разыскала, она находилась в доме отдыха, под Пекином, где проводит большую часть времени, лишь изредка возвращаясь в город. Она мне рассказала и о печальной судьбе Лю Цзиньмо. Он действительно погиб во время «культ, революции», тогда он был студентом авиационного института. Он покончил жизнь самоубийством. Но это вынужденная смерть. Горько об этом писать, но это было очень трудное время для многих хороших людей. После освобождения матери его, «мертвого», тоже реабилитировали. Знаю, как вас все это расстроит, но я должна вам все это рассказать. Сейчас Лу Цзи-нъжу живет вместе с приемным сыном. У нее один внук. Условия у нее очень хорошие, она просит вас не беспокоиться и, наоборот, очень беспокоится о вашей матери, спрашивает, надо ли ей чем-нибудь помочь? Вот видите, как все в жизни интересно! Она совсем недавно, года три, четыре, работала в одной организации с моим мужем! А в городе живет буквально в двух шагах от меня! Это, наверное, ваша удача, что вы «вышли» на меня! Конечно, я просто шучу. Ну вот, Баррикаде Георгиевич, вашу просьбу я выполнила, но все равно очень извиняюсь, что лишь сегодня села вам писать. Если вы захотите ей написать, то лучше пишите на мое имя, я ей передам. Она считает, что так будет лучше. Она старый человек, и слишком тяжелое время ей пришлось пережить, поэтому ей можно простить некоторые странности.
Передавайте привет вашим родным!
До свидания.
Чжао Шуйлянъ (Ира)
9 мая 1988 г.»
Василий Петрович Рощин до 1930 года работал под прикрытием сотрудника КВЖД, затем в центральном аппарате. В 1932 году был командирован в Германию, где занимался организацией работы с нелегалами. В 1935 году его перевели в Вену в качестве резидента. Осенью 1943 года был назначен резидентом в Стокгольме, где и принял дела у 3. И. Рыбкиной. После окончания войны работал в Финляндии.
О своей работе в Швеции В. П. Рощин писал: «Во вторую мировую войну в Швеции у власти находилось социал-демократическое правительство, которое возглавлял Пер Альбин Гансен. Можно себе представить всю сложность обстановки в Швеции во время войны. В начальный период войны шведам приходилось считаться с возможностью победы Германии, и в условиях возраставшего нацистского давления шведское правительство пропустило через свою территорию немецкие войска в Финляндию, допускало поставку в Германию стратегического сырья и продукции промышленности. После Сталинградской битвы изменившаяся обстановка позволила шведам внести коррективы в свою политику, причем в сторону англо-американского курса.
В 1943 году мне довелось допрашивать в числе других военнопленных полковника Шильдкнехта, который до направления под Сталинград работал в генеральном штабе и ведал Швецией. Он показал, что вначале немецкий генштаб готовился оккупировать Швецию. С этой целью уже были разработаны подробные планы. Однако стратегическая предосторожность немецкого командования возобладала, и Швеция сохранила свой суверенитет.
Осенью 1943 года я был направлен в Швецию. Я прибыл в Стокгольм на английском «Либерейторе» в ноябре 1943 года. Работа в Швеции, в тот период особенно, существенно отличалась от работы в большинстве других стран Европы уже тем, что нужно было использовать все возможности для поддержки шведского нейтралитета, развития дружеских связей со шведской общественностью. Это определяло и подход к оперативной работе. Поскольку главная опасность для нейтралитета Швеции исходила от Германии, то задача резидентуры состояла в первую очередь в том, чтобы обеспечивать агентурное наблюдение за Германией и оккупированными ею Норвегией и Данией. Радиосвязь была односторонней: резидентура принимала телеграммы из Москвы, а для отправки пользовалась шведским телеграфом. Радиопередатчики практически не применяли.
Задачи резидентуры диктовались потребностями военного времени: использовать пребывание в Швеции для получения политической информации по Германии, а также Дании, Норвегии и Финляндии. Учитывая, что страна наводнена агентурой немецких спецслужб, много внимания приходилось уделять советской колонии в Швеции и лагерям наших интернированных военных моряков.
Особенности шведского нейтралитета создавали для деятельности советских загранучреждений и жизни их сотрудников крайне неблагоприятную обстановку. Первое, что бросилось в глаза с самого начала работы в этой стране, так это строгое полицейское наблюдение за нашими учреждениями. Наверно, это можно и нужно было понять ввиду грозившей стране опасности. И все же мы не переставали удивляться подобным парадоксам. Например, состоянием взаимоотношений социал-демократического правительства и полиции. Мы задавали себе вопрос, кто, собственно, определяет политику. В силе и влиянии полиции сомневаться не приходилось. Нам было известно, что лидеры шведской социал-демократии, по крайней мере в тот период, находились под неослабным контролем политической полиции, телефоны их прослушивались, корреспонденция перлюстрировалась, все контакты фиксировались.
Полицейское наблюдение велось фактически за всеми сотрудниками. Оно начиналось у здания посольства или у квартир сотрудников и осуществлялось непрерывно.
Такого пристального наблюдения за сотрудниками Других иностранных представительств в Стокгольме не велось. Не было его и за персоналом немецкого посольства, в котором только по дипломатическому списку насчитывалось несколько сот человек.
Подслушивание телефонных разговоров и установка радиозакладок носили в те годы в Швеции такой массовый характер, что мы не удивлялись, если, например, находили закладку на кухне, в машине, ванной и других неудобных для бесед местах. Складывалось впечатление, что эти же проблемы мучали англичан. Однажды на небольшом коктейле в доме английского советника я увидел, как хозяин в который раз вытащил микрофон, спрятанный в днище бара. Он не скрывал от присутствующих своего возмущения, приписывая микрофонное вторжение в его жизнь длинной руке немецких спецслужб. В этом была большая доля правды. Впрочем, к такому пристальному наблюдению привыкли и считались с ним как с неизбежностью. Бушевавшая в Европе война не могла не сказаться на обстановке в нейтральной Швеции.
После предельно сложной и напряженной оперативной работы в Германии и Австрии в Швеции мне пришлось активно заниматься развитием связей с общественностью и в области культуры. С различными просьбами шли не только шведы, но и норвежцы, датчане, поляки, болгары.
События в Советском Союзе в канун войны способствовали распространению антисоветизма и шпиономании в Швеции. Шведские власти использовали наши промахи для нагнетания в стране шпиономании и постоянного напоминания населению, что их главный враг – русские. Это проявление неприязненных чувств к русским существовало в большей или меньшей степени со времен Петра I, казаки которого пытались дойти пешком по льду до Стокгольма, но не дошли. Антирусские настроения мы ощущали повсюду ежеминутно, начиная от посещения послом министров и до контактов с простыми шведами в городском транспорте. Местная пресса постоянно подогревала русофобию. Корни этих настроений были заложены в глубокой истории, а последние годы перед войной и начало войны никак не способствовали их смягчению.
Хорошая и довольно многочисленная агентура, завербованная еще в предвоенные годы, работала по линии экономической разведки. В резидентуре такую агентуру не считали особенно ценной, потому что в военное время актуальной была другая информация. Но работа с такого рода агентурой была необходима для получения не только торгово-экономической ин формации, облегчавшей заключение соглашений и сделок со Швецией, но и документальных данных об использовании шведской экономики для военных нужд Германии.
Война внесла большие коррективы в разведывательную работу, ставшую одной из важных форм активной борьбы с нацизмом. Люди самых различных взглядов и политических убеждений, часто далекие от коммунистической и даже социал-демократической идеологии считали своим высшим человеческим долгом включиться в битву. Сотрудничество с разведкой страны, принявшей на себя самое тяжелое бремя борьбы с гитлеризмом, представлялось вполне естественным. В отношениях со многими слово «разведка» даже не произносилось. Наши друзья свои действия представляли как наиболее доступное участие в общей борьбе.
В числе таких верных помощников в Швеции на протяжении всех лет войны был американец Скотт, обративший на себя внимание еще в предвоенные годы, когда он, прогрессивный иностранный специалист, работал в Советском Союзе. Постепенно Скотт стал искренним другом нашей страны. Второй раз он приезжал в СССР в качестве корреспондента нескольких американских газет.
Все это облегчило контакт со Скоттом в Стокгольме. Одним из самых больших его достижений была поездка по нашей просьбе в Финляндию. Как известный журналист и как гражданин страны, не воевавшей с Финляндией, он был принят там великолепно и на самом высоком уровне. Провел обстоятельные беседы с премьер-министром, практически со всеми министрами, с политическими и военными деятелями, руководителями политических партий, находящихся в оппозиции. Все финские собеседники Скотта были исключительно доверчивы и необычайно откровенны с ним. Он представил нам подробнейшее сообщение о своих впечатлениях, раскрыв в том числе полную безнадежность положения Финляндии, воевавшей «не на правильной стороне».
На территории Швеции в то время находились значительные норвежские военные формирования, большие контингенты политических эмигрантов, часть правительственных органов и министерств. Эти эмигрантские формирования ратовали за совместное со шведами освобождение оккупированной Норвегии. Два года продолжались политические дискуссии. Временами казалось, что достигнута какая-то договоренность. Началась ускоренная военная подготовка, учебные походы, маневры.
Однако в правительственных кругах превалировало мнение, что шведское вторжение может последовать лишь после того, как оккупационная армия будет деморализована и начнет разлагаться. И шведы стали ждать такого момента, но так и не дождались. Немецкая оккупационная армия в Норвегии капитулировала вместе со всей гитлеровской армией.
Об этих политических перипетиях наша резидентура подробно информировала Центр. Одной из задач, поставленных Центром перед резидентурой, было получение информации о сепаратных переговорах союзников по антигитлеровской коалиции с немцами. Одновременно Центр предупреждал о недопустимости поддаться на удочку самим, если немцы будут искать с нами контакты для подобных переговоров. А именно через нейтральную Швецию немцы усиленно пытались установить связи с советскими политическими кругами.
Когда Коллонтай, будучи тяжело больной, находилась в одной из больниц для дипломатического состава вблизи Стокгольма, в гостинице, расположенной рядом с больницей, поселился специально направленный Гиммлером для контактов с русскими немец, хорошо говоривший по-русски и происходивший, как удалось выяснить, из Литвы. Он зарегистрировался как Клаус. Несколько раз посетил советское посольство в Стокгольме, оставляя письменные обращения, в которых содержались завуалированные идеи о необходимости сепаратных мирных переговоров с СССР через его посредничество. Такие предложения в то время носили явно провокационный характер и были рассчитаны прежде всего на то, чтобы ухудшить наши отношения с союзниками. Об этом резидентура регулярно информировала Центр. В результате советское правительство неоднократно уведомляло о зондаже правительства союзных держав. Одновременно оно подавало пример, как нужно союзникам поступать в аналогичном случае в Швейцарии, где, как сообщала наша агентура, уже начались тайные переговоры между немцами и американцами.
Вообще в Швеции в годы войны велись самые разные сепаратные переговоры. Пожалуй, наиболее интересными были тайные консультации между Всемирной сионистской организацией и американскими сионистскими центрами, с одной стороны, и представителями фашистской Германии – с другой. Американские сионисты, как докладывали источники, намеревались организовать выезд состоятельных лиц еврейской национальности, среди которых были видные представители деловых кругов, именно в Швецию, а не в Соединенные Штаты, как предпочитали влиятельные шведские круги».
В этой книге нельзя обойти вниманием и начальника разведки П. В. Фитина. З. В. Зарубина в наших продолжительных беседах вспоминала:
«Ну что я могу сказать о Павле Михайловиче Фитине. Очень немногое.
Я знала Павла Михайловича как начальника разведки. Одно время мой отец был у него заместителем. Его уважали как человека внимательного, доброго. По образованию он агроном, до работы в органах госбезопасности редактировал сельскохозяйственный журнал. Во всяком случае, Фитин по характеру – не Деканозов и не Амаяк Кабулов. Он хотел не только служить, но старался постичь секреты профессионального мастерства ветеранов. Без нужды не наступал на их самолюбие. Как молодая сотрудница, я это чувствовала, потому что одно время работала у него. Он видел во мне не только молодого коллегу, но и дочь Василия Михайловича Зарубина, ценил династийность, семейственность в хорошем понимании этого слова.
Его жизнь тоже претерпела много изменений и сложностей. После войны он был, по непонятным причинам, начальником Свердловского управления государственной безопасности, затем уволен и с этой должности. И вот какие парадоксы преподносит жизнь. Уйдя на пенсию, он вернулся в Москву и работал директором фотокомбината Советского общества дружбы с зарубежными странами. Его устроил на эту работу Николай Александрович Попов. Когда вышла книга П. С. Судоплатова «Показания нежелательного свидетеля», мне позвонил Николай Александрович и сказал: «Что пишет Судоплатов о Фитине, разве это было так?!» Я тоже считаю, что не все можно публиковать, не надо без нужды обижать людей. Забывчивость, неточность бьет больно. И обидно. Либо мы молчим, либо говорим правду. Да и то до конца правда вряд ли нужна. Все, что с нами произошло – это наше горе, наша трагедия, но от этого мы не стали меньше любить свою Родину».
Жив и здоров еще один коллега 3. И. Воскресенской – бывший старший консультант председателя ГКБ генерал-лейтенант Сергей Александрович Кондрашев. Перед вами строки из его воспоминаний.
«В разведку я пришел из контрразведки в 1951 году. Это был период, когда еще происходили аресты сотрудников госбезопасности. Были арестованы Питовранов, Шубников и другие товарищи. И я написал рапорт начальнику разведки Савченко с просьбой уволить меня, но получил отказ. Сначала я работал заместителем начальника первого отдела, руководил которым Мазур. Затем был переведен на должность заместителя начальника английского отдела, возглавляемого А. С. Феклисовым, и начал готовиться к отъезду в командировку в Англию. Первый и второй отделы входили в состав Первого англо-американского управления Комитета информации.
В период 1952 – 1953 годов я и встречался с Зоей Ивановной Рыбкиной, которая работала начальником второго отдела (немецкого) Второго европейского управления Комитета информации. Мне приходилось посещать ее в рабочем кабинете для решения служебных вопросов. Я помню ее всегда хорошо одетой и неизменно с пишущей машинкой на столе. Она была очень общительна. Оперативные вопросы решала тут же. Если что-то нужно было написать на машинке, делала сама, давала прочитать текст и, согласовав его, если в этом была необходимость, вновь перепечатывала. Для меня, человека, пришедшего из контрразведки, такой контраст был очень заметен. Чувствовалась большая разница (не только на примере Зои Ивановны) между разведчиками и контрразведчиками, где люди были более грубыми, как Санава, да и сам Берия.
Зоя Ивановна, безусловно, обладала европейской культурой и умением общения с людьми, знаниями и манерами европейцев».
Глава 6. Друзья и помощники
Началась Великая Отечественная война. Первыми помощниками и друзьями Воскресенской стали люди, которые уходили в тыл врага в составе диверсионных групп и партизанских отрядов. В случае оккупации Московской области Зоя Ивановна готовилась занять место железнодорожной сторожихи на одном из переездов.
Кроме создания небольших диверсионных групп, Зоя Ивановна принимала участие в организации первого партизанского отряда, куда входили первоначально всего четыре человека. Командиром отряда был назначен Никифор Захарович Каляда – кадровый военный, бывший партизан на Украине, воевавший с немцами еще в первую мировую войну, в 20-е годы – заместитель командующего армией на Дальнем Востоке. Начальником штаба еще не существующего отряда – Л. В. Громов. Леонид Васильевич Громов – высокий, не по годам стройный человек, почти ровесник Зои Ивановны, родился в 1905 году в Симбирске. Перед войной пять лет работал начальником геологической экспедиции на острове Врангеля, как говорила Зоя Ивановна, был губернатором острова. С начала войны Л. В. Громов рвался на фронт. 30 июня 1941 года его вызвали в Москву в политическое управление «Севморпути». В связи с тем, что еще мальчишкой в 1921 – 1923 годах Леонид Васильевич работал в Симбирской губчека, его познакомили с Г. И. Мордвиновым, который дал ему номер телефона для связи. Предупредил, что ответит женщина.
Леонид Васильевич позвонил, ожидая, что теперь его пригласят на Лубянку, но спокойный и ровный женский голос продиктовал адрес на улице Горького.
Леонид Васильевич и Дмитрий Староверов (позднее он был начальником штаба в отряде Медведева и погиб) поднялись на третий этаж. Позвонили. Ждут. Дверь открыла молодая, высокая, стройная, красивая женщина в военной форме. По плечам темно-русые локоны. На стройных ногах – ботинки, на правом боку – кобура с пистолетом. В петлицах гимнастерки одна «шпала» – майор, а Громов в начале войны был аттестован батальонным комиссаром. Представилась, пригласила молодых людей в большую, скромно, но со вкусом обставленную квартиру, напоила чаем и завела разговор о предстоящей работе в тылу врага.
Кроме Н. 3. Каляды и Л. В. Громова в группу были включены: лейтенант запаса Константин Павлович Молчанов как специалист-оружейник и специалист-механик Самуил Абрамович Вильман, которого хорошо знал Г. И. Мордвинов. До войны С. А. Вильман был резидентом ОГПУ в Монголии, работал под «крышей» владельца частной авторемонтной мастерской.
В задачу группы Н. 3. Каляды входило создание партизанского отряда из жителей Вельского, Пречистенского и Батуринского районов Смоленской области.
Зоя Ивановна как бы зарядила ту четверку неистощимой энергией. Война стерла различия между политической и военной разведкой, и женщина-аналитик занялась мужским делом. Именно в это время в ней соединились способности аналитика и писателя, ярко проявились глубокие знания немецкого и русского народов. «Там, в немецком тылу, – говорил Громов, – мы неоднократно на практике убеждались в правоте тех истин, которые нам втолковывала Зоя Ивановна».
«Шли первые дни войны, – вспоминал Леонид Васильевич, – Красная Армия отступает, немцы бомбят Москву, а Зоя Ивановна спокойно пьет чай, говорит, ровным, певучим голосом».
Утром 8 июля 1941 года группа, официально именовавшаяся отрядом № 1, на грузовой автомашине выехала в северный лесной массив по направлению Москва – Смоленск – Витебск. Вскоре в отряде было около ста человек из десяти районов Смоленской области. В лесу Никифор Захарович отпустил бороду, за что Леонид Васильевич прозвал его Батей. Теперь всем хорошо известно легендарное партизанское соединение Бати, уже в 1941 – 1942 годах практически восстановившее советскую власть в районе треугольника Смоленск – Витебск – Орша, у истоков создания которого была 3. И. Рыбкина.
В то время, когда Зоя Ивановна работала в Швеции, одним из советников советского посольства был кадровый дипломат Михаил Сергеевич Ветров.
До работы в Швеции он являлся первым секретарем полпредства СССР в Латвии, с 1944 по 1948 год – заместителем заведующего 5-м европейским отделом МИД СССР, с 1948 по 1950 год – Временным Поверенным в делах СССР в Нидерландах, с 1950 по 1954 год – Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Дании.
М. С. Ветров был среди тех, кто принимал решение, которого ждала профессор Нонна Сварц, вернувшая к жизни А. М. Коллонтай.
В личном архиве Чрезвычайного и Полномочного Посла Михаила Сергеевича Ветрова есть такая запись: «Мне посчастливилось с 1937 года работать в дипломатическом аппарате Министерства иностранных дел СССР в Центре и во многих зарубежных странах. Принимая меня по направлению ЦК партии большевиков, народный комиссар иностранных дел M. M. Литвинов, узнав о моей профессии рабочего-меховщика, с юмором заметил: «Вот-вот, вы очень подходите для нас – будете кошку в соболя переделывать!» А в начале второй мировой войны Наркоминдел направил меня в качестве советника советской дипломатической миссии в Швецию, которую возглавляла Чрезвычайный и Полномочный Представитель СССР Александра Коллонтай. Это она по заданию Ленина в 1916 году была посланцем в США и Канаду, где в своих пламенных выступлениях разоблачала грабительский характер первой мировой войны и разъясняла лозунг большевиков о превращении войны империалистической в войну гражданскую. Многому я научился у Александры Михайловны в период Великой Отечественной войны советского народа против гитлеровской Германии. Она, блестящий советский дипломат, стремилась внести свой вклад в разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма – удержать Швецию на позициях нейтралитета и вывести Финляндию из преступного альянса с Германией». Дочь М. С. Ветрова, Долорес Михайловна Климова, узнав, что создается книга о 3. И. Воскресенской, поделилась детскими воспоминаниями:
«В период моей жизни с родителями в Швеции я была еще ребенком, но хорошо помню Зою Ивановну, которую я, конечно, называла тетей Зоей, потому что она дружила с ними.
Поскольку отец был советником посольства, мы жили в большой квартире, которую снимали в центре Стокгольма, но не в здании посольства. Квартира эта состояла из гостиной, кухни, кабинета отца, спальни родителей и двух маленьких комнат для меня и моей сестры. Кроме этого в квартире была еще одна комната, в которой я часто видела тетю Зою. Одно время я даже думала, что она жила вместе с нами. Зоя Ивановна в то время носила фамилию Ярцева, и когда она появлялась в нашей квартире, нас, детей, отправляли играть в свои апартаменты, а они с отцом использовали для бесед именно ту комнату.
Бориса Аркадьевича Рыбкина я помню плохо, не помню, чтобы он был у нас в квартире в Стокгольме».
В личном архиве Зои Ивановны есть записки под названием «Корзина с цветами», которые раскрывают любопытные подробности приезда в Швецию Мэри, кузины Хэллы Эрнестовны Вуолийоки.
«В 1942 году наш агент «Поэт» из Финляндии прислал к нам в Стокгольм в качестве связника для передачи информации свою родственницу, работницу Международного Красного Креста Мэри Д. Связь эта заранее обусловлена не была. Мэри приехала в Стокгольм, зашла в цветочный магазин и послала мне на квартиру корзину с цветами. В карточке, которая была приложена к цветам, стояла подпись – Мэри. Я с ней была знакома по Финляндии и догадалась, что это именно она.
В назначенный день утром муж ушел на работу, а я сказалась больной и осталась дома. Приходит Мэри. Я провела ее в самую дальнюю комнату, в спальню. Там она сняла шубу и не мешкая стала шепотом излагать информацию, которую ей поручил передать «Поэт».
Я делала краткие заметки в блокноте. Вдруг раздался звонок в дверь. Я решила не открывать. Звонили все настойчивее. Мы притаились. Затем кто-то стал возиться с дверным замком. Я накинула поверх платья халат и вышла в переднюю.
Дверь открылась, и в переднюю вошли трое: швейцар дома и с нею двое неизвестных мужчин в штатском. Я возмущенно спросила, что все это значит, как смеют врываться в квартиру дипломата (муж был советником посольства, я – пресс-атташе), да еще открывать дверь своим ключом.
Один из мужчин оглядел вешалку, видимо, хотел проверить – висит ли очень приметная шуба Мэри. Но шуба была в спальне. Тогда второй сказал, что они из санинспекции и пришли проверить – не завелись ли в доме клопы и тараканы. В договоре на наем квартиры действительно был пункт, в котором говорилось, что квартиросъемщик обязан беспрепятственно предоставлять санинспекции квартиру для проверки – не завелись ли клопы и тараканы. Но это означало тщательный обыск всей квартиры, когда отодвигалась мебель, переворачивались постели, снимались картины.
Я потребовала немедленно оставить мою квартиру и сказала, что позвоню мадам Коллонтай и в министерство иностранных дел с жалобой на нарушение экстерриториальности квартиры дипломата. Спросила, откуда у них ключ от квартиры. Мне объяснили, что у швейцара от всех квартир имеются ключи и что такой порядок заведен во всем городе.
– Но это не дает вам права без разрешения входить в квартиру дипломата! – Я выставила их и заперла дверь.
Цепочки на дверях не полагалось, и по договору мы не имели права без ведома хозяина дома, с которым заключили договор на наем квартиры, делать какие бы то ни было доделки, не могли даже лишней вешалки повесить.
Как быть дальше? У Мэри был английский паспорт… Задержать ее полиция едва ли могла бы. Шведы с большим уважением относились тогда к англичанам. Но все же такая возможность не была исключена. Мы вытряхнули сумку Мэри, проверили все ее содержимое, вырвали из ее блокнота условные записи. Но как она должна объяснить посещение этого дома? Решили, что в случае задержания она скажет, что искала представителя шведского Красного Креста и что ей дали неправильный адрес. Она обошла, мол, несколько квартир в этом доме, и везде ей отвечали, что такого человека здесь нет. Что никакой корзины с цветами она не посылала. В общем – все отрицать.
Было ясно, что за домом и за нашей квартирой установлено наблюдение. Выше нас этажом жила семья другого советника нашего посольства М. Ветрова. Его жена с детьми была дома. Ветровы – муж и жена – знали о нашей роли в посольстве и помогали нам в работе. Я сказала Мэри, чтобы она пошла в квартиру Ветровых, сказала бы, что прислала ее я, и просила бы посидеть там несколько часов. Я вышла на лестничную площадку – было пусто. Мэри прошмыгнула на другой этаж в квартиру Ветровых. Жена Ветрова была сообразительной женщиной, ни о чем не расспрашивая, провела Мэри в одну из комнат и оставила там.
Я позвонила мужу и, зная, что телефон прослушивается, в очень нервном тоне стала рассказывать, что в квартиру вломились какие-то подозрительные типы, наверное воры, что я насмерть перепугана и прошу немедленно приехать домой, потому что очень плохо себя чувствую. Он сказал, что доложит о случившемся послу и приедет за мной.
Муж приехал. Мы сели в машину, а у дома заметили наружное наблюдение и за углом еще одну машину, принадлежавшую, по всей видимости, полиции. Поехали в посольство. Машина из-за угла тоже двинулась за нами. Ветрова мы отпустили домой, поручив ему, когда стемнеет, выпустить его незваную гостью.
Как потом выяснилось, за Мэри все же топали, но не задержали, и она беспрепятственно через несколько дней улетела в Англию».
П. А. Судоплатов вспоминал:
«В октябре 1941 года создалась реальная угроза захвата Москвы немецко-фашистскими войсками. На этот случай была создана автономная агентурная группа, которая предназначалась для покушения на Гитлера, если он появится в Москве. В состав группы входили композитор Лев Чехов и его жена Маргарет. Оба были в родственных отношениях с известной актрисой Ольгой Чеховой, которая жила в Берлине и была близка к Герингу и всей немецкой верхушке.
Позднее, когда отпала опасность захвата Москвы, план покушения на Гитлера все же сохранялся. Его осуществление намечалось провести через князя Радзивилла и Ольгу Чехову, имевшую доступ в высшие круги немецкого рейха. Позднее план покушения на Гитлера Сталин отменил.
После войны Берия вынашивал идеи объединения западной и восточной частей Германии. В этой связи он был намерен использовать для переговоров с канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром нашего нелегала Грегулевича и Ольгу Чехову.
К тому времени Зоя Рыбкина работала начальником немецкого отдела внешней разведки и должна была поехать в Берлин для встречи с Ольгой Чеховой. Естественно, это было чрезвычайно важное и секретное задание. С Ольгой Чеховой она встретилась 26 июня 1953 года. В этот же день в Москве был арестован Берия. На другой день Зоя Рыбкина позвонила мне по «ВЧ» и доложила о том, что встреча состоялась. Я, не вдаваясь в подробности, приказал ей, не объясняя причин, первым же военным самолетом вернуться в Москву.
Но легче сказать, чем сделать. В то же время Гречко, командовавший нашими войсками в Германии, получил из Москвы приказ арестовать всех, кто в последние дни прибыл в Берлин из числа высших функционеров органов государственной безопасности. Кроме Зои, там в этот период находились Амаяк Кобулов и Сергей Гоглидзе, которые приехали в Германию совсем по другому поводу. Когда Гречко доложили, что вместе с Кобуловым и Гоглидзе в Берлине по заданию Судоплатова находится начальник немецкого разведывательного отдела женщина-полковник, он был страшно удивлен, тем более что ему ничего не говорила моя фамилия. Спасло Зою только то, что в охране, которая задержала названных мною лиц, находился офицер ГРУ, который ее знал лично и сумел убедить Гречко, что она не тот человек, которого нужно арестовывать.
Ни в Берлине, ни в Москве Зоя Рыбкина не писала никаких документов о цели своей поездки в Берлин. План Берия по объединению Германии был убит в зародыше. 29 июня 1953 года Президиум Политбюро ЦК СЕПГ ГДР принял на своем заседании новое направление в политике».
Об актрисе Ольге Чеховой, проживавшей в Берлине, сын Л. П. Берия – Серго Берия в книге «Мой отец – Лаврентий Берия», выпущенной в свет в 1994 году издательством «Современник», в главе «В лабиринтах разведки» написал:
«У отца, знаю, был целый ряд людей, которым он абсолютно доверял. Они-то и поддерживали связь с такими разведчиками, как Ольга Чехова. Утечка информации, даже проникни агентура противника в ГРУ или НКГБ – МГБ, была абсолютно исключена…
…Ольга Чехова была связана сотрудничеством с моим отцом много лет. Я знаю, кто ее вербовал и на каких основаниях это делалось, но не считаю себя вправе говорить о таких деталях из биографии разведчицы. Могу сказать всего лишь, что в отношении Ольги Чеховой не было допущено никаких провокаций и работала она на советскую стратегическую разведку отнюдь не из материальных соображений.
Ее вклад в успехи нашей разведки переоценить трудно. Ольга Константиновна была поистине бесценным источником информации, которым не зря так дорожил Берия. Даже в своих мемуарах, изданных в ФРГ, она ни словом не обмолвилась о своей другой (главной) жизни. А ведь еще осенью сорок пятого в западной печати ее называли «русской шпионкой, которая овладела Гитлером», «королевой нацистского рейха» и даже писали, что в Москве ее принимал Сталин и наградил орденом Ленина. Это не совсем так. За работу в разведке Ольгу Чехову действительно отблагодарили, обеспечив ее материальное благополучие, но орденом не награждали. А подозрения, что она работала на Советский Союз, так и остались на Западе всего лишь подозрениями, не больше.
Не так давно судьбой племянницы вдовы классика русской литературы заинтересовался Владимир Книппер. Ольга Чехова – его двоюродная сестра. Именно он обратился в свое время к Леониду Шебаршину, последнему руководителю Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка) с просьбой уточнить некоторые детали, связанные с биографией родственницы. Спецслужбы, как уже знает читатель, располагают информацией лишь о приезде Чеховой в победном сорок пятом в Москву и протоколами допросов, которые велись в конце апреля – осенью того же 1945 года.
Похоже, что завеса над тайной, которая не дает покоя близким Ольги Константиновны уже много лет, все же приоткрылась. Сегодня ясно одно: «королева нацистского рейха» Ольга Чехова была среди тех, кто мужественно боролся с фашизмом на незримом фронте».
Глава 7. Посол и атташе
В жизни 3. И. Воскресенской А. М. Коллонтай сыграла, как теперь можно достоверно утверждать, немаловажную роль. Именно поэтому я посчитал возможным ознакомить читателя с некоторыми моментами биографии Александры Михайловны.
Она родилась в Санкт-Петербурге 1 апреля 1872 года в семье Михаила Алексеевича Домонтовича и его жены Александры Александровны Масалиной.
Отец А. М. Коллонтай был сыном украинского помещика, принадлежавшего к старинному дворянскому роду. Закончив Петровско-Полтавский кадетский корпус, а затем императорскую военную академию, Михаил Алексеевич Домонтович в 1849 году начал военную карьеру в Петербурге и, успешно продвигаясь по служебной лестнице, вскоре стал генералом.
А. А. Масалина, мать А. М. Коллонтай, была дочерью финского скупщика леса. Александра Михайловна в своих воспоминаниях писала о матери: «Сердечная, упрямая и волевая – она не принадлежала к тому светскому кругу, в котором вращался отец».
Сестра Александры Михайловны – Евгения Михайловна – обладала прекрасным голосом. Впоследствии она стала известной оперной певицей, выступала на сцене Мариинского театра под именем Евгении Мравиной.
Сдав экстерном экзамены на аттестат зрелости, шестнадцатилетняя Шура получила право быть учительницей. В эти годы у нее проявилась склонность к журналистике. Свои первые небольшие рассказы она публиковала в журнале «Русское богатство». Известный русский писатель В. Г. Короленко сказал о них, что они «возбуждают интерес». Уже в 1890-е годы Александра Михайловна печатает ряд статей политического характера в журнале «Научное обозрение»…
В 1891 году Александра Домонтович в Тифлисе познакомилась с Владимиром Коллонтай, который жил там со своей матерью. Его мать – Прасковья Ильинична – учительница, была женой ссыльного поселенца, участника польского восстания 1863 года.
Вскоре Владимир Коллонтай поступил в военное училище в Санкт-Петербурге, а затем стал учиться в военно-инженерной академии. Весной 1893 года они поженились, а спустя год у них родился сын Михаил. Однако семейные отношения не сложились. Они все меньше понимали друг друга. Владимир Коллонтай стремился стать генералом, а Александра Коллонтай тяготилась замкнутой домашней жизнью. После мучительных сомнений и внутренней борьбы она оставила мужа. В своих воспоминаниях она писала: «Я продолжала горячо любить своего мужа и, уходя от него, страдала и болела душой. От Коллонтая я ушла не к другому. Меня увлекла за собой волна нараставших в России революционных волнений и событий».
13 августа 1898 года А. М. Коллонтай, оставив сына у своих родителей, уехала в Швецию, а оттуда в следующем, 1899 году в Англию, где она также знакомилась с различными политическими течениями.
После раскола РСДРП на II съезде в Лондоне на большевиков и меньшевиков А. М. Коллонтай не примкнула ни к тем, ни к другим. Однако после нарастания революционного шквала в России в 1905 году она все больше прислушивается к большевикам.
В 1908 году феминистки решили созвать Всероссийский женский съезд. Коллонтай готовила группу из 45 человек, стоявших на пролетарских позициях. Но когда встал вопрос об образовании в России «внеклассового» женского центра, группа работниц – сторонниц A.M. Коллонтай – покинула съезд.
Первая мировая война, начавшаяся 1 августа 1914 года, застала А. М. Коллонтай вместе с сыном, студентом Петербургского технологического института, приехавшего к ней на каникулы, в Берлине. Через два дня она была арестована и помещена в одиночную камеру на Александерплац, а 4 августа неожиданно освобождена. Помог мандат, выданный ЦК РСДРП Коллонтай как участнице Международной женской социалистической конференции. Видимо, немецкие полицейские решили, что русская социалистка не может быть шпионкой русского царя.
В 1915 году А.М. Коллонтай вступила в партию большевиков. 19 марта 1917 года в «Правде» появилось извещение: «Вчера из-за границы прибыла А. М. Коллонтай, известная писательница и деятельница международного социал-демократического движения, вступившая в число сотрудников «Правды». 10 октября 1917 года она присутствовала на историческом заседании ЦК, где было принято решение о вооруженном восстании.
В январе 1918 года ВЦИК поручил Коллонтай возглавить делегацию для поездки в Стокгольм с целью «раскрыть глаза трудящимся массам на происходящее в Советской России».
В 1919-м ее назначили начальником политотдела дивизии, которой командовал Павел Дыбенко, раньше возглавлявший Центробалт. Позднее она вела политическую работу в Донбассе, в Киеве и в Крыму. В сентябре 1919 года возвратилась в Москву и возглавила коммунистическую работу среди женщин. Брюшной тиф и заражение крови после перенесенного острого нефрита надолго вывели ее из строя. Только в сентябре 1920 года Александра Михайловна возвратилась к работе в качестве заведующей женотделом ЦК партии. В это время она написала ряд статей и брошюр.
4 октября 1922 года приказом наркома иностранных дел Г. В. Чичерина она была назначена советником представительства РСФСР в Норвегии, 9 октября уехала в Осло, 9 августа 1924 года была повышена в должности и стала посланником СССР в Норвегии.
14 апреля 1926 года Коллонтай уехала из Норвегии, а 17 октября того же года ЦИК Союза ССР назначил ее полномочным представителем в Мексику. В Мексике Коллонтай выполняла не только роль полпреда, но одновременно была и торгпредом. За время пребывания Коллонтай в Мексике отношение населения этой страны к СССР значительно улучшилось. Пройдет много лет, и в 1946 году мексиканский посол в Москве Нарциссо вручит Александре Михайловне в знак признания ее заслуг орден Агила Ацтека с лентой.
После возвращения из Мексики Коллонтай с октября 1927 года вновь работала в Норвегии, а 24 июля 1930 года она получила агреман (согласие правительства на принятие в своей стране) в Швецию, где она прослужила до марта 1945 года сначала посланником, а потом послом Советского Союза.
Последние семь лет своей жизни Александра Михайловна находилась в Москве. Работала советником Министерства иностранных дел СССР. Скончалась от инфаркта 9 марта 1952 года.
Для пресс-атташе посольства СССР в Швеции Зои Ивановны Рыбкиной ориентиром в разных жизненных ситуациях стала А. М. Коллонтай. И это естественно. Ведь Александра Михайловна была многоопытным, мудрым и тонким дипломатом, и к тому же старше Воскресенской на 35 лет. Долгие годы их связывала взаимная симпатия, хотя читатель, конечно, помнит, что первые встречи в Швеции, как пишет Воскресенская, не способствовали взаимному расположению. Но в трудные для родины годы, во время совместной работы, их отношения не только нормализовались, но и переросли в дружеские.
Я уже упоминал, что Коллонтай была не только политическим и государственным деятелем, но и писательницей. Чтобы не быть голословным, отмечу, что кроме многочисленных статей политического содержания, написанных на русском и пяти иностранных языках (английском, шведском, норвежском, финском и датском), она является автором художественных произведений. Ее перу принадлежат повести «Женщина на переломе» (1923), «Любовь пчел трудовых» (1924), «Сестры – любовь трех поколений» (1927), «Большая любовь» (1927), роман «Василиса Малыгина» (1927). Кроме того, в 1930 году в Москве была поставлена пьеса Н. А. Крашенинникова «Вася» по роману А. М. Коллонтай «Василиса Малыгина».
Глава 8. Предатели
В личном архиве 3. И. Воскресенской есть заметки, озаглавленные «Предатели», – об известной уже читателю истории с четой Петровых. Эта тема постоянно волновала Зою Ивановну по двум причинам: во-первых, потому, что она не могла понять истоки предательства у людей, имевших пролетарское происхождение, во-вторых, ее очень ранило то, что другие, в том числе ее руководство в Центре, долгое время больше верили Петрову, чем ей, во всяком случае, сомневались в ее честности и правоте.
«М. Горький где-то писал, что если предателя сравнить с тифозной вошью, то последняя обиделась бы. Я часто думаю о том, как он, предатель, о котором поведу речь, бывший беспризорник, затем комсомолец, затем получивший партийный билет, присвоивший себе фамилию Пролетарский, и она, Дуся, его жена, дочь рабочего, комсомолка, принята в партию, стали на путь предательства. Что мы, работавшие рядом с ними, проглядели? Ведь родились они оба не предателями, а стали ими. Как? Когда?
Приехали они в Стокгольм в 1942 году, проделав от Москвы в Швецию почти кругосветное путешествие. В Атлантике их корабль был торпедирован, их спасли. Оба были командированы для работы в стокгольмской резидентуре под фамилией Петровы. Он – шифровальщик, кассир и пом. резидента по совколонии, она в качестве шифровальщицы.
…На собраниях Петров выступал с ура-победными речами, то громил «нытиков», то отчитывал кого-то за то, что тот вздумал справлять день рождения своего ребенка, где даже «отплясывали» и пели песни, когда идет кровопролитная война. Требовал немедленно откомандировать в Москву сотрудника военного атташе, узнав, что у него какие-то родственники остались на оккупированной территории и что немцы обязательно используют их для вербовки этого сотрудника. «Кин» старался втолковать Петрову его функции, пытался умерить его чрезмерное рвение и подозрительность, что создавало нервозную обстановку в колонии. Петров злорадствовал по поводу «Красной капеллы», пытался даже возражать против посылки в Центр телеграммы с просьбой отменить приказ о посылке «Директора» на связь с двойником. После отзыва «Кина» в Москву он обратил пристальное внимание на меня…
Однажды я получила из Москвы запрос по делу, которое вел «Кин». Меня удивило, что по этому вопросу запрашивали меня, а не «Кина», который находится в Москве (я не знала, что он в это время был на Кавказе). Петров из этого запроса сделал вывод, что «Кина» репрессировали, и все чаще стал намекать на то, что «Кина» пустили в «расход» за провал «Красной капеллы». Я поняла, что Петров прохвост. Он стал все чаще выпивать. Меня это встревожило: шифровальщик, имеет в своем распоряжении большие деньги резидентуры, может натворить беды. Хотела послать в Москву телеграмму, но Петров отказался дать мне шифры, очевидно поняв, что я могу послать шифровку о его поведении. Связаться с Москвой через посольского шифровальщика, а стало быть МИД, я считала себя не вправе. Диппочта тогда ходила чрезвычайно редко. Я ждала нового резидента. Приехал Рощин. Я рассказала ему о поведении Петрова, заявив, что я ему не верю. Стала сдавать дела…
…По приезде в Москву я доложила обо всем начальнику шифроуправления Шевелеву и своему начальнику Агаянцу. Шевелев сказал мне, что Петров все время на меня «капал». Агаянц решил, что у нас просто сложились нездоровые отношения с Петровым – Пролетарским. Как я узнала позже, Петров однажды напился пьяным и шведская полиция подобрала его в какой-то канаве и доставила в посольство. В карманах у Петрова были ключи от сейфов и печать. И все же он продолжал оставаться в резидентуре. Когда он вернулся в Москву, я не подала ему руки. Он был назначен начальником отделения Комитета информации по совколонии.
Прошло несколько лет. Петрова снова посылали куда-то за границу. В 1955 году я работала в Воркуте. Как-то раскрываю газету «Правда». Читаю сообщение ТАСС о разрыве дипломатических отношений с Австралией. Оказывается, сотрудник посольства (понимаю, что работник резидентуры) Петров, захватив казенные деньги, стал предателем, невозвращенцем, продался иностранной разведке, а его жена, которая якобы пожелала вернуться в Москву (чему я не верю, так как она была также корыстолюбива и полностью находилась под влиянием и властью Петрова), была отбита австралийской полицией, насильно вытащена из самолета. Правительство Австралии отказалось выдать Петрова, обворовавшего посольство. За этот недружелюбный акт советское правительство порвало дипломатические отношения с Австралией.
Читая это потрясшее меня сообщение, я вспомнила вдруг горящие алчностью и вожделением глаза обоих Петровых перед витриной универсального магазина в Стокгольме, украденные Петровым у меня деньги, страсть к накопительству, к приобретению дорогих вещей, вспомнила, как Петров после приемов в посольстве ходил и собирал недопитые бутылки вина и коньяка, его пристрастие к выпивке, его демагогические речи на партсобраниях, его «архибдительность», его кичливость своим пролетарским происхождением (вернее – люмпенпролетарским), голодным детством и прочее, прочее».
Мне пришлось быть рядом с Зоей Ивановной, когда создавалась ее книга о разведке, я был одним из тех, кто настойчиво советовал ей написать о такой удивительной жизни. Почти все эпизоды мне довелось, и не один раз, слышать задолго до создания рукописи. Тем не менее, читая и перечитывая это произведение, я нахожу моменты, которые вызывают у меня дополнительные воспоминания и размышления. Поделюсь некоторыми из них.
В главе «Мама» Зоя Ивановна пишет о встрече со своей матерью на Ярославском вокзале Москвы после возвращения из Швеции через Англию и Баренцево море.
«– Мамочка, ты больна, почему ты так безумно похудела?
– Знаешь, я получала по твоему распоряжению тысячу рублей, этого хватало на десять килограммов картошки.
Мне стало холодно. Я переводила всю свою зарплату в валюте и считала, что мама с сыном обеспечены. Но ей валюту обменивали по твердому курсу на рубли».
Можно понять Зою Ивановну, которая, услышав это от матери, тут же сравнила покупную способность шведских крон и тысячи рублей, да еще в военный 1944 год. Ее мать с сыном практически голодали, если бы не вещи, которые Александра Дмитриевна продавала и меняла на продукты? А разве нельзя было обеспечить хотя бы сносным питанием семьи таких уникальных разведчиков, немало сделавших для блага родины. Конечно, можно понять, шла война – всем было трудно… многим еще труднее.
Но эти строки наводят на размышление о том, что и в последующие годы отношение к сотрудникам разведки не слишком изменилось, тем более если сравнивать их материальное обеспечение с сотрудниками других зарубежных спецслужб.
Я моложе Зои Ивановны ровно на 25 лет. В 1955 году она ушла в отставку, а я пришел на работу в органы государственной безопасности. Но отношение к материальному обеспечению сотрудников осталось то же. Конечно, эти люди неплохо обеспечены в сравнении с другими категориями граждан. Но вот что наводит на грустные размышления. Выезжая за рубеж, разведчик легальной резидентуры работает там в каком-то учреждении и соответственно получает зарплату, равную по должности так называемому «чистому» сотруднику, то есть человеку, который не связан с нашими спецслужбами. Но сотрудник разведки, кроме «прикрытия», выполняет свою, порученную ему государством, разведывательную работу.
«Подожди, подожди! – скажет мне читатель. – А зарплата в Союзе, которую он получает в рублях?» Да, ее он получает, но далеко не полностью, а лишь от 25 до 50 процентов. А там, за границей, когда «чистый» сотрудник, скажем, посольства, по окончании рабочего дня возвращается домой к своей семье, разведчик только начинает, как правильно пишет Зоя Ивановна, свою многотрудную деятельность.
Или обеспеченность разведчиков жильем. (Я не имею в виду квартиры на родине. Здесь, если сотрудник не имел своего собственного жилья, его просто не посылали в загранкомандировку, а вместо него ехал другой человек, уже имевший квартиру, хотя подчас это было не равнозначной заменой и, естественно, сказывалось на интересах дела. И давать его не торопились, поэтому большинство сотрудников разведки живут в кооперативных домах, то есть в квартирах, купленных за. свой счет). Так вот я имею в виду обеспечение жильем в период работы в заграничной командировке. Сотрудник, тем более если он дипломат, получает квартиру, за которую платит частному владельцу из государственных средств. Хорошо?! Да, отлично. Но опять же сравнения!
Мне приходилось в 70-е годы работать в тогда еще Западной Германии и иметь общение с представителем Центрального разведывательного управления США. Я жил в трехкомнатной квартире с женой и маленьким сыном, за которую платил из государственной казны. Хорошо?! Превосходно! Эта квартира была метражом больше моей московской квартиры, к тому же десятки лет я вообще не имел собственного угла. Но… мой американский коллега, находясь в такой же должности, что и я, пользовался двухэтажной виллой, имея такую же семью – жену и маленького ребенка.
В своей книге Зоя Ивановна пишет о предательстве Петрова – Пролетарского в Австралии и его подозрительном поведении во время пребывания в Швеции. Поражает в этом рассказе прежде всего то, что честному! принципиальному работнику, в данном случае Зое Ивановне, приходилось доказывать – и кому – собственному начальству свою честность. А руководство Разведки, имея достаточно фактов, не хотело отстранить Петрова от оперативной работы и послало его в очередную командировку в Австралию. Почему?
Гем не менее предательство Петрова – Пролетарского было, пожалуй, единственным «проколом» нашей разведки в течение нескольких десятилетий. А потом? Потом предатели в 1960, 70 и 80-х годах стали появляться как опарыши. И каждый из них стремился показать свою наибольшую лояльность той стороне, куда он перебежал, и готов был выдавать секреты, о которых знал, а заодно и те, о которых мог лишь догадываться. А ведь каждое предательство стоило государству очень дорого – нужно было менять так называемых «засвеченных» сотрудников, на подготовку которых были затрачены большие суммы и которых нельзя больше использовать на оперативной работе, направлять новых, подчас недостаточно подготовленных, и так далее. Одним словом, много негативных явлений связано с предательством, не говоря об интересах самого дела.
Моя оперативная судьба избавила меня от общения с предателями, но дважды и на меня пахнуло этим мерзким зловонием. С одним из таких ублюдков я формально работал в одном отделе, но, к счастью, в разных странах, и поэтому практически мы друг друга не знали. Со вторым, получившим потом псевдоним «Гнес», мне предстояло свидание. И повезло там, где обычно людям не везет – у меня лопнуло колесо. И поскольку я был начинающим водителем, то на замену его у меня ушло много времени, и я, теперь в этом не сомневаюсь, к счастью, опоздал на встречу с предателем.
Так почему все-таки в последние десятилетия резко возросло количество предательств? Разумеется, в каждом конкретном случае налицо целый комплекс своих, сугубо индивидуальных причин, но главной считаю моральную деградацию общества.
Что же делать? Возможно ли вообще свести до минимума такие постыдные факты? При нынешнем состоянии общества – очень трудно.
Разумеется, надо улучшить работу по изучению и подбору кандидатов на службу в разведке; повысить материальное благосостояние сотрудников разведки тоже необходимо в соответствии с реальной затратой их физического труда и нервного напряжения, но при этом усилить и уголовную ответственность за государственную измену. По-моему мнению, каждый факт измены должен автоматически нести за собой смертный приговор, который обязательно самой разведкой должен быть приведен в исполнение. Предателям, тем более из разведки, снисхождения и пощады быть не может.
Глава 9. Любовь и верность
Ближайшая подруга Зои Ивановны Надежда Доминиковна Синицкая-Осипова рассказывала мне, как Воскресенская и Рыбкин стали супругами:
«Я познакомилась с Зоей Ивановной что ни есть в самый Новый, уже 1936 год.
В советскую колонию в Хельсинки, где я в то время жила с мужем, который работал в торговом представительстве и занимался продажей нефтепродуктов за границей, примерно полгода назад приехала высокая, молодая и красивая женщина. Об этом я знала из разговоров с другими женщинами, но сама ее не видела.
И вот, когда все собрались вместе, чтобы отметить Новый, 1936 год, вновь вспыхнули разговоры о Зое Ивановне.
– Приехала холостячка, чтобы наших мужей сбить с толку.
– Перед такой женщиной ни один мужик не устоит.
– Не хватало нам забот, так черт бабу прислал.
Но тревожные ожидания наших женщин не оправдались, на новогоднем вечере Зоя Ивановна не появилась. Минут через тридцать – сорок после традиционного тоста я поинтересовалась у кого-то, а почему нет нашей новой сотрудницы, она что, брезгует нашим коллективом? Но мне сказали, что она неожиданно заболела и потому не смогла принять участие в новогоднем вечере. Зная, что Зоя Ивановна живет одна в этом же доме, я взяла бутылку вина, собрала кое-какую закуску и поднялась к ней в комнату. Это была действительно молодая, высокая и очень миловидная женщина. У нее, оказывается, обострилось заболевание печени и она решила не ходить на новогодний праздник, чтобы ее поведение не восприняли как каприз: ведь она вынуждена соблюдать определенную диету. Мы просидели с Зоей Ивановной почти всю ночь вдвоем, болтая о женских всячинах. Так мы с ней познакомились и сразу же сблизились. Наша дружба кончилась только с ее смертью в январе 1992 года.
Мы проводили вместе много времени, порою к нам присоединялся мой муж. А когда в Хельсинки приехал Борис Аркадьевич Рыбкин, это уже была компания.
Вскоре Зоя Ивановна отказалась от своего жилья и поселилась в одной из комнат нашей квартиры. Поэтому, как правило, мы встречались у нас – к нам приходил Борис Аркадьевич. Очень скоро я стала замечать, что он неравнодушно относится к Зоеньке. И она, как я почувствовала, тоже к нему питала симпатии.
Мои догадки очень скоро оправдались. Однажды Борис сказал мне, что Зоя ему очень нравится, но она, по его мнению, на него не обращает никакого внимания. Я ответила ему, что он не прав, и просила поверить моему женскому чутью. Он сомневался. Тогда я предложила: «Знаешь что, Борис?! Вот пока Зои нет, забирай ее вещи и вези к себе. А когда придет, заявлю ей, что она больше здесь не живет, и все объясню».
Так мы и сделали. Когда пришла Зоенька, она сразу же заметила опустевшую комнату, а я с серьезным видом выпалила: «А ты здесь больше не живешь». От изумления и непонимания она лишилась дара речи. Тогда я обняла ее и добавила строго: «Ну хватит мучить мужика. Ты что, не видишь, он уже весь высох?» И, уже смеясь, все ей объяснила. Поскольку все ее вещи действительно были у Бориса, она под моим «конвоем» отправилась к нему домой. Так, словно в сказке, они и стали жить-поживать.
Впоследствии мы с Зоей Ивановной часто прохаживались вместе по улицам Хельсинки. И только много позже я поняла, что зачастую эти прогулки использовались ею и для того, чтобы убедиться, нет ли за нами слежки. Поняв это, я уже сознательно стала помогать ей обнаруживать за нами наблюдение или с кем-нибудь тайно встретиться.
Люди, которые вели за нами слежку, устроили свой наблюдательный пункт прямо против нашего дома, и из окна им было хорошо видно, когда мы выходили на улицу. Поскольку мы с ней почти одного роста, то Зоенька нередко, особенно в вечернее время, надевала мое пальто и шляпку и уходила из дома. Иногда мы обе переодевались, то есть менялись одеждой, и выходили на улицу с небольшим интервалом, я впереди, она сзади.
Часто мы делали так. Не спеша шли по улицам, вместе заходили в магазин, что-то рассматривали, иногда покупали какую-нибудь мелочь, потом шли на выставку или вернисаж, но через некоторое время я уходила, а она оставалась, или наоборот, – я продолжала рассматривать картины, а она потихоньку исчезала. Я знала, что, оставаясь, она либо с кем-то встречалась там же на выставке, либо тоже уходила, используя другой выход.
Однажды, гуляя по магазинам, я заметила мужчину, который неотступно следовал за нами на очень небольшом расстоянии, так что мог слышать наши разговоры. Зоенька тоже обратила внимание на этого человека и тихонько шепнула мне: «Смотри, как я его сейчас прогоню». Продолжая осматривать витрины и прилавки магазина, около мясного отдела она, обращаясь ко мне, но в упор глядя на нашего преследователя, громко сказала: «Хочешь, Надюшка, я тебе шпик покажу?!» И этот мужчина моментально исчез из магазина.
Помню, часто летом и осенью мы отправлялись на машине на природу. Иногда это были действительно выезды за город на шашлыки, но в таком случае с нами был Борис Аркадьевич. А когда мы путешествовали втроем, это была ее работа. Осипов сидел за рулем, а мы с Зоенькой сзади. Останавливались где-то в лесу, и пока мы с мужем готовили еду, Зоя Ивановна на время куда-то исчезала. Теперь думаю, что она встречалась с Павлом Судоплатовым. За два года до ее смерти некоторое время он жил у нас на даче в Переделкино и рассказывал о том времени».
В личном архиве Зои Ивановны Воскресенской сохранилась незаконченная зарисовка о зарождении романтических отношений с Борисом Аркадьевичем Рыбкиным, о начале любви, озарявшей теплым светом их такую непростую жизнь.
«В шифровалке было холодно и неуютно. Зарешеченное изнутри окно было занавешено плотной портьерой. Перед окном письменный стол, в котором хранились стопки белоснежной бумаги, разноцветная копировальная бумага, толстые карандаши, ленты и всякие щетки для пишущей машинки, пакетики с конфетами. В шифровалке курить было строго запрещено, а я курильщик (теперь уже бывший), и карамельки, изготовленные изобретательной фирмой из каких-то трав и остропахнущего зелья, отбивали охоту не только к куренью, но и к еде. Два неуклюжих сейфа, какие можно увидеть в приключенческих американских фильмах, занимали простенок от окна до камина, возле которого, как верный страж на посту, стоял ярко-красный высокий баллон с кислородом – это на случай вторжения непрошеных гостей из охранки, дальше была дверь, обитая черной клеенкой в так называемую лабораторию, где фотографировались и проявлялись документы, бутылочки с химией для писем, разные проявители и закрепители, в углу гора железных цепей для автомобильных колес для дальних поездок по заснеженным дорогам зимой, несколько двусторонних пальто и плащей, чтобы по дороге в машине можно вывернуть наизнанку и из сине-белого оказаться в строгом черном плаще…
У старых революционеров мы, советские разведчики первых поколений, усваивали правила конспирации, учились «сочинять» шифры, «обрубать хвосты» наружного наблюдения, устраивать тайники. Из Центра мы ничего не получали и с упоением занимались творчеством, которое сегодняшним разведчикам покажется смешным и нелепым.
В тот вечер я сидела в этой самой шифровалке и расшифровывала телеграмму, прибывшую вечером из Центра. Я была помощником резидента, шифровальщиком, фотографом, машинисткой, когда требовала обстановка – водителем машины, изобретателем, в соавторстве с резидентом «Кином», тайников. Было уже за полночь, когда я закончила расшифровку. Центр предлагал передать на связь «Ирине», т. е. мне, агента «Павло» и сообщал, что готовит кадрового разведчика к нелегальной переброске в страну нашего пребывания, который будет связан непосредственно с «Кином». Центр еще раз напоминал, что «Павло» надо тщательно проверять, устраивать проверочные испытания – я узнала авторство «Яка», курирующего нашу резидентуру. Вот уж действительно был чиновником-перестраховщиком. Если предлагаешь кандидатуру на вербовку, то на письме потом увидишь мелким почерком резолюцию «Яка», вроде: «Кандидатура безусловно интересная, но необходимо собрать более точные сведения, учесть, что он связан с родственниками, проживающими в Англии – не подстава ли это от «Интеллидженс сервис?» И так страховался от всего: если вербовка состоится и агент будет давать ценные сведения, то он, «Як», предлагал «тщательно подготовить», если же вербовка сорвется или агент не оправдал наших надежд, то он, «Як», предупреждал.
…У меня теперь на связи будет шесть агентов и еще больше кандидатов. Как со всем этим справиться? Обещанные два работника резидентуры все не едут, а «Як» обещал прислать подмогу еще год назад. И «по крыше» работать надо, нужно выполнить валютный план во что бы то ни стало, иначе предложат освободить место для более компетентного работника. Разведка потеряет одну из «крыш».
…Времени уже второй час. Расшифрованную телеграмму положила в сейф, заперла, опечатала, проверила, достаточно ли тонко и четко легла сургучная печать, сожгла в камине шифровальные таблицы, тщательно перемешала пепел. Буквы, пропитанные свинцом имеют способность не рассыпаться, их нужно тщательно перетереть… Но почему «Кин» так и не заглянул сюда. Он сегодня на дипломатическом приеме, но все приемы заканчиваются в 11 часов. Так и прошел в свою квартиру мимо дверей шифровалки, и не заглянул? Почему? Стало как-то тревожно на душе. А почему тревожно? Фу, какие глупости. Иди-ка ты, «Ирина», спать, завтра утром надо ехать в порт встречать круизный пароход с туристами, направляющимися в Советский Союз.
Да, кстати, почему-то обрадовалась я, ведь сегодня приезжают дипкурьеры, вот «Кин» с приема поехал на вокзал к поезду и будет удивлен, что я не дождалась его в шифровалке. Нет, пусть не воображает, что я должна караулить его всю ночь. «Иди спать!» – приказала я себе и, едва прикоснувшись к подушке, заснула и, как мне казалось, не успев заснуть, меня уже будил звонок «ходиков». Холодный душ, кофе из термоса с куском бисквита, попудрить нос, чуть подсвежить губы и быстренько на велосипеде в порт. Внизу, в дежурке, «Кин». Сердце почему-то застучало громко-громко, только б не услышал. Вид у него сияющий. «Прибыла почта, – сказал он, – и для Вас два письма: одно от вашей мамы, я уже знаю ее почерк, а другое не знаю от кого, почерк мужской. От кого бы это?» – «От жениха», – буркнула я сердито, вывела своего английского «коня», уселась в седло защелкнула с обеих сторон юбку, чтобы подол не попал в спицы колеса, и покатила в порт.
Вечером мы с «Кином» готовили почту для отправки в Центр с дипкурьерами. Добавили несколько пунктов к письму, которое заготовляли всегда заранее, чтобы отправить с нашей резидентурской почтой. Упаковывал «Кин», а сургучные печати ставила я. У меня это получалось лучше, и как бы «Як» не рассматривал сквозь свои очки, ему не к чему будет придраться. «Кин» что-то писал. Я ждала. «Вы скоро?» – спросила я. «Да, да, надо же жене написать письмо, а то рассердится и не приедет вовсе». «Кин» приехал позже меня, но пробыл в стране уже полгода и всем говорил, что жена задерживается в Москве по своей работе, но скоро должна приехать.
Я тоже стала писать письмо товарищу, с которым работала в Китае. Писала для того, чтобы показать «Кину», что у меня тоже есть кому рассердиться на мое молчание. «Жениху написали?» – спросил «Кин». «Да».
– А Вы знаете, что Вам на днях нужно будет выступить в качестве моей супруги? – спросил «Кин».
– Это еще что такое? – возмутилась я.
– Дело в том, – стал серьезно объяснять «Кин», – что «Павло» весьма капризен, осторожен и упрям. Он не захочет, чтобы я передал его на связь другому сотруднику. А Центр велит передать его Вам. Я уже намекнул ему на необходимость связать его с другим человеком. Ни за что, а когда узнал, что я намерен передать его разведчице, то он замахал обеими руками: «Чур меня!». Тогда я вынужден был сказать, что эта разведчица – моя жена и что мы будем встречаться иногда втроем, после чего «Павло» сменил гнев на милость и очень удивился, что у меня жена разведчица. Поэтому очень прошу эту роль перед «Павло» выполнить.
Я сморщилась, «Кин» с огорчением и очень как-то по-человечески убедительно сказал: «Вас это ни к чему не обязывает, и я могу даже написать вашему жениху объяснение».
Через несколько дней, в воскресенье, мы отправились с «Кином» на машине, как он сказал «на пикник с «Павло». Я заготовила бутерброды с черной икрой, с московской колбасой, кофе и чай в термосах, шоколад, холодную телятину, всякие овощи и фрукты.
Историю «Павло», его жизнь, историю его вербовки я знала по делу, с которым знакомилась в Москве перед отъездом в эту страну.
Поехали далеко, километров за 150 от столицы, свернули с шоссе на лесную дорогу, присмотрели подходящую полянку.
На 102 километре Вы сядете за руль, остановите машину, я выйду и начну копаться в моторе. В 12 часов 20 минут «Павло» должен сесть на скалу возле дороги, вот тогда, проверив обстановку, мы его заберем в машину.
Все получилось так, как наметил «Кин». Он теперь сел за руль, а мы с «Павло» разместились сзади, он сменил шляпу, которую подготовил для него «Кин», надел темные очки – день был яркий, солнечный и здесь каждый, даже сельский, житель пользуется темными очками: и зимой от яркого снега, и летом от солнца.
– Не забудьте называть меня на ты и Борисом, без отчества. Можете называть Боренька, – предупредил меня «Кин», прежде чем принять в машину «Павло».
«Кин» свернул с шоссе на лесную дорогу, присмотрел подходящую поляну и заглушил мотор.
– Ну, хозяйка, расстилай-ка скатерть-самобранку, устроим настоящий пикник. Хорошо бы шашлык приготовить, но здесь костры в лесах не жгут. Чуть заметят дымок – примчатся пожарные…»
Зою Ивановну сослуживцы любили. Не только мужчины, но и женщины. И занимающие высокие должности, и рядовые.
«На работу в органы государственной безопасности я пришла в 1950 году из АРТкома (Главный артиллерийский комитет Советской Армии) по путевке райкома партии, – вспоминала Мария Николаевна Осипова. – До этого я прошла фронт в качестве связистки и закончила войну в звании старшего лейтенанта и тут же демобилизовалась. Работая в АРТкоме, училась на курсах иностранного языка – английский. Путевку на работу в разведку мне давала лично Екатерина Фурцева, которая в то время была секретарем Фрунзенского райкома партии.
Когда я пришла в Комитет информации, который находился в районе ВДНХ, то меня принимал начальник Разведывательного управления Иван Иванович Агаянц. Очень вежливо поинтересовался моими биографическими данными и направил к начальнику, по-моему, второго отдела. Им оказалась… очень красивая и приветливая женщина – Зоя Ивановна Рыбкина. Она объяснила мне, что в настоящее время, к сожалению, нет работы с применением знания иностранного языка, и определила меня секретарем-делопроизводителем отдела.
С Зоей Ивановной я проработала с 1950 по 1953 год, до тех пор пока она не была переведена на работу в Воркуту. Об этой женщине у меня остались самые добрые, самые радостные воспоминания, как о прекрасном руководителе и чутком, внимательном человеке. Приведу несколько примеров.
Буквально на второй день моего прихода в отдел сотрудник отдела по фамилии Зееман поручил мне срочно отпечатать к следующему дню толстую пачку листов, исписанных его мелким, убористым почерком. Я просидела за этой работой всю ночь и не успела сделать ее вовремя. Я, конечно, была очень расстроена и заплакана. Об этом узнала Зоя Ивановна. Вызвала меня к себе, успокоила и сказала, что впредь я должна брать только такую работу, на которой стоит ее резолюция. Кстати, она сама была первоклассной машинисткой. Свои рапорты она всегда писала сама, и без черновика, прямо на машинку.
Помню, в день первой зарплаты Зоя Ивановна вызвала меня в свой кабинет, усадила на стул и, смотря на ведомость по выдаче зарплаты, спросила: «А почему у вас зарплата девятьсот рублей, хотя вы секретарь отдела, а у машинистки тысяча сто рублей?» – «Не знаю, – был мой ответ, – так решили в отделе кадров». Зоя Ивановна тут же позвонила в отдел кадров, жестким тоном повторила заданный мне вопрос, ответила в трубку, что для меня учитывается стаж работы в артиллерийском управлении. Положила трубку. Тут же молча написала на машинке от моего имени рапорт начальнику отдела кадров, наложила свою резолюцию и отдала мне, сказав: «Подпиши и отнеси в отдел кадров».
В 1951 году Зоя Ивановна поинтересовалась – где я намерена провести предстоящий отпуск. Я пожала плечами. Тогда она предложила мне путевку в санаторий «Кавказская ривьера», в Сочи. Я начала отказываться, не объясняя причины моего отказа от путевки в такой шикарный санаторий. А причина состояла в том, что я никогда не была в таких санаториях и к тому времени не имела соответствующей выходной одежды. Зоя Ивановна почувствовала мои колебания, заставила сесть и объявила, что я не выйду из ее кабинета до тех пор, пока не изложу ей причину моего отказа от путевки. Пришлось все ей рассказать, как на исповеди. На какое-то время она задумалась. Потом решительно объявила: «Сделаем так. Как женщина, я тебя очень хорошо понимаю. Поэтому в этом году я выдам тебе единовременное денежное пособие, на которое ты сможешь купить выходные наряды. Но на будущий год ты обязательно поедешь в санаторий». Надо сказать, что сама Зоя Ивановна одевалась строго, но со вкусом. Предпочитала темные, неброские тона одежды.
Уже в 1980-е годы, когда Зоя Ивановна сломала шейку бедра и находилась на лечении в ЦИТО (Центральный институт травматологии и ортопедии), я посетила ее в больнице. Она была очень приветлива и, несмотря на болезнь, постоянно шутила. И рассказала, как она своей шуткой напугала лечащего врача, не понявшего ее юмора. Палата, в которой лежала Зоя Ивановна, была на трех человек и без телефона. А рядом, в соседней палате, находился артист Р. Я. Плятт, которого Зоя Ивановна хорошо знала. При очередном посещении врача она попросила, ссылаясь на необходимость иметь телефон, перевести ее в палату к Ростиславу Яновичу, тем более что они давно дружны и вдвоем им будет значительно интереснее. Врач принял шутку всерьез. «Как же так?! Ведь мы не помещаем вместе в одну палату мужчин и женщин!» На что Зоя Ивановна ответила: «Мы уже потеряли свой пол, к тому же не можем двигаться». Только тут все поняли, что больная разыграла врача.
В моей памяти Зоя Ивановна навсегда останется эталоном доброты, житейской мудрости и женской красоты».
Вернемся еще раз к воспоминаниям Зои Васильевны Зарубиной.
«Воскресенскую Зою Ивановну я знаю очень хорошо, хотя видела ее редко. Она с мужем Борисом Аркадьевичем Рыбкиным посещала моего отца. Это была очень красивая и очень добрая женщина. Узнала я ее ближе, как мать, когда она приходила в школу радистов, в которой учился ее сын Владимир и мой названый брат (сын Эйтингона) тоже Владимир. Она была всегда очень общительная, в то же время подчеркнуто выдержанная, с умными, говорящими глазами, хотя тогда я была молода и еще не умела читать по глазам. Такому доброму, терпеливому отношению к детям нас учила ее мать Александра Дмитриевна Воскресенская.
Во время моей работы в органах государственной безопасности мы с Зоей Ивановной встречались только мимоходом. В то время разговоров на служебные темы сотрудники между собой не вели. Помню только, когда она приехала из Швеции и стройная, красивая шла по коридору, вслед ей неслось: «Как она не гнется под тем количеством заданий, которые ей дают». А Зоя Ивановна входила в кабинет начальства (что там докладывала, мы не знали) и вновь появлялась та же милая, улыбающаяся женщина.
Могу сказать, что она очень мужественно перенесла смерть Бориса Аркадьевича. А потерять любимого мужа (с первым супругом у нее не сложились отношения), да еще после войны – трагедия. Борис Аркадьевич оставил о себе впечатление симпатичного, выдержанного и очень вежливого человека.
Много лет спустя после его смерти она сама мне говорила: «Я не только писательница Воскресенская, я вновь воскресла».
Зоя Ивановна не приняла ареста Павла Анатольевича Судоплатова, но что говорила на партийном собрании – не знаю. Очевидно, после этого ее направили на работу в Воркуту, после чего она ушла на пенсию и, кажется, не как сотрудник КГБ, где она проработала 25 лет, а по линии МВД. Зоя Ивановна и Борис Аркадьевич поддерживали добрые отношения с семьей Судоплатовых, хотя я уже говорила, что в органах госбезопасности дружба семьями между сотрудниками не поощрялась. После ареста Судоплатова Зоя Ивановна часто навещала его жену – Эмму Карловну.
В 1979 году я работала директором нашей выставки в США. На этой выставке в качестве представителя Комитета советских женщин присутствовала Любовь Кузьминична Балясная, которая в то время была то ли секретарем ЦК ВЛКСМ, то ли заместителем министра просвещения РСФСР. Когда мы вернулись в Москву, Балясная посетила Зою Ивановну, с которой она была дружна, и сказала ей, что в США она познакомилась с интересной женщиной, ее тезкой и мечтает познакомить их. Зоя Ивановна тут же спросила: «Зарубина, что ли?!» Балясная была потрясена. Еще больше она удивилась, когда в ее присутствии мы встретились с Зоей Ивановной и долго трясли друг другу руки.
Глава 10. Разведчик, резидент, дипломат
Швеция, по европейским меркам, одно из крупнейших государств Европы, вот уже более 150 лет неуклонно проводит политику нейтралитета и благодаря ему сумела достичь больших успехов в своем экономическом, социальном и политическом развитии.
Для этой страны характерен весьма неодинаковый уровень экономического и культурного развития. Море и множество озер соединяли, а горы и дремучие леса отделяли различные области Швеции друг от друга и от соседних стран. Поэтому в течение многих столетий хозяйственные центры Швеции находились либо на берегах Балтики и проливов, ведущих из нее в Северное море, либо в озерном крае, лежащем между обоими морями.
Высоким темпам развития экономики Швеции соответствовал быстрый рост внешней торговли. Накануне первой мировой войны главными статьями шведского экспорта были лес и лесоматериалы, руда и металлы. Экспорт машин в эти годы был невелик и уступал экспорту мясомолочных продуктов.
Главным покупателем шведских товаров в начале XX века, как и раньше, продолжала оставаться Англия, но главным импортером для Швеции стала Германия. По мере индустриализации Швеции быстро возрастали ее торговые связи с царской Россией, куда сбывались машины в обмен на сельскохозяйственное сырье. Еще быстрее росли шведские капиталовложения в русскую промышленность. В экономике Швеции главную роль играл частный капитал, а в нем не последнее место занимал промышленно-банкирский клан Валленбергов.
В годы первой мировой войны Швеция становится не только основным экономическим партнером Германии, но и центральным исходным пунктом разведывательной работы Германии против России. Это положение объясняется рядом конкретных причин, и прежде всего тем, что правительственные и общественные круги Швеции были предрасположены к Германии. Германо-шведские и шведско-русские границы (в то время Финляндия принадлежала России в результате русско-шведской войны 1808 – 1809 гг.) были весьма удобны, в силу однородности населения для заброски агентуры и эмиссаров из Германии в Россию, а самый короткий путь из России в Европу шел через Швецию. Шведско-русская довольно активная торговля, в свою очередь, позволяла использовать этот канал в разведывательных целях. Этому способствовала и контрабандная торговля между Германией и Россией, которая также велась через шведскую территорию. Для разведывательных агентурных целей активно использовалась вербовка шведов, финнов, евреев и русских, особенно из числа прогермански настроенной молодежи. Особой активности в этом плане достигла германская военная разведка против России, которой на территории Швеции руководил немец капитан Хэлдт.
Поэтому в целом в предвоенные и военные годы традиционный шведский нейтралитет можно назвать прогерманским нейтралитетом. Что касается промышленно-банкирского дома Валленбергов, то один из них К. А. Валленберг в период войны 1914 – 1918 годов был министром иностранных дел Швеции.
В конце 20-х и начале 30-х годов нашего столетия буржуазная печать Скандинавских стран возобновила обсуждение планов уже не антироссийского, а антисоветского блока, в котором Швеции отводилась ведущая роль. В декабре 1929 года в Стокгольме состоялась конференция на тему «Обороны Северной Европы», которая прошла под знаком необходимости военного сотрудничества стран Северной Европы перед лицом «русской опасности».
Советская дипломатия противодействовала этим планам путем дальнейшего укрепления своих отношений с Прибалтийскими странами. Улучшению, в частности, советско-шведских отношений способствовало и назначение в июле 1930 года новым полпредом СССР в Швеции Александры Михайловны Коллонтай. Первая в мире женщина-посол – прекрасный знаток Скандинавии, она как нельзя лучше подходила для дела дальнейшего сближения советско-шведских отношений. А. М. Коллонтай проработала в Швеции сначала Полномочным Представителем, а затем Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР с 1930 по 1945 год. До этого она в 1923 году была полпредом и одновременно торгпредом в Норвегии, в 1926 году в Мексике, а затем вновь с 1927 по 1930 год в Норвегии (родилась Коллонтай в 1872 году, а умерла в 1952 году).
Начиная с 1934 года вопросы внешней торговли между Швецией и Россией отошли на второй план по сравнению с растущей опасностью новой мировой войны. Пришедшие к власти гитлеровцы развернули в Швеции интенсивную пропаганду, играя на традиционных симпатиях к Германии в этой стране. На шведов обрушилась целая лавина высокопоставленных докладчиков (Гесс, Фрик, фон Папен, Гаусгофер и др.) и соответствующей литературы из рейха, в частности, о мнимой советской угрозе Северу. Гитлеровская пропагандистская организация «Нордише гезелынафт» («Северное общество») нашла в Швеции ценного пособника в виде «Шведско-германского объединения» в Стокгольме. Наряду с открытой пропагандой гитлеровцы воздействовали и другими методами: субсидированием отдельных газет, подкупом журналистов и литераторов, изданием своей литературы через шведских подставных лиц, организацией встреч молодежи, писателей и т. д. Шведская печать все чаще сигнализировала о случаях германского шпионажа в Швеции. Германские власти то и дело заявляли официальные протесты шведскому министерству иностранных дел по поводу антинацистских выступлений в шведской печати.
В начале октября 1939 года в Швеции шли переговоры о персональном составе будущего правительства. Представитель консерваторов Е. Багге, выступая с речью в Гётеборге, высказался за создание такого коалиционного правительства, которое было бы «подлинно национальным», то есть включало не только лидеров крупнейших политических партий, но и представителей промышленных кругов. Это было главным условием консерваторов. В качестве возможных членов правительства консерваторы, наряду с другими кандидатурами, предложили на пост министра иностранных дел банкира Якоба Валленберга.
Несмотря на заинтересованность гитлеровцев в нормальном товарообмене со Швецией, их подводные лодки в океане вновь, как и четверть века назад, топили одно шведское судно за другим. В ноябре 1939 года немцы минировали важный участок шведских территориальных вод у мыса Фальстербу-Удде, при выходе из Зундского пролива в Балтийское море. Одновременно правители фашистской Германии втайне обсуждали вопрос об оккупации Дании и Норвегии, что создавало серьезную угрозу и для Швеции. Одновременно планы перенесения военно-морских операций на Балтику с базированием на шведские порты разрабатывались и Британским адмиралтейством.
Началась вторая мировая война. С первых же дней войны начались переговоры Швеции с Англией и Германией, причем тактика шведов заключалась в том, чтобы договориться как можно быстрее с англичанами и, в зависимости от результатов, с немцами. В переговорах же с Германией они ссылались на экономические, деловые соображения. И в тех и других переговорах принимали участие не только правительственные чиновники, но и крупные финансисты, например, банкир Якоб Валленберг в торговых переговорах с Германией и его младший брат Маркус Валленберг в торговых переговорах с Англией.
Учитывая важность англо-шведских и шведско-германских экономических связей, в Лондоне была учреждена постоянная экономическая англо-шведская комиссия, такая же, только шведско-германская, комиссия собиралась то в Берлине, то в Стокгольме.
После нападения Германии на Советский Союз поднялась новая волна реакции в Швеции. Многие шведские газеты писали, что Швеция должна немедленно сделать свой выбор и присоединиться к борьбе Германии против «восточного варварства». Антисоветская кампания приняла столь значительные размеры, что вынудила советского полпреда А. М. Коллонтай обратить внимание премьер-министра Швеции Ханссона на тон шведских газет и особенно газеты «Социал-демократен», несовместимый с политикой строгого нейтралитета, провозглашенной шведским правительством. Информационное управление шведского правительства обсуждало в этой связи меры воздействия на газеты и планировало даже оказать на них экономическое воздействие с помощью банкиров М. Валленберга и X. Манихеймера.
Советско-шведские отношения после начала войны ухудшились. Правда, по просьбе советского правительства Швеция формально взяла на себя обязательства по защите интересов граждан СССР в Германии. Шведские фирмы продолжали выполнять полученные ранее советские заказы, которые оставались на складах ввиду невозможности их вывоза. Однако шведские власти оказывали значительную помощь германской и финской армиям в наиболее сложный для Советского Союза период Отечественной войны. 25 июня 1941 года шведское правительство согласилось пропустить по железной дороге 163-ю германскую дивизию из Осло в Северную Финляндию.
В годы войны главным внешнеторговым партнером Швеции стала Германия. После вторжения гитлеровской Германии в Данию и Норвегию Швеция оказалась отрезанной от своих прежних рынков, которые поглощали перед войной 70% ее экспорта. Торговля же с Германией увеличилась на 33%. В 1941 году более 50% шведского импорта шло из Германии, а шведский экспорт в Германию составлял лишь 40%.
Вопрос о превращении Швеции в сателлита Германии решался на советском фронте. Провал плана молниеносной войны и битва под Москвой подняли дух всех честных шведов. Неожиданная для шведов русская оборона и очевидный просчет Германии в отношении продолжительности войны на Востоке заставили все большее количество людей сомневаться в будущем «новом порядке» в Европе по германскому рецепту. После битвы под Москвой шведы частично демобилизовали свою армию, считая, что угроза нападения со стороны Германии для них уменьшилась. В течение 1944 года с ведома шведских властей был налажен тайный ввоз оружия для сил Сопротивления из Швеции в соседние Скандинавские страны. Например, в Данию было ввезено 5,2 тысячи автоматов, 10 тысяч ручных гранат, 5 тысяч карабинов. Таким образом, нейтралитет Швеции постепенно приобретал для ее оккупированных соседей важное положительное значение.
На протяжении переломного 1943 года шведское правительство, не прекращая экономической помощи Финляндии, вместе с тем дважды советовало ее правителям выйти из антисоветской войны. В феврале 1944 года при содействии шведского банкира и промышленника Маркуса Валленберга была проведена неофициальная встреча между А. М. Коллонтай и прибывшим в Стокгольм представителем финского правительства Паасикиви. Через шведское министерство иностранных дел в феврале – марте того же года происходил дальнейший обмен мнениями между Хельсинки и Москвой. Шведская печать благожелательно комментировала советские условия перемирия, а шведские дипломаты и политики оказывали определенное давление на финских политиков. В июле 1944 года министр иностранных дел Швеции Гюнтер, склоняя финское правительство к миру, обещал ему помощь в уплате репарации.
Когда наконец 19 сентября 1944 года было заключено советско-финское перемирие, то в Швеции его приветствовали. Великодушные условия перемирия, отказ СССР от оккупации Финляндии расценивались в Швеции положительно и способствовали дальнейшему улучшению советско-шведских отношений.
В итоге можно констатировать, что если в начале XX века традиционный шведский нейтралитет имел ярко выраженную прогерманскую окраску, то в годы второй мировой войны этот нейтралитет находился под германским контролем. Швеция, к сожалению, не раз нарушала свой нейтралитет. В период «зимней», или «странной», войны она делала это по собственной инициативе, а в 1940 – 1943 годах в результате сильного нажима со стороны Германии. Надо сказать, что сохранением своего нейтралитета и государственной самостоятельности Швеция в немалой степени обязана позиции Советского Союза.
К богатейшему клану шведских банкиров и промышленников относится и Рауль Валленберг – дипломат, первый секретарь шведского посольства в Будапеште с 1944 по 1945 год. Р. Валленберг занимался в то время вопросами оказания помощи 15 000 евреев, проживавших в Венгрии.
Занимательная и непонятная история Рауля Валленберга напоминает историю современного графа Монте-Кристо, много лет проведшего, но не во французских, а в советских застенках, а затем бесследно исчезнувшего.
История Р. Валленберга началась с того, что шведский дипломат, по данным зарубежной прессы, 17 января 1945 года был арестован советскими органами контрразведки СМЕРШ и этапирован в Советский Союз (кстати, 17-е число называет лишь один источник, остальные публикации указывают просто – в январе 1945 года). Эта история многие годы не сходила со страниц зарубежной и отечественной печати. Только за последние годы об этом писали «Московские новости» (1989 г.), журналы «Эхо планеты» (1989 г.), «Молодая гвардия» (1991 г.), газеты «Вечерняя Москва» (1993 г.), «Известия» (1991 г., 1993 г., 1994 г.) и другие.
Арест Рауля Валленберга был вызван якобы тем, что он мог выполнять какие-то задания секретных служб или быть их агентом, а некоторые публикации называли его даже специальным связником английских и американских спецслужб, направленным для связи с их агентом Л. Берия. Мол, и его такой странный арест, или приглашение поехать в Москву, и был определен тем, что его ждал Берия, да еще с пакетом. Мол, Сталин об этом не знал, а Валленберг, как связник, чем-то не угодил Берия, и его заключили в тюрьму, а затем убили, но не его, а его двойника, а сам настоящий Валленберг жив до сих пор и кому-то упорно служит. Только никто не говорит – кому?!
Что же доподлинно известно из этой исторической легенды? Молодой, 35-летний шведский дипломат, отпрыск одного из богатейших семейств мира, находясь в период 1944 – 1945 годов в Будапеште, занимался оказанием практической помощи евреям избежать смерти и депортации, будучи сам причастным к этой нации. Он доставал и передавал евреям охранные грамоты от имени правительства Швеции и других нейтральных стран, так называемые «Шутц-пассы». В этой деятельности ему активно и успешно помогала жена министра иностранных дел правительства фашистской Венгрии Гобо Кемены баронесса Элизабет Кемена. Известно, что проведением этой работы в Венгрии Р. Валленберг занимался по просьбе делегации представителей американских еврейских организаций, приезжавших в 1943 году для этих целей в Стокгольм. Известно также, что обер-штурмфюрер СС Адольф Эйхман, 38-летний шеф еврейского отдела гестапо, занимавшегося в Венгрии депортацией евреев, дважды пытался организовать покушение на жизнь Р. Валленберга, но безуспешно.
28 марта 1945 года крупный шведский банкир, Маркус Валленберг, обратился в советское посольство к А. М. Коллонтай с официальной просьбой помочь разыскать его пропавшего родственника.
Тем временем молва и ажиотаж вокруг имени Рауля Валленберга продолжали муссироваться зарубежной и отечественной прессой. Одни свидетели видели его заключенным в камере № 142 Лефортовской тюрьмы, другие читали свидетельство о его смерти от инфаркта в тюремной камере 17 июля 1947 года, третьи встречали его где-то в Сибири в 60-е и даже 70-е годы. Однако 18 августа 1947 года замминистра иностранных дел СССР А. Вышинский направил шведскому посланнику в Москве Р. Сульману официальную ноту, в которой говорилось: «В результате тщательной проверки установлено, что Валленберга в Советском Союзе нет и он нам неизвестен».
Однако настойчивость родственников по его розыску и их обращения в официальные правительственные органы СССР привели к тому, что в октябре 1989 года в Москве советской стороной им якобы были предъявлены найденные незадолго до этого в архивах КГБ личные документы и вещи Рауля Валленберга: дипломатический паспорт, удостоверение личности, водительские права, записные книжки, американские, венгерские и шведские деньги и портсигар. По поводу портсигара его сестра Нина Лагергрен, урожденная Валленберг, выразила сомнение в его принадлежности брату, поскольку Рауль никогда не курил.
Фантазии, прогнозирование и предположения причин исчезновения Р. Валленберга продолжали извергаться как водопад, и все с брызгами «якобы». В иностранной печати появились материалы «историков» и «публицистов», в которых высказывалась мысль, что в похищении Валленберга, если оно, конечно, было, замешан и Л. И. Брежнев, поскольку он в годы войны был начальником политотдела 18-й армии, дислокация которой в те годы проходила по северной части Венгрии.
Можно ли всерьез говорить о причинах исчезновения Р. Валленберга, если не фантазировать?! А если фантазировать, то почему нельзя предположить, что Валленберг все-таки попал в руки переодетых в советскую форму сотрудников гестаповца Адольфа Эйхмана. И уж, во всяком случае, его нельзя считать «связником» Берия, поскольку сам Л. П. Берия был казнен не как английский шпион и «враг народа», а как, об этом теперь известно, конкурент, претендент на место первого человека в государстве, перехитрившего его Н. Хрущева.
Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина, оказавшаяся по воле судьбы на самом острие разведывательной работы в предвоенные и военные годы, к истории с братьями Валленбергами, о которой она пишет в своей книге, как разведчица имела лишь косвенное отношение. Из архивных материалов Службы внешней разведки того времени видно, что основную работу по заключению перемирия с Финляндией вела советская дипломатия в лице Александры Михайловны Коллонтай, а разведка в лице Зои Ивановны лишь помогала ей, в изобилии снабжая справочными и характеризующими, как говорят в разведке, установочными материалами.
В эту страну и был направлен в качестве резидента опытный сотрудник органов государственной безопасности полковник Борис Аркадьевич Рыбкин. Ранее он был резидентом в Финляндии, где и познакомился с Зоей Ивановной Воскресенской. В Финляндии Рыбкин проявил себя и как дипломат, выполняя конфиденциальное поручение Сталина. Об этом красноречиво говорит докладная записка МИД СССР, которую в мае 1981 года передал 3. И. Воскресенской-Рыбкиной бывший посол СССР в Финляндии А. Е. Ковалев.
«Наиболее последовательное и полное изложение содержания советско-финляндских политических переговоров, происходивших в 1938 году в обстановке строжайшей секретности [24], приводит в своей изданной в 1957 году на английском языке книге «Зимняя война» В. А. Таннер [25], пытающийся с объективистских позиций дать правдоподобную версию событий.
Как свидетельствует Таннер, тогдашний министр финансов Финляндии, переговоры в Хельсинки вел с советской стороны второй секретарь полпредства СССР в Финляндии Б. Н. Ярцев [26] (по определению Таннера «представитель ОГПУ в советской миссии»). Никто в полпредстве, кроме Ярцева, даже советский полпред в Хельсинки В. К. Деревянский, ничего не знал не только о содержании переговоров, но и о самом факте их ведения. Эти характеристики Таннера соответствовали истине.
Таннер отмечает, что ранней весной 1938 года Ярцев позвонил финскому министру иностранных дел Р. Холсти и обратился с просьбой предоставить лично ему возможность срочно переговорить с министром. В ходе состоявшейся 14 апреля встречи Ярцев спросил, может ли он обсудить с Холсти «пару в высшей степени конфиденциальных вопросов», и сообщил далее, что он, будучи недавно в Москве, «получил от своего правительства исключительно широкие полномочия обсудить именно с финским министром иностранных дел проблему улучшения отношений между Финляндией и Россией. Переговоры должны быть абсолютно секретны».
Заручившись согласием Холсти, Ярцев заявил ему следующее: советское правительство полно желания уважать независимость и территориальную целостность Финляндии, но СССР абсолютно убежден: Германия вынашивает настолько далеко идущие планы агрессии против России, что представители экстремистской части германской армии не прочь осуществить высадку войск на территории Финляндии и затем обрушить оттуда атаки на СССР. В таком случае закономерно поставить вопрос: какой позиции будет придерживаться Финляндия перед лицом этих намерений немцев. Если Германии будет позволено осуществить акцию в Финляндии беспрепятственно, то Советский Союз не собирается пассивно ожидать, пока немцы прибудут в Райяёк (ныне город Сестрорецк, Ленинградской области. – Э. Ш.), а бросит свои вооруженные силы в глубь финской территории, по возможности дальше, после чего бои между немецкими и русскими войсками будут происходить на территории Финляндии. Если же финны окажут сопротивление высадке немецких десантов, то СССР предоставит Финляндии всю возможную экономическую и военную помощь с обязательством вывести свои вооруженные силы с финской территории по окончании войны. Советский Союз был бы готов в этом случае предоставить определенные концессии в экономической области. Он располагает практически неограниченными возможностями закупать в Финляндии промышленную продукцию, в особенности целлюлозу, а также сельскохозяйственные товары, преимущественно для снабжения ими Ленинграда. Советское правительство осведомлено о германских планах: если финское правительство не будет потворствовать осуществлению целей Германии, то фашистские элементы в Финляндии организуют мятеж и сформируют правительство, которое окажет поддержку устремлениям немцев. В заключение беседы Ярцев спросил Холсти, изъявил ли бы последний готовность вести переговоры по этим вопросам только с ним, Ярцевым, лично, поскольку ни советский полпред Деревянский, ни первый секретарь полпредства СССР в Хельсинки Аустрин ни в коем случае не должны ничего знать об этих переговорах.
В ответ на подробное изложение Ярцевым позиции СССР Холсти сказал, что в его служебные функции входит получение любой информации, откуда бы она ни исходила, но что только президент республики определяет национальную внешнюю политику во всей ее полноте. Следовательно, он, Холсти, не может приступить к регулярным переговорам без соответствующей санкции президента. Холсти сослался также на то, что Финляндия сотрудничает со Скандинавскими странами. Единственной целью этого сотрудничества, по его словам, является, в части, касающейся Финляндии, сохранение мира. Холсти спросил, подразумевал ли Ярцев, когда говорил о возможной советской помощи Финляндии, закупки финнами оружия у СССР.
Ярцев ответил, что наряду с другими формами экономической поддержки это также может быть принято во внимание, как только Советский Союз будет гарантирован, что Финляндия не окажет помощи Германии в войне против СССР.
Тогда Холсти поинтересовался, что следует понимать под этими гарантиями.
Ярцев пояснил, что к этому вопросу они оба смогут вернуться позднее, а именно: как только будет уверенность в том, что Финляндия желает стоять в стороне от войны и оказать сопротивление германскому вторжению на ее территорию.
Далее Таннер свидетельствует: «На этом первое интересное обсуждение завершилось. Стало ясно, что советское правительство опасается возникновения войны в ближайшем будущем и стремится изыскать пути и средства обеспечения безопасности с Севера. Очевидно, что оно прежде всего испытывало боязнь нападения со стороны Германии. Однако обращение к финскому правительству осуществлялось настолько необычным образом, что члены кабинета, знавшие об этом, в первую очередь министр иностранных дел Р. Холсти и премьер-министр А. К. Каяндер, вначале не придали этому обращению того значения, которого оно заслуживало. Я не был информирован, консультировались ли на первоначальном этапе переговоров с другими членами правительственной комиссии по иностранным делам – министрами В. Войонмаа и У. Ханнула. Как бы там ни было, эта первая встреча не привела сначала к регулярным переговорам. Можно предположить, что частичной причиной этого явился факт отъезда в ту пору г-на Ярцева в Москву и его временное отсутствие. По возвращении из Москвы он, однако, посетил еще Стокгольм, где обсуждал проблему Аландских островов с министром иностранных дел Швеции Р. Сандлером и другими».
При этом Таннер указывает: «Поскольку дело не продвигалось вперед месяц или два, неофициальные лица взяли на себя инициативу добиваться прогресса в переговорах. Дело в том, что хотя, по словам Ярцева, переговоры должны были проходить в величайшей тайне, как выяснилось, он говорил о них с определенным кругом частных лиц (секретарем премьер-министра А. Инкиля, генералов А. Сихво, г-жой X. Вуолийоки и, возможно, с другими). С Инкиля, в частности, г-н Ярцев беседовал о своей миссии даже более откровенно, чем с Холсти. И на этом основании Инкиля попытался наладить дальнейший обмен мнениями. Исходя из его советов, г-н Ярцев не счел возможным проявлять новую инициативу в отношении переговоров. Он теперь полагал, что самой Финляндии решать, ухватиться ли за протянутую руку. Поскольку Холсти отправился в Женеву на заседания Лиги Наций, Инкиля надеялся, что Ярцева примет премьер-министр Каяндер – при условии, однако, что Ярцев на этот раз изложит свои конкретные точки зрения и рекомендации, рассмотрев которые можно было бы покончить с царящей неопределенностью».
Таннер с претензией на объективность скрупулезно, в хронологическом порядке излагает содержание последующих бесед Ярцева с финскими руководителями, пытаясь не столько обвинить СССР в давлении на Финляндию, как бы косвенно разделяя обеспокоенность советского правительства перед лицом германской угрозы, сколько стремясь оправдать тогдашнюю позицию Финляндии, небольшой страны, оказавшейся зажатой между двумя гигантами – как известно, немцы также предлагали финнам (в апреле 1939 г.) заключить пакт о взаимопомощи, но встретили отказ.
В конце июня 1938 года Каяндер согласился принять Ярцева, однако беседа оказалась немногословной и носила общий характер.
11 июля состоялась вторая беседа. Ярцев начал с разговора об экспансионистской политике Германии и возможности использования немцами в будущей войне финляндской территории. Каяндер исключал вероятность такого исхода, заметив, что Финляндия не позволит столь грубо нарушать ее нейтралитет и территориальную целостность. Когда Ярцев спросил, думают ли финны, что они сумеют защитить свой нейтралитет в одиночку, Каяндер отпарировал в том смысле, что окажись Каяндер сам на войне, он изо всех сил постарался бы не пасть духом, будь что будет. Что же касается Финляндии, то она в любом случае наверняка сделает все от нее зависящее. Каяндер добавил, что поскольку финская сторона предпримет все возможное с целью предотвратить использование Финляндии крупной иностранной державой в своих собственных интересах, то, разумеется, финны вправе допустить, что СССР, со своей стороны, также будет уважать неприкосновенность финляндской территории. Тогда Ярцев повторил, как он уже говорил Холсти: если СССР получит гарантии того, что немцам не будет предоставлено для атак опорных пунктов в Финляндии, то русские готовы обеспечить ее неприкосновенность.
Каяндер указал на важность стимулирования внешнеторговых связей и сослался на многие безуспешные в прошлом переговоры о заключении торгового соглашения между двумя странами. Ярцев признал значение внешней торговли, но подчеркнул, что прежде чем придать ей верную ориентацию, необходимо, чтобы фундамент политических взаимоотношений был в основном и целом ясным. Он сделал при этом упор на то, что именно в этом свете вел ранее речь о финских гарантиях: оба государства должны подписать договор (по словам Таннера, «беседа не прояснила, каково же должно быть содержание этого договора»).
В заключение беседы Ярцев вновь настаивал на необходимости «держать в абсолютном секрете» все, что касается переговоров. Уходя, он заявил, что «советский полпред Деревянский о многом говорил разным лицам, но сказанное полпредом не имеет никакого значения.
Таннер вспоминает, что только на этой стадии переговоров Каяндер посвятил его самого в тайну происходящего. Каяндер был обеспокоен: состоялось несколько встреч, а до конца дело не прояснилось. Ярцев, по утверждению Таннера, говорил о гарантиях лишь в общих словах, но не приподнял завесу над тем, что же в действительности эти гарантии должны были означать. Поскольку в отсутствие Холсти никто другой не мог продолжить переговоры, Каяндер предложил вести их Таннеру.
30 июля состоялась их первая встреча, не принесшая, однако, каких-либо важных результатов. По просьбе Таннера Ярцев обещал представить детализированные предложения советской стороны.
5 августа состоялась вторая встреча, но, как указывает Таннер, Ярцев своего обещания насчет конкретных предложений не выполнил, вследствие чего в беседе затрагивались другие вопросы. Таннер предложил обсудить такие вопросы, как наведение порядка на границе и выработка советско-финляндского торгового соглашения. Ярцев заявил, что можно было бы пойти также и по этому пути, но заметил, что другие, прежде всего политические, вопросы имеют самое прямое отношение к переговорам. Он предложил продолжить переговоры в Москве. Таннер ответил, что это не совсем подходит финнам по двум соображениям. Во-первых, переговоры в Москве привлекли бы больше внимания. Во-вторых, финские представители должны поддерживать тесные контакты со своим правительством. Так что удобнее было бы провести переговоры в Хельсинки. Ярцев обещал проконсультироваться на предмет проведения переговоров в финляндской столице.
10августа при встрече Ярцев вновь не изложил сути обещанных предложений. После того как Таннер доложил об этом Каяндеру, премьер-министр сделал следующий набросок краткого устного ответа Ярцеву: «Оставаясь всегда верным нейтральному внешнеполитическому курсу северных стран, правительство Финляндии не позволит ни нарушить территориальную целостность своей страны, ни допустить, соответственно, создания какой бы то ни было великой державой опорного пункта в Финляндии для нападения на СССР.
Советское правительство, обязуясь в любом случае уважать территориальную целостность Финляндии, со своей стороны не будет даже в мирное время препятствовать таким военным мероприятиям финнов на Аландских островах, которых может потребовать обеспечение максимально возможной безопасности и целостности финской территории и нейтралитета Аландских островов».
11 августа такой ответ был передан Ярцеву, который ограничился лишь замечанием о том, что Москва, а не Хельсинки, могла бы служить наиболее подходящим местом для переговоров.
18 августа Ярцев, как утверждает Таннер, впервые изъявил готовность сообщить нечто более определенное, чем его предыдущие рассуждения о гарантиях. Он сразу же заявил, что Финляндия выдвинула предложение, которое «ей даст много преимуществ»: выгодный торговый договор, прекращение пограничных инцидентов, укрепление Аландских островов и т. д. После этого Ярцев изложил предложения советской стороны (Таннер их цитирует по своим записям):
«Москва готова принять финскую торговую делегацию, однако ограниченный в политических аспектах характер предложений финского правительства дает основания сомневаться, что, придерживаясь их, можно добиться каких-либо результатов. Москва полагает, что если Финляндия примет ее условия, то ожидаемые цели будут достигнуты.
Россия предлагает следующее:
1. Если финское правительство не считает, что оно может заключить полностью секретное военное соглашение с СССР, то Россию удовлетворило бы закрепленное в письменной форме обязательство Финляндии быть готовой к отражению возможного нападения и с этой целью принять военную помощь России.
2. Аландские острова. Сооружение фортификационных укреплений на Аландских островах необходимо Финляндии с точки зрения ее безопасности. Укрепления на островах необходимы в равной степени для обеспечения безопасности Ленинграда. Москва может дать согласие на укрепление Аландских островов, если России будет предоставлена возможность принять участие в их укреплении, а также если будет позволено направить туда своего наблюдателя для контроля за ходом фортификационных работ и за последующим использованием укреплений. Москва намерена обратить особое внимание на то, что деятельность этого наблюдателя должна осуществиться совершенно секретно.
З. В порядке ответной услуги за вышесказанное Москва добивается, чтобы финское правительство позволило Советскому Союзу соорудить на острове Сур-Сари [27] военно-воздушную и военно-морскую базы оборонительного характера.
В этом случае Россия изъявляет готовность:
1. Гарантировать Финляндии нерушимость ее нынешних границ, в первую очередь морских.
2. В случае необходимости оказать Финляндии помощь оружием на выгодных условиях.
3. Заключить выгодное торговое соглашение с Финляндией, которое благоприятствовало бы развитию как ее сельского хозяйства, так и промышленности…»
В ответ на просьбу Таннера разъяснить более конкретно, что подразумевает советское правительство под «русской военной помощью», Ярцев сказал, что не имеются в виду ни посылка советских вооруженных сил в Финляндию, ни какие-либо территориальные уступки с ее стороны. СССР не хотел бы осложнять позицию Финляндии такими предложениями. Под военной помощью следует понимать поставки оружия и охрану морских границ. Он заверил Таннера, что продажа финнам оружия будет осуществляться на весьма выгодных условиях.
В заключение беседы Таннер, оговорившись, что это его собственная точка зрения, выразил сомнение в поддержке финской стороной изложенных Ярцевым предложений. Тем не менее обещал довести их содержание до сведения премьер-министра.
Ярцев подчеркнул, что СССР хотел бы ясно заявить Финляндии, чего он добивается, но что формальная сторона договора могла бы быть выработана удовлетворительно, то есть финны могли бы, со своей стороны, наметить контуры будущего договора. Было бы лучше вначале выяснить, может ли быть достигнута на переговорах договоренность о заключении такого пакта, который устраивал бы обе стороны. Если не будет уверенности в этом, то лучше и не начинать официальные переговоры, поскольку их провал осложнил бы положение каждой стороны.
Следующая встреча Таннера с Ярцевым состоялась 29 августа. По свидетельству Таннера, ответ финского правительства на советское предложение был отрицательным и со слов премьер-министра Каяндера буквально гласил следующее:
«Предложение СССР направлено на подрыв финляндского суверенитета и противоречит политике нейтралитета, которому Финляндия следует совместно со Скандинавскими странами.
Я считаю, что основное значение, которое имеет развитие торговых контактов, состоит в улучшении добрососедских отношений.
Улучшение отношений в части, касающейся пограничных вопросов, также было бы выгодным для обеих сторон».
Таннер отмечает, что «на этом дело не кончается. В русской прессе становятся привычными нападки на Финляндию. Они рассматриваются финнами в качестве ответной реакции на отказ финского правительства принять советское предложение. Не сдается и Ярцев. Он теперь требует еще более конкретного ответа, чем тот, который им был получен».
15 сентября в ходе очередной встречи [28] Таннер и Ярцев еще раз рассмотрели советские предложения и суть ответов финской стороны на каждое из них. Таннер заявил, что ответ финского правительства в вопросе о сооружении военных баз является отрицательным. Финляндия готова закупать такие виды оружия, в которых она может нуждаться, если их качество и цена будут ее устраивать. Что касается укрепления Аландских островов и Гогланда, то финское правительство отклоняет советские предложения на этот счет без каких бы то ни было контрпредложений. «Однако г-ну Ярцеву нужны были именно контрпредложения», – заключает Таннер.
В ходе этой последней встречи между ними Таннер заявил, что считает ответ финского правительства со всех точек зрения ясным. Если Ярцев хочет получить еще более мотивированный ответ на предмет возможных контрпредложений, то следует дождаться возвращения министра иностранных дел Холсти. Собеседники условились, что Ярцев будет ждать возвращения Холсти.
В начале октября Холсти возвратился, и его встреча с Ярцевым состоялась; в ходе ее «обсуждались те же старые вопросы».
Примерно в середине октября Холсти дал Ярцеву «исчерпывающий аналитический письменный ответ». Холсти, в частности, отметил, что, находясь в Женеве, он и министр иностранных дел Швеции Сандлер в беседе с наркомом Литвиновым обсудили вопрос об укреплении Аландских островов и изложили планы Финляндии и Швеции на этот счет. Холсти сказал Ярцеву, что, по его мнению, лучше было бы дождаться результатов дипломатических демаршей касательно Аландских островов, которые в ближайшее время предполагалось провести со странами, подписавшими конвенцию от 20 октября 1921 года о демилитаризации и нейтралитете островов [29], а также с Советским Союзом [30].
Таннер указывает, что содержание следующей беседы между Ярцевым и Холсти заключалось в выяснении отдельных аспектов на основе указанного письменного ответа финской стороны. В ходе беседы Ярцев заявил, что «он – неопытный молодой секретарь». Поэтому-де «его обязанностью было до сих пор подбирать по возможности самые осторожные слова. Теперь же он хотел бы, чтобы ему позволили говорить на языке, который принят у людей, когда они обсуждают серьезные вещи». Ярцев вновь возвратился к вопросу о возможной позиции Финляндии в случае войны. Он отмечал, что, поскольку Финляндия сама не в состоянии защитить себя, было бы разумнее положиться на военную помощь, обещанную Советским Союзом. По мнению Таннера, контуры предлагаемого русскими советско-финляндского военного альянса в ходе этой беседы стали вырисовываться более четко, чем ранее; также более прояснилась и позиция СССР по вопросу о Гогланде: в случае войны Советский Союз взял бы на себя ответственность за защиту этого острова.
21 ноября состоялась встреча Ярцева с временно исполняющим обязанности министра иностранных дел Финляндии В. Войонмаа (16 ноября Холсти подал в отставку). Значительная часть этой беседы была посвящена повторению того, что Ярцев уже говорил другим членам финского правительства. Кроме того, он предложил направить в Москву торговую делегацию для обсуждения проблем развития внешней торговли между двумя странами, в состав которой можно было бы включить также «пару политических деятелей». Но прежде чем затевать такие переговоры, подчеркнул Ярцев, необходимо быть уверенным, что они принесут какую-то пользу. В противном случае они принесут больше вреда. Было решено приурочить поездку финских представителей, которые уполномочивались бы вести политические переговоры, к намеченному на 6 декабря выезду в Москву группы финляндских должностных лиц для участия в церемонии, посвященной завершению строительства здания посольства Финляндии в СССР.
В ходе следующей беседы Войонмаа сообщил Ярцеву, что финская сторона дает согласие на продолжение в Москве переговоров, начатых в Хельсинки, и уполномочивает на их ведение А. С. Ирье-Коскинена, финляндского посланника в СССР, а также представителей МИД Финляндии У. Тойвола и А. Пакаслахти.
7 декабря Тойвола и Пакаслахти дважды были приняты в НКВТ [31] СССР (на второй беседе присутствовал Ирье-Коскинен). Однако разговора не получилось: переговоры и в Москве также фактически потерпели провал. Финны основное внимание акцентировали на необходимость развития торговых отношений, мы – на решении политических вопросов как на необходимой предпосылке последующего развития советско-финляндской торговли.
Таким образом, переговоры советских и финских представителей, проходившие с 14 апреля по 7 декабря 1938 года, никаких конкретных практических результатов не принесли. Финны наотрез отказались заключить с СССР пакт о взаимопомощи и не приняли другие наши предложения.
Сам Таннер следующим образом резюмирует итоги состоявшихся в 1938 году переговоров: «Никаких решений принято не было. Встреча может рассматриваться как конечный пункт первого этапа переговоров.
Следующая фаза переговоров открывается только через несколько месяцев, 5 марта 1939 года, беседой наркома иностранных дел СССР Литвинова с финским посланником Ирье-Коскиненом [32].
Известным диссонансом с утверждениями Таннера прозвучали некоторые послевоенные заявления финских президентов Ю. К. Паасикиви и особенно У. К. Кекконена, косвенно взявших на финскую сторону часть вины за срыв переговоров 1938 года. Так, 4 апреля 1973 года Кекконен заявил, в частности, следующее: «…полномочный представитель советского правительства 14 апреля 1938 года связался с министром иностранных дел Холсти. Этот представитель предложил Финляндии заключить двустороннее соглашение об обороне на случай, если Германия нападет на Советский Союз через территорию Финляндии. Однако предполагалось просить финнов наметить контуры договора…
Переговоры, в которых с финской стороны участвовали премьер-министр Каяндер и министры Холсти, Таннер и Эркко, велись столь секретно, что комиссия по иностранным делам ничего о них не знала. Переговоры были прерваны вследствие того, что Финляндия не проявила интереса к ним».
Характерным является рассказ тогдашнего секретаря премьер-министра, магистра Арво Инкиля, о встрече премьер-министра с представителем Советского Союза. Полномочный представитель, как было обусловлено, секретно прибыл к премьер-министру и начал беседу словами: «Премьер-министр пригласил меня», на что Каяндер ответил: «Я не приглашал вас». Тогда советский представитель сказал: «В таком случае мне здесь нечего делать», – и ушел. Когда позднее представитель еще раз пытался встретиться с премьер-министром, Каяндер не согласился принять его и предложил представителю Советского Союза изложить свое дело секретарю.
Думаю, что в этой связи необходимо сказать несколько слов о роли Швеции в советско-финляндском конфликте перед и во время войны 1939 – 1940 годов.
С началом советско-финляндского конфликта наступил новый этап во внешней политике Швеции. В условиях, когда еще шли переговоры между советским и финским правительством, Швеция заняла резко антисоветскую позицию. Шведские дипломаты предприняли демарш в Москве и в столицах западных держав, призывая поддержать позицию Финляндии.
Кроме того, шведы обещали финнам поддержку военными материалами и тем самым поощряли их не уступать в переговорах с советской стороной. Премьер-министр Швеции Ханссон, правда, весьма определенно и заблаговременно предупреждал финское правительство, что прямой военной помощи от Швеции оно не получит. Однако многочисленные заявления о солидарности с «братской Финляндией», поступавшие от шведских кругов, в частности, от министра иностранных дел, создали у финских политиков преувеличенные расчеты на помощь со стороны Швеции. Эти расчеты отрицательно повлияли на готовность финской делегации прийти к соглашению с советским правительством во время московских переговоров, в подготовке которых по просьбе Сталина принимал участие, под видом временного поверенного СССР в Финляндии, резидент советской разведки в Хельсинки Б. А. Рыбкин.
7 апреля 1938 года Б. А. Рыбкин был вызван лично к Сталину и получил от него указание провести секретные переговоры с правительством Финляндии и заключить с ними двухсторонний оборонительный договор на случай, если Германия попытается напасть на Советский Союз через территорию Финляндии. Однако эти переговоры не имели успеха. Затем они уже официально были продолжены 5 октября в Хельсинки, а 12 октября 1939 года в Москве, но вновь безуспешно. Президент Финляндии Урхо Кекконен в своей книге «Письма из моей мельницы», изданной в Москве в 1973 году, писал по этому поводу следующее: «Московские переговоры 1939 года не имели успеха не по вине поверенного в делах России в Финляндии господина Ярцева, а вследствие недостатка интереса к этому вопросу со стороны Финляндии».
Начало военных действий на советско-финской границе до ноября 1939 года ускорило назревший кризис внешнеполитического руководства в Швеции. Прежний министр иностранных дел Сандлер, сторонник прямой помощи финнам, вынужден был уйти в отставку. Его место занял кадровый дипломат из консервативных буржуазных кругов К. Гюнтер. Новое коалиционное правительство поспешило заявить о своем намерении не допускать вовлечения Швеции в какой-либо военный конфликт. Однако заявления о нейтралитете в советско-финской войне оно не сделало, подчеркнув этим свое сочувствие одной из сторон. Швеция заняла во время «зимней войны» позицию так называемой невоюющей державы. В то же время Швеция в крупных масштабах оказывала Финляндии помощь оружием.
В Швеции полную свободу получила агитация за вступление в войну против СССР, хотя шведское правительство и не собиралось этого делать. По всей Швеции были созданы частные бюро вербовки добровольцев, причем добровольцами оказывались военнообязанные запаса, а также кадровые военные, которым разрешалось увольняться из шведских вооруженных сил. Общее число добровольцев составило около 8500 человек. Они, однако, приняли участие в военных действиях на северном участке фронта лишь в марте 1940 года, то есть в последние дни войны. Кроме того, с января там же действовала шведская добровольческая эскадрилья из 17 самолетов.
Вместе с тем шведская дипломатия с самого начала советско-финляндского конфликта пыталась посредничать между обеими сторонами с целью возобновления переговоров. Советское правительство, со своей стороны, уже в самом начале военных действий заявило, что считает свои отношения со Швецией неизменными и что Красная Армия не нарушает нейтралитета Скандинавских государств. Это заявление выражало не временную, тактическую, а постоянную, принципиальную установку советской внешней политики, и оно оказало положительное воздействие на руководителей Скандинавских стран.
Когда 14 декабря 1939 года Ассамблея Лиги Наций (теперь ООН) приняла резолюцию об исключении Советского Союза, представитель Швеции Унден от имени трех Скандинавских государств (Швеция, Норвегия, Дания) заявил об их неприсоединении к антисоветским санкциям.
В конце февраля 1940 года при очередном приезде финского министра иностранных дел в Стокгольм премьер-министр Швеции Ханссон вновь склонял его к принятию советских условий мира, обещая помочь Финляндии в ее хозяйственном восстановлении и благожелательно отнестись к заключению оборонительного союза между обеими странами. Однако финское правительство еще уповало на помощь западных держав и тянуло с ответом на советские мирные предложения и приняло их лишь 12 марта 1940 года, подписав в Москве мирный договор. Интересно, что при подписании мирного договора народный комиссар иностранных дел СССР выразил благодарность шведскому правительству за помощь в восстановлении мира между Советским Союзом и Финляндией.
Можно предполагать, что такая быстрая, хотя и с большими потерями, победа в «зимней войне» явилась одной из причин, почему И. В. Сталин не хотел верить разведывательным данным о готовящемся нападении Германии на СССР.
Глава 11. Как погиб полковник Рыбкин
Прошли годы. Многое в архивах разведки сейчас уже открыто. Но вопрос о том, как погиб полковник Рыбкин, так и остался неясным.
В архивах разведки, к сожалению, нет или не сохранилось никаких документов по этому поводу.
Однако на этот счет существуют две версии.
Первая, она же официальная: полковник Рыбкин Б. А. погиб под Прагой в автомобильной катастрофе.
До сих пор жив и здравствует офицер, который выезжал из Праги к месту катастрофы. Его фамилия Г. И. Рогатнев. По его незадокументированным рассказам, авария произошла из-за того, что водитель «шкоды», в которой находился полковник Рыбкин, обгоняя идущую впереди гужевую подводу, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной «студебеккер» с солдатами. И последнее, что якобы сказал Борис Аркадьевич, были слова: «Под мост, под мост», то есть Рыбкин имел в виду резко съехать на обочину в сторону встречного моста и тем самым избежать прямого столкновения. По словам Рогатнева, он не только помогал перенести тело Рыбкина в стоящую у дороги церквушку, но и беседовал с водителем «студебеккера» и с находившимися в кузове солдатами.
Вторая версия состоит в том, что полковник Борис Аркадьевич Рыбкин был преднамеренно убит. Об этом говорят различные факты, вступающие в противоречие с официальной версией.
Во-первых, одновременно, но не под Прагой, а под Будапештом, в аналогичной ситуации погиб капитан Суриков… в шинели и с документами полковника Рыбкина Б. А.
Во-вторых, генерал Белкин неожиданно ночью поехал из Будапешта в Прагу не обычной дорогой, а по той, где произошла авария. Белкин и его шофер В. Черноусов видели два трупа и ничего больше. А утром Г. И. Рогатнев еще застал солдат, свидетелей катастрофы, и только один труп (Рыбкина) и живого, но до сих пор находившегося в шоковом состоянии, бывшего за рулем «шкоды» майора Волкова. Г. И. Рогатнев и сейчас настаивает на своей версии.
Анализ этих и других фактов, на мой взгляд, свидетельствует в пользу второй версии. И особенно тот факт, что, как пишет Зоя Ивановна: «Я хотела поправить розу, надвинувшуюся на его щеку, сдвинула ее и за правым ухом увидела зияющую черную рану…» А мне она бесчисленное количество раз говорила, что она отчетливо увидела пулевое отверстие. Я не могу поверить в то, что мужественная, волевая сорокалетняя женщина-военнослужащая могла перепутать пулевое ранение с обычной, хотя и смертельной, травмой. И совсем непонятно, как сотрудница той же службы, полковник, жена, энергичная и властная женщина – Зоя Ивановна Рыбкина – не смогла (или не дали возможности) по горячим следам разобраться в истинной причине смерти своего горячо любимого мужа.
Относительно недавно, при встрече с бывшим начальником Четвертого управления, занимавшегося диверсионными операциями, П. А. Судоплатовым, в подчинении которого служил Б. А. Рыбкин, я задал все тот же вопрос – как погиб Б. А. Рыбкин? Павел Анатольевич ответил – конечно, автокатастрофа. Все остальное – это навязчивая идея Зои Ивановны…Но глаза! Глаза говорили, что он знает что-то другое.
Если принять за истину версию об убийстве Рыбкина, то неизбежно встает вопрос – кому и зачем была нужна его смерть?!
Возможно, она явилась результатом какой-то внутренней, служебной борьбы, внутренних неурядиц и неразберих. Ведь именно в 1947 году образовался так называемый Комитет информации, в состав которого вошла и разведка, что порвало внутренние кровные нити между другими подразделениями МГБ и что впоследствии было признано ошибкой в реорганизации. Возможно и то, что смерть Рыбкина была одним из эпизодов тогдашней антисемитской волны (Рыбкин был евреем). Органы государственной безопасности, как известно, были как раз одним из тех учреждений, в которых наиболее ярко просматривается линия то взлета, то падения роли евреев в государственной политике нашей страны. В период создания ВЧК, еще во времена Дзержинского, они были на всех ведущих ключевых постах, как, впрочем, и рядовыми сотрудниками. Затем наступала волна репрессий, жертвами которой становились представители этой национальности, хотя бы потому, что их там было большинство. Были и такие времена в органах государственной безопасности, когда, например, на партийной конференции центрального аппарата по документам мандатной комиссии значился только один еврей, конечно тот, который не менял фамилию и имя. Как раз в середине сороковых годов на устах советского руководства был «еврейский вопрос» – решалась проблема создания автономной еврейской республики в Крыму или в Палестине.
Смерть Рыбкина могла быть и результатом его участия в организации и проведении знаменитой Ялтинской конференции (4 – 11 февраля) 1945 года, где Рыбкин поддерживал контакты с представителями спецслужб США и Великобритании.
А может быть, его гибель каким-то образом была связана с той работой, которую он проводил в последнее перед смертью время по восстановлению связи с нелегальной резидентурой в Турции. Нельзя забывать, что именно в Турции в годы второй мировой войны германским послом работал фон Папен, преемник Гитлера на посту фюрера, которого сталинское руководство стремилось убрать, боясь того, что если фон Папен заменит Гитлера, то Германия еще до окончания войны пойдет на союз с Англией и США. Могли сыграть свою роль какие-либо отголоски недавних военных лет.
Теперь об этом можно лишь гадать. Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Москва. Каждый год 8 января на Новодевичьем кладбище можно увидеть мужчину. А у самого обелиска на снегу, как всегда, лежат алые, как кровь, гвоздики. На черном мраморе золотом выбиты слова:
полковник
РЫБКИН БОРИС АРКАДЬЕВИЧ
родился 19 июня 1899 года – погиб 27 ноября 1947 года
Ниже есть еще одна надпись:
ВОСКРЕСЕНСКАЯ-РЫБКИНА ЗОЯ ИВАНОВНА
ПОЛКОВНИК, ПИСАТЕЛЬНИЦА
28.IV. 1907 – 8.01.1992
Мужчина с непокрытой головой, стоящий у этого памятника – сын Алеша, Алексей Борисович Рыбкин.
Наши отношения с Зоей Ивановной постепенно становились все теплее и доверительнее. Зимой 1979 года Зоя Ивановна с младшим сыном приехала ко мне в гости в Берлин, где я в то время работал. Мы перешли с ней на «ты», и во время одной из прогулок по городу, печально заметив, что весной погиб ее старший сын, а год назад умерла моя родная мать, она предложила мне называть ее мамой.
Особенность моих отношений с Зоей Ивановной состояла в том, что изо всех ее родных и близких я был единственным, кто принадлежал к той же, как она говорила, «конторе», а из всех коллег по работе во внешней разведке – был единственным, кто входил в круг семьи.
Поэтому все, что написано в этой книге, она пересказывала мне по нескольку раз во время наших частых и длительных встреч. Многие родственники и коллеги, и я в том числе, неоднократно советовали написать воспоминания о разведке, но ее останавливал барьер секретности. Она не знала, что можно, а что нельзя говорить о своей прошлой работе. Толчком к тому, что она все же взялась за эту книгу, будучи прикованной болезнью к постели, послужили многочисленные публикации о ней в прессе в период 1990 – 1991 годов, в которых правда перемешивалась с небылицей. Именно поэтому первое издание ее книги называлось «Теперь я могу сказать правду».
Многие эпизоды, которые, видимо, больше всего волновали ее и затем нашли свое место на страницах этой книги, она пересказывала вновь и вновь. Но чаще всего возвращалась к одной и той же теме, застрявшей, как заноза, в ее сердце на всю жизнь: к гибели ее мужа Бориса Аркадьевича Рыбкина. И если другие эпизоды повторялись ею совершенно точно, то к рассказу о трагической смерти мужа постоянно прибавлялись все новые и новые детали.
И вот однажды, примерно за полгода до кончины она попросила меня достать из ящика письменного стола большой бумажный пакет и сказала: «Здесь я написала о том, как погиб Борис Аркадьевич. Этого еще никто не читал. Возьми с собой, потом вернешь». Дома, прочитав содержание конверта, я понял, что Зоя Ивановна хочет, чтобы я оставил у себя копию. Так я и сделал.
Но прежде чем познакомить читателя с письмом Зои Ивановны о гибели мужа, я хочу рассказать о некоторых нюансах их супружеских отношений, показать, почему трагическая смерть мужа не давала покоя Зое Ивановне до конца ее дней.
Дело в том, что когда Зои Ивановны уже не стало, я обнаружил в ее архиве несколько неотправленных писем той роковой поры. На тот свет. К покойному, но по-прежнему любимому мужу. На грани смерти и жизни. Которые до сего времени никто не читал.
Всего их шесть. Первое письмо – крик раненой Души женщины – вообще не датировано. Второе и третье – почти через месяц после гибели мужа… Последнее написано в июле следующего, 1948 года. Я предлагаю читателю четыре письма. Вот они.
«Не имею права!
Я должна жить!
Счастливый человек – независимый человек! Несчастливый человек не может быть независимым!
Что может быть тяжелее и неприятнее несчастной женщины? – говорит Павленко в «Счастье».
Да, это так! Я чувствую, ощущаю это ежеминутно, ежесекундно.
В дни твоих похорон наши друзья были со мной. Они старались меня утешить, когда я похоронила тебя.
Теперь я им в тягость. Они не могут держать меня на своих руках всю жизнь. Я должна сама стать на ноги. Я это понимаю.
Я боюсь быть нудной. Я не хочу быть «вечно заплаканной вдовой». Я хочу быть снова самостоятельным человеком, каким была при тебе!
Как это сделать? Как?
Как обрести мне равновесие, как сделать, чтобы тоска и отчаяние не заливали меня, не душили меня, как и что сделать, чтобы раздавленный грубым сапогом воробей нашел в себе силы лететь?
Как мы были счастливы, как нам было хорошо, нам никогда не бывало скучно вдвоем. Мы всегда хорошо себя чувствовали в обществе, среди товарищей, друзей.
Нас смешило и радовало постоянное удивление людей нашей неизменной дружбой, любовью. Мы гордились друг другом и берегли наше счастье, наши отношения, нашу влюбленность друг в друга.
Милый, родной, хороший!
Всего 3 месяца тому назад я чувствовала себя 25-летней. Всего 3 месяца назад мы беззаботно подсчитывали, что еще много лет мы будем горячими любовниками, а затем милыми старыми друзьями-супругами, а потом… в глубокой старости ты умрешь, как умер гоголевский Афанасий Иванович, и затем также мирно уйду за тобой и я, твоя верная Пульхерия Ивановна.
Так шутили мы!
Так думали мы, как веселые принцы, еще в середине сентября 47 года. А вот сегодня я уже месяц вдова. Я чувствую, что мне не 40, а 70 лет и я не имею права даже отправиться вслед за тобой, не имею права облегчить свои страдания.
22.XII.47.
Боря, солнце души моей!
Померкло солнце! И я в черной ночи повисла над бездной, над страшной пропастью. Держусь руками, ногтями и зубами, чтобы не сорваться вниз.
Ах, как это невыносимо трудно, как тянет вниз.
Но разве ты простил бы мне, если бы я сорвалась?
Разве ты мог простить бы меня, чтобы я оставила круглой сиротой Алешеньку, которого ты так любил?
Разве я имею право оставить Володю, который еще не стал на ноги, и нашу мать, которая еще держится на ногах потому, что держусь еще я.
Нет, Боренька, я не обману твоих надежд, я буду держаться.
Ты не хотел уходить из жизни, ты не хотел, ох как не хотел покидать меня и Алешеньку. Я знаю, что последняя мысль у тебя была обо мне и Алешеньке.
Где и как найти силы, чтобы выдержать этакое?
Я знаю, что ты ответил бы: «Зоинька, у тебя есть партия, есть работа, на тебе осталась семья. Я не добровольно ушел из жизни. Меня вырвало из нее. Я так хотел жить, работать и радоваться. Не предавайся отчаянию. Я всегда гордился тобой. Возьми себя в руки. Работай за нас обоих. Пусть Алешенька имеет от тебя столько любви, ласки и заботы, сколько имел от нас обоих. Держись, Зоинька! Без паники. Возьми, унаследуй мой оптимизм».
Мы всегда понимали друг друга без слов и умели читать мысли друг друга.
Именно это ты сказал бы мне в последнюю минуту, если бы мог, мой милый, любимый, родной.
Клянусь, я не обману тебя, не оскверню твоей памяти. Буду стараться, изо всех сил стараться быть такой, каким был ты.
Мы бы не были вместе и не прожили бы такой яркой, счастливой жизни и не любили бы друг друга, если бы не были коммунистами, если бы превыше всего не ставили бы интересы нашей Родины. Я знаю это.
Клянусь, что отдам все свои силы партии, работе, которую она мне поручила. Никто пусть не скажет, что Зоя Ивановна опустилась, «скисла», стала «не то», что была при Борисе Аркадьевиче.
Буду, буду работать еще лучше, и пусть это будет памятником тебе, моему учителю, другу, мужу.
Буду держаться на ногах. Буду стараться заменить Алешеньке тебя и любить его за тебя и за себя. Поставлю Володю на ноги и буду оберегать мамину старость.
Друг мой нежный, мой любимый, помоги мне найти силы.
Никто больше не услышит моих стонов и не увидит моих слез.
А к тебе я буду прибегать, к тебе обращаться, как и при жизни.
Помоги мне!
Спасибо, родной, за счастье яркое, багряное, безоблачное. Спасибо тебе за все, все, что ты дал мне в жизни.
Твоя Зоя
26.12.47.
Боря, друг мой милый!
Зачем я пишу тебе, куда я пишу тебе, зачем обманываю себя?
Одиночество! Какое страшное слово, и звучит оно для меня совершенно по-новому. 12 лет мы прожили вместе, а 28 лет до этого я жила без тебя и не чувствовала этого одиночества, никогда не ощущала его, все чего-то ждала.
Теперь мне ждать нечего. Мне 40 лет. В 40 лет распрощаться со всеми радостями в жизни и тащить, тащить свою одинокую жизнь до самой смерти.
Вот уже месяц, как я вдова. Тоже страшное слово, смысл которого никогда раньше не доходил до моего сознания.
А всего лишь три месяца тому назад! Помнишь?
6 сентября 1947 года. Закончены последние строчки лекций, осматриваю стол, шкаф, прощаюсь с товарищами. Завтра уезжаю в отпуск, и в какой отпуск! Не просто «очередной», а впервые в жизни вместе с тобой.
Вечером едем осматривать Москву. Ей, старушке, завтра минет 800 лет. А как она молода и нарядна. Кремль сверкает как диадема из роскошных драгоценных камней на голове красавицы Москвы. Москва-река, отражая в себе миллионы огней, опоясывает шею Москвы.
Мы разъезжаем по улицам Москвы и в восторге теснее прижимаемся друг к другу. Алешка поворачивает ладошками тебе голову. Ты счастлив, ты смеешься, и в глазах твоих прыгает и искрится отражение огней, сливаясь с их внутренним светом.
Вечер. Сборы чемоданов. Пьем чай. Несколько часов сна, и мы едем на аэродром.
Какое это было чудесное утро. Мы выехали из дома, когда гасли огни иллюминации и на смену им вставало солнце. На небе ни облачка. Обещал быть чудесный день. Казалось, что все вокруг пело и ликовало и мы с тобой, беззаботные и счастливые, счастливые без конца, отправлялись в наше «свадебное» путешествие, спустя 12 лет после свадьбы.
Такой ты видел Москву в последний раз.
Такой я видела Москву в последний мой счастливый день в Москве.
6 июня 1948 года
Боря, Боренька!
Как мне тяжко без тебя! Без тебя – друга, товарища, мужа и папы детей моих.
Сегодня Алешенька сорвал ромашку и гадал: любит – не любит, и как в прошлом году уверенно воскликнул: «Любит папа маму. – И добавил: – И Алеша маму».
Да, ты любил меня! И как любил! Теперь тебе все чуждо. А я живу как птица с поломанными крыльями.
Работа? Все идет вкривь и вкось, и я не могу вечером сказать себе – да, я прожила день не зря. Не могу этого сказать, потому что топчусь на месте, не живу в 1949 или как другие в 1952 году. О, далеко нет. Живу в каких-то 30-х годах. Почему так? Ах, как мне хотелось потолковать с тобой об этом, найти пути, найти выход, работать в полную мощность, чтобы не стыдно было каждый день ложиться спать.
Как мне не хватает тебя!
Ты понял бы меня.
Ты никогда не удовлетворялся внешним благополучием. Ты научил и меня этому. Но все ли я делаю, чтобы сломать рутину? Наверно, нет. Наверно, ты сказал бы, что я мало стараюсь. Сегодня зацвели в саду лупинусы. Они растут, цветут, живут, а тебя нет.
Сегодня Толя и Андрюша ждали своего папу из командировки. Алешенька тоже все время повторял: «Папа, папа. – И один раз спросил меня утвердительно: – Ведь мой папа тоже скоро приедет, правда?» Нет, Алешенька, подумала я, не приедет больше твой папа, и мне, увы, не дано уехать к нему. Не могу же я сделать так, чтобы Алешенька спрашивал также и про маму, не надеясь никогда услышать утвердительного ответа.
Окружающие считают, что я уже «прошла», пришла в себя, и, как Эмма сказала, считают, что я уже подыскиваю себе напарника в жизни. Пусть так думают! Очень хорошо, что так думают. Я вовсе не хочу выглядеть несчастной, вечно заплаканной вдовой.
Да, я сижу сейчас и плачу, а завтра приду на работу и никто этого не заметит и знать не будет.
Боренька, друг мой сердечный! Что бы ты сказал мне, если бы ты воскрес? Наверно, был бы недоволен, что очень кратки бывают мои посещения на Новодевичьем? Я бы просиживала на твоей могиле часы, дни, все время! Как мне хочется кинуться на твою могилу и так забыться, слиться с тобой. Но я не допускаю этого. Раз я живу, я не хочу быть инвалидом и влачить жизнь. Надо или продолжать жить, иликончить ее. Я выбрала первое и буду жить. Сделаю все, чтобы прожить ее с пользой. Так бы сказал мне ты, если бы мог.
Я хочу видеть мир, жизнь такими, как я видела их при тебе. Я хочу видеть краски цветов и наслаждаться их ароматом. Ты знаешь, как я люблю краски, радостные, яркие.
Теперь цветы в саду мне говорят только о кладбище и смерти, а аромат их для меня – запах тления.
Цветут розы. Я смотрю на них и думаю. Что такое розы, если нет Бориса. Я слышу восхищенные голоса: как красиво в лесу, какой чудесный воздух. Какой великолепный запах. К чему мне все это без тебя?
Единственное, что я ощущаю, – это атласную кожу Алеши, чудесный цвет его синих глаз и все его маленькое, такое дорогое мне его тельце, его ручки, ножки. Тогда смягчается мое горе. А как он разглаживает своей ручонкой морщины у меня на лбу!
Алеша – это частица тебя. Я нужна Алешеньке! Я нужна и нужна маме! Но я эгоистична. Мне нужен ты – мой любимый друг, мой дорогой муж!. Ты мне нужен так же, как я нужна Алеше.
Часто я сижу с закрытыми глазами, а иногда просто глядя перед собой. Вижу твои карие, такие дорогие и милые глаза и вокруг них такие веселые лучики-морщинки, и я знаю, что тебя нет. Я начинаю кричать, протяжно, дико, протестующе. Я готова разорвать себе грудь и вырвать из нее свое сердце, такое горячее и колючее, как кусок раскаленного шлака. Оглядываюсь кругом. Люди сидят и говорят со мной. На их лицах деловое, обычное выражение. Значит, я кричала молча. Значит, лицо мое тоже оставалось «деловым» и его исказила мука.
Мой любимый, мой дорогой и единственный!
Как я всегда радовалась, когда приходила домой и видела в передней шинель и пару сапог. Сапоги моего мужа. Шинель с плеча, моего обожаемого любовника. А рядом трогательные, крохотные, величиной со спичечную коробку каждый, сапожки нашего сынули и его микроскопическое пальто.
Всякая усталость сваливалась с плеч. Я знала, что меня ты всегда встретишь с улыбкой, с поцелуем. А после этого будет длинный разговор о дне минувшем, о событиях, о работе.
И никогда не бывало так, чтобы ты заснул, не поцеловав меня.
Такие вот письма. Письма куда., почему?… Письма одинокой, изумительно красивой женщины…
Зоя Ивановна 45 лет прожила одна, замуж не выходила. Всю оставшуюся жизнь ее терзала неизвестность – почему, как погиб ее муж?
И лишь через тридцать с лишним лет, в июле 1980 года, она доверила бумаге все то, что так ее мучило.
За полгода до своей смерти, словно чувствуя ее приближение, она отдала мне большой конверт.
«29 июля 1980 г. М.
КАК ЖЕ ПОГИБ ПОЛКОВНИК РЫБКИН БОРИС АРКАДЬЕВИЧ?
Этот вопрос для меня остается до сих пор неразгаданным.
А было так: во второй половине сентября 1947 года мы с Рыбкиным улетали из Москвы на отдых в Карловы Вары, впервые отправляясь проводить отпуск вместе. Я работала тогда в 1-м Главном управлении МВД СССР. Рыбкин – в 4-м Управлении этого министерства.
Ехали на машине на Внуковский аэродром еще затемно. Москва справляла тогда свое 800-летие и была ярко иллюминирована. Когда самолет поднялся в воздух, под нами было море разноцветных огней. Незабываемое зрелище.
Прилетели в Вену, отправились в Баден, где был расположен штаб советских оккупационных войск. Нас пригласил к себе на обед начальник СМЕРШа (?) генерал Белкин. Муж его знал раньше, я видела впервые. Ночевали в гостинице, рано утром выехали. Белкин дал нам машину и шофера, чтобы добраться до Карловых Вар. С нами в машине был сотрудник 4-го Управления Тимошков Александр. Я не помню – летел ли он с нами в самолете, не помню – был ли он с нами в Карловых Варах, но отлично помню, что из Бадена до Карловых Вар мы ехали вместе с ним.
Пересекли Австрию. На контрольно-пропускных пунктах в этой стране документы проверяли представители вооруженных сил четырех союзных держав: СССР, США, Великобритании и Франции. Рыбкин, Тимошков и шофер были в военной форме, я – в штатском. В Австрии жители встречали нас не очень-то приветливо: в двух или трех поселках нам отказались продать фрукты, которых было изобилие в садах. Дороги в Австрии и Чехословакии были обсажены дикими фруктовыми деревьями. Ветер сбивал плоды, и иногда надо было останавливать машину и разгребать лопатами дорогу. Везде были еще следы войны: по обочинам дороги разбитые орудия, сожженные танки, по сторонам разрушенные города и поселки. Миновали пограничный шлагбаум в Чехословакию. Остановились у корчмы и зашли туда, чтобы позавтракать. У нас с собою были продукты, консервы, конфеты, вино. Попросили хозяина корчмы дать нам кипяток. Он предложил отведать чешские национальные блюда и отодвинул в сторону нашу снедь. Мы решили, что он хочет заработать, и плотно позавтракали, не отказываясь ни от каких блюд, которые он и его жена предлагали нам. Но когда Рыбкин вынул из кармана бумажник, чтобы расплатиться, корчмарь отчаянно замахал руками. «Вы – наши освободители. Мы у вас в вечном долгу. Вы мои гости». Мы оставили ему конфеты, вино. Поехали дальше. Везде в Чехословакии жители сами предлагали сливы, яблоки, груши, и никто не брал с нас денег. Расплачивались мы московскими продуктами.
В санатории «Империал» мы пробыли неполный срок. В конце октября нас вызвали в Прагу, где нас ждало телеграфное распоряжение из Центра: мне немедленно вернуться в Москву, а Рыбкину Б. А. получить инструкции в Бадене и вернуться в Прагу для выполнения задания.
Прибыли в Баден. Рыбкин оформил у Белкина какое-то удостоверение на имя Тихомирова Александра Николаевича, на котором были наклеена фотография Рыбкина.
На следующее утро я должна была из Вены вылететь в Москву, а Рыбкин отправиться в Прагу. День был теплый, солнечный и тихий. Горы вокруг Бадена в густом золотом убранстве. Во второй половине дня подул сильный ветер. Поднялась рыжая пурга. За несколько часов оголились деревья, дороги покрылись толстым слоем опавших желтых листьев, которые взвихривал ветер. Мы поехали на машине в Вену. Остановились у наших приятелей Осиповых, с которыми дружили еще со времен совместного пребывания в Финляндии. А. Е. Осипов и в Финляндии и в Австрии был представителем Союзнефтеэкспорта. Выполнял некоторые задания нашей резидентуры. Буря продолжалась. Самолеты в этот день в воздух не поднимались. Рыбкин уехал в Прагу, а я на следующий день отправилась на аэродром. Начальник аэродрома сказал мне, что в Москву полетит только один грузовой самолет, полетит пустой за грузом. И если мне так срочно нужно, то он может меня отправить. Я согласилась. В самолете пассажирами были два солдата и я. Пустые ящики и бочки рассыпались, перекатывались по кабине. Сидеть было невозможно. Болтанка в воздухе была страшная. Приземлились возле Деб-рецена. «Дальше лететь нельзя, – сказал командир самолета, – Карпаты закрыты толстым слоем туч, при таком ветре можем врезаться в горы. Я получил приказ ждать погоды». Продуктов и денег ни у кого с собой не было. Кругом ходили гуси, утки, но венгры отказались обменять утку или гуся на часы. Небольшая воинская часть при аэродроме была на строгом пайке. Командир роты подарил нам дикого гуся, которого он убил на охоте. Я варила его много часов, но он был твердый как самшит. Даже наши молодые зубы не могли справиться с ним. Просидели день, два. Я решила ехать на поезде. Пошла на вокзал, села в какой-то проходящий поезд с разбитыми окнами. Прибыла на нашу границу. Там меня дальше не пустили: в паспорте была отметка, что выезд из СССР и въезд разрешен самолетом через определенные пограничные пункты. Мое служебное удостоверение тоже не помогло. Денег на телеграмму и железнодорожный билет не было. Я подошла на перроне к первому попавшемуся советскому полковнику. Узнала, что он едет из Вены в отпуск в Кисловодск. Попросила одолжить мне тысячу рублей, которые обещала выслать ему в Кисловодск сразу по прибытии в Москву (что я и сделала). Разыскала начальника Транспортного отделения МВД, рассказала ему о своей одиссее. Он пригласил меня к себе домой, дал телеграмму в Москву. Через два дня было получено указание, чтобы меня пропустили.
Из прилагаемого письма Рыбкина Б. А. Осипову А. Е. (Синицкая Н. Д. – его жена) видно, что 22 октября я еще не прибыла в Москву. Приписка в конце письма сделана рукой Осипова: «Суббота в Вене, Дебрецен – вторник». Значит, в Дебрецене я просидела в самолете.
По прибытии в Москву мне было приказано принять дела отдела в качестве замнач отдела. Начальника отдела не было, поэтому я стала врио нач. отдела 1-го Гл. управления. В 4-м Управлении мне сказали, что Рыбкин выполняет оперативное задание в Праге и пробудет там две-три недели.
Раза два Рыбкин звонил мне по «ВЧ». Просил прислать осеннее пальто, шляпу и шарф: наступили холода. Прислал несколько записочек с оказией. В письме, датированном 11 ноября 1947 года, он писал:
«…Самый напряженный момент всей моей поездки наступил сейчас. Чтобы тебе было понятно, представь себе – человек взбирается на высокую скользкую гору. Вот-вот доберется до верхушки и ее одолеет, но хоть осталось недалеко, но страшно скользко. Рискуешь каждую минуту сорваться вниз с ушибами. Держишься буквально когтями, чтобы не сорваться. В самые ближайшие дни все станет ясно. Надеюсь, все кончится благополучно. Ты, пожалуйста, не волнуйся. Может быть, пока это письмо дойдет, ситуация у меня изменится к лучшему».
Борис Аркадьевич по характеру был весьма уравновешен, спокоен и рассудителен. Ему чуждо было чувство паники, растерянности, преувеличения опасности. Поэтому такое письмо меня встревожило. Я спросила Эйтингона, как идут дела у Рыбкина. «Нормально», – ответил он. Спрашивать – в чем состоит суть задания – было не в наших правилах.
Это письмо было из Праги. А последнее письмо, датированное 23 ноября (за четыре дня до гибели) я получила через неделю после похорон Рыбкина. Это письмо он посылал с оказией, с капитаном Нефедовым из Дрездена. В этом письме он писал:
«Сейчас выезжаю на один день в Берлин, а 26-го из Берлина «к себе» в П., буду там вечером. А не позже (выделено Рыбкиным) 29-го буду у Белкина, т. к. мои документы на пребывание в П. кончаются 30 ноября. Оттуда сейчас же созвонюсь с начальством, после чего, уверен, смогу выехать домой.
В Дрездене, как всегда, остановился у тов. Прокопова».
28 ноября я была на работе. Настроение было тяжелое, беспокойное. Я просто не находила себе места, сама не знаю почему. 27-го утром я пошла к Эйтингону (нач. управления П. А. Судоплатов находился в это время в командировке) и попросила его дать указание Рыбкину возвращаться в Москву поездом, а не самолетом. У меня все еще в памяти была страшная болтанка в воздухе, когда я летела из Вены в Дебрецен. Он обещал. Состояние тревоги не проходило. Меня удивляло, что Рыбкин не дает о себе знать (капитан Нефедов задержался в Дрездене, и я понятия не имела, когда Рыбкин должен был вернуться). 28-го утром меня вызвали к Эйтингону. «Борис звонит по «ВЧ» – было первой мыслью. Но когда я вошла в кабинет Эйтингона, то увидела, что трубки всех телефонов лежат на месте, на рычагах. Затем я увидела жену Судоплатова – Эмму Карловну Каганову. Она работала преподавателем в Высшей школе МВД в Варсонофьевском переулке. Я заметила ее удрученный вид и спросила: «Ты чего такая кислая?» Она ответила: «У Толюшки (сына) коклюш». «Борис звонил?» – спросила я Эйтингона. Он затянулся сигаретой и сказал: «Ты баба мужественная». Меня покоробило обращение на «ты» и слово «баба». «Борис Аркадьевич звонил?» – снова спросила я. «Борис погиб», – мрачно произнес Эйтингон. До моего сознания это не дошло. «Совсем погиб? Вы шутите!» – «Борис Рыбкин погиб вчера под Прагой в автомобильной катастрофе». И все равно это не укладывалось в сознании, скользило мимо. «Как погиб?» – спросила я. «Сейчас выясняем. Поезжай домой. Эмма Карловна проводит тебя».
Я пошла к себе в кабинет, собрала со стола бумаги, уложила их в сейф, опечатала, вызвала машину. Сотрудникам сказала, что сегодня на работе не буду. Отказалась от сопровождения Кагановой, сказав, что ее вид может напугать маму, а мне нужно ее подготовить. Сама я была спокойна, чересчур спокойна, вернее одеревенела, и это меня пугало. Ведь накануне я металась, места себе не находила, а тут окоченела.
Приехала к маме, сказала, что мне нездоровится. Она взглянула на меня и с тревогой спросила: «Говори, что случилось?» Я ответила, что Борис попал в автомобильную катастрофу и отправлен в больницу, но жизнь его вне опасности. «Не расстраивайся и не переживай, ну сломал руку или ногу. Срастется, заживет. Мое сердце чует, что все обойдется благополучно».
На следующий день я поехала на работу. Мне казалось, что я приеду и мне скажут, что Борис жив. Но сотрудники уже знали о гибели Рыбкина. Это я поняла по их виду, по отношению ко мне.
Меня снова вызвали к Эйтингону.
Он сказал, что «происходит какая-то чертовщина», что ему звонили из Будапешта и сообщили, что под Будапештом обнаружена разбитая машина «эмка» и в ней два трупа: полковника Рыбкина и солдата-шофера. Звонил в Прагу, там Эйтингону сказали, что генерал Белкин, который ехал из Карловых Вар в Прагу утром 27 ноября, увидел на обочине дороги, недалеко от Праги, смятую машину «шкода» и в ней два трупа, в одном из которых, находившемся на переднем сиденье рядом с водителем, Белкин опознал полковника Рыбкина Б. А. Белкин вынул из кармана Рыбкина документы и поехал дальше в Прагу, чтобы сообщить о случившемся и потребовать расследования.
Какая-то надежда затеплилась в моем сердце. «Не может человек в течение двух дней погибнуть дважды, один раз в автомобильной катастрофе под Прагой, а второй раз под Будапештом, в таких же обстоятельствах: он жив!»
Вызвали меня к министру Абакумову. Он выразил мне свои соболезнования и сказал, что ведется расследование, создана комиссия.
К вечеру того же дня выяснилось, что за рулем машины «шкода» сидел майор (?) Волков, сотрудник 4-го Управления. Поскольку сам Рыбкин был отличным водителем машины, значит, Волков возил его или на свидание с каким-то человеком, или другие обстоятельства дела требовали, чтобы Рыбкин был не за рулем. В Праге, в морге, выяснилось, что Волков был в шоковом состоянии, что у него всего-навсего сломано одно ребро, весь удар пришелся на Рыбкина Б. А.
В машине «эмка», что попала в катастрофу под Будапештом, был капитан Суриков в шинели, папахе и с удостоверением личности полковника Рыбкина Б. А. (Рыбкин перед отъездом в Прагу оставил свою шинель, папаху и удостоверение личности в Бадене, уехав выполнять задание в Прагу по удостоверению на имя Тихомирова Александра Николаевича). 28 ноября погода была холодная, а у Сурикова, который находился в Бадене в командировке, не было с собой шинели. Его вызвали в Будапешт, и он решил надеть шинель и папаху Рыбкина и взял с собой удостоверение личности полковника Рыбкина Б. А.
Суриков и солдат-водитель оба погибли в автомобильной катастрофе при неизвестных обстоятельствах.
Так и осталось неизвестным, как же произошли обе катастрофы со «шкодой» и «эмкой».
29 ноября 1947 года тело Рыбкина Б. А самолетом было доставлено в Москву, в институт им. Склифосовского. В свидетельстве о смерти дата смерти обозначена «29 ноября 1947 г.», причина смерти: «перелом основания черепа». Место смерти: «Москва».
От меня скрывали, что Рыбкин доставлен в Москву, говорили, что гроб с его телом везут на грузовой автомашине. И только 2 декабря утром меня привезли в клуб им. Дзержинского, где был установлен гроб с телом Рыбкина. Было много венков и цветов. Я подошла ближе. Лицо мужа не было повреждено, высокий лысый лоб был чист. Я хотела поправить розу, надвинувшуюся на его щеку, сдвинула ее и за правым ухом увидела зияющую черную рану… Его сложенные на груди руки тоже были чисты, без ранений и царапин. А через несколько дней мне принесли его часы, которые я ему подарила и которые он всегда носил на левой руке. Ремешок и сами часы были сплошь покрыты запекшейся кровью.
В клубе собралось много народа. Гроб выносили генералы, в том числе П. А. Судоплатов, которого вызвали из командировки… В крематории речи… салют… Через несколько дней урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище в склепе, поверх которого насыпали могильный холм. И снова речи…
После похорон мне стали приносить деньги: зарплату Рыбкина за несколько месяцев, пособие, его накопления в кассе взаимопомощи, услугами которой мы никогда не пользовались. На окнах лежали пачки денег, набралось что-то около 70 000 рублей. Через несколько дней была объявлена денежная реформа и 70 тысяч превратились в 7 тысяч. На эти и свои деньги я поставила Рыбкину Б. А. памятник.
Сразу после похорон я написала министру Абакумову рапорт с просьбой перевести меня на работу в 4-е Управление и поручить мне дальше вести дела Рыбкина Б. А. Мне в этом было отказано, хотя мы с Рыбкиным были на одинаковой должностной ступени.
Почему я написала этот рапорт? Во-первых, мне хотелось принять эстафету от мужа, с которым я работала много лет, была его заместителем за границей, когда он был там резидентом. Мне хотелось чувствовать его руку. Во-вторых, у меня было смутное, даже неосознанное желание выяснить обстоятельства гибели Рыбкина. Какое задание он выполнял. Судоплатов как-то в разговоре много позже сказал мне, что в Праге Рыбкин организовывал связь с нелегальной резидентурой Николая Варсонофьевича Волкова в Турции.
В это же время происходило отделение разведки от МВД и объединение ее с военной разведкой. Я была членом комиссии по разработке задач и положения о советской разведке, которая стала называться «Комитетом информации при СМ СССР». Возглавлял эту комиссию от ЦК партии Б. Н. Пономарев. В середине декабря Комитет информации (КИ) переехал в новое место за ВДНХ, где сейчас размещается Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Однажды я поехала к Судоплатову П. А., который со своей службой остался в МВД СССР, и попросила его показать мне все документы и фотографии, раскрывающие обстоятельства гибели Рыбкина и Сурикова. Судоплатов, с которым мы были дружны и эта дружба возникла в Финляндии, где Судоплатов жил на нелегальном положении, а Рыбкин был там резидентом под легальной крышей, я – заместитель резидента. Судоплатов сказал, что оба случая аварии тщательно расследовались, виновные не найдены, что фотографии страшные и незачем «травить себе душу».
Как-то в разговоре с женой Судоплатова – Кагановой я сказала, что хочу просить министра МВД показать мне все документы об обстоятельствах гибели Рыбкина и хочу сама разобраться во всем этом. Дело в том, что за две недели до гибели Рыбкина и Сурикова почти в аналогичных обстоятельствах погиб в автомобильной катастрофе народный артист СССР Михоэлс. Ходили разные слухи о том, что эта катастрофа была не случайной…
Каганова просила меня не делать этого. «Борис работал в подчинении Павла (Судоплатова), – сказала она. – Рследование твое ничего нового не даст, Бориса к жизни ты не вернешь. Не трепли нервы ни себе, ни Павлу». Я согласилась.
В январе 1948 года замнач управления КИ полковник Д. Г. Федичкин, в подчинении которого я работала сказал, что он едет работать в Прагу и формирует группу оперативных работников, в которую хочет включить и меня. Я отказалась. «Куда угодно, только не в Прагу. Там я сейчас работать не смогу».
У читающих этот документ может возникнуть законный вопрос – почему я, спустя 33 года после гибели Рыбкина, поднимаю этот вопрос.
Этот вопрос жжет меня все тридцать три года. А вчера, 28 июля 1980 года, у меня был Дмитрий Георгиевич Федичкин и мы почему-то вспомнили и те далекие годы и гибель Рыбкина. Дмитрий Георгиевич сказал мне, что он передал мне лично фотографии с места катастрофы, в которой погиб Рыбкин. Я этого момента абсолютно не помню. Память у меня не плохая, и уж, конечно, в моем сознании сохранились бы эти фотографии. Но я ровным счетом ничего не помню, связанное с фотографиями или документами, связанными с гибелью Рыбкина. Федичкин сказал, что он отлично помнит, что вызвал меня к себе в кабинет, что мы сели друг против друга у столика перед письменным столом, что он выложил на стол фотографии, что я взглянула на них и мне стало плохо. Но потом я эти фотографии взяла с собой. Ничего этого я не помню. Может быть, у меня тогда произошел какой-то мозговой спазм и образовался провал в памяти. Если бы я взяла эти фотографии, то в семье об этом знали бы. И куда девались эти фотографии? Не помню, абсолютно никакого даже смутного отпечатка в памяти не осталось.
Я рассказала Федичкину обстоятельства гибели Сурикова, о чем он не знал. А когда я показала письма Рыбкина и рассказала Д. Г. Федичкину все, что мною написано выше, он сказал, что «от Белкина всего можно было ждать». Охарактеризовал Белкина крайне отрицательно, сказал, что, если ему память не изменяет, Белкин был махновцем, что он в политическом отношении человек нечистоплотный, и снова повторил: «способный на все».
Когда-то мой старший сын Рыбкин Владимир Борисович рассказал мне, что, будучи в командировке в Крыму, он встретился там с шофером генерала Белкина, который ему рассказал, что в 1947 году недалеко от Праги он видел разбитую машину, в которой погиб полковник Рыбкин. «Это был мой отец», – сказал шоферу Владимир. Сегодня я вспомнила об этом и попросила Владимира восстановить в памяти детали разговора с шофером.
Владимир рассказал, что году в 1960 – 1961 он, работая тогда в КГБ, был в командировке в Симферополе, где оборудовал радиостанциями оперативные машины. Однажды он поехал по Крыму на автомашине. Шофер Владимир Черноусое по дороге рассказал ему, что в свое время он работал личным шофером у генерала Белкина. Однажды осенью 1947 года в Будапеште генерал Белкин разбудил его ночью и велел ехать в Прагу по указанной им дороге. Недалеко от Праги они увидели разбитую машину. Авария произошла, по-видимому, только что. Белкин велел остановиться. Они подошли. На переднем сиденье, рядом с водителем лежал мужчина, весь в крови. Он был мертв. «Это полковник Рыбкин», – сказал Белкин. Вместе с шофером они забрали из карманов документы и полевую сумку. Водитель «шкоды» тоже был мертв. Поехали в Прагу. «Так вы что – ехали заведомо на место катастрофы? Так, что ли?» – спросил Владимир Рыбкин. «Да, – ответил Черноусое, – мне показалось странным, что Белкину ночью вздумалось ехать в Прагу, что он сам указывал, какой именно дорогой ехать…» Потом Черноусое посмотрел на Владимира и сказал: «А вы ведь тоже Рыбкин. Родственник, что ли?» – «Это был мой отец», – ответил Владимир. Черноусов замолчал и на дальнейшие расспросы Владимира отвечал незнанием.
Итак, как же и от чьей руки погиб Рыбкин?
Может быть, когда-нибудь то, что я написала, поможет прояснить обстоятельства гибели Рыбкина. Пригодится для истории нашей разведки.
Рыбкин Борис Аркадьевич был не рядовым разведчиком. Он был прежде всего коммунистом кристальной честности. Ему чуждо было хвастовство, чинопочитание, он был скромен и абсолютно бескорыстен. Горячее сердце коммуниста, холодный и трезвый расчет в работе, чистые руки – это девиз Дзержинского был девизом его жизни. Он был честен и принципиален (дело «Директора» и «Красной капеллы», дело «Поэта», его письмо в ЦК партии в защиту б. военного атташе в Финляндии Петра Иванова…). Можно привести множество примеров, когда он, отстаивая свою принципиальную позицию, заранее знал, что это будет стоить ему понижения по должности, непредставления к ордену и пр. Но он не поступался в партийных принципах!»
Это письмо 3. И. Воскресенской я дополню воспоминаниями З. В. Зарубиной.
«БЕЛКИНА Михаила Ильича я хорошо знаю, поскольку он жил с нами в соседнем подъезде в доме КГБ на улице Чкалова в Москве. Знаю его жену Ольгу Ивановну и двоих детей. Мы общались семьями. В настоящее время его младший сын Илья занялся бизнесом в области культуры.
М. И. Белкин был заместителем Абакумова – начальником контрразведывательного управления СМЕРШ в звании генерал-лейтенанта. Послевоенные годы он был нашим представителем в Юго-Восточной Европе с местом пребывания в Вене. Его арестовали где-то в 1950 – 1951 годах вместе с женой. Тогда арестовывали, как мы говорили, подъездами, сначала один подъезд, затем другой. Сидел он не долго. После освобождения из тюрьмы пошел работать простым рабочим на завод, с которого он был призван на работу в органы государственной безопасности. Когда он умер, то на похоронах было много рабочих с этого завода, которые хорошо отзывались о нем и гордились, что генерал-лейтенант не побрезговал и вернулся на работу к ним на родной завод.
Знаю я и капитана, или майора, Сурикова, который работал в одном управлении с Б. А. Рыбкиным под руководством П. А. Судоплатова. Познакомилась я с Суриковым как раз в кабинете Судоплатова, когда его направляли на работу не то в Прагу, не то в Будапешт. Я должна была курировать его семью во время его нахождения в командировке. Суриков отнесся ко мне более чем сдержанно, так как воспринял меня не как сотрудницу, а как дочь генерала Зарубина. Но с его женой Симой мы были в очень хороших отношениях.
И вот после его смерти я получаю от него письмо. Я впервые получила письмо от уже умершего человека. Это было письмо-исповедь. Видимо, Сима писала ему обо мне и о моей заботе о ней. В письме он просил извинить его за то, что он принял меня не за того человека. «Мне сегодня сорок лет, – писал Суриков, – и вот я подумал…» И дальше шли извинения и комплименты в мой адрес».
Глава 12. Разведка и литература
На долю Зои Ивановны Воскресенской выпало прожить две удивительно яркие жизни – одну в разведке, другую в литературе.
Еще в детстве она много читала, постоянно общалась с природой, сочиняла пьесы для школьного драмкружка, сама в них играла и часто задумывалась, какая судьба ждет ее впереди.
Зоя Ивановна с нежностью вспоминала это счастливое, беззаботное время. «Общение с природой, великолепная библиотека у начальника станции, к которой я имела доступ, учеба в гимназии, а затем в трудовой школе, занятия в студии художника В. К. Штемберга, участие в самодеятельном театре; старый дуб на краю оврага, на котором было прочитано столько книг, пролито столько слез над судьбами любимых героев; Пушкин и Станюкович, Майн Рид, Жюль Верн, Бичер-Стоу, Войнич и Джованьоли, Гоголь и Лесков и, конечно, Чарская, – кто из девочек нашего поколения не увлекался ею. Все это, несмотря на голодные зимы и весны (летом и осенью кормил лес, кормила река), делало детство счастливым».
Детство кончилось в 1920 году, когда не стало отца.
«С казенной квартиры нас выселили, дали теплушку, и мы отправились в Смоленск, где жили сестры матери, – пишет З.И. Воскресенская в своей автобиографии. – Этот переезд для меня был переездом из детства сразу во взрослую жизнь. Отрочества у меня не было. Я стала кормилицей семьи, два младших брата только начали учиться в школе».
В комсомол ее приняли единогласно. Но дома ждал скандал. В то время об этой молодежной организации и ее членах распространялись нелепые сплетни. Их представляли людьми, лишенными нравственных и моральных устоев. Зоина мать верила этим наговорам и поэтому страшно испугалась за дочь.
«Моя бедная мама, – расскажет позднее писательница, – которая прошла со мною всю жизнь, была единомышленником и бесстрашным помощником, тогда оплакивала меня горше, чем отца, умершего за два года до этого. Была какая-то дикая бессонная ночь. Мои младшие братья ревели, глядя на рыдающую мать.
По путевке губкома комсомола Воскресенская в семнадцать лет пришла на работу в колонию малолетних правонарушителей в поселке Старожище. «Должность называлась по-военному: политрук. Мы все жили тогда еще дыханием недавно окончившейся гражданской войны, – вспоминает Воскресенская. – Мы комсомольцы младшего поколения, вместе с ребятами сокрушались, что по малости лет не успели участвовать в революционных боях и гражданской войне. Наши воспитанники хотели много знать, и прежде всего то, как жили, за что боролись герои Гражданской войны Ворошилов и Буденный, Чапаев и Котовский, Лазо и Пархоменко… Работая в колонии я задумала написать книгу о беспризорниках, их судьбе. Собрала большой материал – биографии ребят, словарь блатного языка, песни, крохи какого-то своего опыта, написала большую повесть, но к моему счастью, в это время вышла книга Макаренко. Прочитав эту книгу я поняла, насколько беспомощна, незрела и никому не нужна моя повесть и все сожгла…
С 1929 по 1956 годы я находилась на военной службе, вела пропагандистскую работу, постоянно обращалась к опыту работы большевистских организаций, изучая жизнь и труды Владимира Ильича Ленина. Поэтому, когда меня спрашивают, как и когда я пришла к ленинской теме в литературе, я отвечаю: к ней я готовилась всю сознательную жизнь».
Так случилось, что свой первый рассказ Зоя Ивановна написала под влиянием встречи в Хельсинки, где она работала, с финном, который из медных пятаков сделал для Владимира Ильича и Надежды Константиновны обручальные кольца. Он назывался «Кольца дружбы». В 1960 году Воскресенская создает рассказ «Сквозь ледяную мглу», а в 1962 году в издательстве «Детская литература» вышла ее первая книжка под тем же названием. В 1965-м З.И. Воскресенскую приняли в члены Союза писателей.
Литературный критик и биограф писательницы И. П. Мотяшов отмечал, что «в творческой биографии Воскресенской нет периода ученичества. С первого опубликованного рассказа четко определилась ее авторская индивидуальность, выпукло обозначилось зрелое мастерство.
А ведь не было перед тем ни Литературного или другого филологического института, ни семинаров и совещаний, на которых пестуют и поощряют юные дарования».
Досконально зная жизнь и творчество Зои Ивановны, беру на себя смелость утверждать, что кроме природного дарования основную роль сыграл здесь еще опыт, приобретенный за годы работы в разведке, умение систематизировать, анализировать и обобщать, хотя собственно о разведке она написала всего одну книгу.
Воскресенская работала в литературе как ученый-исследователь, скрупулезно выявляя и проверяя все нюансы избранной темы. И в этом ей помогал опыт аналитика, привыкшего вычленять главное, основное там, где обыкновенный человек не видит ничего особенного. Я уже отмечал, что ленинская тема в ее творчестве была важной, но далеко не основной. Скорее всего она жила в такое время, когда произведениям этой тематики всегда открывалась зеленая улица и на всех перекрестках стояли милиционеры-редакторы, которые на время прохождения такой книги по издательским лабиринтам перекрывали почти все литературное движение.
О творчестве 3. И. Воскресенской можно говорить бесконечно. Отметим лишь повести, навеянные воспоминаниями прожитой жизни, такие как «Девочка в бурном море», «Консул» и другие, многочисленные рассказы о животных и птицах и просто о детях. Умение говорить с детьми, любовь к ним, знание и понимание их психологии, педагогический дар – все это закладывалось, формировалось и оттачивалось в Воскресенской еще в те годы, когда она работала пионервожатой, была политруком в детской колонии. «И все же в основе всего, что так органично и естественно сближает в творчестве Воскресенской детский и взрослый миры, – пишет И. П. Мотяшов, – ее собственная душа, безоглядно щедрая, не знающая разлада с собой».
Ее книги выдержали много изданий, переиздаются они в наше непростое время и, как утверждают современные учителя, пользуются огромной популярностью у младших школьников.
С чего же начинались первые шаги пятидесятилетней женщины в большой литературе? Здесь нелишне процитировать воспоминания бывшего заместителя главного редактора издательства «Детская литература» Бориса Исааковича Камира.
«В Москву я приехал в 1940 году из Симферополя, где работал редактором «Крымского» издательства. Меня по рекомендации ЦК ВЛКСМ приняли на работу в издательство «Детская литература», которое в то время называлось коротко, но неправильно «Детгиз». В нем я проработал ровно сорок лет, что позволило накопить огромный опыт и такие же большие воспоминания: мне приходилось редактировать или принимать участие в редактировании произведений, издаваемых для детей, таких широко известных авторов, как Аркадий Петрович Гайдар, Сергей Владимирович Михалков, Самуил Яковлевич Маршак, Агния Львовна Барто, Яков Лазаревич Аким, Илья Григорьевич Эренбург, Михаил Петрович Погодин, Константин Георгиевич Паустовский, Борис Леонидович Пастернак и многих, многих других. С некоторыми из них я был в дружеских отношениях, но никогда не посещал дома, поскольку считал это неудобным, каким-то нарушением этики, что ли. Исключением явилась только известная писательница Зоя Ивановна Воскресенская.
Я думаю интересно мое воспоминание о нашей первой встрече. Вместе со мной в редакции работала тоже редактором, Вера Александровна Морозова. Весной или уже летом 1956 года Вера Александровна обратилась ко мне с просьбой – а я к тому времени был уже заместителем главного редактора – прочитать рукопись нового автора. Так уж случилось, что рукописи новых, неизвестных авторов обязательно проходили через меня.
Я спросил Веру Александровну: «А кто автор? Что он из себя представляет?» Она ответила, что скажет об этом только тогда, когда я прочитаю рукопись повести я пояснила – чтобы мое суждение было более объективным.
Я прочитал эту повесть, названия которой, конечно, не помню. По содержанию повесть была о комсомольцах 30-х годов, которые из Смоленска мечтали попасть в Испанию, чтобы сражаться с фашистским режимом на стороне республиканцев, а вместо этого приехавших на уборку картофеля где-то под Смоленском. Повесть была весьма заурядная, кроме одной главы о поездке комсомольцев в поезде, которая привлекла мое внимание свежестью и новизной изображения.
Недели через три после того как я прочитал повесть, неожиданно для меня в моем кабинете появляется стройная красивая женщина.
– Вы Борис Исаакович?
– Да.
– Вы прочитали мою повесть, – и называет ее заглавие. Меня поразило, что автором этой, скажем прямо, посредственной повести оказалась женщина.
– Да, прочитал.
– И что Вы скажете?
– Видите ли, – начал я, – в повести есть отдельные весьма любопытные места…
– Ясно, – перебивает меня неожиданная посетительница, – значит, печатать не будете.
– Ну, подождите, скажите хотя бы кто Вы?
– Меня зовут Зоя Ивановна.
– Но кто Вы?
– Это не важно.
– Значит, печатать не будете, – продолжала она, – это ясно, но почему… – и посыпались многочисленные вопросы.
Я вдруг почувствовал себя не заместителем главного редактора известного на всю страну издательства, а подследственным, которого вызвали на допрос.
Зоя Ивановна забрала свою рукопись, сообщила мне, что она не пропадет и без нашей редакции, поскольку она знает иностранные языки, прекрасно печатает на машинке и, в этой связи, ее приглашают на работу во вновь открывающийся на улице Горького магазин международной книги «Дружба», где как раз требуются продавцы со знанием иностранных языков. Сказала также, что она с сыном уезжает к брату военнослужащему куда-то во Львовскую область, где он служит. На этом мы расстались, и я бы сказал, расстались не очень дружелюбно.
От той же Веры Александровы, после ухода Зои Ивановны, я узнал, что она сотрудница органов государственной безопасности, полковник, в прошлом году вышла в отставку. С ней Морозова познакомилась на отдыхе в одном из санаториев МВД, так как муж Веры Александровны был подполковником и работал в этой системе.
Через несколько недель, опять-таки совсем неожиданно, я вдруг получаю из Львовской области письмо от Зои Ивановны, в котором она просто рассказывала, как она вместе с сыном там проводит время и что делает. Оно меня поразило своим художественным изложением. В этом маленьком послании я сразу почувствовал дар Божий, тут же ответил и порекомендовал написать не повесть, а маленький по объему рассказ. Через какое-то время она снова появилась у нас и принесла свое новое произведение. Этот ее рассказ, искрящийся непосредственным весельем детства, и был напечатан в нашем издательстве под названием «Зойка и ее дядюшка Санька».
Вслед за этим ее произведением последовали и другие, в которых проявилось тонкое понимание психологии маленького читателя. Это рассказы «Ленивое сердце», «Первый дождь», «Городская булочка». Начался литературный взлет писательницы Зои Ивановны Воскресенской (она взяла свою девичью фамилию, хотя в разведке ей приходилось быть, по ее рассказам не только Рыбкиной, но и Ярцевой, и Васильевой, и Кругловой).
Зоя Ивановна всегда поражала мое воображение. Вскоре после ее литературного и, надо сказать, успешного дебюта она пришла ко мне и заявила, что хочет написать рассказ о Ленине. Я настолько был ошеломлен дерзостью ее мысли, что не мог произнести ни слова. Несмотря на мои сомнения, она все же взялась за эту тему, и ее литературный взлет получил дальнейшее ускорение. В 1968 году она получила Государственную премию за кинофильм «Сердце матери», позже по ее произведениям и сценариям были поставлены фильмы «Верность матери», «Надежда» и великолепная кинолента «Сквозь ледяную мглу». А всего через шесть лет после нашего знакомства в нашем издательстве вышел трехтомник избранных произведений З. И. Воскресенской».
Этот бесхитростный рассказ дополнят воспоминания заместителя министра просвещения России Любови Кузьминичны Балясной, которая много лет была связана с Зоей Ивановной и работой, и личной дружбой.
«Я нисколько, ни на минуту, ни на секундочку не сомневаюсь в том, что если бы Зоя Ивановна не работала в разведке, не было бы писательницы 3. И. Воскресенской. Познакомилась я с Зоей Ивановной в Доме детской книги на улице Горького в конце 60-х годов, когда в ЦК ВЛКСМ была создана секция по работе с «детскими» писателями Союза писателей СССР. После этой встречи началась наша дружба с Зоей Ивановной и продолжалась вплоть до ее кончины.
Почему я говорю, что без разведки не было бы и писательницы Воскресенской? Потому что жизненный опыт, полученный именно в результате работы в разведке, лег в основу практически всех ее произведений. Достаточно сказать о повести «Девочка в бурном море», которая, на мой взгляд, является самым лучшим ее произведением, и написана исключительно на основании ее личных переживаний и тех испытаний, которые выпали на долю Зои Ивановны, когда она с караваном судов возвращалась из Англии в Мурманск.
В литературе Зоя Ивановна работала как исследователь. И здесь в полной мере пригодились ее аналитические навыки разведчицы. Взять хотя бы повесть «Надежда», работая над которой Зоя Ивановна изучила несколько поколений семьи Надежды Константиновны Крупской. То, как Воскресенская создавала эту книгу – предмет особого исследования. Она нашла, например, дом, где родилась Надежда Константиновна, и церковь, где венчались еще ее родители…
Зоя Ивановна неоднократно была на слетах красных следопытов, выступала там и сравнивала их работу с работой разведчиков. Я помню, как в Новгороде на одной из таких встреч, когда она сказала ребятам, что она полковник и двадцать пять лет прослужила в Советской Армии, буря восторга потрясла зал.
Зоя Ивановна почти сорок лет поддерживала связи с детскими домами и библиотеками в Алексино и Якутии. Уже будучи прикованной болезнью к постели, принимала детей с Украины и Белоруссии. Отдавала в детские дома почти все свои гонорары, посылала книги, вела переписку со множеством школ и детских домов по всей стране. Любовь к детям была частью ее жизни. И я уверена, что если бросить клич вспомнить о добрых делах 3. И. Воскресенской, то откликнутся многие школы из разных концов нашей страны.
Зоя Ивановна была безупречна в своей порядочности. Главным в ее жизни была любовь к Отечеству.
Хотя она и прошла через разведку и сама подвергалась различным проверкам, все же ей удалось сохранить удивительную веру в людей. Поэтому ее потрясали такие люди, которые могли предать Отечество, дружбу или интересы дела, как, например, О. Калугин. Человек, который никогда не предавал, никого и нигде не обманывал, не мог понять и простить тех, кто это совершал.
И последнее. Мне хотелось бы рассказать читателям о скромности Зои Ивановны. У нее было много наград, полученных за годы работы в разведке и за годы работы в литературе, но она никогда не кичилась ими. Последнюю награду она получила когда ей исполнилось восемьдесят лет, в 1987 году. Владимир Васильевич Карпов, в те годы Первый секретарь Правления Союза писателей, привез ей на дачу орден «Октябрьской революции». У меня даже есть фотография, где мы все трое стоим на крыльце дачи в Переделкино».
Глава 1З. Восхождение на Олимп
«В конце 1968 года на имя матери пришла правительственная телеграмма, – вспоминает сын 3. И. Воскресенской Алексей Борисович Рыбкин. – Такую телеграмму я видел в то время впервые. Верхняя часть листа, примерно на одну треть, была темно-красного цвета, а на этом фоне белыми буквами: «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ».
Содержание телеграммы, насколько я помню, состояло в следующем: «Уважаемая Зоя Ивановна, Вам присвоена Государственная премия за 1968 год в области литературы для детей». И подпись председателя Комитета по присуждению Ленинских и Государственных премий, если я не ошибаюсь, Тихонова.
В январе будущего года мать сказала, что на днях состоится в Кремле вручение премий и что на это торжество каждый лауреат может пригласить несколько человек. Мать пригласила заместителя главного редактора издательства «Детская литература» Б. И. Камира, сотрудницу Государственной библиотеки имени Ленина Раису Симонову, с которой незадолго до этого она познакомилась в больнице, где они вместе находились, а также сына П. А. Судоплатова – Анатолия и меня.
В Кремль мы входили через Боровицкие ворота. Вручение премий происходило в Свердловском зале Кремля, теперь Екатерининском. Приглашенные друзья и родственники лауреатов заняли места в зале. Сами лауреаты сидели в первом ряду. Перед ними стоял стол, покрытый красной тканью, около стола на длинной стойке – микрофон. За столом, стоя, разместились члены комитета по присуждению премий. Председатель комитета называл фамилии сначала лауреатов Ленинской, а затем Государственной премий, которые подходили к этому столику. Председатель вручал каждому медаль лауреата и грамоту. Тот из награжденных, кто желал, мог тут же выступить с ответным словом. Помню, мама тоже сказала несколько слов, которые сводились к тому, что она не пожалеет своих сил для дальнейшей работы в области литературы.
В числе награжденных были композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович, кинорежиссер Марк Донской и актриса Елена Алексеевна Фадеева. Почему я запомнил именно этих лауреатов? О Шостаковиче мама неоднократно говорила мне, что его музыка, и особенно Седьмая Ленинградская симфония, оказала не только огромное впечатление, но и давала заряд бодрости, когда она с товарищами по работе впервые услышала ее в годы войны из осажденного Ленинграда. А Донской и Фадеева получили премии за создание и участие в фильме «Сердце Матери», который был поставлен на «Мосфильме» по книге и сценарию, написанных моей матерью».
Глава 14. Зоя – это жизнь
Тонкие, душевные вопросы Зоя Ивановна обсуждала не со мной, а с моей женой, хотя они одни, как говорят, с глазу на глаз оставались довольно редко. И тем не менее моя жена – Зоя Васильевна, помнит то, о чем я просто не знал. Вот что она рассказывает: «Через несколько лет после того, как мой муж познакомился с Зоей Ивановной, она стала для нас близким, родным человеком, в конце 1979 года с сыном Алексеем по нашему приглашению приезжала к нам в гости в Берлин, где в то время мы жили.
Каждая встреча с Зоей Ивановной открывала мне новые грани ее характера.
Посол СССР в ГДР Абрасимов очень любил и поощрял посещения Берлина различными знаменитостями. Помню, что одной из таких знаменитостей была певица Людмила Зыкина, к которой он благоволил, писатель Юлиан Семенов, американский певец Дин Рид и многие другие. Думаю, что именно по этой причине моему мужу разрешили пригласить к себе в гости по частной визе и писательницу Зою Ивановну Воскресенскую.
Узнав о ее приезде, П. А. Абрасимов пригласил Зою Ивановну к себе. Она, естественно, пришла. В беседе посол сообщил, что к ее приезду он специально приготовил в здании посольства на Унтер-ден-Линден апартаменты, в которых, кстати, совсем недавно гостил Сергей Владимирович Михалков. Зоя Ивановна вежливо поблагодарила собеседника холодно, как она умела это делать, отказалась, заявив при этом, что приехала в Берлин как частное лицо к своему другу и будет жить у него. Уговоры посла и его заявления, что даже дипломаты не имеют таких квартир, которую он ей предлагает, не подействовали на ее решение. П. А. Абрасимову пришлось согласиться, хотя это был властный, настойчивый и упрямый человек.
Помню, Зоя Ивановна, особенно в то время, когда у нее была сломана шейка бедра, часто говорила, что, несмотря на все невзгоды, вокруг нее не умолкает жизнь. «Посмотри, – шутила она, мое имя по-гречески означает жизнь, все мои родственники и близкие знакомые тоже Зои, значит, тоже жизнь». И она начинала загибать пальцы: внучка Зоя Владимировна, жена брата Зоя Степановна, жена Барика (сын Георгия Ивановича Мордвинова – Баррикаде Георгиевич) Зоя Николаевна, дочь Василия Михайловича Зарубина – Зоя Васильевна, да ты и сама Зоя. Не знаю, что помогало ей, но она действительно была не только жизнерадостным, жизнелюбивым человеком, но и исключительно мужественно переносила все неприятности, я имею в виду болезни, которые как из рога изобилия постоянно сыпались на нее.
Еще в 1969 году Зоя Ивановна перенесла тяжелую операцию по поводу рака желудка, в результате которой резекции подверглись две его трети, что затем постоянно, в течение всей дальнейшей жизни сказывалось, во-первых, на режиме ее питания: она ела часто, но маленькими дозами, а во-вторых, организму постоянно не хватало кальция, что впоследствии привело к нескольким переломам. Но сейчас я хочу сказать о другом. Тяжело заболев, подозревая, что врачи что-то недоговаривают (они скрывали диагноз), она провела целую комбинацию, тонкости которой я не помню, но в результате ей удалось достать тайно историю своей болезни. Она убедилась в диагнозе, который подозревала, и потребовала от врачей, чтобы ее немедленно прооперировали, хотя многие из нас, женщин, наверное, поступили бы по-другому. После операции она какое-то время получала радиологическое лечение. Во время этой процедуры находилась под стеклянным колпаком, и ее могли видеть сестры и нянечки. Время пребывания там она использовала для чтения стихов, особенно тех, которые были еще плохо заучены. Чаще всего, говорила Зоя Ивановна, она любила читать в эти минуты стихи Александра Блока. Однажды, одеваясь за ширмой, она услышала короткий диалог между молоденькой медицинской сестрой и уже пожилой нянечкой.
– Надь! А Надь!
– Что, тетя Нюра?
– Ты видела, больная под пушкой губами шевелит. А, видела?
– Видела, ну и что?
– Ну как что?! Чего это она?
– Откуда я знаю, может, кого-нибудь вспоминает.
– Да, вспоминает… Это она Богу молится. Да и то не грех, болезнь-то какая.
И еще одна черта, примечательная для характера Зои Ивановны. Когда она в возрасте восьмидесяти лет упала, запнувшись за ковер, и сломала шейку бедра левой ноги, врачи закутали ногу в гипс и констатировали – ходить не будет.
– Как это не будет! – возмутилась Зоя Ивановна… и пошла, сначала стоя внутри специальной коляски, потом держась обеими руками за спинку стула и двигая его перед собой, а затем просто опираясь на палку. Упорство, воля и постоянные специальные физические упражнения сделали свое дело, хотя обычно с таким переломом уже не поднимаются.
Зоя Ивановна, как и все женщины, конечно же любила внимание к себе, но совершенно искренне не любила дорогих, помпезных подарков. Помню, в один из праздников 8 Марта я подарила ей прямоугольную брошь из финифти с изображением голубых незабудок на белом фоне. Голубой – это любимый цвет Зои Ивановны. Простая брошь до конца дней стала ее постоянным украшением к любому платью. Практически она с ней никогда не расставалась. Когда мы встречали вместе Новый, 1986 год и женщины преподнесли ей на подносике два обычных калача, в отверстия которых были вложены по три носовых платочка, Зоя Ивановна пришла в восторг.
В характере Зои Ивановны поражало редкое умение поддерживать человека в трудную минуту – взглядом, интонацией, стихотворными строчками. Она очень любила стихи, разные, но хорошие, особенно Шекспира, Блока, Тютчева. Ей не были чужды тонкие чувства и настроения.
Однажды, когда мы остались дома с ней одни, что, надо сказать, удавалось очень редко – всегда кто-то присутствовал, она вдруг завела разговор о любви, считая ее главным в жизни любого человека. Но не каждому дан талант, считала она, глубоко, по-настоящему любить. Неожиданно она начала читать стихотворение Федора Тютчева «Последняя любовь», которое, как она говорила, с возрастом нравится ей все больше и больше:
О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней… Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила тень, Лишь там, на западе, бродит сиянье, – Помедли, помедли, вечерний день, Продлись, продлись очарованье. Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность… О ты, последняя любовь! Ты и блаженство и безнадежность.Глава 15. Послесловие
Жизнь Зои Ивановны Воскресенской и ее товарищей по работе в органах государственной безопасности, а именно в разведке, таких, как Леонид Васильевич Громов, Павел Матвеевич Журавлев, Василий Михайлович Зарубин, Иван Васильевич Куликов, Наум Исаакович Эйтингон, Георгий Иванович Мордвинов, Василий Петрович Рощин, Павел Анатольевич Судопла-тов, Елисей Тихонович Синицын, Борис Аркадьевич Рыбкин, Дмитрий Георгиевич Федичкин, Павел Михайлович Фитин, Анатолий Евдокимович Шубин и Иван Андреевич Чичаев, наводит на определенные размышления.
Эти люди, родившиеся в конце XIX или начале нынешнего, XX века и ушедшие, к счастью не все, в мир иной в последней четверти этого века, смогли остаться живыми в страшные для нашей страны годы. А ведь именно они были на острие политических и социальных событий. Волны репрессий 1935 – 1939 годов с пиком в 1937 году, 1946 – 1947 годов и 1951 – 1953 годов вспыхнули с новой силой именно в 1953 году, после смерти Сталина, в результате борьбы претендентов на первую роль в государстве они захватили абсолютно все социальные слои нашего общества. Возможно, вам покажется странным, что в процентном отношении именно в органах государственной безопасности было больше всего жертв репрессий. «Быть этого не может! – скажет читатель. – Ведь они-то и были орудием исполнения…» Но достоверные источники подтверждают: все абсолютно так. Объясняется это прежде всего тем, что сотрудники сами были в гуще политических и социальных событий; сами убирали свидетелей и исполнителей беззаконных актов репрессий, то есть убивали друг друга. Но там, где вакханалия, всегда царит абсурд. Я помню, например, как мне рассказывал отец, который двадцать пять лет прослужил в органах ВЧК – ОГПУ – НКГБ – МГБ, такой случай из его жизни. Придя на работу в 1936-м или 1937 году, а мы жили тогда в Иркутске, он узнал, что арестован его сосед по лестничной площадке, которого давно и хорошо знал. Отец бросился к начальнику, чтобы доказать невиновность этого человека. И, как рассказывал отец, ответ вышестоящего руководителя поразил его цинизмом и хладнокровием: «Ты знаешь, что у нас существует план на арестованных. Мы можем освободить из-под стражи твоего соседа, но тогда ты должен сесть на его место».
Почему же все-таки герои нашей книги не попали под жернова истории, а пожар репрессий опалил и раньше времени сделал белыми головы большинства из них? На мой взгляд, причина в том, что это были одаренные от природы люди с аналитическим складом ума, что позволило им вести себя осторожно и правильно, наперед просчитывать свои поступки и действия. Зоя Ивановна Рыбкина, например, стала начальником одного из ведущих отделов, курировавшего работу разведчиков во всех немецкоговорящих странах, лишь в результате своих незаурядных способностей. Ее продвижение по служебной лестнице проходило постепенно, шаг за шагом, начиная с самой маленькой должности – оперативного уполномоченного. Иначе говоря, ее жизнь и ее работа были видны руководству длительные годы, что позволяло всесторонне оценить ее деловые качества. Кстати, я не знаю ни одного случая, когда женщина в разведке занимала бы подобную должность. В то же время за Зоей Ивановной и ее товарищами всю их жизнь следило недреманное око стороннего наблюдателя. Это пристальное внимание носило, как правило, субъективный и извращенный характер. Так, в довоенные и военные годы люди, если им, конечно, было известно о принадлежности того или иного лица к разведке, относились к нему с чувством боязливого «уважения» и осторожности. А после ухода такого человека на пенсию это «боязливое уважение» сменялось брезгливым пренебрежением и недоверием.
Помню, Зоя Ивановна рассказывала, что жившая в одном доме с ней на Красноармейской улице Москвы поэтесса Мариэтта Шагинян предупреждала соседей, чтобы они были осторожнее в общении с Воскресенской, поскольку «у нее руки по локоть в крови». При этом Зоя Ивановна уточняла, что действительно имела боевое оружие в годы войны – пистолет системы «TT», но стреляла из него только в тире.
Подобные настроения не дают покоя некоторым людям до сих пор, хотя Зои Ивановны уже нет с нами.
Но справедливости ради надо отметить, что 16 июня 1994 года по первому каналу Центрального телевидения был показан фильм «Гитлер – Сталин. Тайная война», где Зоя Ивановна предстала перед телезрителями как полковник Рыбкина – аналитик, который на основании разведывательных данных предсказал дату нападения Германии на Советский Союз.
Разведчики, о которых идет речь в этой книге, в большинстве своем начисто лишены стяжательства и вещизма. Для себя лично им ничего не нужно было. И они оставались верными своим жизненным принципам до конца дней своих, никогда не принадлежали себе, но честно служили делу, своей Родине.
Мало кто знает, что известная в нашей стране и далеко за ее пределами писательница Воскресенская почти все свои гонорары перечисляла в детские дома и приюты.
Эта замечательная и удивительная женщина ушла из жизни в зимний полдень 8 января 1992 года. Накануне я весь вечер провел вместе с ней. Все было как обычно: она лежала в постели, говорила медленно, но внятно и четко, мысль работала, как всегда, здраво и логично.
Поразило другое. Она и раньше иногда рассуждала о смерти, предпочитая ее тому, чтобы валяться, по ее словам, как бревно. Но в этот вечер вела разговор о своей кончине конкретно и твердо.
– Я прощаюсь с тобой, – сказала она и стала инструктировать меня, как и где ее похоронить.
Несколько раз я пытался перевести ее мысли на другую тему: «Что ты, какие похороны… О чем ты говоришь…» Мои тщетные попытки кончились тем, что она взяла меня за руку, помолчала довольно долго, затем с легкой обидой в голосе сказала:
– Ты можешь не перебивать меня?
– Да.
– Тогда слушай. – И продолжала свой последний инструктаж.
Кроме различных мелочей и подробностей, она просила похоронить ее в ту же могилу на Новодевичьем кладбище, где покоилась ее мать Александра Дмитриевна Воскресенская и муж Борис Аркадьевич Рыбкин, а еще не открывать гроб, мотивируя это тем, что многие сотрудники и бывшие сослуживцы из числа молодых помнят ее совсем другой.
– Сейчас я совсем на себя не похожа, – и с трудом усмехнулась. Это была ее прощальная улыбка.
– Обещай мне, что ты выполнишь мои просьбы.
Я конечно же обещал, но ее вторую просьбу не выполнил.
На похоронах было много людей: чекисты, литераторы, читатели и почитатели ее таланта. Море цветов и даже, откуда взявшиеся зимой, ее любимые фиалки. Все вспоминали красивую жизнь красивой женщины и говорили о ней.
А я почему-то вспомнил рассказы Зои Ивановны об Александре Михайловне Коллонтай. Читатель, конечно, не забыл еще главу «Тишина», в которой речь идет о пребывании А.М. Коллонтай в санатории «Сальчшёбаден» для встреч и переговоров с представителями Финляндии во главе с господином Паасикиви по поводу выхода этой страны из войны.
«…Для Коллонтай были подготовлены апартаменты в бельэтаже. Во всех комнатах вазы с цветами. Александра Михайловна попросила распахнуть дверь на террасу и накинуть на плечи накидку, опушенную мехом.
– Так красиво! – восхищенно сказала медсестра, поправляя накидку. – Что бы желала мадам на ужин?
– Стакан простокваши не очень холодной и вечерние газеты. И можете быть свободной…»
Как это похоже на саму Зою Ивановну. У нее тоже всегда были цветы, скромная и очень легкая пища и повсюду газеты, газеты… Даже когда она уже была прикована болезнью к постели, вся кровать была усыпана вырезками из газет, содержание которых все больше и больше огорчало Зою Ивановну. Она никак не могла понять, почему люди, власть имущие, говорящие о демократии и благе для народа, в действительности движимы лишь стремлением к личной наживе или иной выгоде.
Две женщины – посол и пресс-атташе. Две жизни.
Но мне кажется, что их судьбы во многом схожи, и прежде всего – бескорыстным служением своей Родине.
Примечания
1
«Деза» – дезинформация, распространение заведомо ложных сведений. Флюстерпропаганда – нашептывание слухов.
(обратно)2
Здесь и далее пояснения написаны Э. П. Шараповым.
(обратно)3
«Голос его хозяина» (англ.).
(обратно)4
Канарис – начальник управления разведки и контрразведки (абвера).
(обратно)5
СМЕРШ – «Смерть шпионам», советская военная контрразведка.
(обратно)6
Вильгельм Кейтель – начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии с 1938 по 1945 год.
(обратно)7
Альфред Розенберг – бывший глава внешнеполитического отдела национал-социалистической партии, в период войны министр по делам оккупированных восточных территорий.
(обратно)8
Вайсензее – район в Берлине.
(обратно)9
Митра – позолоченный головной убор, используется высшим духовенством во время торжественного богослужения.
(обратно)10
До 1947 года отношения СССР со Швецией поддерживались на уровне миссий. Но в 1943 году А. М. Коллонтай был присвоен ранг Чрезвычайного Полномочного Посла СССР. Поэтому я и называю миссию посольством.
(обратно)11
Биг Бен – главные часы Лондона.
(обратно)12
Это утверждение автора корреспонденции неправдоподобно. Такое поручение дипкурьеры не могли выполнять, так как у них существуют свои очень важные и неизменно определенные функции. Дипломатические курьеры везут дипломатическую почту (пакеты, чемоданы и мешки-вализы), которую они не выпускают из рук и отвечают за нее жизнью.
По другим данным, Евдокию отбивала австралийская полиция, действовавшая по просьбе Петрова. – З. В.
(обратно)13
Перевод Евг. Долматовского.
(обратно)14
T?te-a-t?te (фр.) – с глазу на глаз.
(обратно)15
Аландские острова – группа островов и скал, принадлежащих Финляндии, у входа в Ботнический залив Балтийского моря.
(обратно)16
ИКЛ – в то время самая крупная националистическая партия в Финляндии, ее организации были в каждом населенном пункте.
(обратно)17
Саргассово море отличается скоплением водорослей и рыб.
(обратно)18
Райяёки – тогдашняя пограничная станция с Финляндией.
(обратно)19
«Omnia mea mecum porta» (лат.) – «все мое ношу с собой», изречение греческого мудреца Биаса.
(обратно)20
Спасибо (норв.).
(обратно)21
Ленд-лиз (англ.) – система передачи США взаймы союзникам по антигитлеровской коалиции в период войны вооружения, припасов, продовольствия, различных товаров и услуг.
(обратно)22
Пушкин А. С. Евгений Онегин. Гл. 3.
(обратно)23
Рукопись этой книги была уже в издательстве, когда мне позвонили и сообщили горестную весть: Дмитрий Георгиевич Федичкин 27 октября 1991 года умер, не дожив одного месяца до своих 90 лет, из которых более шестидесяти он отдал делу разведки. Последний из могикан… Многие годы мы были связаны с ним по работе. Он стоял у истоков разведки в 20-е годы. Успел оставить книгу «У самого Дальнего», в которой рассказал о себе. – З. В.
(обратно)24
Об этих переговорах был информирован крайне ограниченный круг лиц с советской и финской сторон. Этим прежде всего объясняется тот факт, что мы не располагаем каким-либо документальным материалом по данным вопросам.
(обратно)25
Таннер Вяйне Альфред (1881 – 1966) – широко известный финский политический и государственный деятель, один из основоположников социал-демократической партии Финляндии (СДПФ). В 1926 – 1927 гг. – премьер-министр Финляндии; занимал ряд министерских постов в финских правительствах 1937 – 1944 гг., в том числе пост министра иностранных дел. В области внешней политики стоял на антисоветских позициях. После выхода Финляндии из второй мировой войны (сентябрь 1944 г.) был отстранен от государственных должностей.
(обратно)26
Ярцев Б. Н. – Б. А. Рыбкин.
(обратно)27
Более известен под другим названием – Гогланд.
(обратно)28
В книге Таннера эта встреча ошибочно датируется 15 августа.
(обратно)29
Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Италия, Латвия, Польша, Швеция, Франция, Англия.
(обратно)30
Правительство РСФСР эту конвенцию не подписало, объявив ее 13 ноября 1921 года «безусловно не существующей для России».
(обратно)31
НКВТ – Народный комиссариат внешней торговли.
(обратно)32
Эта и последующие беседы советских и финских представителей в 1939 г. нашли достаточное отражение в советских архивных фондах и вошли составной частью в макет XXII тома ДВП СССР.
(обратно)
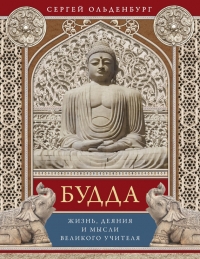


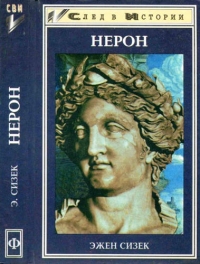

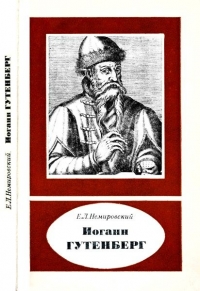
Комментарии к книге «Тайна Зои Воскресенской», Зоя Ивановна Воскресенская
Всего 0 комментариев