Анна Герман
Вернись в Сорренто?..
Моей матери
Дорогие читатели!
На протяжении тех пяти бесконечно долгих месяцев, что мне пришлось лежать в гипсовой скорлупе, а также многих последующих месяцев, когда я лежала в постели уже без гипса, я неоднократно клялась себе, что больше ни за что не вернусь в Италию и даже не буду вспоминать о ней.
Решение это родилось у меня еще там, в Италии, когда ко мне впервые полностью вернулось сознание. Строго говоря, это произошло на седьмой день после катастрофы, однако действительность возвращалась ко мне лишь эпизодически. Так что в минуты прояснения, отдавая себе отчет, что со мной случилось и где я нахожусь, я утешала себя, бормоча: «Никогда больше сюда не приеду». После чего – в зависимости от душевного состояния, от того, насколько острой или уж совсем нестерпимой становилась боль, – я отпускала несколько не очень лестных эпитетов в адрес Апеннинского полуострова и уровня моторизации, которого достигли его жители.
Тут я должна сделать маленькое отступление.
Я не большая охотница до так называемых «крепких» словечек. Это явный просчет в моем воспитании. Моя бабушка повинна в том, что я не умею (и – что еще хуже – не люблю) пить, курить и употреблять сильные выражения.
Считаю это признаком недостаточно развитой фантазии. Однако не хочу выступать в роли моралистки – готова согласиться даже, что подобные привычки в определенных обстоятельствах действуют успокоительно, а порой прибегнуть к ним просто необходимо.
К безграничному изумлению моей мамы, моего жениха (и не веря собственным ушам), в самую тяжелую минуту я могла произнести все эти сильные выражения, которые когда-либо слышала или вычитала из книг, – совершенно запросто, подряд, без сколько-нибудь логической связи. А если произнесенный монолог не доставлял желанного облегчения – в силу недостаточного профессионализма в этой области, – то повторяла все «da kapo al fine».[1]
Неприязнь к богатой песнями Италии преследовала меня столь упорно, что в конце концов мне удалось убедить маму в необходимости перевезти меня в Польшу – и буквально в чем была. Прошу прощения – в чем лежала. В гипсе до самых ушей, полностью отданная на милость окружающих. Это удалось, о чем будет сказано ниже.
Теперь я хочу объяснить, почему я все-таки пишу, возвращаюсь памятью к тем дням.
Как во время моего пребывания в трех итальянских больницах, так и позднее в Польше я получала и продолжаю получать массу писем от незнакомых людей, которые искренне сочувствуют мне в связи с постигшей меня бедой. Я не в состоянии ответить на все письма, даже если бы очень хотела.
Кроме того, до меня время от времени доходят невероятные слухи о себе самой. Удивляться тут нечему – я знаю, что они вызваны отсутствием верной информации и неподдельной доброжелательностью. Вот я и подумала, что мой долг перед слушателями – вернуться к моим итальянским впечатлениям.
Я решила описать все, что помню, и при этом как можно точнее и правдивее, имея в виду, что в Польше, пожалуй, не много найдется людей, у которых не было бы собственного мнения относительно песни и всего с ней связанного.
Возможно, мои заметки прочитают и те, кто не дарил меня своим расположением; пусть они воспримут в этом случае мой отчет как обыкновенный репортаж о путешествии.
Главным поводом для открытого письма моим слушателям является прежде всего чувство признательности тем, кто мысленно был со мной рядом в это трудное для меня время.
Мою задачу облегчает то, что я нахожусь далеко от Италии, дома, среди близких и друзей.
Хотя мой контракт действителен до конца 1969 года, никто не может потребовать от меня, чтобы я вернулась к работе, вернулась в Италию петь – уже по одной той причине, что мне еще нельзя петь и понадобится много времени, чтобы полностью восстановить здоровье. А потому мой корабль стоит на якоре в родном порту, где меня не могут настигнуть штормы. Вот отчего я так расхрабрилась! И все же я прошу о снисхождении. Правда, в школе у меня по польскому была пятерка, но с этой поры мои контакты с пером и бумагой ограничивались лишь письмами, написанными чаще в отчаянном тоне. Так что даже чувство юмора оказалось во мне загипсованным. Но зато все мои высказывания будут откровенными, как в письмах к маме, без примеси хвастовства, без малейшего оттенка саморекламы. Для рекламных целей мне вполне хватило самой катастрофы.
Анна Герман
Варшава, июль 1969 года
Октябрь 1966 года был на редкость теплым и солнечным. Я сидела в своем номере в гостинице «Варшава», набрасывая в блокноте перечень дел на завтра. Их набралось ужасно много.
Поскольку в Варшаве у меня не было квартиры, я всегда стремилась как можно быстрее закончить самые неотложные дела, чтобы тем самым свести свое пребывание в гостиницах до минимума. Разумеется, из финансовых соображений. Существенную часть моих гонораров поглощали счета варшавских гостиниц.
Мои раздумья – успею ли я за час доехать до радиокомитета и обратно – прервал телефонный звонок. Я взяла трубку и услышала мужской голос, обладатель которого проинформировал меня, что звонит из Милана, что будет в Варшаве через несколько дней, и осведомился, не хотела ли бы я подписать договор на три года с миланской студией грамзаписи CDI.
Выслушивая все это, я лихорадочно перебирала в уме имена своих знакомых, силясь отгадать, кто же автор розыгрыша. В конце концов решила, что это не кто иной, как один мой приятель. Видимо, он приехал в Варшаву и теперь, пользуясь своим непостижимым для нас, простых смертных, даром перевоплощения, развлекается, дурача знакомых. Помню, как во время поездки нашей группы, состоящей из тридцати человек, в США и Канаду он уже на «Батории» именно таким образом использовал телефон, умудряясь не нарваться при этом на «сильные» выражения. Я и сама не раз становилась его жертвой. Следует отметить, что иностранные языки вовсе не представляли для него трудности – если в том возникала необходимость, он мог изъясняться на любом языке.
Итак, я не поддавалась, посмеиваясь и уверяя, разумеется по-польски, что на сей раз ему меня не провести. Однако уже в следующую минуту я с изумлением обнаружила, что на другом конце провода меня в самом деле совершенно не понимают. Чему же удивляться, если это был настоящий итальянец, не знавший ни одного польского слова!
Спустя несколько дней действительно прилетел господин Пьетро Карриаджи – лысеющий блондин, но истинный итальянец, владелец студии грампластинок «Compania diskografica Italiana» (CDI), которая и предлагала мне работу.
Во время нашей официальной беседы при участии заместителя директора ПАГАРТа[2] пана Якубовского господин Карриаджи старался в самом радужном свете обрисовать перспективу, которая ожидает меня в Италии, а именно в его студии. Он счел возможным прибегнуть даже к рекламным приемам, уверяя, что в его студии записывались такие знаменитости, как Марио дель Монако.
Позднее оказалось, что знаменитости являются как бы общенациональной собственностью и закон о принадлежности к какой-нибудь одной студии на них совершенно не распространяется. Они могут записываться всюду, даже в такой незначительной студии, как CDI. Студия же записывает их для рекламы и платит за это изрядную сумму. Но я ни о чем не подозревала, подумав: «Ого, сам Марио дель Монако! Стало быть, это солидная фирма, котирующаяся на итальянском рынке».
Однако повлиял на мое решение иной довод. Я всегда питала слабость к итальянским песням: у них красивые мелодии и их легко петь на итальянском. Перед тем как позвонил господин Карриаджи, я уже недели две оттягивала подписание договора с западногерманской фирмой грампластинок «Esplanade».
В конце концов я выбрала Милан.
Надо, пожалуй, упомянуть, как вышло, что мне позвонили из Милана. Редактор одной из наших радиостудий поддерживает постоянные контакты с итальянскими студиями, которые присылают ему новинки из Италии. В ответ пан редактор шлет им польские пластинки. В числе других дисков оказался и мой, долгоиграющий, записанный в студии «Polskie nagrania». Пластинка понравилась, а моя кандидатура, как я узнала позже, прошла единогласно.
Дело в том, что Пьетро Карриаджи управляет своей фирмой сам, без компаньонов. У него работают около двадцати человек, в том числе его брат и отец. Своего положения Пьетро, несомненно, достиг благодаря таким чертам характера, как выдержка, решительность, оперативность и жесткость в сочетании со склонностью к диктатуре. Удивляться тут нечему, ибо тяжела жизнь бизнесмена в непрерывной конкурентной борьбе за выживание, за рынок – за все! Но Пьетро порой может быть великодушным и очень гордится, видя признание со стороны своих близких. С этой целью он позволяет высказываться по вопросам музыки даже портье и уборщицам. А иногда считается с их мнением.
Между прочим, в данном случае он твердо уверен, что ничем не рискует, поскольку эти простые люди высказывают, как правило, и объективную оценку. Так было и в тот день, когда пришла моя пластинка. К общему «да» присоединила свой голос также самая значительная особа в этом замкнутом мирке – худенькая, милая, исполненная доброты пожилая дама, глава клана синьора Ванда Карриаджи.
Начались приготовления к моей первой поездке в Милан. Времени было, в общем, маловато; итак, еще одно собственноручно сшитое платье, несколько экземпляров нот, новый итальянско-польский словарь с правилами грамматики…
Наступил день отъезда. Последняя прощальная улыбка из-за стеклянных дверей в Окенче…[3]
В миланском аэропорту мы приземлились поздно вечером. Там меня уже поджидали. После обмена приветствиями Пьетро представил мне молодого человека по имени Рануччо Бастони, который с той минуты должен был стать моим личным импресарио.
– Рануччо – журналист, – заявил Пьетро. – Он будет сопровождать тебя в течение всего дня на все встречи, будет отвозить тебя, привозить обратно и заботиться обо всем, что касается твоего паблисити в Италии.
Это звучало довольно утешительно. Правда, меня несколько огорчил тот факт, что журналист не владеет никаким иностранным языком. «Ну ладно, по крайней мере буду не одна», – подумала я.
Мы поехали в гостиницу. Однако я не успела ни оглядеться, ни отдохнуть с дороги. Оказалось, что уже на следующий день мне предстоит важная встреча с журналистами на знаменитой Terazza Martini и следует должным образом подготовиться к этой встрече.
Начались посещения домов моды (тех, что еще были открыты в этот поздний час). Я с тревогой заметила, что мне подыскивается платье для коктейля длиною не ниже чем до половины бедра. В Польше самые смелые девушки уже давно носили платья такой длины, но я все еще не решалась. Вовсе не потому, что мне было не по душе изобретение Мэри Квант. Напротив! Могла ли, однако, я, испытывающая постоянный стресс вследствие иронии окружающих по поводу моего роста, позволить себе туалет, который, подобно магниту, притягивал бы взоры прохожих и тем увеличивал бы мои страдания?
«Нет, такой мазохисткой я ни за что не стану, даже ради искусства», – подумала я и робко предложила пойти в своем маленьком черном платье. Это было сочтено милой шуткой, и мне притащили очередную охапку туалетов. (Позже мое «маленькое черное» было полностью реабилитировано.)
Во избежание неясностей и недомолвок приведу, пожалуй, мои «параметры». Рост 184 см, а все остальное – во вполне удовлетворительной пропорции. Итальянки же в массе своей невысокие.
Если бы все это происходило в Швеции, Англии, Америке или Голландии, то до 23.00 я непременно подыскала бы что-нибудь подходящее, но я была в Италии, и мои мучения возрастали с каждым потерянным часом. Наконец, уже после полуночи, еле держась на ногах от усталости, я решилась на небольшой шантаж.
– Или вот это платье, или пойду в своем собственном!
Мои спутники тоже были утомлены и потому согласились на платье из джерси кораллового цвета и французские серебряные туфли. Французские – ибо у меня 40-й размер, а среди итальянских такого просто нет, то есть имеются, но в действительности соответствуют нашему 39-му. Поверх всего полагалось накинуть пальтецо из искусственного меха розоватого оттенка. Именно только накинуть, ибо одеть его как следует я попросту не могла. Оно было мне узко в плечах, а рукава коротки. Волосы мне велено было распустить, но, поскольку они у меня вьются от природы, пришлось долго «распрямлять» их в парикмахерской. Но и без того я чувствовала себя как Офелия в сцене безумия. Садясь на следующий день в машину, я с чувством какой-то растерянности, удрученно подумала: «Ну к чему все это? Для кого?»
Подразумевалось, что для меня. Но я многое дала бы тогда за то, чтобы отправиться на эту встречу одетой в свое собственное платье, а волосы заплести в косу, перекинув ее на спину, – такая прическа, кстати, в тот сезон была очень модной.
Нет, та девушка в розовом, с улыбкой позирующая для снимков, раздающая автографы, – это была не я.
Довольно скоро я почувствовала себя как боксер на ринге, которому грозит неминуемый нокаут, а до конца раунда еще невероятно долго. Требовалось непрерывно отражать удары противника, то есть давать интервью на нескольких языках представителям газет и журналов, не допускать возникновения напряженной атмосферы, когда речь заходила о политических проблемах, отвечать на глупые и провокационные вопросы шуткой. Шутка – мое безотказное оружие, к которому я часто прибегала, поскольку искренность, правдивость нередко трактовались превратно, приводя к прямо противоположному результату. Приятной стороной этой встречи было знакомство со многими интересными людьми – музыкантами, композиторами, актерами. Присутствовал там и представитель нашего консульства в Милане.
В продолжение всей встречи из безупречно действующих репродукторов, размещенных так умело, что их совсем не было заметно, негромко звучали мелодии моих песен с польской пластинки. Это было как бы знамением, смысл которого я тогда еще не понимала. Кончилось, мол, время, когда ты могла распевать. Теперь пение перестало быть самым важным делом, а вскоре оно вообще отодвинулось куда-то на задний план. Теперь я должна была только говорить, прежде всего говорить – все ради того, чтобы выйти на пресловутый «рынок». А поскольку по характеру я скорее мягкая, в меру отходчивая, то я и не объявила забастовки в отместку за «розовость», не наложила, топнув ногой, «вето», а с пониманием восприняла план средневековой эксплуатации человека человеком на весь последующий период, вплоть до дня моего возвращения домой. Мало того, в душе я еще корила себя за старомодность и неумение идти в ногу со временем. Я намеренно употребила выше определение «средневековая эксплуатация», ибо правдивым изображением фактов хотела бы умерить восторг (часто перерастающий в зависть) не посвященных в детали людей относительно положения польской певицы за рубежом.
Каждый выезжающий за границу артист становится обладателем незначительной суммы, которая должна обеспечить ему возможность: а) пользоваться телефоном в случае, если никто из организаторов не явится в аэропорт; б) заказать себе прохладительный напиток с целью успокоить нервную систему, ибо это как раз та ситуация, при которой даже сильно развитое чувство юмора может подвести. На такси нескольких долларов не хватит, ведь аэропорт обыкновенно расположен далеко от центра, а поездка городским транспортом в чужой стране, да к тому же еще с багажом, – это уж, я считаю, для женщины чересчур.
Поскольку за гостиницу и питание платил синьор Карриаджи, а возил меня мой личный охранник – Рануччо, то, казалось бы, мне было нечего и желать. Но человек так странно устроен, что время от времени ему хочется выйти на улицу и за углом в киоске купить себе газету. Можешь и не читать ее вовсе, но важно хоть на минуту почувствовать, что ты сам себе хозяин. Увы, этой привилегии я была лишена.
Самой же унизительной была минута, когда официант, принеся еду, замешкается в дверях в надежде на чаевые. Ведь я не могла даже сказать: «Извините, у меня нет ни гроша», я представляла фирму CDI, была иностранной звездой, фотографии которой публикуются в прессе, а песни звучат по радио. Я все больше убеждалась в том, что пренебрежительная улыбка официанта – поистине одно из самых тяжких жизненных испытаний.
Но не каждый официант «одаривал» меня именно такой улыбкой. В маленьком баре при гостинице работал в числе других невысокий коренастый сицилиец Джузеппе. Университета он, по всей видимости, не кончал, но зато весьма хорошо разбирался в людях и был отменным психологом. Он мгновенно понял мое положение, вследствие чего я никогда не испытывала неловкости в его присутствии. Как-то Джузеппе рассказал мне короткую историю своей жизни, типичную для южанина. Происходил он из многодетной деревенской семьи. «Однажды, – говорил он, – голод вынудил меня принять трудное решение. Я заявил матери, что отправляюсь на поиски работы. Не знал даже, куда пойду. Прощаясь, плакал. Мне было тринадцать лет. Нечего и объяснять, что я брался за любую работу, какая только попадалась. На добытые гроши я должен был существовать в чужом городе и, разумеется, не забывал помогать матери. Так что после всего пережитого службу в армии, откуда недавно демобилизовался, вспоминаю как чудесные каникулы. Совсем недавно мне удалось получить место бармена в гостинице».
Как я уже сказала, биография Джузеппе была типичной биографией южанина. Именно молодые люди главным образом вынуждены покидать родные края, отправляться на заработки, а так как единственное их богатство – сильные руки, то, попав в промышленный город, они не находят слишком большого выбора, где и кем работать. Для учебы у них никогда не хватало ни времени, ни средств. Горничные в моей гостинице также были родом из различных южных областей.
Я прожила в Италии полгода, с перерывом на краткий отдых в Польше, но даже и столь недолгое пребывание позволило мне сориентироваться в некоторых внутренних проблемах этой страны. Итальянцы с севера относятся к своим южным соотечественникам если и не презрительно (не знаю, имею ли я право употребить столь сильное слово на основании моих наблюдений), то, во всяком случае, не слишком доброжелательно, зачастую с долей иронии. Они считают себя, несомненно, выше южан. К примеру, конферансье и комики в развлекательных программах, желая развеселить зрителей, переходят на неаполитанский диалект – этого бывает достаточно, чтобы заурядная острота вызвала общий смех. Или вот иной пример размежевания севера и юга. На широко известный фестиваль песни в Неаполе не приезжает никто из уважающих себя «звезд» севера, а когда я, после неапольского фестиваля, захотела в Милане включить в свой репертуар несколько песен на неаполитанском диалекте, то в ответ на мое предложение только пожали плечами. Я знаю, что подобная «географическая дискриминация» в той или иной мере существует во многих странах.
Я не намерена критиковать существующие в Италии взаимоотношения, а тем более осуждать их. У меня попросту нет на это никакого права. Я не настолько хорошо знаю историю Италии, чтобы отыскать в прошлом этой страны причины, объясняющие нынешнюю обстановку, но одно заявление могу сделать без колебаний и даже поклясться, если кто-нибудь того потребует: мои симпатии на стороне собратьев бармена Джузеппе. И не потому даже, что подобные чувства всегда пробуждаются в нас в отношении к тем, кого несправедливо, без оснований третируют. Просто южане мне нравятся. Они доброжелательно относятся к людям, независимо от того, с севера они или с юга. Они еще не заражены самой страшной болезнью нашего времени – бесчувственностью, равнодушием к судьбе живого или умирающего на их глазах человека. Всем им присуща глубокая, искренняя любовь к родной земле. Кто хоть раз слышал, как поет о своей родной деревне южанин, тот мне поверит.
У итальянцев вообще сильно развиты родственные чувства. Привязанность итальянских сыновей к своим матерям вошла в пословицу. Часто, однако, она бывает несколько показной, словно демонстрируется в порядке саморекламы: «Вот, дескать, какой я хороший сын». Впрочем, каждый итальянец всегда немножко актер, и бороться с этим – напрасное дело, но бармену Джузеппе вроде бы не перед кем было играть, когда он посылал матери свои жалкие гроши. То же самое относится к религии. Итальянцы веруют горячо и глубоко. Именно таким был Джузеппе.
В следующий приезд я подарила ему вырезанных из дерева кукол, составляющих маленькую забавную сценку. Приближалось рождество, и такой сувенир показался мне уместным. Джузеппе очень обрадовался. Разместил кукол на полке в своем баре и долго рассматривал ручную работу художника-гураля.[4] Куклы стояли там до самого моего отъезда. Быть может, стоят и по сей день…
Ввиду того что я передвигалась по Милану только на машине, да и то вечно в спешке, я не слишком много могла рассказать в Польше своим знакомым о самом городе и его архитектурных памятниках. Единственное, что я видела часто и с разных сторон, – это нижние фрагменты великолепного кружевного собора. Я не случайно пишу «нижние фрагменты» – ведь из машины ровно столько и можно увидеть, – но даже и эти фрагменты вызывали у меня восхищение.
Еще в самолете я радовалась при одной только мысли, что буду иметь возможность пойти в знаменитый «Ла Скала». К сожалению, в плане моих занятий этого не предусматривалось. Правда, несколькими днями позже Рануччо подвез меня к зданию оперы (к слову сказать, я была немного разочарована его неимпозантным внешним видом), но лишь затем, чтобы сфотографировать меня в обществе весьма привлекательных карабинеров. Не знаю уж, чем руководствуются итальянцы, выбирая форму мундиров. Быть может, здесь играет роль их любовь к театральности, ибо эти великолепные мужчины в своих пелеринах и золотых шлемах с султанами производят впечатление статистов, которые ускользнули с репетиции, чтобы пропустить по стаканчику вина в ближайшем баре.
Мне все-таки удалось побывать в «Ла Скала» на «Трубадуре» – меня пригласили мои друзья, – но это уже позднее, во время следующего приезда в Милан. Я должна хотя бы в двух словах рассказать о реакции здешней публики, когда их кумиры исполняют знаменитые арии. Поскольку театральный сезон только что открылся, в тот день в театре было много иностранцев. Гуляя во время краткого антракта по фойе, я невольно вспомнила легенду о Вавилонском столпотворении – столь многоязычным был людской говор, достигавший моих ушей. Но это лишь в фойе – в зале же решительный перевес оказался на стороне итальянцев. Только их и было слышно. Каждая исполняемая любимцем ария вызывала не просто овации, которые раздавались иногда в самый неподходящий момент, совершенно заглушая солиста, но, главное, громкие возгласы, восхищенные похвалы, сопровождаемые бурной жестикуляцией. К примеру: «Ты великолепна! Ты несравненна! Другие рядом с тобой – ничто! Мой победитель! Люблю тебя, обо-жа-аю! Умираю от восторга!» На последнем ярусе рьяно аплодировала группа мужчин, по всей видимости клакеров. Поведение их явно указывало на это, хотя, по-моему, представление и так проходило на очень высоком уровне.
…На следующей неделе меня ожидал тяжкий труд манекенщицы. Рануччо являлся за мной в гостиницу – чаще всего с огромным опозданием – и отвозил в Дом моды. Там начиналась многочасовая изнурительная работа. Возможно, что кто-нибудь из людей, не посвященных в детали, прочтя это, недоверчиво усмехнется, но профессионалы меня наверняка поймут и в случае необходимости подтвердят справедливость моих слов.
К чисто физической усталости присоединялось нервное напряжение. А все из-за тех несчастных добавочных сантиметров, которыми наделил меня творец. Однако я не должна была показывать вида. В каждом новом месте я с улыбкой выслушивала изумленные замечания по этому поводу.
Сюда следует добавить и замечания фотографов. «Прошу вас понять, синьора, – убеждал меня как-то раз один из них, – вы не царствующая особа, вы девушка, которая непременно должна нравиться». «Вовсе я к этому не стремлюсь», – подумала я про себя в ответ на этот в какой-то степени справедливый упрек. Действительно, во мне нет ни одной капли голубой крови. Но душу мою, уже весьма сильно растревоженную, все больше охватывали сомнения и протест. Человек никогда не должен поступать вопреки своим убеждениям, вопреки характеру. Не должен делать ничего, что он сам позднее будет вспоминать с неприятным чувством. Обожаю танцы и дружеские пирушки, люблю посмеяться – даже без повода! – но только тогда, когда мне весело, но я не в силах, пусть даже на короткое время, надеть на себя маску женщины, совершенно чуждой мне во всех отношениях, – женщины только на показ, для рекламы.
К счастью, это неожиданно поняли мои фотографы и даже заявили, что мне «к лицу» небольшая примесь славянской меланхолии.
Таким образом, я могла не заботиться об улыбке, от которой ныли лицевые мускулы и, что хуже, возникали морщины! Увы, оставались еще такие черты моих милых хозяев, как чрезмерная фамильярность. При моем появлении кто-нибудь из них мог, например, с ловкостью акробата взобраться на стул, дружески похлопать по спине либо – чего я совершенно не переносила – слегка ущипнуть за щеку. Правда, последнее позволяли себе только отцы семейств, да и то в присутствии своих супруг, тем не менее всякая иная моя реакция, более резкая, чем желание отшатнуться, казалась им странной. Ведь подразумевалось, что ко мне проявлена отеческая симпатия.
Теперь самое время представить вам поближе мою личную охрану, моего дневного ангела-хранителя, журналиста Рануччо.
Рануччо, молодой человек лет двадцати пяти, был, к счастью, высокого роста и необыкновенно спокойного нрава. Его невозмутимость порой доводила меня до слез (конечно, я разрешала себе всплакнуть лишь наедине с собой, в гостинице) и до полного отчаяния. Видимо, по этой причине во мне со дня на день крепло злорадное чувство, что Рануччо такой же журналист, как я – пигмей.
Первым ушатом холодной воды, опрокинувшимся на мою бедную голову, была моя биография, созданная стараниями Рануччо. Узнав из нее о своем происхождении и судьбах близких мне людей, я была потрясена до того, что потеряла дар речи. Выйдя из шока, я, совершенно забыв, что Рануччо понимает только итальянский, закричала на родном языке: «Ты сошел с ума! Кому нужен этот бред?» Однако Рануччо, по-видимому, понял меня, ибо принялся объяснять, что, дескать, правдой никого не удивишь, а суть-то прежде всего в том, что люди жаждут необыкновенного, а если какие-то факты и подсочинить, так это ерунда, поскольку, прочитав, все равно никто ничего не запомнит. «Все так делают», – сказал он, добавив мне в утешение, что выдумывают вещи и похуже. Доныне удивляюсь, почему, к примеру, моя мама превратилась в армянку? Скорее всего, Рануччо некогда прочел биографию Азнавура…
Впрочем, плод его буйной фантазии был полностью одобрен Пьетро, который высказал мне свои резоны, в точности повторяющие доводы Рануччо. Вдобавок меня же еще и упрекнули: «Я предпринимаю все, чтобы привлечь к тебе внимание, а ты недовольна». Что мне было делать? Уехать домой? Расторгнуть договор? Даже на дорогу до аэропорта мне бы не хватило, не говоря уже об обратном билете… А неустойку по договору пришлось бы платить до конца жизни. Я осталась. А вскоре пережила еще большее огорчение, совершенно заслонившее вопрос о моей биографии.
Срок моего первого пребывания в Италии подходил к концу. Встречи на Terrazza Martini и сослужившие службу рекламные снимки из домов моды давали свои результаты. Пресса почти ежедневно и довольно много писала обо мне. И теперь, когда публика узнала обо мне из моих интервью, осмотрела со всех сторон в разнообразных туалетах (какие только удалось на меня натянуть), можно было позволить и спеть. Потому что с некоторых пор стали возникать сомнения: «Ну ладно, все это хорошо, но, вообще-то, она действительно поет?»
Оказалось, что это был заранее выработанный план Пьетро, которым он ужасно гордился. А главным исполнителем плана был, конечно же, Рануччо. Если бы не он… Некоторые качества Рануччо убеждали меня, что все-таки есть в нем что-то от настоящего журналиста.
Помню, как однажды потребовалась серия снимков в аэропорту. Чтобы попасть на его территорию, нужно было все-таки быть Рануччо. Только ему удался этот номер – снимать без разрешения. В итоге я была сфотографирована возле самолета, на крыле, под крылом, в кабине, за кабиной, возле пульта и т. д. Недоставало лишь фотографии – я в полете. Другой особенностью характера Рануччо, которая меня искренне изумляла, было его отношение к женщинам. Он был убежден, что всякая женщина, едва лишь взглянув на него, воспламеняется любовью. Разумеется, к нему, к Рануччо.
Когда-то у нас демонстрировался итальянский фильм с Доменико Модуньо в роли шофера. «Как она на меня посмотрела!» – восторженно восклицает Модуньо, обращаясь к своему товарищу – шоферу. Речь шла о девушке, которая, переходя дорогу, бросила случайный взгляд в его сторону. Я думала, что это просто юмористический момент в фильме, имеющий мало общего с действительностью. Поэтому сначала со смехом воспринимала такие, например, возгласы Рануччо: «Ты заметила? Заметила, как она на меня посмотрела? Хорошо, что я сейчас в машине, а то бы она не оставила меня в покое…» «А этот Рануччо наделен чувством юмора», – с удивлением думала я, тем более что сходством с Рудольфо Валентино, который вызывал у женщин столь бурные чувства, Рануччо, пожалуй, не обладал. При всем том общество Рануччо очень скрашивало мое пребывание в Италии. Объективности ради должна признать, что он прилагал немалые усилия, дабы ублаготворить своего шефа. Он буквально разбивался в лепешку. Многие свойства характера Рануччо оказались в разительном несоответствии с моими – но в этом его вины нет. Я вспоминаю о нем с симпатией.
Наконец настал день, когда мне позволили выступить перед публикой, в прекрасном зале Circolo della Stampa в Милане (Дом прессы).
Поскольку с концертом все получилось довольно неожиданно, у меня не было времени подготовиться к такому ответственному выступлению. Ему предшествовала одна-единственная репетиция с пианистом – утром; вечером должна была состояться вторая репетиция с музыкальным ансамблем уже в самом зале.
Я умолила Рануччо, чтобы он хоть раз не заставил себя ждать и привез меня в этот маленький дворец заблаговременно, что он и исполнил. Это был действительно превосходный зал. Я и всегда-то перед концертом нахожусь в полуобморочном состоянии, а тут еще чувство неуверенности, нервозность. Словно сквозь туман видела я золоченые рамы огромных, от пола до самого потолка, зеркал, трепет огней, жирандоли, канделябры…
Время от времени моего слуха достигала с набожным почтением рассказываемая история этого зала. Передо мной здесь выступал, точнее, произнес речь генерал де Голль, а до него побывал еще один француз, Бонапарт. Но он всего лишь спал в этом зале. Речей не произносил. Признаюсь, что эти исторические факты почему-то меня не ошеломили (а должны были!). Моя фантазия несколько оживилась, нарисовав роскошное ложе под балдахином, где спал маленький Великий Корсиканец. Но тем и ограничилась. К сожалению, все попытки подогреть воображение пресекала безжалостная действительность. Сдерживая слезы, которые могли вот-вот хлынуть ручьем, я думала только об одном, а именно о том, что ведь самого главного – репетицию с музыкантами – осуществить уже не удастся.
Сколь же пустячными представились мне теперь все предыдущие горести!
Подготовлено и опробовано освещение, звук, телевизионные и кинокамеры (часть концерта предполагалось заснять на пленку), микрофоны. Моя персона запечатлена крупным планом и в иных ракурсах, только для репетиции с музыкой все не находилось времени.
А песни были трудные, с меняющимся ритмом, к тому же незнакомые итальянским музыкантам. Я пела с ними первый раз в жизни, так что о сыгранности и какой-либо импровизации не могло быть и речи.
Наконец маэстро проиграл по две фразы из каждой песни. Публика уже заполняла зал.
После концерта, который прошел сверх ожидания хорошо, я узнала от Пьетро, что у меня слишком серьезный подход к делу, что музыка развлекательная, легкая, так что и относиться к ней надо соответственно. Да простит ему какой-нибудь из итальянских святых, а я не могу!
Тогда я еще не знала, что попаду во сто крат худшую историю. Во время моего второго приезда в Италию мы с Пьетро поехали на машине в Канны, на международную ярмарку грампластинок.
Прибыли мы в Канны с опозданием по причине возникших неприятностей с визами на итало-французской границе. Горная дорога вилась такими зигзагами, что на протяжении всего нескольких километров дважды пересекала итальянскую территорию. А у меня имелось разрешение только на однократное пересечение границы. В итоге, после бесконечных дискуссий и составления протоколов, стражи порядка согласились на мой въезд на территорию Франции. (Обратный путь мы, во избежание неприятностей, проделали на самолете.) Итак, в Канны мы явились с большим опозданием.
Никакой репетиции с оркестром провести я, понятно, не успела – хорошо, что мне вообще удалось выступить, да и то лишь благодаря умению молниеносно переодеться и причесаться. До сих пор не могу понять, откуда у меня на это взялись силы, не говоря о том, что ведь пришлось еще и петь!
Семичасовое путешествие зимой на машине по извилистой горной дороге не способствовало хорошему самочувствию, так что Пьетро вынужден был часто останавливаться. Морская болезнь на пароходе «Баторий» казалась мне теперь невинным пустяком. Я думала, что мне уже не выйти из машины на собственных ногах. Тем не менее вышла – переоделась и встала перед микрофоном, буквально «с корабля на бал», без репетиции, не ознакомившись с новой аранжировкой песни «Вернись в Сорренто», разработанной специально для этого концерта. Единственное, на что я рассчитывала, – это на помощь дирижера.
И надо же такому случиться, что после того, как стихли приветственные аплодисменты, дирижер вместе с оркестром исчез за великолепным занавесом, отделяющим их от солиста! В адрес сценографа, которому пришла в голову эта гениальная идея, я высказала отнюдь не самые добрые слова (произнесенные, конечно, не вслух). Вследствие этого мне пришлось исполнять песню, полагаясь лишь на интуицию, изо всех сил пытаясь одновременно удержать равновесие на ватных, подгибающихся ногах, а также улыбку, которая, как мне было известно, транслировалась едва ли не всеми телевизионными компаниями.
И опять получилось, что Пьетро был прав, но какова цена… Об этом знала лишь я. И подумать – не только никто ничего не заметил, напротив – моя манера исполнения очень всем понравилась и даже… во мне обнаружили сходство с известной киноактрисой, так называемой «секс-бомбой». Поразмыслив, я пришла к выводу, что заслужила этот комплимент (а это, несомненно, высказывалось именно как милый комплимент) благодаря моим длинным светлым волосам и высокому росту. Ибо главного атрибута, делающего эту актрису секс-бомбой, я была, увы, лишена. Правда, не могу пожаловаться – у меня хорошо разработана диафрагма, благодаря этому мне есть чем дышать… и петь, но все же я противница таких преувеличений.
Вернемся еще раз назад, в зал «де Голля и Бонапарта». В первом отделении концерта выступал негритянский ансамбль «The Folk-Studio Singers» со своими оригинальными блюзами. Необыкновенно талантливые ребята – они не только прекрасно пели и одновременно танцевали, но каждый еще играл на разных инструментах.
Что касается танца, способности двигаться по сцене, то у меня было много возможностей убедиться, что мы не в состоянии равняться в этом со своими черными братьями. Такой пластичности и грациозности движений, гениальному чувству ритма нельзя научиться. А если и научишься – все равно это не будет то же самое. С такими способностями надо родиться, иметь это в крови. Я подружилась с ансамблем. Они присылали мне открытки из своих путешествий по Италии, присылали поздравления в Сан-Ремо. Не забывали обо мне и тогда, когда я лежала в гипсе. Однажды приехали из Рима в Болонью – ради того лишь, чтобы принести цветы и пожелать здоровья. Сейчас, когда я пишу эти строки, как раз проходит Олимпиада в Мексике. Должна добавить, что с удовольствием слежу за спортивными состязаниями и вижу, что не только в танце, но и во многих спортивных дисциплинах эбеновые юноши и девушки недосягаемы.
Концерт вел один из самых симпатичных конферансье, каких мне только приходилось встречать в Италии, – синьор Энцо Тортора. Он говорил тепло, без преувеличений, без потуг на роль королевского шута, что, увы, было свойственно некоторым конферансье.
После выступления, оставаясь на эстраде перед микрофоном, я должна была отвечать на «стихийные вопросы» публики. К счастью, перед открывшейся для публики возможностью получить, при этом из первых рук, столь важную информацию, как «Ваш рост?», потускнели все другие проблемы, касающиеся международного положения и даже… песни. Поскольку заверения, что мой рост «184 см без каблуков», не вполне убедили публику, я быстро нашла способ удовлетворить ее любознательность, следуя лозунгу «Наш клиент – наш повелитель». Я предложила, что будет лучше всего, если кто-нибудь из почтенных, известных данной аудитории синьоров выйдет на сцену, встанет рядом и померится со мной ростом. К моей радости, вышел ужасно долговязый мужчина, актер, возле которого, став без каблуков, я сама себе показалась ниже среднего роста!
Подобное героическое «самоуничижение» я практиковала отнюдь не впервые. По окончании международного фестиваля в Остенде (Бельгия) в 1965 году происходило вручение наград – в чудесном помещении курзала. Всех участников фестиваля пригласили на сцену. С минуту мы стояли среди многоцветия ламп и вспышек «блицев». Потом на сцену поднялся бургомистр и зачитал очень милую и сердечную речь, после чего вручил певцам награды за три первых места – выполненные из металла парусные корабли на мраморной подставке. Первую награду – «Золотой парус» – завоевала тогда Моника Лейрак, «Серебряный» – гречанка Ники Кашба, хорошо известная нам по Сопоту, «Бронзовый» достался мне. Приветствуя по этому случаю награжденных, господин бургомистр обратился к истории суровой и прекрасной Канады, потом к прекрасным традициям Древней Греции, помянул Орфея. Я была восхищена его поэтическими сравнениями. Но когда дошла очередь до «Бронзового паруса», бургомистром внезапно овладело мучительное чувство приниженности. Терпеливо выслушав его сетования, я ответила с полным пониманием: «Что же я могу для Вас сделать? Пожалуй, только это…» Тут я моментально сбросила золотые туфли с шестисантиметровыми каблуками и встала рядом в одних чулках. Эффект был точно такой, как и на этот раз, в Италии. Публика чрезвычайно развеселилась и выглядела вполне довольной. (Все комментарии в обоих этих случаях оставляю при себе.)
В конце концов кому-нибудь может прийти в голову вопрос: «Если ей было там так плохо, почему же она продолжала это, во имя чего?»
У меня была цель, которая «оправдывала средства».
Семья моя состоит из мамы и бабушки. Отца я потеряла, будучи двух лет от роду. Так что все, чего мне удалось достигнуть в жизни, мое образование я получила благодаря заботам, любви и тяжкому труду этих двух самых близких мне женщин.
Выпавшая нам судьба не была слишком милостива. В ней отразилось все то, из чего складывалась жизнь сотен тысяч людей в годы последней войны, вкупе с голодом, изгнанием, подчас гибелью целых семей.
И вот теперь мне хотелось, имея на то возможности, хоть в малой степени смягчить, стереть воспоминания мамы и бабушки о тяжелом прошлом, создав лучшие условия жизни. Я хотела купить квартиру. Тот, кто никогда не имел своего угла, понимает, что значит для человека собственное жилье. Можно в течение всего дня быть на людях, но после работы необходимо иметь целительную возможность отключиться, замкнуться в четырех стенах собственной комнаты, устроенной по твоему вкусу. С возрастом потребность в этом делается все более отчетливой, насущной. Моей бабушке уже восемьдесят четыре года, и она еще никогда не жила в комфорте. Ошибется тот, кто подумает, что я имею в виду многокомнатную виллу с садом, бассейном, террасами, хоть я вовсе не против «люкса». Считаю даже, что всякий человек на земле должен обладать хотя бы одним собственным деревом.
Я же мечтала об обыкновенной трехкомнатной квартире с горячей водой и необходимыми удобствами.
Именно это мое пламенное желание давало мне силы не замечать «маленьких препятствий». Я вынуждена была спешить, чтобы возможно быстрее заработать деньги. Человек, у которого за плечами восемьдесят четыре года тяжелой жизни, давно перешел на вторую половину своего земного пути. Я очень люблю бабушку, которая меня, собственно, и воспитала и от которой я получила в наследство ее характер. Моей матери пришлось посвятить себя работе, не всегда соответствовавшей ее образованию.
У читателя, конечно, может возникнуть вопрос: «Почему же она раньше не купила квартиру, ведь выступает на эстраде уже шесть лет?»
Попытаюсь объяснить. Увы, буду вынуждена разрушить миф о легких заработках певцов и астрономических суммах их гонораров. (Извините, что тем самым доставлю вам разочарование.) Доходы эстрадного певца, который относится к своей работе добросовестно и с полной ответственностью, которому чужды халтура и принцип «все хорошо, за что платят», не отличаются от средних доходов любого поляка. А при этом всякое планирование и рациональное ведение хозяйства совершенно исключается, поскольку никогда не знаешь, какой суммой в этом месяце ты можешь располагать. К тому же с профессией артиста-«кочевника» сопряжены немалые издержки (взять хотя бы проживание в гостиницах, туалеты, обязательные для фоторекламы, очень часто за свой счет заказанные аранжировки песен и прочее, и прочее).
То, о чем я написала, отнюдь не является слезливыми жалобами по поводу «тяжкой участи бедного певца». Никто ведь насильно не заставлял тебя выбрать именно эту профессию, и большинство из нас не захотело бы ни за какие сокровища в мире сменить ее на другую (даже если имеется в запасе еще одна, более «почтенная»). Мы, конечно, не крезы, но делаем то, что доставляет нам радость – мы имеем возможность петь и, что еще важнее, знаем, что пение для нас и является целью, а не средством для ее достижения.
Я упоминаю об этом лишь затем, чтобы объяснить, как вышло, что я решилась подписать контракт на три года, хотя всякий раз разлуку с родной страной переношу как стихийное бедствие.
Карьерой певца на Западе управляют законы бизнеса. При благоприятной конъюнктуре и капельке везения даже одна записанная на пластинку популярная песенка может принести относительно большой заработок, ибо пластинка расходится в этом случае огромными тиражами, а исполнитель наравне с композитором и автором текста получает определенный процент от количества проданных пластинок. На это я и рассчитывала.
Разумеется, легендарные (впрочем, соответствующие действительности) сногсшибательные доходы зарубежных певцов – удел лишь немногочисленных баловней судьбы, тех, кто стал широко популярен. К примеру Том Джонс, который сейчас на вершине славы, получает – как сообщалось в нашей прессе – десять тысяч долларов за одно выступление. Это очень много, даже если отбросить налоги, оплату целой армии музыкантов, аранжировщиков, композиторов и так далее. Урожайные годы, как правило, длятся недолго. Взамен уже приевшихся, хоть и талантливых, появляются новые лица – как в калейдоскопе. Надо спешить, зарабатывать теперь, сегодня – скопить на «черный день», который наступит, когда публика совсем потеряет к тебе интерес. Поэтому делается все, чтобы как можно дольше продержаться в свете юпитеров. Необходимо всеми доступными способами, любой ценой подогревать любопытство зрителя-слушателя. В целях рекламы хороши все средства. Увы, не каждому достает сил выдерживать такую борьбу. Некоторые сами сходили со сцены. Например, Луиджи Тенко.
Во время моих предыдущих «больших» гастролей, например поездки в Англию, США и Канаду, я получала за свои выступления только суточные. Их хватало на проживание, а порой (крайне редко, ибо билеты дорогие) на посещение театра или мюзикла.
Фестиваль для певца – вообще дело неоплачиваемое. Сам факт участия в нем уже является достаточным вознаграждением. Поэтому я охотно участвовала в фестивалях и поездках с группой артистов за границу. Это всегда становилось интересным, надолго запоминающимся событием. Неважно, что финансовая сторона оставляла желать лучшего. Например, певцов, принимавших участие в международном фестивале в Остенде, разместили в маленьких гостиницах, где уже заранее были оплачены завтраки и ужины. Зато обед подавали за общим столом в прекрасном помещении курзала.
На многочисленных встречах коктейли и всяческие другие алкогольные и неалкогольные напитки подавались также за счет устроителей фестиваля. Казалось бы, предусмотрено все. Тем не менее, когда настал день отъезда, «звезда» была вынуждена сама взять свой багаж и топать пешком (у меня не было денег на такси) до назначенного места.
Подобный факт должен бы вызвать чувство неловкости. Однако я ужасно развеселилась при виде огорченно-изумленной мины на лице привратника. Так, обладая чуточкой юмора и элементарным пониманием иерархии ценностей, можно рассматривать подобные ситуации с философской точки зрения и не видеть в них причин для огорчения. Впрочем, я была лишь гостем в этом чужом мире. Постоянно помнила, что через несколько дней или недель вернусь домой, к более важным для меня проблемам.
Не могу не вспомнить при случае о самых приятных зарубежных гастролях – поездке с группой в тридцать человек в США и Канаду. Собственно, должна заметить сразу, что я имею в виду не пребывание на территории США и Канады, а само путешествие на «Батории». Сколько бы раз ни довелось мне встретиться потом с участниками этого турне, всякий раз мы растроганно вспоминали о днях, проведенных на лайнере: наши обеды за общим столом, подававшиеся нам божественные десерты, игру в «бинго» и даже девятибалльный шторм!
Я делила каюту с Касей Бовери. Я внизу, Кася наверху. В продолжение шести дней в океане бушевал шторм. Наша каюта размещалась на верхней палубе, однако же волны с шумом хлестали но иллюминаторам. По каюте летали разнообразные предметы: баночки с кремом, духи (до того тщательно расставленные перед зеркалом), книжки, туфли, стулья – все, что не было привинчено к полу. Увы, поддерживать порядок нам было не под силу. Мы дисциплинированно лежали в своих койках, бдительно следя, чтобы не свалиться на пол. Стоило хоть чуточку приподнять голову, как уже требовалось немедленно нестись в ванную.
О, много десертов пропустили мы с Касей в течение этих шести дней! Но не на всех океан действовал так фатально. Кажется, даже в тех случаях, когда большинство мест в салоне пустовало, туда регулярно и пунктуально являлись пан Владислав и пан Люциан. И вовсе не ради светского общения. Оба отличались неизменно чудным аппетитом.
В великолепном зале Circolo della Stampa в Милане я познакомилась также с синьором Энцо Буонассизи. Это главный критик и рецензент всех культурных событий в Милане, сотрудник «Коррьере делла сера». Необычайно симпатичный, добрый и благожелательный человек. После того как нас официально представили друг другу, после вежливого обмена мнениями насчет путешествия, гостиницы, климата и т. д. я, заметив в поведении синьора Буонассизи некое беспокойство, поняла, что самый важный, принципиальный вопрос еще впереди. И в самом деле, минуту спустя я услышала произнесенное тихо и с надеждой в голосе: «Вы любите готовить?» Мой неосторожный смех и легкомысленное признание: «Нет, не люблю» – отразились на лице моего собеседника таким глубоким разочарованием, что на следующий вопрос, заданный уже без тени надежды, формальности ради: «Но вы хотя бы умеете готовить?», я солгала мгновенно и без запинки, предвидя, что в противном случае произойдет катастрофа. Сообразила, конечно, что для проверки моих кулинарных способностей все равно не будет ни времени, ни возможности. А к чему беспричинно огорчать ближних?
В оправдание своего кошмарного faux pas[5] прибавлю, что мужчина, топчущийся у плиты, не вызывает у меня никаких возвышенных чувств. Не знаю, способен ли был бы сам Грегори Пек, возьмись он рассуждать о превосходстве грибного соуса над любым другим, увлечь меня (естественно, если бы для того существовали потенциальные возможности). В Италии я встречалась с этим странным явлением довольно часто. Даже Рануччо обожал готовить!
Скажем, принимаясь за десерт, то есть уже удовлетворив перед тем голод, всякий нормальный, уважающий себя мужчина немедленно берется наводить порядок в политике; всякий же третий итальянец (моя точная статистика) начинает обсуждать вкус поданных блюд, добавляя свои импровизации на заданную (читай – съеденную) тему. В лучшем случае разгорается дискуссия на предмет женско-мужских взаимоотношений.
Должна признать, что, как я убедилась позднее, синьор Буонассизи обладал не только большой склонностью к кулинарному делу, но прямо-таки настоящим талантом. Он является автором нескольких кулинарных книг – где дает собственные, оригинальные рецепты, – несравненным знатоком кухни всех регионов Италии и, разумеется, великим гурманом. Он – член жюри на каждом съезде гурманов. Не знаю, правда, какое бы в этом случае употребить точное название, но думаю, что спокойно могу возвысить эти кулинарные съезды до ранга фестиваля. Иногда отдельный регион Италии выставляет свои блюда, иногда собираются мастера сковородки со всей страны. И тут уже необходимы подлинная увлеченность и… хороший желудок, дабы оправдать требования, предъявляемые к членам жюри. Хотя синьор Буонассизи никогда от судейства не отказывался, силуэт его не имеет ничего общего с обликом Фальстафа.
Синьор Буонассизи, кроме того, высокочтимый писатель и поэт. Перед моим отъездом он подарил мне свой труд под названием «Пятьдесят лет итальянской песни» – прекрасное, богато иллюстрированное издание в форме альбома, куда включены и фотографии и записи певцов. Однажды он пригласил меня в редакцию «Коррьере делла сера» и показал все отделы, познакомил с сотрудниками, начиная от портье и кончая директором. Позже пригласил к себе домой на обед, им самим приготовленный. Представил меня жене Лии, дочери Эльвире, жениху дочери и… самому главному члену семьи – песику.
Песик был маленький, с коричневой кудрявой шерстью, кажется пудель. (Прошу меня простить, если ошиблась, но с полной уверенностью могу назвать только таксу.) Песик, как я сразу заметила, располагал огромными привилегиями – главным образом в силу своего редкого музыкального таланта. Достаточно было сказать: «Ну а теперь спой что-нибудь хорошее», как пуделек тут же садился на задние лапки, поднимал мордочку и начинал невероятно тоскливо выть. Пел он самозабвенно, так, что прервать его было довольно трудно; удавалось это лишь с помощью какого-нибудь лакомства. Ему не чужда была и профессиональная зависть: заслышав любую музыку, он моментально настраивался враждебно по отношению к источнику звука, будь то пластинка или приемник. По-видимому, он не переносил конкуренции в собственном доме. Приходилось предварительно запирать его в дальней комнате.
С большим удовольствием вспоминаю также еще одно приглашение супругов Буонассизи. На этот раз – в ресторан. Мне приготовили сюрприз, так что я не знала заранее, где окажусь. А оказалась в трактире, словно перенесенном сюда со старой картины: полумрак, длинные деревянные столы с лавками вместо стульев, на подпирающих потолок деревянных столбах висят пузатые, оплетенные соломой бутыли с вином, а с потолка свешиваются целые гирлянды чеснока и лука. Подавали нам разнообразные блюда, названия которых мне ничего не говорили, ибо слышала я их впервые, но вкуса они были отменного.
Впрочем, описывать эти блюда нет смысла – их надо просто попробовать самому. Поскольку я не большая любительница деликатесов, мне очень понравилась эта простонародная еда, острая, сдобренная перцем, как и язык «исповедующих» ее людей. Этим вечером мой авторитет в глазах синьора Буонассизи сильно возрос. Мне все казалось вкусным, и довольный синьор Буонассизи пододвигал мне все новые и новые блюда: «Ну хотя бы попробуйте».
Да, с сердечной благодарностью вспоминаю я синьора Буонассизи, его гостеприимство, искреннее участие, которое проявил он, видя мое одинокое блуждание по бескрайнему морю чужих обычаев и языковых трудностей. Человек всегда в состоянии понять другого человека, невзирая на географические различия, несхожесть обычаев, религии, языка… Надо только захотеть, и этого будет достаточно.
Но вот, к великой моей радости, срок первого пребывания в Италии приблизился к концу. Вскоре я должна была вернуться в Варшаву, а затем к моим близким во Вроцлав.
Последняя ночь в гостинице… Вещи я быстренько упаковала еще накануне и теперь просто не могла спокойно усидеть на месте. Номер у меня был чистым и удобным, с ванной, выложенной голубым кафелем. Но сама улица выглядела довольно мрачно, так что окно я чаще всего держала занавешенным. Однажды я заметила, что в доме напротив (улочка была очень узкая) некий господин развлекается, наведя на чье-то окно бинокль. Не утверждаю, что именно на мое, но сама мысль, что за тобой могут подглядывать, была не из приятных. И существовала еще одна причина.
Спустя несколько дней после моего приезда в одном из домов на противоположной стороне скончалась пожилая дама. В таких случаях снаружи на воротах вывешиваются определенного цвета стяги и расстилают дорожку, которая протягивается даже на улицу. В тот раз полотнища были темно-фиолетовые, а дорожка черная. На меня это производило такое гнетущее впечатление, что я задернула портьеры, дабы таким образом оградить себя от вида траурных полотнищ, печальных, как сама смерть.
Подобное произошло четырежды в том самом доме. Поэтому мои окна были занавешены все то время, пока я там жила. Траур позднее был снят, но при одном взгляде на те ворота портилось настроение.
Вскоре все – и хорошее, и плохое – должно было отойти в область воспоминаний. Рубежом, отделяющим их от реальности, был для меня аэропорт, а точнее – борт польского самолета. С него начиналась для меня Польша – единственно значимая реальность, независимо от того, приносила она радости или горести. Реальность, желанная в любом своем проявлении.
Я стремилась домой, чтобы получить заряд энергии, любви, переполнявшей письма, вообще – чтобы отогреться!
В Польше, конечно, ждали меня и обязанности. Некогда я получила приглашение от профессора Тадеуша Охлевского принять участие в концерте старинной музыки. Музыкального образования у меня нет, голос поставлен от природы, и лично моей заслуги в том – никакой. Пение не доставляет мне трудностей, я в одинаковой форме что днем, что ночью. Мне не нужно предварительно «распеться», проявлять особую заботу о горле и т. д.
Все же, думала я, этого недостаточно, чтобы петь арии Скарлатти, те самые, за которые певицы берутся после многолетних занятий вокалом.
Мои опасения немного поубавились после того, как профессор Охлевский объяснил, что сочинения Доменико Скарлатти (которые он предлагал мне) являются камерными, что они исполнялись некогда именно в камерной обстановке для небольшого круга слушателей и что их можно петь без специальной подготовки. Он утверждал, что именно в манере исполнения, когда вокальная техника не подавляет естественного звучания и интерпретации вещи, может заключаться свое очарование. Во времена Марыси Собеской[6] эти арии, скорее всего, так и исполнялись.
Я не была абсолютно убеждена в том, что имею право обратиться к ариям Доменико Скарлатти, но музыка оказалась столь прекрасной, ансамбль «Con moto ma contabile» так мил и дружелюбен, а пан профессор так обаятелен… И я рискнула.
Профессор похвалил меня – и после концерта в Малом зале Варшавской филармонии, и после трансляции по телевидению из Вилянова.[7]
Но пора прервать рассуждения на эту тему, иначе кто-нибудь может заподозрить меня в излишнем самомнении. Просто я очень люблю петь и бываю безмерно счастлива, когда могу доставить удовольствие, а не разочарование. Признаюсь, что, если в такую минуту никто меня не видит, способна подпрыгнуть от радости. В этом все дело.
Мое участие в концерте старинной музыки было доброжелательно встречено публикой. Несколько недель спустя до меня дошло поздравление очень издалека, из… Южной Африки. Оказалось, что работавший там польский инженер как раз находился дома в отпуске и, будучи большим любителем старинной музыки, пошел на концерт. Моя пластинка «Танцующие Эвридики», которую он приобрел и которая таким путем оказалась на Черном континенте, получила там признание, песенки, записанные на эту пластинку, завоевали на пяти радиостанциях первое место, а в одной из детских больниц выбрали песенку «Мелодия для маленького сына», чтобы специально проигрывать ее для своих пациентов.
Эта весть могла бы радовать, если бы одновременно не вызывала грусть и замешательство. В стране, где не только радиостанции, но даже тропинки в парке отдельные – для белых и отдельные – для черных, черная публика оказалась в состоянии на собственной студии отдать первое место белой певице.
Позднее я получила чудесный подарок из Южной Африки – перстень, браслет и ожерелье, гарнитур из слоновой кости работы художника-зулуса. Получила также букет цветов, которые растут только в одном месте земного шара, именно в Южной Африке. Это были разноцветные протеи. Теперь они засохли и утратили краски, но сохранили форму бокала. Они могут стоять в таком виде много лет.
Срок второго отъезда в Италию неумолимо надвигался. Предполагалось, что на этот раз мое пребывание закончится участием в фестивале в Сан-Ремо. Из-за этого фестиваля я потеряла покой. Поскольку на репертуар – рассудила я – все равно мне не повлиять, так займусь хотя бы туалетами. На помощь мне пришел директор ПАГАРТа. Он любит смелые планы, любит маленькие, а по мере возможности и большие новации. Благодаря его организаторским способностям и знанию человеческой души первая полька пела в «Олимпии», а теперь впервые полька должна была петь в Сан-Ремо. Прослышав откуда-то о моих заботах, он пригласил к себе домой меня и пани Грабовскую, возглавлявшую «Польскую моду», весьма умело направляя разгоревшуюся неожиданно дискуссию. Нам энергично ассистировала супруга пана директора, Нелли.
Пани Грабовскую, впрочем, не надо было убеждать. Она с большим пониманием отнеслась к проблеме, удачное разрешение которой не только вызволило бы меня из затруднений, но и послужило бы рекламой для «Польской моды». Как известно, передачи с фестиваля транслируются на многие страны.
Пани Грабовская тут же набросала проект моего костюма. Это должно было быть платье, напоминавшее линией шляхетский кунтуш из парчи коричневато-золотистых тонов, обрамленное коричневым мехом. Прическа – в соответствии со стилем эпохи.
Проект пани Грабовской очень мне понравился. Каково же было мое разочарование, когда на другой день в «Польской моде» меня постигла неудача. Правда, мне предложили сшить этот наряд, и даже в срок, но… сумма превышала мои возможности.
Перед выездом я накупила для своих итальянских знакомых кучу разнообразных сувениров в «Цепелии»,[8] за одну аранжировку песни и за то, чтобы ее переписать, заплатила две тысячи пятьсот злотых, серия рекламных снимков, которых ПАГАРТ давно от меня требовал, и, наконец, двухнедельное проживание в варшавской гостинице – таковы в очень сокращенном виде причины, в силу которых кошелек мой оказался пуст.
Так что я захватила свои прежние платья и отправилась в путь.
И снова начался период весьма активной деятельности. С той разницей, что к «тряпочным» делам (как называла я позирование в домах мод) присоединились наконец музыкальные проблемы. Приятной неожиданностью было известие, что я могу выбрать для себя фестивальную песню.
Пожалуй, стоит пояснить, каким образом проводится «отборочное соревнование» фестивальных песен. За много месяцев до того заинтересованные композиторы и авторы текстов, у которых уже есть готовая песня и исполнитель (необязательно тот же, кто будет петь ее на фестивале), начинают охоту за свободной студией грампластинок. Найти свободную студию в эту пору невероятно трудно. Добыв студию (чаще всего на строго определенное время), записывают песню на пробный диск. Разумеется, не с полным блеском, а в сопровождении всего нескольких музыкантов, только чтобы жюри могло получить общее представление о достоинствах песни.
В установленный срок, после которого уже не принимается ни одна новая песня, члены жюри усаживаются в удобные кресла, сосредоточиваются и терпеливо прослушивают по крайней мере около сотни песен. Принятыми оказываются примерно тридцать. Половина из них отпадает, и к финалу остается пятнадцать. Это те песни, которые будут бороться за первое место – за золотую медаль. Котируется только первое место. Каждую песню исполняют итальянский и зарубежный певец. Двукратное исполнение той же самой песни в двух разных аранжировках позволяет жюри более точно оценить ее.
Поскольку сейчас, когда я это пишу, продолжается Олимпиада в Мексике, а я не пропускаю ни одной передачи, невольно вертится на языке спортивная терминология: «медаль», «отборочные соревнования», «раунд», «ринг», «нокаут». Но ведь и на самом деле схожего найдется немало, да и справедливость, обязанная восторжествовать, не всегда имеет доступ как на ринг, так и на фестивальную сцену.
Что ж, недаром Фемиде завязали ее прекрасные глаза. Очевидно, затем, чтобы не расстраивать богиню.
Как я уже сказала, почти ежедневно проходили встречи с композиторами. Порой композитор отсутствовал, и тогда его замещал автор текста. Создатели песен проигрывали их мне и сами же обычно пели, выразительно помогая себе движениями всего тела (за исключением рук, которые нельзя оторвать от клавиатуры). Впрочем, я уже привыкла к тому, что в Италии нет музыкально не одаренных людей. По мере надобности здесь любой может спеть не хуже профессионала.
Довольно быстро я заподозрила также, что эти обсуждения, которым я так радовалась, вскоре обернутся для меня сплошной мукой. Не могло быть и речи о том, чтобы спокойно прослушать песню и объективно оценить ее в присутствии нахваливающего свое творение, полного энтузиазма, потного от возбуждения автора. Во всяком случае, у меня не хватало духу заявить: «Нет, извините, мне не нравится». Единственным аргументом, который я пыталась пустить в ход, был следующий: «Простите, вам не кажется, что эта песня не ложится на мой голос, что я не смогу спеть ее так, как бы вам хотелось?» Но это, как правило, не приводило к желаемому результату. В конце концов с тяжелым сердцем, чувствуя себя ужасной преступницей, я просила дать мне время «на размышление».
На предфестивальных встречах я познакомилась со многими композиторами и авторами текстов. Все это имена, отлично известные и в Польше. Прежде всего – Доменико Модуньо, Фред Бонгусто, Пино Донаджио, В. Паллавичини, Серджио Эндриго, Джованни Д'Анци – Нестор итальянской легкой музыки и исполнитель в одном лице.
Я выбрала наконец две песни.
Одну – с мелодией, дававшей большие возможности голосу, с приятным текстом, разумеется о любви, но имевшим легкий оттенок философского раздумья.
Вторая песня, на которую я очень рассчитывала и которая очень мне понравилась, была как раз маэстро Д'Анци. Она представляла собой одновременно музыкальную и поэтическую импровизацию на тему одной из главных мелодий «Трехгрошовой оперы». Песня интересная, новаторская и в то же время достаточно простая, чтобы запомниться слушателю. Она отличалась от сотен других песен, в которых более или менее удачно, но все-таки всегда рассказывается об «amore grande»[9] и различных связанных с ней переживаниях…
Песню эту, как и ряд других, я записала на пробный диск в присутствии композитора и его многочисленных друзей.
Происходило это на маленькой студии, которую удалось достать Карриаджи. Тем не менее в крохотной комнате поместилось порядочно людей. Пришел Буонассизи с супругой, Д'Анци, Карриаджи с какой-то женщиной; музыканты, которые перед тем записали фон, тоже остались из любопытства.
Прослушав запись, присутствующие не поскупились на похвалы, а маэстро Д'Анци даже поцеловал меня в лоб. Заказали вино и горячее молоко, дабы «спрыснуть» будущий успех. Молоко предназначалось мне.
Услышанное потом сообщение о том, что песня маэстро Д'Анци не принята и сам он не допущен (!) до участия в фестивале, явилось как гром с ясного неба. По причинам, которые, видимо, навсегда останутся для меня тайной, эта прекрасная песня была отвергнута.
Итак, я очутилась, как говорится, у разбитого корыта – и это перед самым фестивалем! Пьетро предпринял лихорадочные поиски, но самые интересные песни уже стали чьей-нибудь собственностью. Вдруг оказалось, что еще свободна песня Фреда Бонгусто – и я получила ее в самый канун фестиваля.
Текст песни Д'Анци был уже освоен мною, слова же новой песни предстояло еще выучить. А времени оставалось мало, очень мало, я зубрила чуть ли не целыми днями, чтобы слова хоть немного «улеглись» – ведь всякий текст должен закрепиться в памяти, чтобы в минуты волнения, возникающего при выходе на сцену, «не проглотить язык».
С самых первых дней тяготела надо мной проблема фестивального платья. Еще дома я смирилась с тем, что буду выступать в своем платье, вовсе не таком уж плохом, которое никто пока не видел. Но – уже по привычке – Пьетро не согласился и привел меня в один из домов моды, где должны были быть сшиты для меня два вечерних туалета.
Я уже говорила, что всякое сопротивление с моей стороны или попытка о чем-нибудь договориться оказывались бессмысленными. Пьетро, по-видимому, попросту считал невероятным, чтобы модное платье могло быть «made in Poland». А потому, даже не осмотрев содержимое моего шкафа, принялся действовать по своему разумению.
Потянулись долгие часы примерок в салоне синьоры S., что вполне можно было бы выдержать, если бы синьора S. не аранжировала их сеансами фотосъемок в целях рекламы своего заведения. И началась «старая песня». Мой скептицизм возрастал с каждой примеркой, пока не перешел просто в отчаяние.
Мне были предложены два платья: короткое и длинное. Короткое, серебристо-белое, предполагалось оторочить по низу лебяжьим пухом. Ладно, бог уж с ней, с этой оторочкой, но на последней примерке прибавились еще и рукава из пуха, длиной до локтя, отчего мой силуэт обрел сходство с фигурой борца-тяжеловеса. В ответ на высказанные мной опасения мне был дан добрый совет внимательно следить, какая из телевизионных камер будет направлена на меня, и в соответствии с этим поворачиваться в профиль. «Пух безумно эффектен», – заключила нашу дискуссию синьора.
«Господи, – подумала я, – даже если бы не было слепящего света юпитеров, совершенно лишающих возможности оглядеть зал, то и без того я была бы неспособна во время исполнения песни думать о телевизионной камере и высматривать, в какую сторону обращен ее красный глазок».
Неспособна, даже если бы от этого зависела моя жизнь!
Но синьора S., видимо, никогда не пела на сцене. Пух был безоговорочно утвержден Пьетро, который, впрочем, уже заплатил за него.
Длинное платье тоже не вызывало у меня восторга. Оно было сшито из коричневатой ткани, напоминающей парчу. По всему лифу были нашиты разноцветные бусинки, контрастирующие с основным тоном материала. Я чувствовала себя в нем как лошадь на цирковой арене. Единственным утешением было то, что телевидение в Италии все еще черно-белое и я в моей разноцветной упряжи не буду видна в полной красе. Но в зрительном зале… Утешала лишь мысль, что главное ведь не в том, как одет артист, а как он поет.
С другой стороны, мне, как и зрителям, нравится, когда человек на сцене одет со вкусом. По собственному опыту знаю, что элегантный, удобный, гармонирующий с обликом наряд – очень важное условие, чтобы ты хорошо чувствовал себя на сцене. Сэнди Шоу, например, выступает босая, мотивируя это тем, что обувь ее стесняет, хотя, по-моему, это уже несколько чересчур.
Проблема платья неожиданно разрешилась удачным для меня образом. В Сан-Ремо приехала мать Пьетро, синьора Ванда Карриаджи. Однажды она сама спросила меня, как я себя чувствую в концертных платьях, нравятся ли они мне? Я пригласила ее в гостиницу и устроила небольшую демонстрацию мод. Не говоря ни слова, ничего не внушая заранее, я надела одно за другим оба платья от синьоры S., a затем свое собственное. К великой моей радости, синьора Ванда одобрила именно мое, а узнав обо всем, посоветовала мне выступать в нем, что я и сделала. Пьетро, услышав от матери, что заказанные платья просто кошмарны, беспрекословно согласился на замену.
Итак, вопрос о выборе песни и платья для фестиваля был улажен. Оставалась еще реклама, которая никогда не помешает.
Описания нарядов занимают здесь довольно много места, однако они диктуются не легкомыслием. Существуют более важные и значительные проблемы в сравнении с теми, которые занимают модниц всего мира, равно как для заинтересованных лиц форма листочка на набедренной повязке или длина волоса котикового меха могут быть вопросами первостепенной важности. Я не состою в их рядах, честное слово! Описываю все так подробно для того лишь, чтобы точнее передать атмосферу, в которой мне довелось жить.
Припоминаю позирование для рекламы в салоне моды Бурберрис. Владелец этого роскошного салона, поздоровавшись, сразу же сообщил мне, что у него одевается сам князь Филипп. Должна признать, что, действительно, туалеты, в которых я фотографировалась, были во всех отношениях лучшего качества! Цены соответственно высокие, но владелец не забывает также и о самом многочисленном потребителе, не располагающем в массе своей фантастическими суммами, – о молодежи. Во время фестиваля показ молодежной моды решено было использовать для рекламы песни. Естественно, что одновременно это неплохая реклама и для владельца салона. За стеклом витрины – на фоне курток, рубашек с пейзажами, кепочек и других предметов – вмонтировали мою огромную цветную фотографию. Кое-где были выставлены мои пластинки – из тех, что записывались накануне фестиваля. Само собой, появилась и фотография, где я была снята вместе с владельцем салона Бурберрис. Согласно его пожеланию, я должна была сниматься сидя, ибо его рост не достигал метра шестидесяти.
Фотография была превосходная, цветная, словно вынутая из альбома прошлого столетия. С той только разницей, что на снимках тех времен мужчина обыкновенно сидел, а женщина стояла рядом, положив руку на его плечо. У нас получилось наоборот в силу упомянутого выше обстоятельства.
Итак, я сидела в красном, как маков цвет, плащике военизированного покроя, обутая в черные, до колен сапоги. В соответствии с требованиями моды сапоги должны были быть выше колен, но, к сожалению, у меня слишком длинные ноги. Голову мою украшала черная кепочка с козырьком. Слева от меня, положив руку на погон, напоминающий большой эполет, стоял вытянувшись в струнку, с улыбкой от уха до уха повелитель – мужчина.
Ах, как же в Италии почитают, обожают, буквально носят на руках особу мужского рода! На мой взгляд, итальянцы слишком глубоко прониклись духом библейских догматов, слишком уверовали в то, что женщина создана для мужчины – при всех условиях, без всяких исключений.
В другой раз Рануччо привез меня на фотосъемки в цирк, расположенный на далекой окраине Милана. «Богатая международная программа с участием экзотических зверей», – прочитала я на огромных афишах перед входом.
Вскоре я уже сидела под куполом гигантского цирка и – как это случалось довольно часто – ждала. Сперва даже не знала, кого и чего. Потом мне удалось вытянуть из Рануччо, что ждем фоторепортера к условленному часу, который давно минул. Тем временем другие исполнители, участники фестиваля в Сан-Ремо, уже снимались для рекламы.
Поскольку ни одна ситуация в этих съемках не должна была повторяться, мне посчастливилось посмотреть разнообразную цирковую программу, правда в этот раз предназначенную быть только фоном для певцов и композиторов. Чрезвычайное впечатление произвел на меня огромный индийский слон, который терпеливо позволял целому ансамблю с гитарами карабкаться себе на спину. Солистка предпочла сняться внизу, рядом с хоботом: очевидно, ей недостало фантазии, а быть может, и… храбрости. Я бы тоже, наверно, струсила. Поначалу меня это забавляло, однако время шло, а фотографа моего все не было, между тем как в клетках оставались уже одни только львы да тигры. Порой они давали о себе знать вполне недвусмысленным образом! Заманчивое знакомство с ними все-таки не состоялось. Фотограф просто-напросто вообще не явился.
Я была очень этому рада. Зверей я люблю и потому считаю, что цирк – одно из наименее достойных изобретений существа, которое кичится тем, что занимает высшее место на древе эволюции. Впрочем, дрессировка продолжает оставаться излюбленным занятием человека. Если под рукой нет зверя, создания, наиболее пригодного для этой цели ввиду его беззащитности, люди со страстью дрессируют друг друга. И занимаются этим испокон веков.
Однажды в разговоре о приближающемся фестивале Пьетро заметил, что неплохо бы снять коротенький фильм для рекламы. Я сразу же подумала о Зосе Александрович-Дыбовской, единственном знакомом мне лично настоящем кинорежиссере. С Зосей я познакомилась в процессе съемок короткометражного фильма, который она ставила.
Познакомилась – это слишком слабо сказано. Нас связала и подружила суровая «мужская» жизнь на «Молнии». Я с чистой совестью называю «мужской» нашу жизнь, ибо с утра и до вечера находилась на палубе «Молнии» в форме капитана военно-морского флота. У меня в том фильме была эпизодическая роль капитана, которого видит во сне главный герой фильма. Играл его Казик Бруснкевич. Кроме того, я пела песенку Марка Сарта «Слова».
Погодные условия совершенно нам не благоприятствовали, как чаще всего бывает во время съемок на Балтике. Мне было известно из газетных заметок, из рассказов знакомых актеров, что здесь случается целыми днями ждать солнечного лучика, просвета среди туч. А нам, наоборот, требовались тяжелые, свинцовые тучи, нависающие над взбудораженным морем и над… судьбой поющей женщины. И необходимы-то они были лишь для первой половины песни, потому что во второй части – солнце, радость, птицы, возвращающиеся в свои гнезда. Мы без затруднений отсняли мажорные эпизоды – лето в том году было просто изумительное, отвечающее всем канонам курортной жизни.
А затем потянулись дни долгого, безнадежного ожидания. «Ну хоть бы самый дохленький циклончик возник», – вздыхала Зося, поглядывая на небеса.
Он появился – в предпоследний день съемок и отнюдь не «самый дохленький». Ураганный ветер, гнавший по небу облака, пронизывал до костей, едва не срывал одежду, заставлял судорожно цепляться за борт. В довершение этого ветер, по-видимому, дул прямо из края северных медведей, так что у Зоси и операторов из-под капюшонов морских комбинезонов виднелись только кончики носов. В это время я в шифоновом платьице должна была делать вид, что мне совсем не холодно, и стараться не стучать зубами. Посему не будет преувеличением сказать, что наша дружба с Зосей закалилась, как сталь высшей марки, в трудных походных испытаниях. Правда, боролись мы не с врагом, а главным образом со стихией и… некоторыми мелкими проявлениями бюрократии.
Беседуя с Пьетро о фильме, я моментально вспомнила «морское приключение», свои «капитанские подвиги» и поняла, какая великолепная может возникнуть оказия. «Увижу Зосю, – размышляла я, – поболтаю по-польски, узнаю, что нового в Варшаве и какие оценки приносят из школы Зосины дочки. А может, Зося даже привезет мне ржаного хлеба?»
В Италии моего любимого черного хлеба нет, и я вдруг стала чувствительно ощущать его отсутствие.
Пьетро пошел на то, чтобы пригласить Зосю вместе с оператором, и вот в моей жизни внезапно засиял лучик радостной надежды на предстоящую встречу.
На другой день благосклонная судьба подарила мне еще одно приятное известие – в Сан-Ремо приезжает директор ПАГАРТа, пан Якубовский.
В назначенный день перед гостиницей остановилась машина CDI. Портье отнес туда мой чемодан. Бармен Джузеппе и служащие из рецепции, улыбаясь, пожелали мне успеха.
Путешествие в Сан-Ремо оказалось не столь изнурительным, как прошлый раз в Канны. Может быть, потому, что теперь не было причины торопиться, а главное, вероятно, потому, что машину вел не Пьетро, а профессиональный шофер. Без сомнения, Пьетро умеет водить машину, с одной только особенностью: он любит резко и часто тормозить. Едущему с Пьетро пассажиру всегда грозит если уж не расплющить нос о стекло, то беспрерывно подавлять тошноту.
Поэтому на сей раз дорога была спокойная, без вынужденных остановок. В Сан-Ремо мы прибыли поздно вечером. Это типичный курортный городок, объект для туристов. Здесь больше гостиниц – как очень, так и не очень роскошных, – чем обыкновенных жилых домов. Бесчисленное множество маленьких пансионатов, кафе, лавочек с сувенирами, пляж с разнообразными необходимыми для туристов услугами – все указывает на то, что постоянным жителям Сан-Ремо отведена здесь функция статистов, а заглавную роль играет турист, приезжий, гость, клиент.
Фестиваль песни в Сан-Ремо происходит в феврале. Маленький садик при гостинице приветствовал нас сочной зеленью деревьев и кустов, готовых со дня на день зацвести. Недоставало только соловьев. Было очень тепло. Какая же это приятная неожиданность лично для меня! Я ликовала прежде всего потому, что уже успела несколько раз порядком продрогнуть под лазурным небом Италии.
В 1962 году меня направили на двухмесячную стажировку в Рим. Правда, я, будучи еще студенткой, уже посетила Италию по двухнедельной туристской путевке, но поездка пришлась тогда на конец сентября, и небо было в самом деле лазурным и знойным. В качестве же стипендиатки я приехала на зимние месяцы: на январь и февраль.
Стипендия была скромной, и ее хватило нам лишь… но, прошу прощения. Снова я вынуждена сделать отступление.
Перед отъездом мне сказали в министерстве культуры, что я – счастливица, поскольку полечу в Рим не одна. Еще должна лететь пани Ханна Гжесик из Люблина, которая получила стипендию на четыре месяца. Пани Ханна – искусствовед, специалист по реставрации произведений искусства. Позднее она примет участие в спасении ценных картин во Флоренции, но тогда мы еще об этом не знали.
И действительно, мне посчастливилось лететь с Ханной, ибо, окажись в Риме одна, я вернулась бы в Варшаву первым же польским самолетом.
Спустя три часа мы приземлились в Риме. Было солнечно, довольно тепло, шумно и… все по-иному. Мы обменяли свои пять долларов на лиры, а затем, оставив чемоданы в камере хранения, поехали в центр города. Верно, я знала фамилию сотрудника «Радио итальяна» (РАИ), к которому мне надлежало обратиться, но его в тот день не оказалось на месте. Предыдущие стипендиаты дали нам несколько адресов, где можно было бы поискать жилье. Я сохранила – со времен моей студенческой поездки – план Рима, который очень нам пригодился. И мы отправились блуждать по городу, где автобусом, где пешком, так как запасы валюты были весьма ограниченными. Вечерело.
Наконец мы нашли то научное учреждение, куда должна была обратиться Ханя. Но синьора председателя ученого совета уже не оказалось на месте. Надо было ждать, пока его оповестят да пока он доберется сюда из отдаленного района, где жил.
Мы вышли на улицу, купили себе полкилограмма мандаринов и, усевшись на скамье, принялись поедать их. Это была маленькая площадь недалеко от улицы Кавура. Там росло несколько деревьев и резвились ребятишки – под надзором очень миловидной, стройной негритянки. Было уже поздно, а ели мы только один раз, днем, в самолете, да и то мало – от возбуждения.
Сколько бы раз потом ни доводилось нам проходить мимо этого места, мы всегда растроганно улыбались, вспоминая название, которое дали той маленькой площади. С вечера того дня она стала для нас «площадью Мандаринов».
Наконец приехал синьор председатель и самолично вместе с нами принял участие в поисках жилья. В конце концов мы поселились в маленькой, довольно темной комнатке на той же улице Кавура. На другой день отправились за стипендией. Мне выдали шестьдесят тысяч лир, которых должно было хватить на два месяца. Ханя получила свои лиры лишь немалое время спустя. Что поделаешь, сказали мы сами себе, видимо, бюрократия существует повсюду – наверняка даже в африканском буше. Но мы не расстроились. Крыша над головой была, деньги на квартиру тоже, синьора Бианка разрешала нам иногда приготовить что-нибудь горячее, памятники и произведения искусства в Риме на каждом шагу… а продуктовые посылки нам слали наши мамы из Польши, притом весьма регулярно – ведь не одним искусством жив человек.
«Жизнь прекрасна», – заключили мы, справившись с первыми трудностями.
Но вскоре наша радость потускнела. В римских домах каменные плиточные полы и полное отсутствие обогревательных приборов. Стояла дождливая, промозглая погода. Ртутный столбик, правда, никогда не опускался ниже нуля, но в нетопленой комнате холод пробирал до костей, холодом веяло из каждого угла… Была и ванна, очень даже красивая, но из кранов текла ледяная вода. Переболев несколько раз жестоким гриппом, я стала ложиться спать одетая, как Амундсен во время путешествия на Северный полюс, только, увы, у нас не было спальных мешков.
Единственной покупкой, которую я могла себе позволить, были шерстяные носки, которые надевала на ночь.
Не могу не вспомнить об очень забавном эпизоде (забавным-то он, конечно же, видится теперь, в ретроспективе). Примерно через месяц, перенеся не одну простуду, устав от хронического насморка и хрипоты, мы достали наконец адрес, где тоже сдавалась комната. Дом, в котором нам предстояло жить, находился в очень бедном районе. Он был старый, но теплый, с горячей водой. Насколько помню, в нем помещалась маленькая пекарня – отсюда и вожделенное тепло. Вечером мы сложили свои чемоданы и переехали на нашу новую квартиру.
Дом в самом деле был ветхий, с низкими потолками – входя внутрь, я вынуждена была нагибаться. Длинный, темный, извилистый коридор и спертый воздух несколько омрачили нашу радость. Минуя один из закоулков, я едва не споткнулась о длинные, тощие ноги старика, вытянувшегося на своем «ложе» у стены. Наша комнатка была в самом конце коридора. Хозяйка, такая же говорливая, как и синьора Бианка, суетясь, расхваливала свои апартаменты. «Уж тепло вам здесь будет, как в гнездышке. Это самый теплый уголок во всем доме. Тут до вчерашнего дня жила наша бабушка, вот на этой кровати и спала. Увы, вчера она уснула навеки. Теперь мы можем сдать эту комнатку, но хотим, чтобы все тут оставалось на своих местах, как при ее жизни. Сейчас я сменю белье!» С этими словами, не переставая улыбаться, хозяйка выбежала из комнаты.
Мы оказались одни среди бабушкиных вещей и святых образков, тесно развешанных по стенам. Даже ее шлепанцы еще стояли в углу. На громоздком старом комоде тикал массивный будильник, притом так громко и назойливо, что я не выдержала, схватила его и, открыв ящик комода, быстро засунула туда, после чего вздохнула с облегчением. Все это время он страшно действовал мне на нервы – я даже не могла сосредоточиться на том, что говорит хозяйка. Взглянула на Ханю. Она сидела сгорбившись, опустив голову, бессильно свесив руки. В ее глазах стояли слезы. «Аня, – сказала она с отчаянием в голосе, – я здесь не выдержу. Пошли назад, в наш холодильник».
Я с готовностью подхватила чемодан, потому что и сама хотела просить ее о том же самом.
Синьора Бианка ограничилась краткой триумфальной речью – наше поражение было слишком очевидным. Она великодушно приняла нас обратно.
Спустя час раздался взволнованный, тревожный телефонный звонок из пекарни. «Синьоры украли бабушкин будильник! Он стоял на комоде, а теперь исчез. Возвратите немедленно!» Мне с трудом удалось растолковать, где он находится. Труднее оказалось объяснить, как он там очутился, поскольку у меня не хватило запаса слов, а у хозяйки, по-видимому, чувства юмора.
Синьора Бианка была энергичной особой. Она довольно рано овдовела и одна воспитывала двоих детей: дочь и сына. Сын, по профессии парикмахер, задумал поехать в Соединенные Штаты, поискать лучшей доли. Синьора Бианка сперва подробно расспросила Ханю, где эта Америка, а выяснив, что далеко, разыграла такую сцену отчаяния, что немногие актрисы, следуя заветам самого Богуславского,[10] могли бы с ней сравниться. Однако довольно скоро она смирилась с решением сына и с удвоенной энергией принялась собирать приданое для дочери. Свадьба должна была состояться этим летом. Устроив дочь, синьора Бианка намеревалась сама второй раз выйти замуж.
У синьоры Бианки не было никакой профессии, тем не менее она с успехом обеспечивала семью, продавая цветы, а также пуская жильцов в две из трех комнат своей квартиры. Была гордой обладательницей легковой машины, на которой ездила за покупками, а по воскресеньям – в отдаленные парки, где гуляло много влюбленных пар и можно было удачно распродать цветы. Машина ее выглядела примерно так, как та, на которой ездил Жак Тати в фильме «Каникулы господина Юло». Раз солнечным воскресным днем пани Бианка пригласила нас проехаться с ней в один из прекрасных парков.
Я не могла воспользоваться приглашением, ибо была сильно простужена. Ханя же поехала. Разумеется, не даром. Потом она рассказала мне, что ей было поручено связывать фиалки в букетики, в то время как синьора Бианка, выказывая чудеса дипломатии, распродавала свой «товар». «Ты не можешь себе представить, какой она психолог, – смеялась Ханя. – Ей известны тысячи способов заставить своих соотечественников купить цветы, и она точно знает, когда употребить тот или иной прием». Лучшим тому доказательством были пустые корзины.
Хочу, кстати, пояснить, в чем заключалась моя стажировка. Стипендию на два месяца я получила по предложению нашего министерства культуры и искусства. О том, что итальянское правительство утвердило мою кандидатуру, я узнала от сотрудников министерства, которые на всех этапах моей «карьеры» дарили меня вниманием и симпатией. Это было особенно ценно в ту пору, когда я еще только начинала петь и моя персона вызывала противоречивые мнения.
Раньше я слышала о том, что в Италии стажировались наши оперные артисты, но чтобы эстрадные певцы – никогда.
Я была первой. Это обстоятельство сказалось еще во время визита на «Радио итальяна». Карло Бальди, к которому я должна была обратиться, принял стипендиатку из Польши очень любезно, угостил чашечкой «капуччино»[11] и наконец умолк, явно озабоченный тем, как быть дальше. После долгих раздумий он решил переложить бремя со своих плеч на плечи коллег. Я посетила еще несколько прекрасно оборудованных кабинетов, вызывая замешательство на лицах моих собеседников. Они попросту не знали, что со мной делать.
Стипендии хватило, только чтобы платить за жилье и весьма скромно питаться (разумеется, не без помощи из дому). О частных занятиях пением не могло быть даже и речи. Наконец постановили, что коль скоро я приехала и не располагаю средствами для обучения, то надо предоставить мне возможность посмотреть разные полезные вещи. Таким образом я обрела право посещать радиопредставления (между делом показали мне всю студию). Однажды меня привезли на самую крупную фабрику грампластинок под Римом, познакомили с итальянскими певцами и певицами и даже позволили ассистировать при записи. Совершенствование моего вокала свелось к осмотру очень современной архитектуры всего комплекса зданий фирмы и к более глубокому ознакомлению с великолепной аппаратурой для грамзаписи. На том, собственно, все и кончилось, ибо началась забастовка работников радио и телевидения, которая совершенно парализовала всю жизнь искусства. Так что я была в прямом смысле не у дел!
Сколько времени продлится забастовка, было неизвестно, поэтому я стала сопровождать Ханю, занимавшуюся интересной работой. Побывала в реставрационной мастерской, где вместе с ней слушала лекции на темы очень важные, но для меня, дилетантки, несколько загадочные. Наблюдала кропотливую работу по реставрации фресок в церкви. С изумлением смотрела, как Ханя, ни секунды не колеблясь, необыкновенно ловко взбиралась наверх по приставной, не внушавшей ни капли доверия лестничке под самый потолок, чтобы разглядеть в деталях какой-то фрагмент приоткрывшейся фрески. По-моему, на визитной карточке Хани следовало написать: реставратор-каскадер (пожалуй, лучше в обратном порядке!).
Я ходила с ней на экскурсии в музеи и соборы, подтвердив даже известную поговорку, что нельзя «быть в Риме и не видеть папы». По случаю праздника пасхи папа прочитал публичную проповедь, для чего были построены специальные трибуны у стен Колизея.
На это торжество собралась огромная, многотысячная толпа. Весь Колизей был освещен изнутри. Прекрасное, хотя и несколько жутковатое зрелище! Казалось, что колонны пылают, а каменный амфитеатр ожил под оранжевым светом прожекторов. Толпа гудела, недоставало только диких львов на арене. Конечно, передо мной были не римляне эпохи Нерона, но все же… настоящие римляне, похожие на своих предков и темпераментом и любовью к зрелищам. Именно к масштабным зрелищам! Окружавшие меня римляне рассматривали выступление папы прежде всего как крупное, важное зрелищное событие.
Так что я вернулась из Рима в Варшаву, обогатившись впечатлениями, но по части вокала не усовершенствовавшись.
Я не сожалею об этом. Я ничего не хотела бы менять в своей манере исполнения. Хочу остаться эстрадной певицей. У меня выработался свой метод работы над песней, над ее интерпретацией. Занимаюсь этим делом сама, и хотя охотно выслушиваю все замечания (различия во мнениях, дискуссии, как известно, необходимы, чтобы двигаться вперед), но принимаю те из них, которые в принципе соответствуют моему характеру.
Я неоднократно убеждалась, что самое обоснованное, самое интересное новшество, воспринятое вопреки внутреннему убеждению, дает обратный результат.
Большую пользу принесли мне выступления «на периферии», происходившие в самых разных, подчас контрастных условиях: то в трескучие морозы, то душным летним вечером, перед разной, неодинаково реагирующей, но всегда одинаково сердечной публикой. Написанное здесь отнюдь не свидетельствует о моем самодовольстве. Я только хочу сказать, что певец должен прежде всего сам знать, какую выбрать дорогу, и затем последовательно осуществлять свой план. А это вовсе не так легко, как может показаться. За каждой, внешне очень простой песенкой скрываются долгие часы трудов, размышлений, поисков.
Мое первое пребывание в Милане также пришлось на период холодов и туманов – на ноябрь и декабрь. В Милане холодней, чем в расположенном много южнее Риме. Здесь даже часто выпадает снег, который, впрочем, довольно быстро тает. В гостинице было холодно, мне пришлось попросить еще одно одеяло. Вот почему зелень, солнце, двадцать градусов тепла так очаровали меня в Сан-Ремо. Но поскольку все же стояла зима – по крайней мере согласно календарю, – то по улочкам городка прогуливались дамы из так называемого высшего света, разодетые в столь же великолепные, сколь и дорогие меха – нечто вроде нескончаемой демонстрации мехов. И все это под теплыми лучами солнца, на фоне зеленеющих кустарников, деревьев, листва которых даже не собиралась сменить свой сочный зеленый цвет на какой-либо иной!
Со следующего дня начались репетиции с оркестром в зале, знакомом мне по телевизионным передачам. Как обычно, уже с утра я ощутила волнение, на этот раз, пожалуй, не без повода. Дома, в Польше, я очень любила репетиции: ведь и ответственность еще не та, и публики в зале нет, есть возможность все повторить, все исправить. Особенно приятными были репетиции в «Лесной опере», в Сопоте. Уже спозаранку от «Гранд-отеля» к «Лесной опере» и обратно начинал регулярно курсировать маленький автобус, предназначенный для участников фестиваля. Не премину, кстати, отметить, что ни разу за рубежом я не встречала такой хорошей организации фестивалей. Итак, приезжаешь в «Лесную оперу». Огромный зрительный зал пуст, лишь белеют ряды сидений. Сквозь полотняную крышу там и сям пробиваются неяркие солнечные лучики. Эта чудесная полотняная крыша, разрисованная широкими, пастельных тонов полосами, надежно оберегала не только от дождя, но и от солнца, которого, увы, не бывало в избытке. Во всяком случае, я как-то не припоминаю, чтобы в дни сопотских фестивалей стояла жара.
Но позволю себе еще несколько слов о крыше. Так вот, эта крыша всегда напоминала мне наполненный ветром парус, особенно когда я стояла на возвышении у микрофона и видела перед собой лишь полосатый тент, а позади него – небо.
Очень нравились мне репетиции в Сопоте… За дирижерским пультом – лучший друг и опора всех исполнителей – пан Стефан Рахонь, его оркестр – преданные, дружелюбные, всегда готовые помочь музыканты. Внизу, возле сцены, – озабоченные, хлопотливые труженики телевизионной группы, несколько фоторепортеров, режиссеры, ожидающие своей очереди, участники фестиваля. И ни единого недоброжелательного человека, чье присутствие могло бы отрицательно повлиять на твое настроение!
К сожалению, в жизни все, как правило, свершается без репетиций. Даже в воспоминаниях трудно мне расстаться с родиной, но – «дело есть дело».
Итак, возвращаюсь в Сан-Ремо. Хотя – нет. Пока еще нет…
Воспользуюсь тем, что по крайней мере в воспоминаниях имею право свободно передвигать барьеры времени. Немного задержусь на родине и опишу, коль скоро подвернулся случай, свой путь к песне.
Еще перед окончанием школы я часто задумывалась, какую профессию избрать. Меня всегда привлекала живопись, скульптура, металлопластика, художественная керамика. Так что, окончив школу, я подала документы на отделение живописи при Вроцлавской Высшей школе искусств.
Но по глубоком размышлении мы с мамой решили, что следует избрать более «конкретную» специальность, которая в будущем обеспечивала бы твердый кусок хлеба, тем паче что у меня не было родственников, на которых я могла бы рассчитывать в какой-нибудь непредвиденной жизненной ситуации. Одно сознание, что у тебя есть семья, которая в случае чего окажет тебе помощь, действует успокаивающе, хотя, естественно, рассчитывать надо прежде всего на себя. Это было слишком хорошо известно моей маме, которая с ранней юности должна была все решать самостоятельно и опираться лишь на собственные силы.
«Видишь ли, – рассуждала мама, – чтобы существовать на заработок художника, нужно стать известным мастером, чьи работы быстро раскупаются. А такое время не наступит скоро и даже… может быть, никогда не наступит, хотя рисуешь ты, по моему мнению, очень хорошо».
Я взяла документы назад. Сдала экзамены на геологический факультет. Обучение там длится шесть лет; специальность интересная и «конкретная», в программе – широкий спектр знаний из различных областей наук: от философии, логики, иностранных языков через курс высшей математики, физику, химию, биологию и социально-экономические вопросы до сугубо специальных предметов.
А кроме того, студент-геолог должен уметь препарировать лягушек (сперва скажу о том, что было для меня самым трудным) и не только делать логические выводы из научных рассуждений, но и толковать их в соответствии с принципами логики. Он должен знать не только о том, что Ксантиппа была женой Сократа, но иногда процитировать некоторые его мысли. Должен не только нарисовать криволинейный интеграл, но в случае необходимости применить его на практике.
Не помешает знать иностранные языки – они полезны при изучении обширной специальной литературы. Весьма пригодится умение зарисовать профильный разрез скалистого склона. А разве плохо – научиться песням, которые поются у костра? За кружкой горячего чая они звучат, как нигде на свете (даже в сравнении с наилучшими концертными залами мира). Излишне, пожалуй, добавлять, что будущему геологу лучше иметь жизнерадостный, спокойный характер.
Впрочем, здоровая физическая нагрузка, скажем двадцатикилометровый марш, с перерывом для напряженных умственных усилий при определении отдельных пород или поисков окаменелостей, принадлежащих минувшим геологическим эпохам, может даже самого мрачного меланхолика привести в состояние полнейшего душевного равновесия. А если в скале обнаружится контур искомой окаменелости или даже ее фрагмент – ощущение безграничной радости человеку обеспечено.
Геология, как известно, наука о земле. Но речь идет вовсе не только о строении земли, о взгляде в глубь ее. Чтобы понять процессы, происходящие там, в сердце вулканов, на дне моря и еще глубже, надо ориентироваться в том, что происходит на поверхности земли, во всем, что касается человека, являющегося частицей природы – земли, оказывающего немалое влияние на формирование ее облика. Поэтому ничто человеческое не чуждо геологу. Знания, полученные в течение академического года на лекциях, семинарах, в лабораториях, закрепляются летней практикой, выездами «в поле».
Летняя практика оставила у меня самые приятные воспоминания, несмотря на то что рюкзак с пробами грунта бывал частенько весьма тяжел. Я забыла добавить, что геолог должен быть сильным. Необязательно культуристом, но крепкие мускулы иметь неплохо, а уж иммунитет против мороза, дождя и пронизывающего ветра во время многокилометровых переходов с полным снаряжением – просто обязательно.
Приобретенная таким образом физическая закалка, несомненно, пригодилась мне, когда мы ездили с концертами по городкам и селам Жешовского воеводства. Особенно в зимнюю пору.
После третьего курса у нас была непременная практика в угольных шахтах. Вместе с двумя другими девушками я получила направление на шахту «Анна» в Верхней Силезии. На нашем курсе девушек было больше, нежели юношей, несмотря на то что это скорее мужская специальность. (Теперь-то я должна это признать!)
Руководство шахты приняло нас очень тепло, обеспечило жильем в гостинице, питанием и… время от времени практикой в забое.
Первый «визит» туда явился для нас тяжким испытанием. Молодой шахтер, который нас сопровождал… минуточку, здесь, похоже, нужно подыскать иное слово, потому что мы ведь не шли – мы ползли на животе, неловко помогая себе локтями и коленями, которые к вечеру распухли. Мне приходилось гораздо трудней, чем маленькой, миниатюрной Богусе или немногим отличающейся от нее Янечке. Ох, и досталось нам тогда…
Зато последующие дни мы отлеживались в своем номере с абсолютно чистой совестью, дожидаясь, когда заживут наши руки и ноги. Мы испытывали даже нечто вроде удовлетворения, даже, пожалуй, гордость от сознания хорошо, самоотверженно исполненного долга. Все закончилось благополучно. После этой практики мое уважение к шахтерскому племени многократно возросло. Восхищали их мужество, выдержка, чувство товарищества, свойственные представителям этой одной из наиболее тяжелых для человека профессий.
Нередко мне задают вопрос: «Не жалеете ли вы, что не стали геологом? Ведь вы не работали и дня по своей специальности. Разве это не зря потраченное на учебу время?»
Отнюдь. Время было затрачено не напрасно. Напротив, я очень рада, что мне было дано хоть на краткий миг заглянуть в интереснейшую книгу, какой является наука о нашей земле. Это позволило мне узнать о многих проблемах, касающихся жизни на планете – ныне и в минувшие эпохи. Другие науки и занятия, более необходимые для меня сейчас, например музыка или живопись, не расширили бы настолько мой кругозор, не укрепили бы мое мировоззрение в той мере, как геология.
Незадолго до окончания университета, на очередном вечере поэзии и музыки, в котором я принимала участие, ко мне обратился коллега Литвинец, режиссер и актер в одном лице, с предложением сотрудничать в его «Каламбуре». Я очень обрадовалась, ибо это означало войти в коллектив, который существует, совершенствуется и у которого интересные и престижные планы. Вместо ожидания случайной оказии спеть будут регулярные репетиции со всем ансамблем, и я стану пусть и самой маленькой, но все же полезной частицей хорошо отлаженного, деятельного коллектива.
Я стала ходить на репетиции. Как раз приближалась ювеналия,[12] и «Каламбуру» предстояло показать свою программу в Кракове, а посему репетировали интенсивно и подолгу. На репетиции, естественно, собирались поздним вечером, после того как заканчивались занятия в различных вузах Вроцлава. Я должна была петь две песенки собственного сочинения. Вскоре, однако, я поняла, что не в состоянии увязать учебу с моими новыми артистическими задачами прежде всего потому, что на последнем курсе работы было невпроворот. А тут ранним утром, после бессонной ночи, вместо того чтобы устремиться в университетскую библиотеку, я едва ли не ощупью (засыпала уже в трамвае) добиралась до постели, из которой меня нельзя было извлечь никакими силами. Следует прибавить, что со сном у меня нет проблем. Поспать я люблю.
Итак, радость моя постепенно тускнела. А здравый разум, который весьма мешает людям сцены (так мне представляется), все настойчивее рисовал картину недалекого будущего, когда мои товарищи будут праздновать получение дипломов, а меня в их числе наверняка не окажется. Однако на праздники в Краков я решила поехать, чтобы не подвести ансамбль.
Все шло очень весело и приятно вплоть до моего номера. Это было мое первое публичное выступление в настоящем театре. И вот, едва я вышла на сцену, как вокруг начали твориться странные вещи. Для атмосферы моих баллад вполне подошел бы полумрак, но почему же полная темнота? В первые мгновения я еще различала какие-то лица, но затем очутилась в черной, глухой пропасти.
Я забыла текст песни и вообще забыла, ради чего сюда пришла. Кто-то из-за кулис подсказывал мне начальные строки.
Не помню уж, сколько раз я сбивалась, не помню реакции публики, не помню, как преодолела десяток шагов обратно, за кулисы. Помню, что была обижена на весь свет, но прежде всего корила себя за то, что не оправдала ожиданий, что не смогла подарить зрителю выношенного, что… проиграла.
Я не пошла вместе со всеми веселиться после концерта. Вернулась в нашу туристскую гостиницу, взобралась на свою верхнюю койку и уснула в угнетенном состоянии духа.
Нехватка времени и… торжество здравого разума над «душой артистки» явились основной причиной моего выхода из «Каламбура».
Но была дополнительно эдакая мини-причина, ставшая заметной лишь в перспективе времени. Ведь мы, женщины, крайне редко решаемся на что-нибудь исключительно ради самого дела. Чаще же всего за внешним фасадом наших поступков кроется мужчина. Из любви к нему мы совершаем чудеса ловкости, дипломатии, отваги (!) и самоотверженности. Учимся управлять реактивным самолетом, ежели он желает резвиться в поднебесье и вблизи разглядывать облака; ради него с успехом притворяемся глупейшим существом в мире – домашней гусыней, несмотря на то что сами увлечены кибернетикой.
У меня такого стимула не было (может, отсюда и победа здравого разума?), хотя и я способна на «возвышенные порывы души»… Некогда я записалась в университетский клуб спелеологов. Посещала собрания, с огромным интересом слушала доклады и даже приняла участие в подземной экскурсии (хотя, вытирая, например, пол под кроватью, чувствую себя точно в могиле, задыхаюсь).
А все оттого, что руководителем секции спелеологов был Петр. Однажды теплым майским днем, во время экскурсии, я испытала минуты блаженства.
Чтобы позволить новичкам спуститься вниз, в пещеру, следовало первоначально потренировать их на поверхности, научить влезать на скалы и съезжать оттуда – на собственном, природой для того созданном приспособлении (правда, обвязавшись канатом, который весьма больно врезался в это самое «приспособление»!).
Ах, как же ловко у нас все получалось!
Стояла чудесная солнечная погода, с чего бы тут задумываться о синяках, царапинах, разорванных брюках… Все были довольны, веселы; шутки и остроты перелетали по кругу, как отбитые в подаче шарики пинг-понга.
Наступил вечер. Теперь мы должны были испытать свои знания на практике, спуститься в довольно глубокую пещеру. Разожгли костер, дабы те, кто поднимутся наверх, сразу могли отогреться и обсохнуть. Я не пошла с первой группой, а, заглянув в темный, сырой, низкий лаз, решила, насколько удастся, оттягивать неприятный момент. В душе я надеялась – а, собственно, почему? – что мне не придется ползти по грязи и, подобно червю, исчезнуть в этой страшной черной дыре. К тому же здесь, наверху, было очень славно. Весело потрескивал огонь, заливая всех оранжевым теплом, а Петрусь, который выполнил свою трудную задачу – он подстраховывал самых смелых – и теперь подошел к нам отдохнуть, растянулся возле костра, положив свою рыжую голову мне на колени. Не сделай этого Петрусь, я бы наверняка что-нибудь придумала в оправдание своего дезертирства. Но раз уж меня отличили… Вскоре я ползла, извиваясь, как гусеница, в глубь грота. Маленькое пятнышко неба исчезло из виду. Единственным утешением был факт, что там, наверху, Петрусь держит веревку, которой я была обвязана.
Уползла я в полной уверенности, что назад мне никогда, никогда не вернуться. Но еще горше было сознавать, что Петрусь все равно ни о чем не догадывается.
Близились каникулы. Большинство студентов на летние месяцы подыскивали себе какую-нибудь работу, чтобы «подштопать» дыры в своем бюджете. Мои товарищи решили поехать в сельскую местность, на «градобитие», как назывались работы по выяснению ущерба, нанесенного стихийными бедствиями.
Я бы тоже, вероятно, отправилась на «градобитие» (хотя меня и отталкивало всякое занятие, связанное с математическими действиями), если бы не Янечка.
Да, именно Янечка, моя сокурсница, жившая в соседнем доме, с самого начала нашего знакомства (то есть с седьмого класса) считала, что мое истинное призвание – петь. Не отрицаю, пела я всегда охотно, когда бы и кто бы того ни пожелал: и на школьных, а позднее и на студенческих торжествах, и дома для гостей. Впервые я исполнила песенку, будучи еще малолеткой, на детском новогоднем празднике, под огромной елкой. Моя мама тогда была учительницей начальной школы, и в ее обязанности входила между прочим организация детских праздников, спектаклей и т. д. Но никогда не думала я, что пение станет моей профессией. Я пела исключительно для собственного удовольствия, мне даже в голову не приходило, что к пению можно относиться как-то иначе.
Тем временем Янечка, отнюдь не принадлежавшая к числу смелых, так называемых пробивных людей, отправилась однажды, без моего ведома, в дирекцию Вроцлавской эстрады и попросила, чтобы меня прослушали. Получив обещание, она в назначенный день привела меня туда силой (силой убеждения, разумеется, поскольку была гораздо ниже меня), и я предстала пред художественным руководством.
Меня включили в новую, только еще формировавшуюся программу. Мне была гарантирована астрономическая, по моим тогдашним понятиям, сумма: четыре тысячи злотых в месяц. Кажется, по сто злотых за каждое выступление.
Конечно же, я была очень признательна Янечке, хотя недовольно бурчала всю дорогу. Согласилась, естественно, без раздумий, ибо и «градобитие» со сложными вычислениями отпало, и, что самое важное, мне предстояло исполнить со сцены девять красивых мелодических песенок. Да вдобавок мне за них еще и платили!
В концерте принимало участие несколько певцов, четверо артистов балета, группа музыкантов и два актера, которые все эти отдельные номера сплавляли в нечто целое: Ян Скомпский в роли доблестного морехода Синдбада и Анджей Быховский в роли… экипажа. В портах, куда заходил корабль, звучали песенки, танцевали девушки, играла музыка – как это бывает в любом порту мира.
Поэтому приходилось молниеносно сменять костюмы и петь (в зависимости от страны) на испанском, итальянском, немецком, русском языках, а в заключение, в родном порту, – на польском.
Поскольку концерт представлял собой не обычную сборную программу, а был объединен сюжетом, то мы возили декорации, имитирующие палубу судна. Для всех участников были сшиты специальные костюмы, с помощью которых мы сменяли не только национальность, но и цвет кожи. Больше всего хлопот и смеху доставляло переодевание и грим для «африканского порта». В страшной спешке необходимо было сбросить предыдущий костюм, натянуть темно-коричневое трико и выкрасить лицо, шею, уши и ладони гримировальной краской, невероятно похожей на сапожную ваксу «Киви». Танцовщицы располагали к тому же еще черными завитыми паричками.
Я относилась к своей работе с полной ответственностью и потому неимоверно педантично, как если бы от этого зависел успех всего концерта, покрывала толстым слоем краски все, что не было закрыто трико. Но, несмотря на добросовестность и старание, я, вероятно, выглядела весьма комично и вряд ли даже отдаленно напоминала негритянку, ибо на тщательно закрашенной шее абсолютно нелогично торчала светловолосая голова. Мне, помнится, не хватило парика.
Программа была почти уже готова до того, как «зачислили» меня, так что вскоре я заявила домашним: «Завтра выезжаем! Сначала в Нижнюю Силезию, а потом на Побережье!»
Впервые я уезжала надолго. Я всегда была «домашней», даже в общежитии никогда не жила. Так что моя поездка стала событием, равным по масштабу трансконтинентальному путешествию.
Программа наша понравилась и в Нижней Силезии, и на Побережье. Работы у всех было выше головы. Едва успевали переодеваться и гримироваться для очередной сценки. Может, это было и к лучшему: все свершалось в таком бешеном темпе, что на раздумья и волнения просто не хватало времени. Не подумайте, будто я нисколечко не волновалась, о нет! Но это уже было совсем иное состояние, нежели тогда, в «Каламбуре».
Вспоминаю, как получила я свою первую зарплату. Мои первые, собственным трудом заработанные злотые. Мы выступали тогда в каком-то маленьком городке на Побережье, и вот, прямо из комнаты нашего руководителя, выдававшего деньги, я отправилась на поиски каких-нибудь подарков для мамы и бабушки. В тот же день послала домой подарки, а одновременно и остальную сумму.
Обычно говорят, что первая любовь запоминается на всю жизнь. Согласна, однако считаю, что не одна только любовь. Переполнявшее мою душу там, на почте, чувство радости и удовлетворения было столь сильным, что вряд ли оно забудется.
Когда закончилось турне и я вернулась домой, бабушка, увидев меня, усталую, похудевшую, заломила руки. Относительно же тех четырех тысяч злотых… Я убедилась, что это был весьма приличный заработок, но (увы!) в условиях нормальной, стабильной жизни.
Думается, что люди, не сталкивающиеся непосредственно с жизнью эстрадного артиста, туманно представляют себе, как проходит его день в турне или «на выездах». Труппа размещается в одном каком-либо месте, в гостинице – это «база», откуда артистов возят на выступления и куда они потом возвращаются. Выезжают в точно установленный час, в зависимости от того, как далеко ехать, однако стараются выехать пораньше, чтобы остался резерв времени на непредусмотренные задержки, к примеру авария машины, неожиданное отсутствие одного из членов труппы и т. д. Туристические автобусы не всегда обеспечивают максимум удобств. Модель машины, на которой путешествовала наша группа, наверняка вела свое происхождение со времен подготовки к первой мировой войне. Возвращаясь ночью на «базу», мы, бывало, дрожали от холода. И хотя в автобусике существовало отопление в виде толстой, тянущейся посередке трубы, мы неохотно пользовались исходящим от нее теплом. Стоило кому-нибудь из нас, усталых, сонных, неосторожно коснуться трубы рукой или ногой, как тут же раздавался возглас: «Ой, жжется!»
Приехав на место, нужно сперва разложить вещи, проверить микрофоны, прорепетировать с музыкантами те фрагменты песен, в которых не очень уверена, и лишь потом, если останется время, можно забежать в ресторан, перекусить. После концерта (иногда двух или трех) запаковать вещи, умыться (если есть где) и снова – на «базу». Бывало, приедем поздно, ресторан закрыт, и тогда ужин заменяли бутерброды, оранжад, яблоко, а нередко лишь мечты о них. Наш автобусик не развивал бешеной скорости, так что до гостиницы мы добирались только к ночи. Не было уже ни сил, ни желания приготовить себе чай с помощью специально для этой цели взятого с собой кипятильника.
На следующий день все повторялось сначала, с той лишь разницей, что иными были местность, сцена, условия за кулисами, несколько иной – публика.
Единственным достоинством нашего автобуса являлась абсолютная безопасность езды. Он двигался с минимальной (какая, пожалуй, вообще существует) скоростью. На обратном пути, под самым Вроцлавом, он стал и больше не захотел тронуться с места.
Полагаю, однако, что Вроцлавская эстрада не смирилась с этим и что отремонтированный автобус продолжает возить по провинции распространителей культуры и веселья. Впрочем, замечу с удовлетворением, что у нашего автобуса обнаружился соперник. Еще более почтенного возраста! По США и Канаде мы передвигались на таком допотопном автобусе, на каком мне не доводилось ездить ни до того, ни после.
Итак, поскольку большинство из нас не были полноправными эстрадными артистами, руководство Вроцлавской эстрады организовало для нашей группы поездку в Варшаву на экзамен. Экзамен состоял из двух частей – теоретической и практической. Я спела песенку, после чего сошла в зрительный зал, где сидели члены экзаменационной комиссии. Спрашивали они меня недолго. Действие драмы «Салемские колдуньи» Артура Миллера я перенесла в Англию… и, может, поэтому (а может, не только поэтому) не сдала экзамен. Очень тяжело пережила я эту двойку. Пожалуй, тяжелее, чем провал на экзамене (первый и последний) по кристаллографии у любимого профессора.
Тем временем я спешила закончить магистерскую работу.[13] Практическая сторона ее сводилась к тому, чтобы составить карту двадцатикилометрового участка, находящегося в так называемом Турошовском Мешке. Но если практические занятия на местности выполнялись общими усилиями группы, то магистерскую работу надо было создавать самостоятельно.
Поэтому я поселилась в одном крестьянском доме, в деревне Затоне, и оттуда ходила к Турошовскому Мешку, таща в геологической сумке все, что могло понадобиться для работы в течение дня. Возвращалась в сумерках.
На моей территории располагался большой массив леса, места были безлюдные. Вот тогда-то и познала я на собственном опыте правоту тех, кто с самого начала предупреждал нас, что геология не относится к числу профессий, созданных специально для женщин.
Я не боюсь одиночества, боюсь, собственно (и притом панически!), только лягушек. (А лягушку, о которой говорилось выше, я вовсе и не препарировала. Это сделал мой коллега в обмен на перевод небольшого английского текста технической литературы.) Кроме того, я была вооружена – у меня имелся довольно увесистый геологический молоток, – но, невзирая на это, мне все же было как-то не по себе, особенно в лесу. Поэтому в первую очередь я сделала карту леса, чтобы поскорей выйти на открытое пространство, на солнце. Да, да… Женщина переносит одиночество тяжелее, чем мужчина. Никогда не слышала я, к примеру, о яхтсменках, которые пустились бы в плавание в одиночку.
Должка, кстати, воздать почести нашему яхтсмену Леониду Телиге. И хотя каждый из нас со своей точки зрения восхищается его личностью, все мы едины в одном мнении: победа, одержанная Телигой над силами природы и над самим собой, – не только его личный триумф, но и общая наша гордость.
Предполагаю, что многие мужчины задавались вопросом: «А я, я смог бы?» Большинство должны искренне сознаться себе: «Пожалуй, нет».
Ну а я всего лишь женщина, которая боится лягушек и которой вроде бы не пристало комментировать великие деяния мужчин. Я могу лишь помолчать в почтительном изумлении.
Вскоре я представила свою дипломную работу и успешно, на пять, сдала магистерский экзамен. Это было в 1962 году. В том же году я попыталась еще раз «легализоваться» на эстраде. На сей раз удачно.
Разумеется, справка о сданном квалификационной комиссии экзамене далеко не равна диплому об окончании факультета эстрады при ГТИ,[14] но и такой документ давал мне радостное сознание, что я чего-то стою и отныне на равных правах с «настоящими» артистами. Можно было, следовательно, начать «сезонную» работу в Жешовской эстраде. Вспоминаю то время с теплым чувством. Польза была несомненная. Со ступеньки на ступеньку – такое движение по творческому пути представляется мне и верным, и справедливым. Вначале надо проверить, есть ли у тебя что сказать зрителю, слушателю? И нужно ли ему это? Действительно ли твоя работа приносит тебе внутреннее удовлетворение, а не просто льстит самолюбию? Влекущая к себе сцена, огни рампы, аплодисменты публики – не есть ли это всего лишь «состояние влюбленности»? Так же ли будет и в повседневной «супружеской» жизни, в которой перемешаны и блеск, и тени?
Мне кажется, именно работа на периферии является превосходной проверкой. Всякий вечер меняются условия, сцена, атмосфера в зрительном зале. Здесь постигаешь весьма непростое искусство жить в коллективе, умение быстро подстраиваться и перестраиваться – и тем самым приобретаешь многое, что необходимо на сцене. Впоследствии, если проверка прошла успешно, если «сценическая бацилла» вызвала «неизлечимую болезнь», можно попробовать показать свое искусство публике в других странах.
Художественным руководителем Жешовской эстрады был тогда Юлиан Кшивка – человек, необычайно преданный театру и эстраде. Его режиссура программы, в которой я участвовала, дала мне очень много. Я хорошо узнала характер работы в провинции, вкусила от ее огорчений и радостей. Мы добирались с нашим концертом до самых отдаленных госхозов Жешовского воеводства. С удовольствием заключаю, что, чем больше было расстояние от городов и главных трасс, тем сердечней нас принимали, тем горячей нам аплодировали. А встречи, на которых нас угощали бигосом[15] и простоквашей, ржаным, еще теплым, ароматным хлебом, – насколько милее все это любого бала, где сверкает паркет и льются потоки света!
Именно эта публика первой услышала и одобрила песню «Танцующие Эвридики». И лишь позднее, на фестивале в Ополе, она получила всеобщее признание, дав мне право на участие в Сопотском фестивале.
Таким образом, мне предстояло первый раз выступить в Ополе, исполнить «Танцующие Эвридики».
Я приехала туда ранним утром. Уже на вокзале привлекали внимание плакаты с сердечными приветствиями, обращенными к участникам фестиваля. Город – нарядный, словно невеста, ожидающая свадебную свиту, – торжественно готовился к этому событию. А сами ополяне – гостеприимные, доброжелательные, всегда готовые вступить в дискуссию по поводу песни и, в случае чего, яростно защищать своих фаворитов! Очень приятное и очень важное качество. В самом деле, какое же состязание без болельщиков!
День был чудесный. Первый концерт состоялся при закатном свете солнца, но вечером разыгралась гроза с проливным дождем, какого никогда после я не видала. Достаточно было пробыть на сцене несколько минут, чтобы вымокнуть насквозь, хотя кто-то распорядился держать над солистом зонтик. Музыканты, ничем не защищенные, выливали из инструментов воду, пробираясь на сцене по огромным лужам. Я не раз замечала, что когда промокнешь до последней нитки, то уже просто перестаешь обращать внимание на дождь, и становится очень весело. Именно такое настроение царило в тот вечер – и на сцене, и в зрительном зале, откуда никто не уходил. Поначалу зрители, чтобы спастись от дождя, прятались под зонтиками, накрывались плащами, платками, газетами, но дождь в тот вечер не думал переставать, лил как из ведра, с какой-то неумолимой последовательностью, затопляя все вокруг на земле. И хотя общеизвестно, что всемирный потоп некогда уже случился, возникала мысль, уж не повторится ли он нынче?
Было сыро, но не холодно, хотя ртутный столбик показывал всего несколько градусов тепла. Было весело и жарко! Аплодисменты, возгласы «браво!», раздававшиеся в зрительном зале, в равной мере подогревали как самих зрителей, так и артистов. Мы радовались и веселились вместе, как дети, которым вдруг позволили предаться любимому развлечению – бегать босиком по лужам. Атмосфера, царящая на Опольских фестивалях, имеет, на мой взгляд, особое, неповторимое очарование. И не только атмосфера в зрительном зале, на главной сцене, но и на других, меньшего масштаба фестивальных концертах чувствуешь себя «как дома». Возможно, прежде всего потому, что здесь только свои, что вокруг – родные стены, что поют только по-польски и о том, что важно главным образом для нас самих. Ведь тут нет гостей, привезших с собой дыхание далекого мира – интересного, но все-таки чужого. Может быть, оттого столь милы моему сердцу фестивали в Ополе – больше, чем Международные фестивали в Сопоте.
Я пела в Ополе дважды, и оба раза судьба была ко мне благосклонна («Танцующие Эвридики» и «Зацвету розой»). Доведется ли мне еще когда-нибудь спеть в этом городе? Говорят, что третьего раза не миновать. Сколь бы ни был человек счастлив, все ему мало…
Мне хотелось бы, впрочем, не только третий раз спеть на Опольском фестивале, но выступить и вне конкурса. И не потому лишь, что, подобно Морису Шевалье, почувствовала бы пресыщенность славой и почестями, и не из опасения перед возможным провалом. Просто – пусть соревнуются другие, переживают волнительные минуты перед тем, как жюри огласит вердикт, пусть другие радуются потом своей победе. Действительно это неповторимый момент – услышать сообщение: «Песне… композитора… на текст… в аранжировке… в исполнении… присуждается… первое место!»
При звуке собственного имени мурашки пробегают по телу, а душу захлестывает волна безумной, невыразимой радости. Бросаешься кому-то на шею: чаще всего наши поцелуи и объятия достаются попросту тому, кто ближе стоит, мы совершенно не думаем, приятны ли человеку эти бурные ласки. Я специально употребляю такие безличные обороты, поскольку почти все обладатели наград, призовых мест на фестивалях в своей стране и за рубежом реагируют на это более или менее одинаково. С той маленькой разницей, что лично я никогда не могу повиснуть на чьей-либо шее. Мешает рост.
Лучшие песни с Опольского фестиваля бывают представлены в Сопоте, на Международном фестивале песни.
Кстати, хотелось бы подчеркнуть, что успех песни складывается не только из хорошей мелодии, хорошего текста и хорошего исполнения. Очень важна, порой играет даже решающую роль, музыкальная оправа вещи, аранжировка, которой, как мне кажется, у нас недостаточно придают значения.
Мне просто повезло с «Танцующими Эвридиками». Мелодия хорошо ложилась на мой голос, текст, который создавал легкий, будто акварельный образ, необычайно понравился мне, аранжировщик одел Эвридик в прелестную, воздушную тунику, а целое осуществил превосходный оркестр Стефана Рахоня. Лучший среди наших оркестров, а также и среди зарубежных.
Хотела бы я испытать такое полное счастье в будущем, при исполнении других, новых песен…
Но между Ополем и Сопотом свершилось мое первое «большое заграничное турне». Поездки в ГДР для выступления по телевидению не в счет, потому что это совсем близко, всего несколько часов по железной дороге. Меня ожидала поездка с большой группой артистов в Советский Союз. Маршрут был интересный и длинный – до самого Черного моря. На то время, когда проходил фестиваль в Сопоте, я должна была получить «пропуск» в Польшу. Так все и вышло. Группа, сердечно попрощавшись со мной, дала мне наказ, чтобы без награды я не возвращалась.
Вот еще почему так обрадовало меня первое место за «Танцующих Эвридик» – в день польской песни, и третье – в день международной песни.
Я была в СССР четырежды и всякий раз убеждалась в необыкновенной музыкальности и отзывчивости публики. Такой благодарной, душевной, отлично разбирающейся в музыке публики я не встретила нигде. Ее нельзя обмануть. Она всегда сделает верный выбор, самыми горячими аплодисментами наградит отнюдь не самую эффектную, а именно хорошую песню. А на концертах реагируют и решают тут же – ведь времени на размышления, повторного прослушивания нет.
Нас принимали необыкновенно сердечно, приглашали домой, на семейные торжества. Будучи в одном старом грузинском доме, я увидела на стене такое великолепное холодное оружие, что даже у меня, далекой от рыцарских страстей, восхищенно забилось сердце. Подумала потом о нашем приятеле фехтовальщике Перси. Хорошо, что он этого всего не видел, иначе лишился бы душевного покоя, ибо наверняка захотел бы иметь хоть одну такую сказочно великолепную саблю, дабы по временам просто смотреть на нее, коснуться изумительной чеканной рукояти. Но эти сокровища невозможно купить нигде в мире, разве что Перси завоевал бы уважение и дружбу грузина. Грузин для друга не пожалеет своей жизни.
На довольно часто задаваемые мне вопросы – как в Польше, так и за границей: «Какие вы записали пластинки, где можно их купить?» – я была вынуждена со смущенной улыбкой отвечать, что моя пластинка еще не вышла, но что, несомненно, вскоре мне предложат ее записать. Ибо для певца, оказавшегося за границей, пластинка является доказательством его популярности в собственной стране, его профессионального уровня, но прежде всего – фактом, оправдывающим и объясняющим его выступления на зарубежной эстраде. Одним словом, это своеобразное доказательство признания.
Мне очень хотелось иметь такое подтверждение. Я мечтала о нем, но… все еще не имела шансов стать «пророком в своем отечестве».
Несмотря на это, в московской студии грампластинок на улице Станкевича, 8, решили рискнуть. Мне предложили записать пластинку. Целую большую долгоиграющую пластинку! Я страшно обрадовалась. Согласилась записываться немедленно, хотя могла бы делать это после концертов. Порой у нас бывало по три концерта ежедневно, уставала я очень. Однако на студию являлась пунктуально. И усталость проходила, настолько захватывала, радовала и поднимала настроение работа. Ведь это была моя первая пластинка!
Тут я впервые познакомилась вплотную с техникой звукозаписи, приучилась петь в наушниках, слыша готовый музыкальный фон, открывала для себя заново интересные проблемы – правда, не совсем заново, кое-что я усвоила, пребывая в роли наблюдателя на римской студии. Но разница, конечно, существенная. Одно дело – смотреть, как записываются другие, и другое дело – записываться самому. Мне очень нравится работа в студии.
До сей поры состою в тесной дружеской переписке с Анной Качалиной, которая является большим знатоком музыки вообще и песни в частности, с художником, который проектирует конверты для пластинок, с Виктором Бабушкиным, микшером, способным и авторитетным специалистом.
В перерывах, когда мы проверяли запись, они угощали меня горячим чаем и пирожками с мясом и капустой. Как хорошо было бы снова съесть в обществе Ани и Виктора горячий, мягкий, пышный пирожок с мясом. Лучше два. С мясом и с капустой!
Спустя некоторое время я получила из Москвы посылку. Игорь прислал мне мою первую пластинку – в собственноручно сделанном, прочном деревянном футляре. На этикетке, где приводится содержание пластинки, был напечатан такой вот стишок, адресованный «Милой Анне Герман».[16]
Однако уже пора вернуться в Сан-Ремо. Когда я наконец попала в репетиционный зал, на сцене была Конни Френсис.
Певец или певица не всегда поют так, как это зафиксировано на пластинке или магнитофонной ленте. Подлинной проверкой может послужить только «живое» пение, а не под фонограмму. Во время передач по телевидению большинство певцов используют запись на студии, выполненную во всех отношениях безукоризненно. Запись включают, певец слышит ее через репродуктор – и старается возможно точнее синхронизировать движение губ со звучащей песней. Я, к примеру, тихонько пою, следя за тем, чтобы не заглушить льющейся из репродуктора собственной записи. Движение губ и мимика лица в этом случае наиболее правдоподобны.
Термин «живое» пение означает исполнение песни в микрофон перед публикой, в сопровождении оркестра, который действительно играет, а не изображает игру. И если в процессе записи можно десять раз повторить одно и то же место, исправить, применить разные технические «трюки», то во время «живого» пения могут выявиться все минусы поющего.
Возвращаясь к Конни Фрэнсис, скажу, что еще прежде, чем она кончила петь, я сделала приятный вывод, что она на самом деле замечательно поет. Она и держалась на сцене, и была одета, как обыкновенная нормальная девушка – черные брюки, сандалии, джемпер… Конни не преследовала цели приковать внимание зрителей к своему внешнему виду. Я сознательно подчеркиваю это, ибо о других участниках фестиваля того же сказать было нельзя. В день концерта у нас с Конни состоялся небольшой разговор. «Ты откуда приехала, Анна?» – спросила она меня, когда я, спев свою песенку, ушла со сцены. Конни выступала как раз передо мной и оставалась еще за кулисами, наблюдая по контрольному телевизионному экрану ход фестиваля. Я рассказала ей, что ее хорошо знают и очень любят в Польше. «О, это правда?» – осведомилась она с улыбкой, позволявшей думать, что ей эта новость небезразлична. Потом, коснувшись самоубийства Луиджи Тенко, она сказала: «Люди слишком многого хотят от жизни, а когда чрезмерные желания не осуществляются, происходят трагедии. Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Меня может радовать и пустяк, и крупное, большое событие. Тем самым обретаешь если уж не счастье, то по крайней мере душевное равновесие».
Ее манера держаться, умение владеть собой вроде бы указывали на то, что она следует своим принципам и, надо признать, преуспела в этом. Однако, думается мне, спокойный тон в общении с людьми, выдержка на сцене основаны, прежде всего, на твердой уверенности в том, что дело, которое она делает, исполнено смысла и значения. На репетициях я заметила, что она просто любит свою работу, любит петь. Любовь к своему делу если не единственное, то, во всяком случае, одно из важнейших условий для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым.
Затем на эстраду поднялась Далида. Я помнила ее по выступлениям в зале Конгресса и в «Олимпии». Она очень изменилась: сильно похудела, что, впрочем, соответствовало требованиям моды, а свои длинные волосы осветлила. Поскольку раньше она была брюнеткой, я даже не сразу узнала ее. И лишь когда она начала петь, я осознала: да ведь эта худенькая, как подросток, блондинка в мини-юбочке – сама Далида! После Далиды выступали итальянские певцы и певицы, которых я не очень хорошо знала. Неожиданно шум в зале усилился на несколько децибелов, а все головы повернулись к дверям. В дверях стоял Доменико Модуньо, с улыбкой посылая направо и налево воздушные поцелуи. Вместе с ним на репетицию пришла его жена, молоденькая, прелестная и, как сообщил мне Рануччо, невероятно ревнующая своего знаменитого мужа. Пьетро и Рануччо вдруг заволновались. Я уже предчувствовала, что кого-то из них опять осенила блестящая мысль. И не ошиблась. «Ты должна сняться с Доменико», – сказал, наклонившись ко мне, Пьетро. «Вот это будет реклама! Разумеется, сначала мы тебя ему представим». Но синьор Доменико Модуньо между тем уселся в другом конце зала. А к лицу ли женщине расталкивать локтями толпу, чтобы представиться ему самой? Но, с другой стороны, как справедливо рассудил Пьетро, и Модуньо вряд ли пожелает проделать этот нелегкий путь ради того, чтобы познакомиться с какой-то неизвестной певицей.
Однако Рануччо вновь оказался на высоте положения: «Анна просто-напросто передвинется ближе, я попрошу Доменико сделать в свою очередь то же самое. А когда они окажутся на расстоянии вытянутой руки, мы представим их друг другу».
Я выполнила все, что от меня требовалось, – и вот уже мы сидим рядом с Модуньо, который оказался очень славным и непосредственным человеком. Когда подошел фотограф, чтобы сделать снимок «Доменико Модуньо беседует с полькой», началась такая сутолока, что потом на фото даже не удалось разобрать, кто где начинается и кто где кончается, – столь магнетической притягательностью обладает объектив. Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны, со сцены. У микрофона появилась супружеская пара «Сонни и Шер», которая и вызволила меня из затруднительного положения. Пока они выступали, никто не мог делать ничего иного, кроме как изумляться фантазии супругов, выразившейся в покрое и расцветке их одежды. Я даже не в состоянии определить, хорошо ли они пели, – зрелище было поистине ошеломляющим. Как выяснилось позднее, в тех же костюмах и в том же гриме они разгуливали по Сан-Ремо, вызывая у прохожих разноречивые чувства. Но цели они своей, безусловно, достигли, ибо любой прохожий, даже глубоко погруженный в свои тяжелые думы, не мог не обратить на них внимания, оборачивался им вслед и на миг забывал о своих горестях, а может, и обо всем на свете. Во всяком случае, если этот прохожий увидит затем в витрине их пластинку, он уж наверняка ее купит!
Я пришла в себя от потрясения благодаря «Les Surfs», которые легким, танцующим шагом выбежали на эстраду. Они пели песенку «Quando dico, che ti amo» («Когда я говорю, что я люблю тебя»), которая в их исполнении звучала лучше, чем в исполнении итальянской певицы Анны-Риты Спиначчи. «Les Surfs» – две девушки и двое юношей, все четверо очень маленькие, по виду совершенно дети или, скорей, двигающиеся куклы, игрушки. Эту группу сменил вскоре французский певец Антуан. На мой взгляд, он просто не умеет петь. Экстравагантный костюм, прическа – вернее, отсутствие оной, – эпилептические подергивания и не соотносящиеся с музыкой прыжки – все это не настолько ослепляло и ошарашивало, чтобы не заметить, что поющий фальшивит и выбивается из ритма. Я спешу лишний раз подчеркнуть, что на мою негативную оценку ни в малейшей степени не повлияли ни его костюм, ни его малопривлекательная манера держаться на сцене. В вопросах одежды и внешнего облика я отличаюсь большим либерализмом и снисходительностью. В конце концов, не это в человеке главное. Зато я твердо убеждена, что каждый певец должен все же хотя бы в минимальной мере обладать голосом и слухом. Иначе игра в «звезду эстрады» оборачивается делом крайне непорядочным – равно как в отношении к зрителю-слушателю, так и в отношении к самому себе. Правда, отсутствие вышеобозначенных способностей сочетается, как правило, одновременно с полным отсутствием самокритичной оценки своих данных. Увы!
В отеле, куда я вернулась после репетиции, меня ожидала приятная новость. Зося Александрович завтра будет здесь! Все складывалось замечательно, ибо как раз на следующий день, накануне фестиваля, назначен был коктейль в мою честь. Приглашалось множество народу. А я уже по опыту знала, чем все это пахнет. Несколько утешалась лишь тем, что большинство людей, как установлено, питает врожденное, а следовательно, неизлечимое отвращение к коктейлям в честь собственной персоны. Прибыли все. В том числе сотрудники польского посольства из Рима.
Зося время от времени посылала мне милую улыбку либо – что ободряло не меньше – называла некоторые вещи своими именами, по-польски. Я была бесконечно благодарна ей за это. При том она успевала энергично действовать как режиссер – сцены, снятые на этом приеме, предполагалось включить в фильм обо мне, так что Зося пользовалась случаем.
Из всех интервью отчетливей всего запомнилось интервью для Люксембургского радио. Представитель этой радиостанции был так сногсшибательно красив и мил, что я с большим трудом могла сосредоточиться на своих ответах. Мне не хотелось быть неправильно понятой. Я не обнаружила в себе даже тени захватнических, агрессивных или иных тому подобных черт характера – только думала, до чего же он обаятелен…
Итак, наступил день открытия фестиваля. Еще в первую половину дня фоторепортер запечатлел нас с Фредом Бонгусто, сделав серию снимков. «На всякий случай, – заключил он. – Если вы победите, то ваши фото должны немедленно появиться в вечерней прессе».
Потом началось долгое, нескончаемое ожидание вечера. Необходимо было приготовиться. Я запаковала платье, туфли и стала ждать Пьетро и Рануччо. Войдя, они с удивлением посмотрели на меня и обеспокоенно спросили: «Почему ты еще не одета?» «Как это?» – в свою очередь удивилась я. На мне было мое «маленькое черное» платье, была сделана прическа. По моему мнению, я выглядела достаточно элегантно для того, чтобы проехать в машине небольшое расстояние, а на месте уже переодеться в сценическое платье, как я это делала всегда и повсюду. «В конце концов, можно и так», – великодушно согласился Пьетро, и мы двинулись в путь.
Уже в лифте я заметила, что все дамы в длинных легких вечерних платьях, манто или палантинах разной длины, но одинаково дорогих. «Ну что ж, – подумала я, – нет у меня мехов и дорогих туалетов, зато волосы натуральные, а не парик, и я никого не ввожу в заблуждение!» О, не стану скрывать, что в продолжение нескольких минут я отчаянно старалась подавить в себе возникший было мелкобуржуазный образ мышления. Я чувствовала себя Золушкой, которой добрая волшебница не подарила перед балом ни платья, ни кареты – вообще ничего.
За кулисами была немыслимая толчея. Тут и исполнители, и целая армия снующих туда-сюда фоторепортеров, радио– и телекомментаторы, журналисты, наблюдатели. Среди толпы кое-где выделялись своим эффектным обликом карабинеры. (Карабинеры делятся на 1) красивых, 2) очень красивых и 3) умопомрачительно красивых.)
Рануччо энергично прокладывал мне дорогу. Я думала, что мы пробиваемся к артистической уборной, но ошиблась. Рануччо добуксировал меня наконец до не слишком просторной комнаты, где несколько женщин гримировали певцов-мужчин, поскольку они должны были прибыть на поле битвы во всеоружии. Я, не скрыв легкого упрека, обратилась к Рануччо с просьбой, чтобы он был так добр и показал мне, где находятся дамские уборные, поскольку в данную минуту я не испытываю потребности показать стриптиз для господ, занятых исключительно своей внешностью. Рануччо от души расхохотался. Должна признать, что порой он ценил мой черный юмор. Отсмеявшись, Рануччо довел до моего сведения, что одеться для выступления необходимо было в гостинице, ибо здесь нет специальных уборных. Несколько придя в себя от удивления и обозрев территорию, я, однако, отыскала тихий, укромный уголок размером в один квадратный метр. Это был туалет. Переодеваясь и совершая при этом чудеса акробатики, я припомнила, что похожие обстоятельства бывали и в других странах: на международной ярмарке грампластинок в Каннах, на телевизионном концерте в Париже.
С каким же удовольствием вспомнила я один концерт, который мы давали зимой, где-то в Бещадах![17] Добраться туда можно было только на санях, которые застревали посреди высоченных сугробов и даже, к нашей великой радости, разок перевернулись. Если бы там, в Бещадах, наша группа встретилась с подобными неудобствами, никто бы и бровью не повел. В глубинке, известно, всякое случается и надо быть готовым к любым невзгодам.
Но именно там, в глубинке, где недостатки можно и понять, и оправдать, где в суровую зиму волки с полным правом устраивают вечерний концерт под окном, в местном, недавно отстроенном Доме культуры оказались комфортабельные помещения для артистов.
Итак, начался первый из трех фестивальных концертов. Из тридцати спетых за два вечера песен в финал попадет половина. Из финальных отбирается одна, самая лучшая, песня-победительница. Каждая песня исполняется дважды – зарубежным певцом и итальянским.
Сцену, на которой проходят фестивальные концерты, я, скорее, назвала бы маленькой. На ней едва помещается певец и вокальная группа, сопровождающая почти каждого солиста. Оркестрантам, пожалуй, не хватило бы уже места, поэтому им отвели «площадь» перед сценой. От публики оркестр отделяет всего лишь барьерчик и узкий проход. Фестиваль в Сан-Ремо вели Мике Бонджорно и Рената Мауро.
Позволю сказать еще несколько слов о публике. Перед началом концерта, входя в здание, видя дам в дорогих мехах и господ в смокингах, я подумала, уж не висит ли в каждом итальянском доме в шкафу хотя бы одно такое боа и фрак? И не является ли обладание длинной вечерней накидкой со шлейфом необходимой жизненной потребностью?
Сколько ни пытайся закрывать на это глаза, но факт остается фактом, что и в тот вечер, и во все остальные вечера пришли – прошу прощения – съехались исключительно те, в чьих шкафах имелись не единственный фрак и не единственное шиншилловое боа.
Общеизвестно, что чрезмерное богатство может вызвать в психике его обладателя необратимые и – с точки зрения тех, кто живет трудом своих рук, – неблагоприятные изменения.
Этим я пыталась объяснить себе какую-то удушливую, тяжелую атмосферу, царящую в зале. «Да, эту публику не расшевелить», – сказал бы артист, глядя на зрителей сквозь дырочку в занавесе.
Я не хочу тем самым утверждать, что песней по-настоящему интересуются только подростки, юношество. Нет, мне известно, что некоторые почтенные бабушки назубок знают список самых популярных песен. Но вряд ли кто станет возражать, что фестиваль в Сан-Ремо устраивается прежде всего с мыслью о пожилых дамах и господах, засыпающих при звучании более спокойных мелодий (возраст чаще всего прямо пропорционален содержимому кошелька). Доказательством тому были бесчисленные толпы молодых людей, осаждавших здание чуть ли не с утра до поздней ночи. Но войти внутрь у них не было прав. Билет на это представление стоит слишком дорого.
Я передаю вам только мои личные наблюдения, которые хорошо было бы дополнить некими данными обобщенного, статистического характера. Ежегодно в Италии проходит значительное количество всякого рода фестивалей песни в различных регионах страны. В последние годы и у нас отмечается живой интерес к песне. Время от времени в нашей прессе можно встретить утверждения, что проблемы, связанные с песней, начинают уже разрастаться до масштаба национальных проблем и что в дискуссию включается всяк кому не лень, не имея порой для того надлежащих познаний. Вынуждена с сожалением констатировать, что у нас это выглядит весьма бледно по сравнению с Италией, и не только непосредственно после фестиваля, но постоянно, в течение всего года. Говорю «с сожалением», ибо общенародная любовь и интерес к пению очень привлекательны. Не знаю, чем это объясняется: прежде всего, видимо, скрепленной традициями музыкальной одаренностью итальянцев.
В отличие от самого музыкального поляка итальянец никогда не стыдится петь. Он поет охотно – и на работе, и на улице, и в магазине, и на трамвайной остановке. Песня помогает ему жить, облегчает контакты с людьми, смягчает стрессовые ситуации современной жизни. Помню, как довольно тучная матрона, подметая в гостинице коридор, звучным голосом распевала песню Джилиоли Чинкетти «Non ho l'eta per amanti» («Я слишком еще молода, чтобы любить») или как два синьора, ожидавшие автобуса и познакомившиеся только минуту назад благодаря обмену суждениями о популярных мелодиях, наперебой восклицали: «А вы помните вот этот отрывок?» После чего один из них, с усиками, быстро положил свой портфель на землю, дабы жестом подчеркнуть тонкий нюанс.
Пластинки поступают в продажу сразу после окончания фестиваля. Штампуют их еще до его начала. В течение двух-трех дней на улицах можно услышать все фестивальные песни. Те из них, что легче для исполнения, звучат повсюду в первый же вечер.
Фестиваль будоражит не только событиями музыкального характера, но и фактами из частной жизни звезд, которые пресса безжалостно, я бы даже сказала – смакуя их, извлекает на свет божий и бросает на съедение читателю. При нехватке достоверной информации без всякого стеснения пускается в ход выдумка. Может показаться, таким образом, что фестивали организуются для широких масс. Но это чисто внешне. Музыкальность народа лишь средство для достижения цели. А цель эта – деньги.
Фестивали устраивают исключительно студии по производству грампластинок. Каждый исполнитель представляет какую-нибудь студию. Участие в фестивале обходилось в полмиллиона лир, а ныне даже в миллион. Никого не волнует ни сам исполнитель, ни качество песни, которая становится просто товаром, капиталовложением. Побеждает тот, кто больше вложит денег и сумеет наилучшим образом продать свой товар.
Как я уже упоминала выше, котируется только первое место. Может статься, что одна из песен, не вышедших в финал, будет потом самой популярной, но покупаются повсеместно все же пластинки с записями финальных песен и, уж без всякого сомнения, песня-победитель. Ее полагается иметь, ее полагается знать. То же было и на фестивале в 1967 году.
Нашему сопотскому фестивалю пошло бы на пользу, если бы уделялось больше внимания финансовой стороне дела, при сохранении высоких критериев искусства. Тем более что в условиях нашего строя исключается конкурентная борьба студий грампластинок. Борьба, в которой дозволены все приемы. Именно поэтому такие факты, как смерть Луиджи Тенко, возможны только там.
Первая часть фестиваля осталась позади. Началось томительное ожидание решения жюри. Из пятнадцати исполненных в тот вечер песен примерно половина должна была войти в финал и продолжать борьбу за вожделенное первое место.
Хорошим тоном считалось сократить время ожидания в казино, занявшись по возможности игрой. Общеизвестно, что условием участия в азартной игре является наличие платежных средств, и притом желательно солидных.
Правда, мое участие в фестивале стоило полмиллиона лир, но платила не я, a CDI, то есть Пьетро. Я же находилась на положении бедного родственника, который неожиданно приглашен на роскошный обед. Тем самым я хочу сказать, что даже если бы я внезапно ощутила страстную тягу к азартной игре, то по вышеупомянутой причине не смогла бы сесть за зеленый столик. В результате не могу судить, верно ли передается в фильмах атмосфера игорных заведений.
Так что я попросила Пьетро отвезти меня в гостиницу. Кстати, и мое отношение к итогам фестиваля было несколько иным. В нем было больше, пожалуй, спортивного интереса. Я радовалась самой возможности участвовать во всемирно известном фестивале, услышать и увидеть многих звезд эстрады, съехавшихся сюда со всего света. Награда не была для меня вопросом жизни или смерти. Я с самого начала инстинктивно чувствовала, что в непрерывном столкновении интересов крупных фирм по производству грампластинок победа столь малозначительной студии, как CDI, вряд ли представляется возможной. Даже если бы исполняемую мной песню написал сам Орфей, одолжив мне вдобавок и свой голос.
Но для большинства участников решение жюри могло иметь существенное значение; вполне понятно, что, ожидая его, они очень волновались. Выход в финал означал повышение ставки за концерты, обеспечивал множество выгодных предложений, популярность, славу в течение целого года, вплоть до следующего фестиваля. А не войти в финал – значит получать более низкие, чем до той поры, гонорары, утратить популярность. Поэтому многие известные певцы вообще не принимают участия в фестивалях, предпочитают не рисковать.
После того как решение жюри было оглашено, Пьетро сообщил мне: «В финал мы не вышли, зато оказались в прекрасной компании». Никто из знаменитостей на этот раз в финал не вошел. У его черты остались: Далида, Дионне, Варвик, Конни Фрэнсис, Доменико Модуньо, а также «Сонни и Шер»…
На другой день, утром, ко мне приехал потрясенный Фред Бонгусто. «Случилось ужасное несчастье, – сказал он, рухнув в кресло. – Сегодня ночью, после решения жюри, Луиджи Тенко покончил самоубийством». Утренние газеты немедленно разнесли известие о его трагической смерти.
Луиджи, узнав, что его песня не вошла в финал, вернулся в гостиницу и выстрелил себе в рот. Далида, которая исполняла на фестивале эту песню, не найдя его среди тех, кто обсуждал решение жюри, бросилась в гостиницу, чтобы утешить друга. Она была первой, кто увидел его. Ее не могли вывести из шока и отправили в больницу.
Луиджи Тенко будто бы оставил письмо, в котором заявил, что он не хочет больше жить в таком несправедливом и гнусном мире. Раздались требования прервать фестиваль. Сан-Ремо кипел. Однако недолго. Фестиваль не только не прервали, но вскоре после похорон Луиджи, на которых присутствовало лишь несколько самых близких друзей, уже праздновалась свадьба Жене Питнея. Свадьба носила явно показной характер, и я не уверена, что этот брак не был заключен в рекламных целях. Пышный свадебный прием состоялся на яхте, так чтобы толпы людей ни на одну минуту не лишились возможности наблюдать увлекательное зрелище. И лишь красный цветок, лежащий на тротуаре перед афишей Л. Тенко, напоминал о трагической, безвременной его кончине. Луиджи Тенко написал музыку и слова песни «Ciao, amore».[18] По мелодии и тексту это была одна из самых лучших, достойных награды песен – очень напевная, не банальная, с легко запоминающимся рефреном.
Я неоднократно ее исполняла. Она неизменно нравилась публике – вероятно, сама по себе, уже независимо от имени автора.
Год спустя я прочла интервью с Далидой и очень в ней разочаровалась. Появись это интервью сразу после смерти Луиджи, ее признания, которые могли вырваться в минуты отчаяния, вызванного гибелью любимого человека, были бы естественны и понятны. К сожалению, снабженное многочисленными снимками Далиды и Луиджи, описанием интимных отношений, которые соединяли их, это интервью прозвучало как чистая реклама. А ведь Далида пережила глубокое потрясение, депрессию, пыталась покончить с собой. Не выступала. Но когда о ней перестали говорить, она вынуждена была любой ценой вернуть себе внимание публики. Даже ценой личных и столь мучительных воспоминаний.
Мы не стали ждать окончания фестиваля. Пьетро предложил на другой день после обеда вернуться в Милан. По дороге туда мы завернули в маленький придорожный бар. Обслуживавшая нас девушка была в немалом затруднении, как умудриться подать нам заказанные блюда и в то же время не отводить глаз от телевизора – ведь подходил к концу второй день фестиваля.
Только добравшись до Милана, мы узнали в гостинице, что победили Клаудио Вилла – Ива Дзаникки.
До моего возвращения в Польшу мне предстояло осуществить три очень важных дела. Первое – участие в популярной телевизионной передаче «Семейные развлечения» («Ciocchi in famiglia»). Эту программу в Италии все очень любят и ждут, как у нас в Польше популярную передачу «Безупречная супружеская пара». Второе – собственная часовая программа по телевидению; мне предстояло исполнить шесть песен и вместе с Доменико Модуньо объявлять номера других артистов: моими гостями должны были быть «Folk-Studio Singers», Фред Бонгусто и сам Доменико Модуньо. Третье – участие в развлекательной программе на швейцарском телевидении. Эту передачу предполагалось вести из телевизионного центра в Турине. Зося тоже поехала со мной в Турин, но цель ее путешествия ограничивалась на этот раз чисто светскими обязанностями, ибо снимать программу телевидение не разрешало. Так что Зосе пришлось удовольствоваться осмотром города.
Сценарий был несложным и представлял собой, попросту говоря, отдельные номера, связанные либо моим выступлением, либо диалогом с Доменико Модуньо. Текст, который я должна была произнести в течение этого часа, я получила перед самым началом съемок, так что ни о какой подготовке не могло быть и речи.
Но дублей из-за меня делать не пришлось – на мой взгляд, благодаря доброжелательной атмосфере, которую старались создать как режиссер со своим штабом ассистентов и помощников, так и операторы, ну и наконец, гости программы: Бонгусто, Модуньо, «Folk-Studio Singers».
С Доменико Модуньо мы не только вели диалог, но в одном месте даже спели дуэтом сицилийскую песенку, которой он меня перед тем научил в коридоре. Очень веселая, шуточная песенка о том, как вся семья любила есть цикорий. Модуньо держался очень непосредственно, раскованно, мило, по-товарищески – совсем так, как запомнился мне по фильмам и телевизионным передачам. Несмотря на то, что Модуньо – один из немногих певцов, которые на протяжении стольких лет занимают место в «первой десятке», он прежде всего нормальный, веселый человек. А уж потом – «звезда». При этом не только знаменитый певец и композитор, но и весьма популярный театральный и киноактер, создатель многих мюзиклов. К сожалению, мне не удалось увидеть нашу передачу, поскольку я была во время трансляции ее в эфир уже дома, но позднее узнала, что ее дважды повторяли по желанию телезрителей.
В передаче «Ciocchi in famiglia» я пела песню А. Бабаджаняна на слова Е. Евтушенко. Итальянский текст написал Энцо Буонассизи. Музыка Бабаджаняна настолько там понравилась, что синьор Буонассизи, потеряв от возбуждения сон, написал текст за одну ночь. Второй песней была «Зацвету розой».
Как я уже говорила, передачу «Ciocchi in famiglia» с нетерпением ждет вся Италия. Выступают две команды, состоящие из мамы, бабушки, дедушки и внука (либо внучки). Они соревнуются между собой, отвечая на вопросы, касающиеся различных сторон жизни. Но этим соперничество не ограничивается – необходимо еще выполнить ряд заданий и уложиться в отведенное время.
Уже само название передачи указывает на то, что речь идет о делах сугубо семейных. Помню, дедушке дано было задание исполнить песню, которую он когда-то пел под балконом бабушки, в то время молодой девицы. Дедушки обеих команд охотно приступили к своему заданию, вызвав на лицах своих избранниц – ныне уже бабушек – ту же умиленную и радостную улыбку, которая, вероятно, некогда освещала их юные лица.
В какой-то момент я почувствовала, что меня легонько дергают за косу. Обернувшись, увидела присевшего за моей спиной самого младшего участника соревнования. «Синьора, – шепотом спросил он, – скажите, пожалуйста, какой национальный польский танец – мазурка или полька?» Одним лишь ему известным способом шустрый паренек дознался о том, что может быть задан такой вопрос, и, защищая честь семьи, решил не пренебрегать никакими средствами, ведущими к победе. Вскоре его бабушка без запинки и с торжествующей улыбкой на устах отчеканила: «Польским национальным танцем, конечно же, является мазурка!»
После того как я исполнила свою песню, обе команды наградили меня горячими аплодисментами, а один из дедушек, сицилиец, сунул в руку цветок, добытый им где-то за кулисами. Потянув меня за собой в более спокойный уголок и оживленно жестикулируя, он весьма мило высказал мне свое одобрение: «Видите ли, синьора, нынче поют совсем по-другому, чем в наше время. Крик, нервный, громкий ритм заглушают мелодию и все то, что хочет высказать душа. А вы поете совсем так, как пели в те времена… Они были иными, но, поверьте, вовсе не такими уж плохими. У нас на Сицилии люди еще понимают, что значит настоящее пение, и умеют ценить этот дар небес. Непременно приезжайте к нам – будете нашим гостем». Несмотря на то что из-за дедушки мне сократили время выступления, считаю услышанное от него самым приятным комплиментом, который был высказан мне в Италии.
Затем было получено приглашение принять участие в программе швейцарского телевидения – в числе других исполнителей песен на фестивале в Сан-Ремо. В этой передаче я также пела песню А. Бабаджаняна и Е. Евтушенко «Не спеши» на итальянский текст Э. Буонассизи. Передачу снимали в Милане. Мы с Зосей в назначенный час явились на студию. В артистической уборной (здесь она была) мне показали несколько платьев, самых что ни на есть радостных тонов. Мне надлежало выбрать – ведь передача шла по цветному телевидению. Увы, все эти чудные платья оказались меньше на три размера. У меня были платья, но длинные, здесь же требовалось мини. Таким образом, пришлось мне выступать в своем светло-голубом. На репетиции его даже похвалили, но режиссер неожиданно начал как-то слишком внимательно приглядываться ко мне и делать вокруг меня все более сужающиеся круги.
«Ага, – изрек он наконец с облегчением, – теперь мне понятно. – Она не должна быть блондинкой в голубом платье. Поскольку уж платье останется это… сделайте из нее брюнетку… нет, – через минуту вынес он окончательное решение, – лучше рыжевато-каштановую». Ясно, что речь шла о парике. Со мной немало помучались, прежде чем парик удалось натянуть на мою голову и затолкать внутрь довольно густые пряди светлых волос.
На этот раз Зосе было позволено снимать меня в уборной. Съемочная площадка продолжала оставаться под запретом. Но мучения с париком были увековечены, как и мое полное преображение. Должна признаться, что я себе в новом виде понравилась, и не только в связи с цветом парика, но главным образом потому, что волосы на нем были совершенно прямые, о каких я могла только мечтать.
Декорации привели нас с Зосей в глубокое изумление. Мне в определенный момент следовало дойти до огромных подушек, словно взятых напрокат из балета «Бахчисарайский фонтан», присесть на них и допеть песню до конца. Возле меня должен был танцевать мальчик. Пускай бы уж были и эти подушки, и мальчуган, который, кстати, хорошо исполнял ультрасовременный танец… «Погляди-ка назад, – воскликнула Зося. – Что бы это могло значить?»
И в самом деле! Фон состоял из гигантского портрета Евтушенко в окружении афиш, соотнесенных с революцией 1905 года. Мы не усмотрели в том никакой логики, да и сам создатель этого эпохального творения в ответ на наш вопрос тоже ничего не смог объяснить!
По возвращении в Польшу мне пришлось переболеть всеми – затаившимися во мне – простудными заболеваниями (да, да), которые после нервного напряжения наконец дали о себе знать. Когда человеку просто некогда болеть, ему удается действительно отложить болезнь, но, увы, всего лишь на какое-то время. Едва напряжение хоть чуточку спадет – расплата наступает незамедлительно. Сваливаешься и уже послушно лежишь, не вставая.
Впрочем, Пьетро постарался, чтобы я не скучала. Вскоре я получила комплект записей неаполитанских песен в исполнении Муроло. Целый альбом из восьмидесяти песен! Мне надо было выбрать двенадцать, самое большее тринадцать – для моей запроектированной долгоиграющей пластинки. Больше обычно не умещается. Записать их предполагалось во время моего следующего приезда в Италию.
Взяв в руки превосходный альбом, я в первую минуту очень обрадовалась. Какое роскошное издание! Каждая пластинка в отдельном футляре, открывающемся наподобие книги. На лицевой стороне – фотографии прежних исполнителей, а также полный перечень текстов на неаполитанском наречии и краткий их перевод на литературный итальянский язык. Обложки украшены репродукциями известных картин итальянских художников, порой – прекрасными видами Неаполя и его окрестностей.
Когда первая радость миновала, я принялась внимательно прослушивать пластинки. Спустя некоторое время пришлось сознаться, что мне нравится слишком много песен. На листочке, где должна была быть выписана пресловутая дюжина, фигурировали почти все песни. «Ну ничего, – подумала я. – Видно, мне они „примелькались“. Привлеку-ка я к этой работе своих знакомых».
Таким образом, мои гости хитростью оказывались втянутыми в это ответственное дело. Но поскольку никто не располагал временем, достаточным для прослушивания всех восьмидесяти песен, я вынуждена была сама сделать выбор. В конечном итоге остановилась на двадцати песнях, из числа которых необходимые двенадцать выбрала с помощью музыкального руководителя CDI – Ренато Серио.
В Италию я приехала на этот раз в июле – наконец-то хоть не буду мерзнуть!
Сначала я должна была принять участие в фестивале неаполитанской песни, а потом записать в Неаполе свой первый долгоиграющий диск с неаполитанскими песнями.
В Варшаве лето в том году было довольно жарким. Но, приземлившись в Миланском аэропорту, я сразу ощутила принципиальную разницу – казалось, что находишься в исправно действующей… римской бане. И на все время моего житья здесь не предвиделось ничего иного. Уже на другой день по прибытии я осознала, что акклиматизация не является просто термином, изобретенным учеными. Под душем в гостиничном номере я чувствовала себя еще довольно терпимо, но мое самочувствие резко ухудшалось, когда все-таки наступала необходимость что-нибудь надеть – даже в легком летнем платье было жарко, как в тулупе.
Маленькая тесная комнатка, вдет музыкальная репетиция… Здесь дошло до того, что я ощутила странное сердцебиение и начала задыхаться. Вентилятор приносил облегчение, лишь когда дул прямо в лицо – вне этой струи было душно и как-то липко. Влажность воздуха в Милане повышенная. При таких климатических условиях нельзя работать с полной отдачей. В душе я склонна оправдывать непреодолимое отвращение итальянцев к тому, чтобы сделать какое-либо дело сегодня. «Зачем обязательно сегодня? Завтра наверняка будут более благоприятные условия…»
Однако тональность неаполитанских песен надо было выверить как можно быстрее, чтобы Ренато успел их аранжировать. Через несколько дней мы должны были уже вылететь в Неаполь.
Поскольку во время моих предыдущих визитов в Италию у меня, собственно, совсем не было свободного времени, я подумала, что настала пора осмотреть город и… осуществить одно свое заветное желание. Должна признаться, что я неизлечимая киноманка. В театр всегда хочется идти с кем-нибудь, а в кино я чаще бегаю одна. Кино – рядом, стоит лишь подойти к кассе, купить билет и… можешь исчезнуть в темном зале, не привлекая любопытных взглядов. Дома подобные «вылазки» я практиковала довольно часто.
Итак, я дождалась вечера, когда зной хоть немного спадет, и отправилась в кино. Кинотеатр находился неподалеку, но даже и этого небольшого расстояния оказалось достаточно, чтобы порастерять охоту и пасть духом. Однако я героически добралась до кассы (в Италии с билетами чудесно, никогда нет никаких очередей) и вскоре заняла место в почти совсем свободном ряду. Я специально выбрала пустой ряд, дабы никому не помешать, не заслонять экрана… Ряд был последним.
Сеансы в этом кинотеатре шли один за другим, без перерыва. Купив один билет, можно было посмотреть один фильм несколько раз. Неизвестно, может, и я совершила бы такое «преступление»: это был замечательный французский фильм «Мужчина и женщина», хорошо теперь известный и у нас, в Польше.
Но мне не пришлось преступать приличия и, что еще хуже, не пришлось досмотреть фильм до конца. О нет, я не сразу дезертировала. Сначала я пересаживалась с места на место и даже с одного ряда на другой, но для настоящего донжуана ни смена кресла, ни смена ряда не являлись препятствием. Напротив – отпор со стороны «объекта», затрудняющий дело, лишь разжигает мужское самолюбие. «Какого черта, ведь пришла же одна на вечерний сеанс! Так в чем же дело?» – изумлялись, вероятно, местные донжуаны.
Я все же посмотрела эту прекрасную ленту. На другой день синьора Ванда Карриаджи предложила мне сходить на этот фильм. Пригласила также и к себе. Синьора Ванда – очень маленькая и худенькая, так что я в шутку называла ее «La mia piccola mamma».[19]
Настал день вылетать в Неаполь.
В аэропорту я стала свидетельницей великолепной сцены, словно перенесенной сюда из итальянской комедии. К билетной кассе подошла пышнотелая молодая синьора, имевшая, как потом оказалось, хорошо поставленный голос. В одной руке она держала внушительный чемодан, другой обнимала двух мальчиков дошкольного возраста. Поставив чемодан и вооружившись обольстительнейшей улыбкой, синьора попросила билет до Неаполя – себе и своим «усталым малюткам».
Билетов не было (наверняка об этом было известно с самого начала). Синьора выразила безграничное удивление, но решила не сразу пускать в ход свой последний козырь. Она улыбалась, просила, воркующим голосом убеждала, что ей очень-очень надо, но кассир оставался беспристрастным – на него не действовало завлекательное колыхание бедрами, предваряющее каждую фразу. Сравнительно мало (пока что!) был он обеспокоен и судьбой «бедных деток».
Но время шло. Взглянув на часы и сочтя, что метод мирных переговоров себя не оправдал, дама перешла в настоящую атаку. Ее громкий, звучный голос раздавался на весь зал (итальянцы не только музыкальны, но в массе своей имеют хорошо поставленные голоса).
Теперь, вся красная, возмущенная мать набросилась на кассира как львица, упрекая его в бессердечии, в том, что он намеренно лишает бедных, беззащитных детей отдыха (в особенности целительного йода). Говоря, а точнее, выкрикивая это, она так крепко прижимала к себе ребятишек, что они в результате разволновались и подняли неистовый рев.
Итальянцы невероятно чувствительны ко всему, что касается детей, и мамаша это, без сомнения, учла. Вокруг наших героев немедленно образовалась толпа; никто толком не знал, в чем дело, но все мигом поняли, что в отношении детей проявлена несправедливость. Вспотевшая синьора заканчивала третий акт своего представления, видя, как кассир никнет на глазах, хватается за голову и жаждет лишь одного – чтобы это поскорей кончилось.
Вскоре я сидела в самолете, который должен был доставить меня в Неаполь. Синьора с мальчиками тоже была здесь.
В неапольском аэропорту нас встречал (я летела, естественно, в сопровождении Рануччо) композитор, автор песни, которую мне предстояло петь на фестивале. С ним была его жена, молодая, красивая женщина – мать довольно большого количества детей: не то семерых, не то девятерых. Впрочем, если я допустила неточность, то за истекшее время она наверняка уже исправлена – в большую сторону.
С гостиничного балкона открывался вид на море – настолько чудесный, что даже американский авианосец, маячивший на горизонте, не мог вполне подавить моего восторга.
На следующий день я записала на пластинку свою фестивальную песню. Оказалось, что XV неаполитанский фестиваль планируют провести прежде всего как телевизионное зрелище, и в этом качестве он должен быть безупречно отработан в соответствии с утвержденным сценарием. Таково было решение организаторов. Каждый из трех вечеров должен был проходить в иной местности – не перед залом с публикой, а – в зависимости от «фотогеничности» пленэра – либо в прекрасном старом саду, либо во дворце, почти без публики, с учетом единственно интересов телезрителей.
Но все эти старые дворцы и сады – невинная затея в сравнении с главным требованием организаторов фестиваля. Впервые все фестивальные песни должны были исполняться под фонограмму.
У меня вообще не укладывается в голове мысль, как можно проводить фестиваль путем прослушивания песен, звучащих в записи, предварительно созданной в студии. Ведь при этом совершенно исключается непосредственное общение с публикой, творческий подъем певца, который мобилизует все свои возможности, чтобы показать себя с самой лучшей стороны.
В студии никогда не запишешь песню так, как удается исполнить ее перед публикой. Спортсмены, к примеру, когда трибуны пустуют, показывают более низкие результаты.
И такое новшество было введено на фестивале в Неаполе – здесь, где всякий вкладывает в пение всю душу и дарит ее публике вместе с мелодией!
Очень негативно оценили новшество и сами неаполитанцы. «С тем же успехом можно вынести на эстраду проигрыватель, поставить пластинку, а певец волен отправиться куда-нибудь посидеть за стаканчиком вина», – услышала я горький комментарий продавца газет.
Что ж, замечание вполне справедливое. Однако, невзирая на проявленное жителями Неаполя недовольство, все шло в соответствии с утвержденным планом.
Первый концерт состоялся в Сорренто.
Я в тот вечер не пела и могла смотреть передачу из Сорренто по телевизору.
Накануне мы на небольшом пароходике добрались до острова Искья, откуда должен был транслироваться второй фестивальный концерт. От пристани до Пунто Молино крутыми улочками нас доставил в своей повозке энергичный черноволосый парнишка. Повозка его напоминала один из вагончиков детской железной дороги, какие встречаются в веселых городках, устроенных для детей.
Мы высадились перед зданием странного вида – в форме высокой круглой башни, расположенной посреди чудесного сада с большим бассейном. Это была наша гостиница. Примерно так рисовалась мне башня из сказки Андерсена о принцессе, у которой была столь длинная коса, что она с успехом заменяла принцу… лифт.
Дворец-отель оказался внутри оборудованным с большим вкусом. Небольшие комнаты обставлены темной мебелью в старинном стиле, люстры – со свечами… В холле, где можно было побеседовать или сыграть партию в бридж, высились растущие в кадках и живые, свежесрезанные цветы. Я подчеркиваю это обстоятельство, ибо чаще видела цветы искусственные – сделанные весьма умело, но навевающие тоску. Одна стена была целиком выполнена из особого стекла, позволявшего видеть все, что происходит снаружи, но самому оставаться невидимым.
В этом-то холле я сидела вечером и смотрела передачу первого концерта из Сорренто. Виллы, на которой происходило действие, не было видно, но, судя по роскошному окружающему ее парку, в котором «гуляли» певцы, она была не менее великолепна.
На следующий день начались репетиции. Публику составляли только те люди, которые сопровождали исполнителей. Ибо у каждого был спутник – у кого жена, у кого муж, друг, подруга или… даже несколько подруг. Прибыл также и Модуньо со своей очаровательной женой.
Хотя… была все же и публика – ребятишки. Они сидели на крышах соседних домов, плотной толпой сгрудились у ворот сада. За ними виднелась группа пожилых женщин.
После обеда выдалось несколько свободных часов. Я отправилась на берег моря – хоть немного подышать свежим воздухом и передохнуть после репетиции. Не успела оглянуться, как меня плотным кольцом окружила детвора. Тут были несколько подростков, малолетки и даже один ползунок, который лишь некоторое время спустя присоединился к обществу.
Дети во всем мире одинаково прелестны. Их интересовал фестиваль, его участники. При этом они проявили большую осведомленность – им, к примеру, было известно (из газет), что я – полька, ибо впервые в истории неаполитанских фестивалей в этом фестивале принимала участие иностранка, полька.
Они хотели знать, где находится моя страна, что это за страна и есть ли там такое же теплое море. Они дотрагивались до моих волос и, причмокивая, удивлялись – настоящие! «И у меня точно такие, правда?» – спросила веснушчатая девчушка, приложив к моей косе кончик своей огненно-рыжей косички. Конечно, маленькая кокетка отлично понимала, что она тут в этом смысле единственная, поскольку все остальные головки были черные как смоль. Потом, когда мне пришло время уходить, они проводили меня до самых ворот и, прощаясь со мной (я всем по очереди пожала перепачканные чернилами руки), громко желали мне успеха.
Я успешно вышла в финал, и на другой день утром мы уже плыли обратно в Неаполь. Последний фестивальный вечер должен был состояться в огромном парке, окружающем виллу Флоридиана.
На этот раз публики собралось порядочно. Приехало также несколько знаменитостей. Помню, конферансье объявил, что среди присутствующих находится известный киноактер Витторио Гассман. Гассман привстал, с улыбкой раскланялся. Затем начался концерт.
На XV фестивале неаполитанской песни неожиданно победил Нино Таранто, актер старшего поколения, который не столько спел, сколько станцевал шуточную песенку.
Неаполитанцы, предпочитающие скорее лирические, мелодичные песни, в которых поется главным образом о любви, о море и синих далях, с неудовольствием восприняли решение жюри.
Чувствую себя обязанной отметить, что выступление первой польки на неаполитанском фестивале снискало признание. Доказательством тому были многочисленные рецензии, где с похвалой говорилось о моем «истинно неаполитанском» стиле исполнения, а также – к великой моей радости и гордости – о «безупречном акценте прирожденной неаполитанки». Композитор и автор текста, сопровождавшие меня все время, пока продолжался фестиваль, тоже были довольны, что вручили мне свою песню.
Композитор, синьор Дженио Амато, пригласил нас к себе домой – торжественно отметить наши достижения. Я с теплым чувством вспоминаю часы, проведенные в доме гостеприимных супругов Амато.
Сначала гостям представили всех детей по очереди – от самого маленького, еще грудного малыша, который всего лишь две недели назад осчастливил мир своим появлением на свет, до самой старшей, двенадцатилетней девочки. Несмотря на то что половина из них еще не вполне научились ходить, с первого взгляда было заметно, что в семье царят мир и согласие. Старшие дети без понуждения опекали младших, которые, отлично зная свои права и привилегии, тем не менее ими не злоупотребляли.
Потом был накрыт огромный стол, и гости принялись уничтожать очень вкусные блюда, приготовленные по рецептам местной кухни. За десертом еще раз возникла бурная дискуссия на тему прошедшего фестиваля.
Вскоре по возвращении в гостиницу Пьетро вместе с отцом покинули Неаполь. Синьора Ванда в этот раз не приехала на фестиваль: она неважно себя чувствовала. Я осталась в Неаполе в обществе только что прибывшего сюда Ренато Серио.
Ренато за это время успел закончить аранжировку, и теперь мы с ним могли приступить к записи на пластинку ранее отобранных неаполитанских песен в сопровождении неаполитанского оркестра с типичным для него составом инструментов.
Поскольку я всегда предпочитаю присутствовать при создании музыкального фона, я уже на другой день утром сидела в душной студии. Запись тянулась долго – как я уже говорила выше, южане не признают спешки. А жара стояла невыносимая. Через несколько дней такой работы у меня начались неприятности с сердцем. Я решила немного поберечься и следующий день провести на свежем воздухе, в особенности потому, что через день мне уже предстояло петь, а это требовало в той обстановке огромных усилий.
На крыше гостиницы был бассейн, где можно было немного охладиться, подышать воздухом, полежать в тени под тентом. К счастью, здесь почти никого не было.
Чувство одиночества, тоски по близким овладевает мной на чужой земле с первого же дня и усиливается со временем. Я уже довольно долго находилась в Италии и все более остро ощущала свое одиночество, особенно здесь, в Неаполе, где я не могла даже позвонить синьоре Ванде.
Я лежала на каменных плитах, обрамлявших бассейн, и загорала – впервые с тех пор, как приехала в Италию. Раньше такого случая не подворачивалось, да и времени не было. На теплое голубое море взирала, как лисица на виноград. Ни разу мне не довелось в нем искупаться.
Внезапно кто-то не слишком уверенно дотронулся до моего плеча и детским голосом по-английски позвал: «Посмотри-ка, что у меня есть!»
Возле меня присел на корточки светловолосый малыш с такими синими глазами, словно это были частички неба. Минуту спустя подбежала мать и, извинившись, хотела увести своего общительного сына. «Бобби, зачем ты мешаешь даме?» – укоряла мама, таща Бобби под свой зонт. Но Бобби желал непременно показать мне свои сокровища – машинки – и вскоре уже снова сидел рядом со мной. Мы с ним разговорились. Бобби шел третий годик, он сильно шепелявил, так что мне приходилось довольно часто обращаться к его матери с просьбой перевести его слова. Потом мать Бобби отправилась в ресторан обедать – одна, поскольку Бобби с ревом отвоевал себе еще час – поиграть с «хорошим парнем». Мы сошли с ним в воду и там весело плескались при полном взаимопонимании.
В тот день оркестр закончил запись фонограммы, и с завтрашнего дня можно было начать записывать песни. Время, которое было куплено у студии, истекало. Для того чтобы записать двенадцать песен, оставалось два с половиной дня. Этого должно было хватить. Я приходила немного пораньше, чтобы воспользоваться помощью, которую оказывали мне владелец студии, его жена и прежде всего портье – эти славные люди поправляли мое произношение. Они делали это очень охотно, искренне радуясь каждому верно произнесенному мной слову. Даже водитель такси, в котором я ехала на студию, узнав о моих занятиях, тут же принялся посвящать меня в тайны неаполитанского диалекта.
Пластинка была напета в рекордный срок. Владелец студии, известный неаполитанский певец Аурелио Фиерро, одобрительно посмотрел на меня и заявил, что в его студии такого еще не случалось.
Похудев на несколько килограммов (в студии было жарко и душно, как в центре джунглей, поскольку нельзя было пользоваться вентиляцией из-за необходимости соблюдать абсолютную тишину), уставшая до предела, но зато очень довольная, я на следующий день в пять часов утра выехала обратно в Милан. Возвращалась одна, так как Ренато отправился домой поездом. Я покидала Неаполь без сожаления, хотя некоторые люди готовы отдать жизнь за то, чтобы взглянуть на этот город. («Увидеть Неаполь – и умереть!»)
В Милане меня ожидала награда за неаполитанские муки в виде приглашения в польское консульство на празднование Дня национального возрождения. Я была необыкновенно этому рада.
Срок моего пребывания, правда, уже перевалил за половину (я еще никогда не жила за границей дольше двух месяцев), но я уже очень скучала. Теперь я возрадовалась, что смогу поговорить обо всем, что близко сердцу, без натянутости, по-польски. Кто сам не испытал, тот не поверит, как трудно жить среди чужих людей, не слишком хорошо зная их язык. Да, я «справлялась», но быть целый день в непрестанном напряжении! Я вникала в смысл того, что мне говорят, соображая одновременно, как правильно построить ответную фразу.
Какое облегчение доставляла мне одна только мысль об этом приеме, где все слова будут ясны, понятны, известны!
Я вымыла голову, «навела красоту», даже надела клипсы, хотя они немного прищемляли уши, и поехала в консульство. Размещалось оно в прекрасном дворце. Будто сквозь сон вспоминаю подъезд, лестницу, мозаичные полы, старинную мебель. Там было прекрасно, как… в музее. С некоторым изумлением я обнаружила, что там и сям в антикварных креслах и на антикварных кушетках сидят гости, но раз уж пан консул это им позволил, то и я вскоре оказалась сидящей, нога на ногу (новые туфли!), в кругу польских инженеров из Варшавы, которые приехали в Италию в связи с передачей нам лицензии на «Фиат». Инженеры тоже были рады случаю совместно отметить праздник – они даже приехали ради этого из Турина.
Все гости получили прекрасные памятные медали, изготовленные в честь открытия Института польско-итальянских отношений. Потом провозглашалось много тостов, среди которых чаще других слышен был тост за возвращение домой.
Я подметила, хотя специально эта проблема меня и не занимала, что гости-итальянцы часто отказывались от отечественных вин в пользу нашего виньяка и «чистой выборовой». Довольная, в приподнятом настроении и с книгами, которые одолжила мне жена представителя нашей авиакомпании, вернулась я в гостиницу. Это был самый приятный день за время моей жизни в Италии.
У меня выдался краткий отпуск, главным образом потому, что менеджер не справился вовремя со своими задачами. Запланированные выступления (наконец-то я должна была начать концертировать и зарабатывать деньги) попросту отложили на три недели по причинам, «ни от кого не зависящим». Я очень охотно согласилась съездить на эти три недели домой. Стоимость моего проживания в Италии более или менее равнялась стоимости билета в Польшу и обратно. Три недели дома промелькнули как один миг!
Возвращаясь в Милан, я уже знала, что мне предстоит цикл концертов, организованных редакцией газеты «Унита», а также участие в трех телевизионных программах. Недолго передохнула в отеле; затем позвонил Ренато, чтобы договориться, когда назначить репетиции с оркестром.
Мы определили, какие песни я буду петь и в какой очередности. Ренато, как пианист, должен был выступать со мной в концертах и руководить местными оркестрантами.
До предполагавшейся серии концертов мне предстояло получить награду «Oscar della simpatia», присуждаемую ежегодно в Виареджо самым обаятельным, самым лучшим исполнителям. Торжественная церемония вручения «Оскара» соединялась с концертом, на котором лауреаты выступали перед многотысячной публикой.
Ренато отправился к своим родителям, чтобы на время концертирования взять у них машину – красный «Фиат» новой модели.
Мы выехали из Милана в направлении Виареджо. Ренато не принадлежал к числу расточительных людей. Довольно скоро я заметила, что мы уже едем не по автостраде, что дорога становится все круче и разнообразней, то огибая пропасть, пробираясь через густой лес, а порой едва не задевая какие-нибудь хозяйственные постройки. Ренато избегал необходимости платить за проезд по автостраде, выбрав более длинную, окружную, но бесплатную дорогу, доставляющую массу дополнительных эмоций. Около полудня, когда мы миновали предгорье, начали возникать странные явления, сменявшиеся в удивительном темпе. Сперва скрылось хорошо до тех пор припекавшее солнце, небо затянула свинцово-серая мгла, которая стремительно сгущалась, отчего все вокруг потемнело, так что Ренато вскоре пришлось включить фары. Мы все еще ползли по крутой горной дороге, когда внезапно хлынул дождь вперемешку с крупным градом.
Спустя короткое время с отвесного склона на дорогу ринулись мутные, с примесью коричневой земли потоки необычайной силы. Перепуганный Ренато остановил машину на повороте возле толстого каменного барьера, отделявшего дорогу от «достаточно внушительной пропасти».
Град так сильно барабанил по ветровому стеклу, что оно не выдержало и треснуло. Машина, хотя и новая, оказалась негерметичной – сквозь щели в крыше и окнах просочилась вода. Нас, по всей вероятности, смыло бы «на этаж ниже», если бы не стена, к которой приткнулась наша машина.
«А не лучше ли было бы заплатить там, внизу, небольшую плату за проезд по автостраде?» – подумала я, но вслух ничего не сказала. Мужчина, у которого поврежден «Фиат», и без того чувствует себя самым несчастным человеком на свете.
Когда страшный ливень несколько унялся, а бурлящие реки превратились в анемичные струйки, Ренато решил продолжить наше путешествие. Мы двигались очень медленно, вокруг было мокро и скользко, а в довершение зла мешал плотный туман. Но чем дальше мы ехали, тем явственней он редел; небо светлело. Но вот горный хребет остался позади, и перед нами распростерлась плоская равнина. Солнце тут снова палило вовсю, а от пронесшейся бури не осталось следа. Конечно, ведь здесь, внизу, никакой бури вовсе и не было, даже капли дождя не упало с незамутненных небес. Курортники, довольные, загорелые, возвращались с пляжа. Контуры гор уже тонули в сумерках, когда, едва держась на ногах, мы добрались наконец до того места, где назавтра должен был состояться концерт.
У Ренато не было сил, чтобы провести репетицию с оркестром. Мне пришлось удовлетвориться обещанием, что репетиция будет завтра, непосредственно перед концертом.
Эту ночь я спала плохо. Ренато, по-видимому, тоже.
На другой день мы благополучно провели репетицию с четырьмя местными музыкантами. Я должна была спеть песню «Если ты полюбишь меня» и свою песню, исполненную на неаполитанском фестивале.
Примерно около девяти часов амфитеатр под открытым небом уже заполнился людьми. Начался длинный, трехчасовой, концерт. Выступали не только лауреаты. Лауреаты выходили на сцену последними, и концерт заканчивался торжественным вручением награды. Статуэтка представляла собой отлитую из бронзы девушку с гитарой на черной подставке из гранита.
Ночи там очень холодные, так что я опять жутко продрогла.
Среди получивших «Oscar della simpatia – 67» были Катарина Валенте, Адриано Челентано, Рокки Робертс. «Оскар» был вручен также нескольким актерам театра и кино.
Для меня это выступление явилось генеральной репетицией перед моими сольными концертами. Я уже знала наперед, что они пройдут хорошо, так как публика в Виареджо принимала меня исключительно тепло. Скромность не позволяет мне сказать – восторженно.
Однако нашелся некий господин – конферансье, который несколько омрачил мою радость на этом концерте. Господин сей вообще недолюбливал женщин, и, когда ему приходилось объявлять певицу, он делал это неохотно, холодно, я бы сказала – лишь «по долгу службы». Если же «виновная» осмеливалась при этом быть выше его ростом, господин конферансье считал данное обстоятельство личным оскорблением и мстил.
Он таким образом объявил мой номер, что я даже растерялась, но вынуждена была взять себя в руки и петь. Когда я закончила, конферансье вышел на сцену и, присев возле меня на корточки, задрав голову, с шутовской миной спросил: «Ну а теперь скажите нам, сколько в вас метров». Я ответила ему внешне спокойно: «Сколько метров – не имеет значения. Важно, что я, безусловно, выше вас». Веселый смех зрительного зала вознаградил меня за перенесенную обиду.
Как я могла заметить, ни один из получивших премию не произнес ни единого слова благодарности. Просто с улыбкой кланялись публике. Я решила произнести «речь». Конечно, на итальянском, мысленно составив несколько фраз. Звучало это примерно так: «Добрый вечер, дамы и господа! Сердечно благодарю за присужденный мне приз. Я очень радуюсь этой награде, но одновременно хочу заметить, что все зависит от вас, от публики. Для вас мы поем и без вас существовать не можем. Я посвящаю мои песни вместе с моим „Оскаром“ тебе, дорогая публика».
Миновало несколько дней, которые Ренато провел в родном доме, находившемся довольно далеко от Милана. Ко дню первого моего концерта он вернулся в Милан на том самом красном спортивном «Фиате». Заехал за мной в гостиницу, и вот, пробравшись через забитый пешеходами и машинами центр города, мы очутились наконец на автостраде, ведущей к Форли, где мне предстояло петь на празднике коммунистической прессы. Увы, горький опыт предыдущего путешествия быстро выветрился из памяти Ренато. Вскоре мы уже свернули на «более разнообразную дорогу», как заявил Ренато в ответ на мой вопросительный и не лишенный укора взгляд.
От Форли, где состоялся мой первый и единственный концерт, у меня осталось самое приятное впечатление. Это маленький городок, расположенный в гористой местности. Мы добрались туда к вечеру, после многочасовой езды в машине. Петь я должна была лишь около полуночи, так что мы отправились поужинать, а потом хозяйка гостиницы провела меня в комнату, где я могла подготовиться к выступлению. Поскольку и на этот раз я оказалась одетой весьма легко (не люблю одеваться тепло, потом каюсь), а концерт проходил на открытом воздухе, она одолжила мне свою большую, теплую шаль. На площади были поставлены столики, стулья, скамейки, обращенные к маленькой, временной эстраде, где с трудом размещалось пятеро музыкантов и солистка с микрофоном. Центр площади оставался свободным, служа местом для танцев. Между деревьями в разных направлениях были натянуты бечевки, унизанные разноцветными фонариками.
На концерт пришли и стар и млад. Если уж – по причине почтенного возраста – не ради танцев, то хотя бы посмотреть, посмеяться. Мне очень по душе такого рода выступления, на которые являются представители всех поколений. Бабушка и внучка надевают свои лучшие платья и вместе отправляются на площадь поразвлечься.
Мне предстояло исполнить двенадцать песенок, «вплетенных» в венок танцев. Когда я начала петь, танцы прервались, пары останавливались – нередко в той позе, в какой застали их первые звуки. Все лица повернулись ко мне.
Я не обиделась бы, если бы они продолжали танцевать. Для Италии это естественно – здесь песня воспринимается прежде всего как танцевальная мелодия. Концерты редки, их заменили ныне телевизионные передачи.
Но они слушали. Молодежь сгрудилась у эстрады – и тут начался «концерт по заявкам». Просили исполнить песни фестиваля в Сан-Ремо. Я знала несколько песен, среди них «Ciao, amore» Л. Тенко, которую также спела, а припев «Ciao, amore, ciao…» все пели вместе со мной.
Я была очень довольна своим первым концертом. Ближе узнала публику. Увидела ее реакцию на мое пение. На душе было хорошо, легко, радостно. Возникла уверенность, что так будет везде, что мне нечего опасаться!
Очень приятна была дружелюбная атмосфера, в особенности непосредственный контакт с публикой. До той поры я никогда не вела сама свой концерт. Здесь же мне приходилось объявлять свои песни, кратко их переводить, если песня пелась не по-итальянски, отвечать на вопросы. Когда я выздоровею, я попытаюсь на своем первом концерте в зале Конгресса не ограничиваться одним пением.
Перед моей поездкой в Форли Пьетро сказал, что скоро мне предстоит еще раз отправиться в Неаполь, чтобы принять участие в открытых концертах. «Обстановка, в которой ты будешь петь, неповторима. Концерт проходит попросту на одной из больших площадей в центре города. Люди замедляют шаг, забывают о спешке, ибо все это утрачивает смысл перед лицом такого важного события, как песня. Награда символическая – ключи от города Неаполя, которые ты непременно получишь».
То был отзвук моих выступлений с неаполитанскими песнями.
Меня очень привлекала перспектива такого «уличного пения», особенно потому, что на этот раз я должна была петь не под фонограмму, а непосредственно перед людьми, которые сами всю жизнь поют и являются справедливыми и объективными судьями.
Концерт закончился около часу ночи. Мы вернулись в гостиницу. Я устала. Ренато тоже был очень утомлен, ибо – как сам признался мне – накануне ночью ездил в Швейцарию и поэтому не сомкнул глаз. Он даже угостил меня швейцарским шоколадом и показал папиросы, которые были, кажется, лучше итальянских и… дешевле.
Из Швейцарии он вернулся домой уже под утро, после завтрака отправился за мной в Милан, и мы вместе приехали в Форли. Далее – репетиция, долгое ожидание, наконец, сам концерт. Так что устал он страшно, несмотря на свои двадцать лет. Тем не менее отказался от возможности переночевать в гостинице в Форли, где нам были приготовлены две комнаты. Жаль было не использовать оплаченные номера в Милане…
Я сложила вещи, с благодарностью вернула хозяйке шаль и села в машину.
Сначала мы ехали улицами спящего городка, потом Ренато все же остановил свой выбор на автостраде.
Так будет быстрей, довольно резонно рассудил он.
В дальнейшем именно это решение оказалось спасительным. На автостраде рано или поздно должны были заметить, что произошла катастрофа, и оказать помощь, в то время как на другой, менее оживленной, дороге никто не помешал бы мне спокойно перенестись в мир иной. Важным это оказалось только для меня, так как Ренато получил перелом кисти и ноги. Конечно, очень больно, но, к счастью, от этого не умирают.
Итак, мы ехали по автостраде. Я много и громко говорила, не слишком даже себя к тому принуждая, поскольку вызванное концертом возбуждение держится обычно еще довольно долго. Часа два после выступления я не могу расслабиться, не способна заснуть. Думала также, что тем самым не дам задремать Ренато и мы благополучно доберемся до Милана. Но двадцатилетний организм усталого юноши, очевидно, стремился устранить все, что мешало ему уснуть и таким путем восстановить жизненные силы. Внезапно нас несколько раз подбросило, как если бы машина нарвалась на ухабы, вместо того чтобы скользить по гладкому, как зеркало, шоссе. Затем наступила тьма и тишина.
Однако до того я успела осознать грозящую нам опасность – скорее инстинктивно, ведь на размышления не было времени. Все свершилось за какую-то долю секунды. Я ощутила – отчетливо это помню – панический ужас при мысли о том, что могу заживо сгореть в машине.
Как раз неделю назад я прочитала сообщение о жуткой смерти французской актрисы, одной из знаменитых сестер Дорлеак. Она погибла в горящей машине. И хотя я никогда не испытывала страха во время езды в машине (равно как болтанка в самолете скорее меня забавляла), с того момента, как в прессе была опубликована эта страшная заметка, я начала опасаться. Чувство охватившего меня в ту минуту ужаса помню очень хорошо.
Катастрофа произошла.
Утром нашу машину заметил ехавший по автостраде водитель грузовика. Она была разбита вдребезги, и лишь красный цвет кузова напоминал о ее былой элегантности.
Ренато не «вылетел» из машины, а я оказалась далеко от останков «Фиата», отброшенная какой-то страшной силой.
Вызвали полицию. Нас привезли в больницу. К счастью, я были лишена способности ощущать боль, холод сырой земли в канаве, трудности транспортировки.
Я получила возможность сделать недельный перерыв в своей биографии.
Состояние мое не являлось достаточно обнадеживающим, напротив того, даже возбуждало худшие опасения. Единственное, что можно и нужно было сделать, так это влить в мои вены чисто итальянскую кровь, взамен той, которая почти полностью вытекла из меня в канаве. Исправить остальное пока было нельзя. Следовало подождать. Впрочем, долгое время было неясно, не выберу ли я «свободу», сказав своим спутникам по земному пути «адью».
Мою мать и моего жениха подготовили к этому возможному исходу. Они получили визы и паспорта на выезд в Италию в течение одного дня. «Выдать немедленно, состояние безнадежное», – гласило официальное указание.
Они приехали, таким образом, на третий день, но я и не знала, что мои любимые люди сидят возле моей постели. На вопрос моей матери, останусь ли я жива, врачи ответили: «Мы делаем все, что в наших силах, но уверенности нет». Они действительно делали все, что в человеческих силах. Применяли новые лекарства, дежурили возле меня днем и ночью. Спасли мне жизнь.
Я лежала в трех больницах, но помню лишь одну, ту, где я пришла в сознание на седьмой день после происшествия. Кажется, я прореагировала на свет и боль и ответила на какие-то вопросы. Но, видимо, уверенность врачей в моем выздоровлении опиралась скорее на теоретические рассуждения. На практике же все выглядело иначе. Свою мать я узнала только с того дня, когда меня перевезли в следующую больницу. А шли уже двенадцатые сутки.
От предыдущей больницы в памяти осталась только огромная палата с тяжелыми больными, привезенными прямо с места происшествия. Они плакали, стонали, кричали от боли. Я не запомнила ни одного лица. Даже лиц врачей, которые вели за мной непрерывное наблюдение, которым я обязана жизнью. Я знаю их фамилии, часто упоминаемые матерью, но, когда они пришли в клинику Риццолли навестить меня после операции, для меня это были лица чужих, незнакомых мне людей.
После того как отключили искусственное дыхание и с искусственного питания меня перевели на обычное, стало ясно, что кризис миновал. Теперь можно было перевезти меня в клинику Риццолли и там, дождавшись, когда окрепнет организм, подумать уже о «починке сломанной куклы», как в шутку говорила мама.
В этой клинике, где прооперированные довольно подолгу лежали в гипсе, кому-нибудь из близких разрешалось дежурить возле них. Такой человек «прописывался» в больнице, жил в реабилитационной палате столько времени, сколько было необходимо для больного, которому здесь старались создать наиболее благоприятные условия. Душевное равновесие, хорошее самочувствие играет в это время, как известно, немаловажную, если не первостепенную роль. Известно, что даже всесторонняя квалифицированная забота персонала о больном не заменит матери. Мать является для нас существом самым близким, единственным. Она хорошо знает все слабости своего ребенка. Поэтому нет необходимости стыдиться ее или в чем-то перед ней притворяться. Можно держаться естественно и быть уверенным, что тебя поймут, – и спокойно, без чувства неловкости, как это случается в обществе постороннего человека, принимать любую помощь, оказываемую тебе с бесконечной любовью и терпением. Ибо это наша мать, которой мы, быть может, завтра отплатим такой же любовью, хоть она и не требует от нас ничего. Для меня присутствие матери явилось спасением, великим благом, особенно когда настал самый тяжелый час…
Комната, в которой мы с мамой «поселились», была довольно просторная, с большим балконом.
Со своей постели я видела лишь косматые ветви громадного хвойного дерева. В больничном парке, как сказал мне мой жених, было много таких высоких, могучих деревьев, из которых в прежние времена делали мачты для парусных кораблей. Я хорошо могла себе это представить, ибо хотя наша комната была на четвертом этаже, но по той части дерева, которую я видела в окно, отнюдь нельзя было судить, что верхушка близко.
С одной стороны у меня перед глазами была стена, с другой – это дерево. Так что я целыми часами глядела в окно, ожидая, не сядет ли на ветку птица, представляла себе, какая шершавая на стволе кора, как пахнут тонкие длинные иглы. Порой я прищуривалась, и тогда графический рисунок ветки терял свою четкость, обращался в некое расплывчатое пятно, и можно было, призвав на помощь воображение, увидеть, например, белку или бегущего оленя, а то даже лицо человека, мужчины с орлиным профилем.
Обход бывал торжественным, как в каждой больнице. Всякий день по утрам в палату входила внушительная группа врачей и сестер. Несколько раз в неделю – во главе с самим руководителем клиники, профессором Рафаэлло Дзанолли. Во время вечернего обхода некоторые врачи являлись в длинных, до пят, белоснежных накидках. Мне объяснили, что это те, кто отправляются на обход прямо от операционного стола. Накидка защищает от простуды, которую легко подхватить, идя длинными холодными коридорами с каменным полом.
Ортопедический институт, носящий имя выдающегося ученого и врача-ортопеда Риццолли, является университетской клиникой, где работают молодые, способные врачи; многие из них получили звание профессора в возрасте тридцати лет, как, например, Марио Гандольфи, Орланди, Бедони. Профессор Карло Алвизи и его ассистент Родольфо Дайдоне, которым я в основном и обязана тем, что пришла в сознание, тоже были очень молоды.
Шефом клиники был профессор Рафаэлло Дзанолли. У него было доброе лицо с густыми бровями, мягкий, внимательный, умный взгляд, седая грива волос. Он был высокий, сильный, ладно скроенный. Он напоминал мне могучее старое доброе дерево. «Деревья связываются у меня с добротой, – сказала мне когда-то в детстве мама. – Они совсем как некоторые люди». С тех пор я это помню.
Профессор Дзанолли был действительно сильный и добрый – и в то же время в доброте своей беззащитный, совсем как дерево. У него был ласковый взгляд, ласковая улыбка. Он склонялся надо мной, шутливо стучал по гипсу, обещая, что скоро я уже встану на ноги и тогда мы с ним померимся ростом.
Небольшая обида осталась у меня только на ординатора отделения. Молодой, необыкновенно талантливый хирург, специалист высокого класса, но… жестокосердный. Притом он не умел, а может, и не хотел даже сделать вид, что в душе добр. Теперь я стараюсь объяснить его холодное отношение к больным тем обстоятельством, что врачи клиники Риццолли всегда были перегружены, особенно хирурги. Там ежедневно делали в среднем до сорока операций, а по воскресеньям и праздникам, когда количество происшествий увеличивалось, – даже и до шестидесяти.
Описывая великолепные мундиры карабинеров, я упоминала о пристрастии итальянцев к театральности. Может, я ошибаюсь, но при виде персонала клиники у меня опять возникала мысль о театральных костюмах. Прежде всего они были немыслимо, стерильно чисты. У персонала каждого отделения был свой цвет одежды. Сестры с «моего» этажа носили голубые платья с белыми фартуками, белые чулки и белые туфли. В рентгенологическом отделении обязательным был зеленый цвет. Мариза, горничная, которая приходила брать заказ для кухни, носила платьице другого цвета. Работники кухни, кажется, носили одежду в оранжевых тонах.
Итак, мне пришлось неопределенное время лежать в ожидании, когда мой организм окрепнет настолько, чтобы перенести тяжелую операцию. Одна нога моя была на вытяжении; рука неподвижно покоилась поверх одеяла, ибо даже малейшее движение пальцами вызывало острую боль. Вытяжение тут не очень-то бы помогло. Точнее говоря, требовались основательные «сварочные» работы!
С операцией вышла небольшая задержка, так как профессор Дзанолли уехал на какой-то симпозиум, объявив, что по возвращении будет лично оперировать «La cantanta polacca».[20] Он вернулся спустя три дня и, согласно своему обещанию, сам меня прооперировал.
Итальянские врачи не только спасли мне жизнь, но с величайшей заботливостью, вкладывая всю душу, старались сделать все, чтобы я могла не только возвратиться к нормальной жизни, но и… на сцену.
После операции я очнулась закованная от шеи до пят в гипсовый панцирь. Когда мне казалось, что больше не выдержу, задохнусь в гипсе, когда я со слезами просила снять его с меня – под мою ответственность, уверяя, что предпочитаю остаться кривобокой, чем терпеть эти муки, они всегда напоминали мне о Сан-Ремо. Убеждали меня, что я еще не раз выступлю там, а они будут ассистировать мне у телевизоров, но… это может свершиться лишь в том случае, если в будущем я стану абсолютно здоровая и… абсолютно прямая.
Я не могу, да и не хочу описывать те ужасные страдания, какие довелось мне испытать на протяжении пяти месяцев, когда я неподвижно лежала на спине. Но самым жестоким испытанием явилась не боль переломов. Гипс плотно обжимал мою грудную клетку, а вместимость моих легких довольно основательная, разработанная пением, и я задыхалась в нем, теряла сознание, металась, не могла спать. Ночью мама сидела у моей постели, держа в своих руках мою правую, здоровую, руку. Она не спала тоже и в тысячный раз по моей просьбе рассказывала мне об одном и том же – всякий раз по-новому. («Расскажи мне, как все будет, когда мне снимут гипс».) Она нарисовала мне на картоне календарь, отмечая дни, оставшиеся до моего отъезда в Польшу. Каждое утро она подавала мне ручку и я с упоением вычеркивала очередную дату.
Мама очень опасалась этого переезда и всячески упрашивала меня побыть здесь до того времени, когда можно будет снять гипс, но я не соглашалась, надеясь, что польские ортопеды освободят мне от него грудную клетку.
В течение шести недель после операции я пила в день только несколько глотков молока, не в силах съесть абсолютно ничего, поскольку каждый проглоченный кусок еще больше затруднял мне дыхание.
Наконец наступил желанный день отъезда в Польшу! Меня переложили с кровати на носилки, потом засунули в ожидавшую у подъезда санитарную карету. Это был салончик на колесах, со всеми удобствами, какие может предложить наш XX век. Кислорода – сколько душе угодно; автоматический, безупречно действующий кондиционер; носилки с подвижным подголовником и, главное, рессоры, уподобляющие эту машину механизмам на воздушной подушке – она не ехала, а скорее плыла.
Подозреваю, что в одной из стенок кареты имелся встроенный бар с бодрящими алкогольными напитками. Ни один попавший в аварию итальянец не откажется от стаканчика вина. Даже если у него переломаны кости.
В самолете польской авиакомпании в наше распоряжение был предоставлен весь салон первого класса. Понадобилось размонтировать несколько кресел, чтобы поставить специально купленную моим женихом раскладушку, которую затем прикрепили к полу. Следующей, весьма трудной задачей было внести меня в самолет и уложить на приготовленную постель.
Экипаж самолета вместе с командиром корабля очень тепло приветствовал меня. Командир подошел ко мне и вручил букетик гвоздик, заверив, что полет будет спокойным до самой Варшавы.
Повеселевшая, я летела в обществе, состоящем из трех человек: мамы, жениха и врача, которого ПАГАРТ специально выслал в Болонью, чтобы обеспечить мне врачебную помощь на пути в Варшаву.
На родине я встретила необычайно сердечный прием со стороны многих расположенных ко мне людей, предлагавших свою помощь. Навсегда сохраню письмо одного из них, очень подбодрившее меня, буду помнить его слова, вселявшие в меня веру, предложение приехать на дальнейшее лечение в Силезию. Я бы охотно воспользовалась этим предложением, но перспектива еще раз путешествовать в карете «скорой помощи» и самолетом представлялась мне чересчур тяжкой.
Спустя две недели меня принял к себе в отделение ортопедической клиники Медицинской академии профессор Гарлицкий. Там заботливо занимались мною вплоть до окончания первой фазы лечения и выезда в Константин. Верхнюю часть гипса пока снимать было нельзя, следовало подождать. В конце концов, по решению профессора Гарлицкого, гипс с грудной клетки был снят, но зато мне тщательно «запаковали» левое плечо и нижнюю часть спины, притом проделывали это дважды.
В варшавской клинике прекрасный персонал, который трудится в нелегких условиях, но особенно полюбила я гипсовика, пана Рышарда Павляка, понимавшего мой безумный страх при виде вращающейся электрической пилы, которой с удовольствием пользовались его итальянские коллеги. С помощью этого инструмента можно быстро и аккуратно освободить пациента от гипсовой оболочки, но у беспомощного, неподвижного человека создается впечатление, что вращающийся с жутким воем диск вот-вот вонзится в живое тело. Пан Рысь очень умело и осторожно разрезал гипс ножницами, за что я была ему безмерно признательна.
Спустя некоторое время меня перевезли в клинику профессора Вейсса. Уже давно миновали все сроки снятия гипса на календарике, который снова нарисовала мама.
Мой гипсовый кошмар длился уже пять месяцев, когда вернулся наконец с одной из многочисленных зарубежных конференций профессор Вейсс. На следующий день после обхода ко мне с улыбкой подошел лечащий врач.
Пани Анна, я хочу вас обрадовать! Сейчас придет гипсовик и снимет весь гипс. Навсегда! Так решил профессор.
С вечной благодарностью буду я вспоминать профессора Вейсса. Он сократил мои страдания на целых десять дней!
Мне было известно, что снятие гипса еще не означает возможность двигаться. Однако я не представляла, что еще в течение многих месяцев все останется практически без изменений, что мне предстоят многомесячные тренировки на специальном столе (приспособление для того, чтобы организм привыкал к вертикальному положению), затем долго учиться сидеть и только после всего этого учиться… ходить.
Тем временем я продолжала беспомощно лежать на спине. Больница в Константине была уже шестой по счету. У многих моих знакомых портится настроение при одном виде больничного здания. В больнице, да еще так долго, как я, пребывать отнюдь не весело, и самочувствие мое было неважным. Причин немало: страдания вследствие сложных переломов, сотрясение мозга, длительная потеря сознания, операция, гипс…
Все это ослабило нервную систему. По вечерам меня охватывал страх, возраставший от бессилия, неподвижности. Я боялась остаться в палате одна даже на минуту. В Италии в такие моменты мама брала мою руку, напоминала мне факты, исчезнувшие из затуманенной памяти, соединяла разрозненные фрагменты в единое целое, помогала мне в моей отчаянной борьбе за восстановление образа реальной действительности.
Раньше матери позволялось быть при мне. В Константине ей разрешили навещать меня только днем. А именно ночь была тяжелей всего.
Я не только ни на кого не держу обиды, но способна даже понять наших врачей и их методы лечения. Принимаю во внимание также и наши более стесненные «жилищные» условия. И сам метод, заключающийся в том, чтобы делать больший упор на самостоятельные усилия самого больного при одновременной помощи медицинского персонала, несомненно, является верным и дает хорошие результаты. Но так же как не существует двух абсолютно одинаковых людей, так и потребности больных организмов могут быть существенно различны. Верно, я единственная дочь, но в недостаточной самостоятельности меня упрекнуть трудно. Это может подтвердить такое уважаемое учреждение, как ПАГАРТ – при его посредничестве я многократно выезжала за рубеж, одна как перст. И ничего, справлялась, хотя большинство наших солисток сопровождает хоть какая-нибудь «живая душа». Если говорить об умении справляться с жизненными трудностями в более широком значении, то я достаточно хорошо научилась этому за шесть лет учебы, когда мы жили (как, впрочем, и прежде) только на мамину зарплату. Я все всегда делала для себя сама, включая шитье (и маме, и бабушке) платьев, стирку, стряпню и уборку.
И теперь моим самым большим желанием было вырваться из состояния беспомощности, включиться в деятельную жизнь. Меня не надо было к этому побуждать, я сама с охотой, упорно тренировалась. Мне не грозил парализующий волю психический надлом – особенно теперь, когда сняли гипс. Я была уверена, что, упражняясь, через несколько лет обрету полную физическую форму, буду здоровым человеком. Но я нуждалась в помощи. Нуждалась в моральной поддержке со стороны матери. Хотела видеть ее возле себя в этот трудный период.
Я мучилась. Всю ночь в моей отдельной палате горел свет. Спала только днем, когда мама была рядом. Совершенно потеряла аппетит, у меня уже недоставало сил для того, чтобы тренироваться.
Мне пришлось найти способ помочь самой себе. Врачи в Константине вскоре пришли к выводу, что было бы неплохо предоставить мне десятидневный «отпуск», дать возможность пожить в домашних условиях. Отдых в «обычной» среде способствует, на их взгляд, успешному выздоровлению. Я судорожно уцепилась за эту возможность, решив заранее, что уж если мне удастся хоть раз выйти за порог больницы, то никакая сила не заставит меня вернуться обратно. Я сказала, что вернусь, но не вернулась. Домой ко мне на это время должен был периодически приезжать кто-нибудь из молодых врачей и проводить со мной дальнейшие занятия.
Поэтому в один прекрасный зимний день, в середине февраля, меня снова водрузили на носилках в машину «скорой помощи». Вроде бы совсем как тогда, в Италии, с той лишь существенной разницей, что я была легче на несколько килограммов кошмарного гипса.
Хочу пояснить, что я вынуждена была поступить так ради выздоровления. Я знала и точно ощущала, в чем больше всего нуждалась. Питаю надежду, что никто из персонала клиники Вейсса из-за этого не подумал обо мне плохо. Еще не изобретен аппарат, который бы просвечивал душу человека и устанавливал бы ее жизненно важные потребности и желания. А может, это и к лучшему.
Несмотря ни на что, я растроганно вспоминаю свое пребывание в клинике профессора Вейсса. (Пишу «несмотря ни на что» потому, что больница есть больница. Стоит мне услышать это слово, как на меня и сейчас еще нападает тоска.) Все были добры ко мне, на всех уровнях медицинской иерархии – начиная от врачей и кончая нянечками. Помню старшую медсестру, пани Басю – молодую маму маленькой Агнешки. Помню сестру Терезу, наделенную редким чувством юмора; Мариолу с ее всегда изысканной прической; Весю – маму маленького Кшиштофа, и других, чьих имен я не помню, но их родные фигурки в накрахмаленных халатиках как живые стоят у меня перед глазами.
С особой благодарностью вспоминаю нянечку, пани Адамскую, очень красивую женщину, чья красота не поблекла, несмотря на тяжелую работу. Ко всем больным она относилась с одинаковой добротой и терпением, всегда доброжелательная, милая, улыбающаяся. Если бы судьба ее сложилась удачнее, она могла бы стать врачом, каких мало – из тех настоящих врачей, которые видят в пациенте не «интересный случай», а прежде всего человека. Живого человека.
Каждое утро в коридоре раздавалась команда: «Все на гимнастику». Но ко мне эта команда не относилась. Я делала свои упражнения в палате под руководством врача. Состояли они главным образом из ежедневно применяемой «вертикализации» и пассивных упражнений руки и ноги.
Поясню, что такое «вертикализация». Производится она с помощью стола, на который укладывают пациента, привязывая его ремнями. Стол медленно, вместе с больным, перемещается из горизонтального положения в вертикальное. Конечно же, не сразу, а постепенно, пока организм полностью адаптируется.
Вначале эти восстановительные упражнения проводил магистр Войцех Хидзиньский, высокий брюнет, очень славный, спокойный человек. Я сразу отметила, что у него необыкновенно «легкая» рука.
Первые месяцы были очень трудными. Привыкшие в течение длительного времени к бездействию мускулы сильно болели. Но плакать я разрешала себе только при самых жестоких болях, ибо знала, что пан Войтусь, будучи настоящим мужчиной, не выносит женских слез, что ему это крайне неприятно.
Однажды я подняла свою руку над одеялом самостоятельно, без его помощи. Мы оба невероятно обрадовались. Похвалив меня, доктор дал мне новое «домашнее задание» – так я в шутку называла упражнения, которые должна была выполнять без него. На другой день состоялся «коллоквиум» и последовал новый урок. Так продолжалось изо дня в день, до самого моего отъезда. У пана Войцеха хлопот со мной было предостаточно – нужно было пробудить к жизни, к движению, всю левую половину тела. Ведь даже после нескольких недель неподвижности образуются пролежни, атрофируются мышцы. Плечевой сустав и лопатка, а также локоть, колено, тазобедренный сустав, суставы левой руки и стопы не двигались вовсе. Когда пан Войцех уехал отдыхать в горы, меня передали пану Казимиру Баблиху, который до сих пор приезжает ко мне из Константина и руководит моим выздоровлением. Я всегда радуюсь приезду пана Казика, хоть знаю, что не обойдется без болей. Новый доктор, несмотря на свою молодость, оказался отличным профессионалом, умеющим найти чуткий подход к пациенту.
Сейчас, когда я об этом пишу, мне уже много, много лучше. Однако достаточно ловко управляться с авторучкой еще не могу. Моим суставам еще кое-чего недостает до восстановления полной двигательной способности. Мне придется еще интенсивно их разрабатывать. Во всяком случае, вытяжное приспособление, будучи весьма мало привлекательным предметом меблировки, еще послужит мне некоторое время, хотя я с удовольствием уже сейчас выбросила бы его!
Мне доводилось неоднократно видеть в фильмах (чаще всего в комедийных), как лечат разного рода комплексы с помощью психоанализа. Так вот, больной (чаще всего внушивший себе, что он болен) удобно располагается на кушетке и рассказывает обо всем, что его гнетет. Врач садится рядом и внимательно выслушивает монолог. Однажды высказанные признания становятся тем самым уже навсегда вычеркнутыми.
Мои искренние, в полном соответствии с правдой, воспоминания, быть может, возымеют такое же действие. Мне бы очень хотелось забыть, вычеркнуть из памяти целых два года, чтобы когда-нибудь без всякого внутреннего сопротивления запеть одну из чудесных неаполитанских песен.
Об Анне Герман
Возвращение Эвридики
Воскресным вечером я прогуливался по Лазенкам, как вдруг откуда-то издали приплыла песня. Усиленная микрофонами, она струилась над старым парком, и я остановился словно пораженный громом: неужели она?! Конечно, этот голос трудно спутать с чьим-то другим, но ведь писали же, что она еще не вполне оправилась после той беды… Я рванулся навстречу песне и скоро был около «Театра на воде», окруженного тысячной толпой. Когда, пробившись сквозь людскую стену, посмотрел на эстраду, все сомнения исчезли: конечно, она! Голубоглазая, золотоволосая, в один счастливый день покорившая Сопот «Танцующими Эвридиками», а потом покорившая мир. Три года триумфа – и вдруг страшное известие: в Италии попала в автомобильную катастрофу, положение тяжелое… Врачи не знали, с чего начинать спасение. Это было в 1967-м…
И вот теперь снова вижу Анну Герман, слышу ее песню «Спасибо тебе, мое сердце», и мне самому хочется сказать ей: «Спасибо, что Вы оказались сильнее несчастья и вновь нам поете». И я действительно говорю ей примерно это, уже за кулисами, когда закончилось первое отделение и есть возможность полчаса спокойно побеседовать.
– Как Вы себя чувствуете?
– Сейчас уже все страшное позади. Мое положение было отчаянным – и с физической, и с психической стороны. Ведь очень долго оставалась без памяти, не могла сказать ни слова. Пять месяцев лежала «замурованной» в гипс до самого носа, еще пять – полная неподвижность без гипса. Два итальянских госпиталя и три польские больницы старались вернуть меня к жизни. Было неясно, срастутся ли кости, смогу ли ходить. Через два года начала упражнения с памятью – ведь я не помнила ни одного текста песни. Потом попыталась петь – тихо-тихо и совсем недолго. На большее сил не хватало. Лежа дома, стала впервые сама сочинять музыку. Сочиняла без рояля, в голове. Друзья потом ее записывали. Первую песню, которая называется «Судьба человека», написала на слова Алины Новак. Теперь у нас с Алиной уже есть долгоиграющая пластинка. Но до эстрады было все равно далеко. Однако специальные физические упражнения, которые я выполняла до седьмого пота, оказались эффективными. И хотя левая рука еще действует плохо и нога тоже не совсем в норме, я рискнула встретиться со слушателями. Вы присутствуете как раз на одном из самых первых концертов. Через неделю выезжаю на побережье: гастроли, прерванные четыре года назад, продолжаются.
– Теперь Вы исполняете свои песни. О чем они? Что Вас прежде всего волнует?
– На основе исторических документов мы с Алиной Новак написали несколько песен, составивших «Освенцимскую ораторию». Наша совместная самая первая работа определила и название цикла – «Человеческая судьба». Особенно дорога мне песня «Спасибо, мама». Давно мечтала о ней. Мне очень было нужно рассказать о моей маме, которая одна меня вырастила и всегда остается самым родным человеком. Попросила Алину написать текст. Обе боялись банальности, ведь столько уже пелось о мамах… Но, кажется, песня удалась. Во всяком случае, и мне, и маме нравится. В общем, пишу и пою о том, что волнует каждого. О человеческом.
Но в моей новой программе будут не только собственные песни. Наверное, сохранится «Эвридика». (Вчера на концерте поднимается на сцену старушка с цветами: «Спойте, пожалуйста, песню, в которой ветер свищет по улицам…» Конечно, не смогла отказать.) Будут мелодии и советских композиторов – Бабаджаняна, Фрадкина, Фельцмана. Фельцман специально для меня написал песню «Двое».
– Вы получили много высоких наград. А какая для Вас самая дорогая?
– Однажды в Милане проходил телевизионный конкурс. Соревновались семьи – три поколения. Например, дедушка исполнял бабушке серенаду – ту самую, которую пел в молодости. Внучка должна была разрезать торт, разложить по тарелкам и всех угостить… А между соревнованиями выступали разные певцы, и я тоже. И вот когда спела по-итальянски «Не спеши» Арно Бабаджаняна, подходит ко мне седой дедушка: «Синьора, Вы поете совсем иначе, чем теперь принято. Вы поете, как во времена моей молодости – сердцем. Сейчас же модно шумом заглушать то, что хочет сказать сердце. А у Вас это слышно. Приезжайте, синьора, ко мне на Сицилию…» Конечно, награды на фестивалях дороги, но, когда услышишь такое, словно крылья вырастают.
– За время болезни Вы, кажется, и книгу написали?
– Да, она уже вышла. Называется «Вернись в Сорренто?». После названия – знак вопроса, потому что, когда писала, было совсем не ясно, смогу ли вернуться в Сорренто, где мне раньше довелось много выступать. В книге – размышления о жизни, о песне, воспоминания о встречах.
– К нашей общей радости, Вы вернулись и в Сорренто, и в Варшаву, и в Ленинград. Когда же Вас можно наяву ждать в нашей стране?
– В июле – августе будущего года. Этой встречи сама жду не дождусь. Ведь, когда лежала в гипсе, столько добрых писем получала и из Москвы, и из Ленинграда, и с Дальнего Востока… Поэтому будущим летом хочу у вас петь не только в крупных городах, но и на самой дальней периферии, куда редко попадают заграничные гастролеры. За зиму поработаю над программой, надо собрать тридцать самых лучших песен. Мечтаю, что в Москве для фирмы «Мелодия» запишу кое-что новое (ведь моя самая первая пластинка родилась именно там). Очень стремлюсь и в Ленинград. Петь для ленинградцев – наслаждение.
Впервые на невские берега я приехала, когда там были белые ночи. После концертов каждый раз бродила по городу чуть ли не до утра… Но, признаюсь по секрету, больше всего помню ленинградское мороженое. Знаете, такой толстый круглый шоколад вокруг палочки? Нигде в целом мире такого вкусного нет!..
Начиналось второе отделение. Она стояла за кулисами и нервно теребила платочек: «Не удивляйтесь. И раньше всегда волновалась ужасно. А теперь – особенно. Теперь – все как сначала». Она шагнула на сцену – и навстречу рванулись овации. Люди были счастливы – к ним возвращалась их Эвридика.
Л. Сидоровский
Поет Анна Герман
Четыре интервью с Анной Герман
Интервью первое. Июль 1972 года.
Большой летний театр в Измайловском саду. Зрители не расходятся, ждут появления Анны.
А Анну задерживаю я. Она сидит обессиленная, облокотившись на гримировальный столик, в зеркале отражается ее совсем девичий нежный профиль и выбившиеся из подобранного «хвоста» вьющиеся золотистые и тоже усталые пряди волос. Кругом охапки цветов, собрать их у Анны нет сил.
Я вижу, как она устала, и мне неловко терзать ее расспросами.
– Анна, может быть, не сейчас… но кто знает, что будет у Вас в последующие дни?..
– Нет, давайте лучше сейчас. Я немножко отдышалась, а Вы говорите со мной как доктор, так что ничего…
Я вынимаю из сумки журнал «Польша» 70-го года с портретом Анны Герман на обложке. Очень похудевшая, в андалузском наряде, она стоит вполоборота, лихо подбоченясь, и счастливо улыбается.
– Вот этот журнал – всему виной, – говорю я. – Стоило мне прочитать статью о Вас, как я поняла, что должна видеть Вас, слышать и говорить с Вами. Но пришла я не от музыкальной редакции, а от литературно-драматической, и поэтому мой основной вопрос связан с Вашей книгой. Скажите… вот теперь, когда самое страшное уже позади, когда Вы снова вышли на эстраду, когда фактически началась Ваша вторая «рукотворная» жизнь, что бы Вы написали, если бы у Вас появилось желание и время написать вторую часть «Вернись в Сорренто?», но уже без вопросительного знака?
– Ну, тогда начать надо с того, что я жить не могу без своей любимой работы. Возвращения к ней мне пришлось довольно долго ждать, потому что, когда я выздоровела: смогла сидеть, потом ходить, потом даже гостей принимать, смеяться, петь очень долго не могла – а мне без пения совсем плохо…
И как-то принесла мне моя очень хорошая знакомая, Алина Новак, несколько своих стихотворений и предложила попробовать сочинить на них музыку – все-таки это ближе к песне, к сцене, к моей работе. Я попробовала, и получилась «Судьба человека» – 12 песен, которые я потом написала, вошли в пластинку именно с таким названием: «Судьба человека».
Ну потом я попробовала писать музыку и на слова других знакомых и друзей, и таким образом я приближалась к тому дню, когда опять можно было бы выйти на сцену.
А вообще… все мы должны строить свою жизнь сами, но жить, по-моему, намного легче, когда чувствуешь внимание и сердечность других людей… Не знаю, хорошо ли, ясно ли я выражаюсь по-русски?..
– Вы имеете в виду письма?
– Да, когда я лежала больная, удивительно, я плохо помню эти первые месяцы, даже годы, я получала множество писем. Еще в Италии мне писали, потому что я была там довольно популярна…
Из Сицилии, из маленьких городков, присылали письма, цветы, маленькие сувениры, и потом, когда я уже вернулась домой, когда стало известно, что я живу в Варшаве, в больницу стали присылать письма совсем чужие люди… Ведь я их никогда в жизни не видела, а они писали такие теплые слова, призывали меня быть бодрой, говорили, что я им нужна, то есть песни мои нужны, и это мне очень, очень помогало…
Находясь сейчас в Советском Союзе, я хочу поблагодарить тех, кто мне писал. Я выбрала для этой гастрольной поездки именно Сибирь, поскольку никогда там не бывала. Четыре раза выступала в Советском Союзе, и всегда наш путь вел на юг, в прекрасную Грузию, к Черному морю. А большинство писем я получила именно из далекой Сибири от людей, которые когда-то по радио слышали мои записи.
И я сказала себе, что, когда соберусь немножко с силами и смогу поехать в первую гастрольную поездку, попрошу, чтобы мне устроили турне по Сибири. И вот теперь мои планы осуществились.
– Наверное, такое страшное «происшествие», как Вы называете катастрофу, не могло обойтись без переоценки ценностей?.. Изменилось ли что-нибудь в Вашем отношении к миру, к людям, к сцене?
– Мир я вижу теперь иначе – наверное, просто в других красках… Композиторы мне часто приносят очень хорошие песни, с глубоким смыслом, но мне не хочется их петь, потому что они грустные, а мне хочется петь о радости жизни, о любви, чтобы люди улыбались, но, конечно, иногда и всплакнули, потому что это очень очищает душу… Но не слишком часто. Все-таки радости и смеха должно быть больше.
– Вот Вы сказали «слезы очищают душу», а могли бы Вы сказать, что на несчастьях учатся, хотя в Вашем случае «несчастье» – это, конечно, не то слово…
– Да-а, пожалуй… Чему я, так сказать, «научилась» за эти годы, – пониманию того, что для человека самое главное в жизни. Моя мама – педагог, она всю жизнь учила детей, потом студентов, больше тридцати лет… Но вот недавно оказалось, что ей необходимо оперировать глаза… Это была очень трудная операция, после нее она уже не смогла вернуться к своей любимой работе. И так как я теперь здорова, могу работать, у моей мамы фактически никаких материальных проблем нет. Она может спокойно жить в своей квартире и, казалось бы, радоваться жизни… И что же оказалось? Моя мама вовсе не так уж и счастлива. Не помогают ни экскурсии, ни театры, ни кино – страшно трудно ей найти свое место в жизни…
Так вот я хочу сказать, что человеку, конечно, очень нужна любовь близких, семейное счастье, но еще важнее найти свое место в жизни, которое даст возможность приносить пользу людям и без которого не сможешь жить. По-моему, это самое главное для того, чтобы быть счастливой.
Дело не только в том, чтобы зарабатывать деньги и жить изо дня в день, а чтобы то, что ты делаешь, доставляло радость…
Вот это я поняла за эти трудные для меня годы. Я могла бы вернуться к микроскопу, к моей профессии геолога, нашлась бы какая-нибудь другая работа, не только бродить по горам, этого бы я теперь не смогла. Но я полюбила всем сердцем свое дело, и до тех пор, пока будет можно, пока мои зрители захотят видеть и слушать меня, я буду с огромным удовольствием петь для них.
– На концерте Вы рассказывали о Леониде Телиге. Ваша песня на его слова мне очень понравилась. Но мне показалось, что Вы о чем-то умолчали… недоговорили о чем-то невеселом…
– Да, я не сказала, что он был уже болен, когда пошел в плавание, и знал об этом, но я не хотела говорить публике… Зачем? А теперь его нет…
– Вы хотели, чтобы мы тоже знали и помнили о нем, да?
– Да, конечно…
– Как он вошел в Вашу жизнь?
– Я считаю, что мне просто было подарено судьбой познакомиться с ним. Леонид Телига был мореплавателем, он обогнул земной шар на своей маленькой яхте «Опти», названной так от слова «оптимизм».
Мы познакомились довольно необычно. Отправляясь в свое путешествие, он взял с собой несколько записей, чтобы там, в океане, послушать иногда любимую музыку. И среди других оказалась песня в моем исполнении. Очень красивая песня, которая говорит о том, что, где бы ты ни был, всегда вернешься домой, самым, самым маленьким судном, самым последним трамваем ты всегда вернешься к себе домой.
Песня называется «В дождь и бурю», а он назвал ее «Тоска». Я даже не знала, когда мы встретились, о какой песне он говорит: «Я все слушал твою „Тоску“ там, в чужих океанах и морях».
В журнале «Панорама», который выходит в Силезии, было напечатано интервью со мной, когда я возвращалась, так сказать, к жизни, и в той же «Панораме» рассказано и о его путешествии. Он прочел этот журнал где-то далеко, в Южной Африке кажется, в польском посольстве, и, таким образом узнав о моей судьбе, прислал мне очень сердечное, теплое письмо, в котором писал о тех трудностях, которые встречаются ему в пути. «У тебя тоже трудный рейс – к здоровью, – писал Телига, – но держись, а когда я вернусь домой, то мы обязательно встретимся».
Я ответила, письмо застало его где-то очень далеко, и после окончания рейса они с женой действительно приехали к нам в Варшаву.
Мы сразу подружились, потому что это был человек, которого просто невозможно не полюбить, такой он был веселый, полный энергии, он вообще был очень добр к людям… У него была очень простая жизненная философия, о которой я часто вспоминала во время своей болезни. Такая же, как в моей песне, которую он взял с собой. Он не ждал, когда придет счастливый день, а радовался любым мелочам. Каждый день он находил что-то, что доставляло ему радость, и был счастлив. Это давало ему силы встретить следующий день.
Ведь это плавание мог совершить только такой человек, как он. У него не было больших средств, его яхта «Опти» была крошечных размеров, просто скорлупка ореха, а когда ему не хватало денег, он останавливался в портах, писал акварели, продавал их и таким образом двигался вперед.
Мечта у него действительно была большая и энтузиазма много. Я все это не раз вспоминала потом, когда частенько, не скрываю, мне бывало очень тяжело, потому что довольно долго пришлось ждать полного выздоровления…
И вот теперь я бы хотела сказать, зная, что в эту минуту, когда мы с вами беседуем, есть очень много людей, у которых какое-нибудь несчастье, которые лежат в больницах: «Не унывайте и не отказывайтесь от помощи и сочувствия близких, потому что с ними легче победить и болезнь, и несчастье, и просто пасмурные дни, которые у каждого человека бывают. По-польски говорят: „Глова доигура, кохане!“ Выше голову, друзья!»
Интервью второе. Лето 1974 года.
– Анна, в этом году у Вас довольно необычная программа, не только потому, что Вы приехали с новыми актерами, но и по построению и по настроению…
– Мы все очень радовались поездке, но времени для подготовки у нас было мало, потому что этот год проходит под знаком тридцатилетия Освобождения Польши и мне хотелось, чтобы в нашей программе это нашло отражение. Поэтому в моем выступлении есть маленькая часть «Воспоминание», где я пою две песни о войне. Была еще одна песня, но мне показалось, что это уже много, и я остановилась на двух.
– Каких актеров Вы в этот раз привезли?
– Они из Варшавского музыкального театра. Может быть, наша программа не столь уж модная, не в стиле шумных «шоу», но иногда слушатели совсем не прочь посидеть в тишине и немножко отдохнуть. Поэтому моя совесть чиста.
– Еще раньше я обратила внимание на Ваше чуткое отношение к молодым коллегам, к их творческой судьбе. Что Вы считаете нужным воспитать в молодом актере в первую очередь, какие качества исполнителя и человека?
– Нельзя выходить на сцену внутренне не подготовленным – за это, по-моему, в тюрьму надо сажать! (Смеется.) Мне кажется, что моим молодым коллегам, которые уже работают в театре, знакома дисциплина, пунктуальность, и хорошо то, что они молоды и к работе относятся с большой сердечностью, у них все впереди, им пока ничто не надоело, это очень хорошо. И еще важно, чтобы в ансамбле была дружеская атмосфера. Это, к счастью, у нас есть.
– Вы имеете возможность выбирать партнеров или это случайные люди, которых Вы просто объединяете?
– Я иногда могу пригласить кого-то в наш коллектив, но не всегда те, кого я выбрала, свободны, такова уж наша жизнь, все спешим, у всех свои планы, и иногда трудно все совместить.
– Я, собственно, пытаюсь выяснить, что Вы считаете ведущим, главным качеством эстрадного артиста, о чем Вы заботитесь сами (хотя это очевидно, когда Вас слушаешь), от чего Вы пытаетесь предостеречь молодых актеров и что стараетесь в них пробудить, ведь Вы – педагог, это бесспорно, но как Вам удается так искусно, незаметно, оказывать свое влияние… Они, наверное, и не замечают ничего, им кажется, что всего этого они достигают сами…
– Теперь, когда я пою все второе отделение, я еще сильнее чувствую, что выйти на эстраду – это огромная ответственность. Выйти и спеть две, три, четыре песни, когда участников много, конечно, тоже ответственно, но все же это совсем другое дело.
Сделали свое дело хорошо – и пожалуйста следующий. А тут надо с начала до конца всех заинтересовать, каждому что-то подарить, чтобы зрителю не захотелось встать и уйти.
И дело здесь, по-моему, не только в том, чтобы хорошо, правильно спеть песню, все ноты чисто вытянуть, текст не забыть. Но надо еще выйти к людям с большим чувством симпатии, невзирая на то, примет тебя зал или нет. Ведь вообще-то лучше давать, чем брать, правда?
Выйти и отдать все, все, что можно. И стараться быть самой собой, никому не подражать, чтобы быть естественной, потому что двух-трех человек в зале, может быть, и можно обмануть, но когда их четыре тысячи или триста, то ведь большинство хочет правды и честности. Это, по-моему, самое главное.
– Анна, прошлый раз Вы неожиданно явились в образе конферансье, причем очень остроумного, милого и так легко поддерживающего контакт с людьми, хотя специально драматическому мастерству Вы, кажется, не обучались. Теперь Вы играете и поете одновременно. Как у Вас возникли такие мысли? Появляются какие-то новые возможности, новые партнеры – и они подсказывают новые способы выражения?
– Конферансье я, конечно, не настоящий. Говорить, а потом петь очень тяжело. Это все вокалисты знают. В опере даже, кажется, запрещается разговаривать перед выходом на сцену. Но мне показалось, что это очень заманчиво, возникает тесный контакт между слушателями и исполнителем, поэтому два года тому назад я попробовала обратиться с несколькими теплыми словами к своим слушателям, и это себя полностью оправдало. И, несмотря на то что мне в тот раз было очень трудно вытянуть все piano, я подумала и сейчас: «Уж если тогда получилось так хорошо, нельзя же теперь сделать иначе… Кто-нибудь холодно, официально перескажет содержание песни, а потом я выйду и спою ее». Так что и в этот раз я пыталась сделать все сама, и очень рада.
А вообще такое переключение – большая проблема. У меня после того, как говорю, страшно высыхает горло, и потом петь трудно. Я все время думаю, можно ли мне выйти со стаканом воды на сцену или нельзя. До сих пор я еще не решилась на это, как-то неудобно… Но я еще подумаю. Потому что на то, чтобы со сцены бежать за кулисы, глотнуть воды и опять вернуться, уходит много времени.
А дуэты я очень люблю, но раньше у меня то не было подходящей песни, то композиторов, то сопровождающих, то музыкантов, а вот теперь все появилось и можно было попробовать.
Песню «Лучше вдвоем» я впервые спела с автором музыки у нас на телевидении и потом узнала, что и у вас в Советском Союзе ее показали. В Польше ее так полюбили, что я попросила нашего гитариста спеть ее со мной. У него очень хороший голос, бас, и песня, по-моему, получилась. Слушателям она нравится, и я на каждом концерте повторяю ее.
И вообще, мне очень приятно под конец программы исполнить дуэты с моими молодыми коллегами и потом уже, в финале, выйти вместе со всеми попрощаться с публикой…
Интервью третье. Лето 1975 года.
Уютный маленький двухместный номер Октябрьской гостиницы.
Анна обедает. «Поделимся?» – я благодарю и завожу речь о главном для нас – конечно же, о песне.
– Проблемы поиска собственной манеры исполнения у меня никогда не было. Стыдно сказать, но я никогда не училась пению, а может быть, и не стыдно, потому что у меня другая профессия, я все-таки не бездельничала.
Я пою только те песни, которые мне по душе, которые не противоречат моему характеру. По-моему, если бы я включила в свой репертуар что-нибудь другое, не свойственное мне, у меня бы просто ничего не получилось и с этим нельзя было бы выйти на сцену…
– Вы были во многих странах и слышали множество певцов. Кто из них Вам наиболее интересен? За что, по вашему мнению, можно уважать, любить исполнителя, видеть в нем своего рода пример, образец?
– В своей книжечке я вспоминаю о встрече с Конни Фрэнсис. Она мне всегда очень нравилась, ее пение, голос, репертуар. Может быть, это не изысканная лирика, а просто песни, которые трогают – простые, нормальные… про любовь к милому, к матери.
Я познакомилась с ней на фестивале в Сан-Ремо, и она оказалась хорошей, веселой, вдумчивой девушкой. Было очень приятно видеть, обнаружить, что она не «звезда» в негативном смысле, а просто хороший человек.
– Что Вы считаете главным достоинством настоящего исполнителя?
– Это не простой вопрос… Я себя неловко чувствую, когда меня спрашивают о таких серьезных вещах (смеется)… Мне кажется, что нужно на это как-то очень умно ответить, хотя… По-моему, пение – такая же работа, как другие. Надо делать все так, чтобы в результате получилось хорошо. Выучить слова, проработать мелодию. Иногда и платье самой сшить. Выйти на сцену, духовно подготовившись к этому событию. Инженер создает необходимые предметы, и мы не всегда в состоянии понять и оценить его творчество, его никто не видит, никто ему цветов не дарит, никто не кричит громко: «Ура!», «Браво!»
Или врачи, которые вернули мне здоровье. Даже сапожник, который делает хорошие туфли. Ведь все в жизни важно! И по-моему, надо просто хорошо делать свое дело. И все! И хватит! (Смеется.)
– После Ваших выступлений в Польше Вы располагали собой и своим временем, и вдруг, после всех достижений, Вы стали принадлежностью мирового «товарооборота»…
– Да, конечно. Но после моего, так сказать, «итальянского приключения» ко всему, что связано с гастролями, я отношусь осторожнее. Я только два года назад и вот в этом году подготовилась к большому турне по Советскому Союзу – только потому, что это доставляет мне искреннее удовольствие.
Советские слушатели очень музыкальны, и нам очень приятно было готовить программу, а потом почувствовать, приехав сюда, что мы оправдали и надежды слушателей. Поэтому я приезжаю в Советский Союз третий раз с большой программой на долгие два месяца. Таких больших турне у меня не бывает. Только однажды на месяц мы выехали в Канаду и Америку с программой польского радио, обычно же я выступаю по телевидению, по радио, время от времени в концертах дома, в Варшаве.
Слишком жесткий, строгий режим для меня уже непосилен, нужно иметь очень много сил и энергии, чтобы оставаться в форме. Если бы можно было спеть песню и исчезнуть, но ведь это невозможно. Профессия такая, что надо и со зрителями встречаться, что, конечно, очень приятно, но отнимает и время, и здоровье.
Я выступаю не очень часто, иначе у меня просто не хватит сил жить и радоваться жизни. Потому что страшно уставать так, как после вчерашнего концерта, когда зрители в финале неожиданно стали скандировать: «Эвридика!» Уйти было нельзя… Я испытала и восторг, и страх, и удивление.
Я спела «Эвридику», которой не было в программе. Все прошло прекрасно, но напряжение в такие моменты столь громадное, что я потом себя чувствую как шахтер после 12 часов работы. Как счастливый шахтер!
Она засмеялась и вдруг спохватилась:
– Но мы все говорим, говорим, а нам скоро и на концерт ехать. Я даже на часы не смотрю, а чувствую это по какому-то внутреннему волнению. Надо и помолчать немного. Я оставлю Вам свою книжечку, я ее написала, когда никуда не надо было спешить, и там, конечно, больше рассуждений о фестивалях и обо всем. Если что-нибудь Вас интересует, возьмите оттуда.
Так я впервые получила в руки только что прочитанную вами книгу Анны Герман «Вернись в Сорренто?».
Интервью четвертое. 31 декабря 1979 года.
Несмотря на две телеграммы, которые Анна дала мне еще из Польши, одну за другой: «…буду в Ленинграде январе», «все будет хорошо», когда она приехала 26 декабря, на первый же мой звонок в гостиницу «Европейская» я услышала: «Анна очень просит ее извинить, но говорить она не может».
То же самое повторялось и все последующие пять дней. Оказалось, что Анне стало плохо уже на первом гастрольном концерте в Прибалтике, то же случилось и в Ленинграде. Вставал вопрос о прекращении гастролей, но каким-то сверхчеловеческим усилием Анна заставляла себя подниматься, более того – между концертами она встречалась с композиторами и разучивала новые песни.
Казалось, она знает, что в Советском Союзе ей больше не бывать, что эти гастроли – последние.
Внезапно вечером 31 декабря раздался телефонный звонок, и голос Анны произнес: «Лия, приезжайте в гостиницу к одиннадцати часам, может быть, сегодня что-нибудь получится». Звонила она с концерта.
Когда я приехала, Анна ходила по огромному номеру, потирая виски и повторяя: «Голова болит, голова… Простудилась, наверно», а во взгляде было другое – застывший, недоуменный вопрос.
На часах было 23 часа 10 минут 31 декабря 1979 года. Думая только о том, чтобы скорее ее освободить, я принялась за дело…
– Анна, если Вы не против, сначала несколько вопросов радиослушателей, а потом я только буду называть песни, которые в какой-то мере кажутся мне этапными, а Вы, если согласитесь с моим выбором, расскажете все, связанное с их появлением в Вашем репертуаре.
Помните, Вы как-то сказали: «Песни как люди, у каждой своя история». Сейчас, под Новый год, хочется оглянуться назад, подвести какие-то итоги, правда?
– Да, действительно, я впервые встречаю Новый год не дома, не с близкими. Но это тоже очень интересное событие, оно принесло мне новые впечатления… я увидела людей, которые нашли время прийти на наш концерт под самый Новый год. Вы хотите, чтобы я рассказала о своих главных песнях. Ну что ж, Вы правы, ведь 80-й год – круглая дата, и можно было бы подвести некоторые итоги. Я это сделаю с радостью, потому что песни, которые я когда-то полюбила, у меня в памяти до сих пор. Я охотно повторяю их на своих концертах, да и сама слушаю…
– Евгений Птичкин, слова Роберта Рождественского. «Эхо».
– Два года назад я была на записи в Москве и познакомилась с этим замечательным композитором. Он показал мне тогда еще никому не известную песню «Эхо любви». Кинорежиссер Евгений Матвеев тоже был на записи и предложил записать эту песню именно для фильма.
Я была очень польщена – спеть эту песню с Большим симфоническим оркестром было для меня большой честью.
Очень приятно отметить, что, когда песня хороша, ей не нужна ни реклама, ни пластинки. Она одинаково нравилась публике и когда я просто выходила и без объявлений пела «Эхо любви», и потом, когда я объявляла, что это песня из кинофильма «Судьба». Ну правда, тогда сразу раздавались аплодисменты.
– «Песня». Музыка Анны Герман, слова Риммы Казаковой.
– Конечно, я прежде всего пою песни, которые пишут настоящие композиторы, но иногда я осмеливаюсь написать музыку на стихи, которые меня особенно волнуют. Одной из первых я написала песню на слова Риммы Казаковой. Этот текст мне подарил в Варшаве корреспондент, он показал мне стихотворение на клочке бумаги и сказал: «Подумайте, Анна, это очень трогательные, правдивые и красивые стихи».
Мне не пришлось долго думать. У меня сразу возникла мелодия, такая же простая, идущая от сердца, как и сами слова. В этой песне нельзя блеснуть голосом, надо просто петь с душой. Так возникла песня, которую я люблю исполнять, иногда я просто жду момента, чтобы спеть ее. Зрителям она запомнилась как «Небо голубое», и, когда просят, говорят: «Спойте нам про небо голубое».
– «Танго любви», Доменико Модуньо.
– А-а, это воспоминание об Италии, о моей первой поездке, когда я выступала и записывала программу на телевидении с Доменико Модуньо.
– Арии из оперы Доменико Скарлатти «Фемида на острове Скирос».
– Это единственная классическая пластинка в моей жизни. Я ее записала благодаря профессору Тадеушу Охлевскому. Это был очень умный, очень добрый человек, который, посетив один из моих эстрадных концертов, потом зашел ко мне и сказал: «Вы знаете, у Вас голос поставлен от природы, и именно такая постановка голосов была у тех, кто исполнял камерную музыку».
Я побаивалась, поскольку я никогда такой музыки не пела. Думала, что это возможно только после пяти-шести лет учебы, но профессор пригласил меня к себе домой, и мы стали разучивать эти трудные для меня арии. Мелодическая линия мне показалась сложной, но, оказывается, все это можно преодолеть. Потом я стала репетировать с ансамблем и вскоре записала пластинку. Профессор остался мною доволен. Я очень счастлива, что у меня есть пластинка на память об этой интересной работе.
– А теперь немножко из почты радио. Слушатели спрашивают, почему Вы так часто обновляете свой репертуар, в каждый приезд почти полностью новая программа. Ведь таким образом множество песен, исполненных Вами, остается «за кадром», так как число посетителей концертов ограниченно?
– Я заметила, что на наши концерты часто ходят одни и те же люди. Некоторые почти на каждом концерте бывают, а иногда даже и в другой город за нами приезжают. Это очень приятно, но это обязывает меня привозить всегда новую программу, хотя некоторые песни повторяются. Они нравятся публике, и их надо петь.
– Тут два несколько перекликающихся вопроса, но первый я предельно сокращу. Слушатели отмечают, как Вы «расцветаете», оставаясь с залом один на один, без партнеров, без музыкантов, ну, с одним аккомпаниатором в крайнем случае…
– Раньше, до выступлений с сольными концертами, я участвовала в больших программах, где было много солистов и каждый пел 10–15 минут. И каждый из нас надеялся дождаться такого момента, когда сможет остаться со слушателями один на один. Поэтому я стараюсь, чтобы эти два часа были приятны, разнообразны, чтобы зрителям было интересно со мной.
Я просто делаю свое дело, которое считаю самым важным в жизни… И хочу делать его как можно лучше, а о результате может судить каждый человек в зале.
– О том, как дорого Вам прямое общение с Вашими слушателями, мы как-то уже говорили, но ведь, наверное, так непомерно перегружая голосовые связки, Вы хотите донести до людей что-то очень важное для Вас, дать им что-то такое, чего часто не может дать в силу своей аллегоричности песня?
– Да, я рассказываю о некоторых встречах, событиях в надежде, что, может быть, кто-нибудь в этом что-то для себя откроет. Каждый хочет быть счастливым, каждый ищет свое большое или маленькое счастье, и очень интересной в этом плане была для меня встреча с нашим известным мореплавателем Леонидом Телигой.
В свой первый приезд я вам уже рассказывала о нем, но потом в трудные минуты жизни на собственном опыте много раз убеждалась в том, что его жизнеутверждающая философия может принести облегчение. Поэтому и теперь я снова вспоминаю о нем.
Потом мы еще встречались, совсем незадолго до того, как его не стало, в санатории под Варшавой, и он снова сказал, что каждый человек хочет счастья, это естественно, но можно быть постоянно счастливым, если научиться замечать в наших буднях мгновенья счастья…
Птица знакомая прилетит на подоконник – мы ее приучили, и она знает, что здесь живет друг, что сюда можно прилететь за помощью.
Или если мы суетимся, бежим куда-то, и вдруг нам кто-то совсем незнакомый улыбнется, или у нас сегодня просто ничего не болит – это тоже большое счастье. Сказал, что у счастья нет ни прошлого, ни будущего, а есть только настоящее, которое длится лишь мгновение. Конечно, очень трудно следовать этому, но можно попробовать. И вообще, можно просто радоваться тому, что мы живем на нашей прекрасной земле…
– Романс «Гори, гори, моя звезда».
– Я считаю, что у каждого человека есть своя звезда. Может быть, любовь, работа, материнство… И нужно делать все, чтобы свет ее не мерк. Моя звезда – песня…
– А на прощание снова название песни: «В солнечный день».
– «В солнечный день» – одна из песен, записанных на моей первой пластинке. Я любила эту песню исполнять, потому что она ритмичная, веселая. В Польше она была очень популярна. Мне хотелось бы, чтобы Вы услышали на прощание что-нибудь веселое – про любовь, про мальчика, который шел к своей Анне, да так и не дошел, потому что Анна ушла совсем по другой дороге.
Было без четверти двенадцать. Наперекор своему обычаю провожать посетителей только до двери, Анна вышла за порог и долго махала мне вслед, пока я чуть ли не бегом одолевала длинный коридор.
Наконец поворот, я оглядываюсь, и так и вижу ее до сих пор с приветственно поднятой рукой в глубине сужающегося коридора, в дверях, за которыми она вот-вот скроется навсегда…
Л. Спадони
Анна Герман: «В Москве я как дома…»
С Анной Герман я встретилась в концертном зале «Россия», где только что закончилось ее выступление.
– В Москве я как дома, – улыбается Анна Герман. – Дружба наших народов вечна, и вечно влечение наших народов к искусству друг друга и, конечно же, к песне.
– Вас называют певицей одной темы?
– Да. И эта тема – любовь. Мы ведь все любим, или ждем любви, или ищем ее. И в своих песнях я пою о любви человека к своей земле, о любви женщины к мужчине, ребенку. Я знаю, что у вас в стране популярна в моем исполнении песня, которую Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов написали специально для меня. Эта песня – «Нежность». Она о любви. Но вот, будучи в Звездном городке среди космонавтов, я обнаружила, что это самая «космическая» песня. Так что видите, какие широкие просторы у моих песен!
– Говорят, что когда-то Вы собирались стать оперной певицей?
– Но профессор музыки, бывшая оперная примадонна, сказала: «Доченька, ничего у тебя не выйдет. Запомни, что самые чувствительные существа на свете – мужчины. И при твоем росте почти в 190 сантиметров ни один тенор не захочет стоять рядом».
И вот с тех пор, чтобы не смущать мужчин, я пою на эстраде одна, хотя дома мне трудно обойтись без моего мужа и моего маленького сына, которых зовут одинаково – Збышек.
– Что Вы цените в искусстве эстрадного певца более всего?
– Мне кажется, что эстрадный певец – самая популярная, самая демократическая фигура в современном искусстве. Поэтому он должен быть личностью. Личностью, которой есть что сказать людям, а если ему нечего сказать, то тогда, вероятно, и не стоит выходить на сцену. Мне нравятся советские певицы Алла Пугачева, София Ротару именно за то, что они знают, что волнует современного человека.
Быть на эстраде сегодня очень сложно. На ней остаются долгие годы только те, кто действительно может выразить чувства и мысли нашего современника. Это главное. А манера, стиль исполнения могут быть самыми разными…
– Ваш стиль можно назвать очень сдержанным.
– Я веду себя на эстраде так, как, мне кажется, я должна себя вести. Я певица лирическая. А вот Алла Пугачева, скорее, мой антипод, которым я искренне восхищаюсь. Она не скованна и, кажется, ничего не боится на эстраде. Я, пожалуй, никогда бы не сумела смеяться так, как она смеется в «Арлекино»…
– Вероятно, Вам известно, что в нашей стране Вы пользуетесь большой популярностью. Трудно ли нести на себе это бремя?
– Это непросто. Думаю, главное при этом – сохранить свое человеческое достоинство.
«Поет Анна Герман», – объявляет ведущий концерта. И на эстраду поднимается голубоглазая, золотоволосая женщина, и, будто ручеек, льется ее светлый, чистый голос. Она словно размышляет – о себе, о такой непростой жизни вокруг нас, о любви, и столько в этой интонации чистоты и доброго, мягкого юмора, доверительной улыбки, что каждому в зале кажется, что она обращается только к нему. В этом нетрудно найти истоки огромной популярности певицы у наших слушателей.
М. Истюшина
Слово об Анне Герман
Умерла Анна Герман… Еще долго, слушая чарующие звуки ее голоса, мы будем спрашивать себя: неужели это правда? До чего же жестоко и несправедливо – уйти из жизни так рано, не допев стольких песен, оставив самого любимого своего слушателя – сынишку совсем маленьким.
Анна Герман прожила жизнь короткую, трудную и блистательную. Кто видел прославленную певицу только на телевизионном экране или в свете эстрадной рампы, покупал пластинки или читал восторженные рецензии о ее выступлениях, у того может создаться представление о «сладкой жизни» звезды, которой чужды обычные житейские заботы, тревоги, радости. Нет ничего более далекого от Анны Герман, чем такое о ней представление.
Помню, как в Варшаве поначалу долго не мог разыскать прославленную певицу: дома у нее в скромной кооперативной квартире на далекой окраине не было телефона. Праздниками для друзей Анны становились генеральные репетиции ее концертов перед гастролями за границей. Им сопутствовала какая-то особая, радостная и приподнятая, атмосфера ожидания встречи с прекрасным. Вела эти концерты обычно сама Анна, остроумно и весело. И только посвященные знали, чего ей стоили эта легкость и непринужденность. Занята она бывала безмерно. Достать репетиционный зал, сколотить инструментальный ансамбль – своего у Герман не было, отобрать репертуар, договориться с друзьями-режиссерами о постановочных делах – свете и тому подобном, написать конферанс – для одного человека совсем не мало. А еще дом, семья… Кстати, в первый свой приход к Герман я застал ее только что закончившей стирку. На балконе трепетали разноцветные концертные наряды – к слову, пошитые самой певицей.
– Сама придумываю, крою, сама шью, – просто сообщает певица. – А что делать? Жизнь заставила. Естественно желание публики видеть артистку всегда хорошо одетой. До остального ей – и она, разумеется, права – дела нет. Знаете, что значит зависеть от модных портних? Нет, лучше рассчитывать на себя.
Артистка жаловалась, что конферанс писался трудно – явно не хватало драматургического стержня, как, к примеру, в прошлой программе, где был рассказ о ее жизни. Но по тем отрывкам, которые мне довелось услышать, можно судить, что это очень остроумный и веселый текст, пронизанный яркой индивидуальностью певицы. Кстати, она впервые сама будет вести программу.
С «Танцующих Эвридик» – песни, которую меломаны не могут забыть и по сей день, – началось ее бурное восхождение на эстрадный Олимп, полоса непрерывных триумфов. Награды на фестивалях в Ополе и Сопоте, зарубежные гастроли в ГДР, Советском Союзе, США, Канаде…
Три года триумфов – и вдруг, как гром среди ясного неба, страшная весть об автомобильной катастрофе в Италии. Три бесконечно долгих года врачи сначала боролись за жизнь Анны, потом за ее здоровье, учили снова сидеть, стоять, ходить… Есть потрясающий фильм о возвращении Герман к жизни, на сцену.
Все приходилось начинать заново, в том числе и пробовать голос, чего Анна в первый раз не смогла сделать – так разволновалась. Ее мужество и терпение, упорство и веру иначе как подвигом не назовешь.
Анну Герман и в искусстве, и в жизни – впрочем, для нее они были слиты воедино – отличали стойкие нравственные и эстетические позиции, неподвластные крикливой моде и конъюнктурным спекуляциям. Она всегда и во всем оставалась верна своим убеждениям и друзьям.
К своей профессии Герман относилась очень серьезно, подчиняя ей все прочие занятия и интересы. Гастроли для нее были не только отрадой, но и тяжелейшей работой. В день концерта она уже не выходила из гостиничного номера: сосредоточивалась, повторяла тексты, словом, входила в атмосферу вечернего представления. Но она же могла быть и заразительно веселой.
Всю жизнь Анна Герман занималась главным и любимым делом – пела. Природа подарила ей идеально поставленный, красивый, сильный голос необыкновенного тембра. Услышав раз, его уже невозможно забыть.
Меньше известна композиторская деятельность Герман. Сама Анна Евгеньевна, как я ее называл на привычный лад, обычно прекращала разговор на эту тему.
– Что о ней говорить, – возражала она, – если у меня нет музыкального образования. Моя музыка только сопровождает хорошие стихи. Так стали песней строки Риммы Казаковой о юных солдатах, героях минувшей войны.
И все-таки, думается, Анна Евгеньевна была излишне строга к себе. В числе ее произведений музыка к «Освенцимской оратории», посвященной роковой судьбе детей Освенцима, появившихся на свет в концлагере, трагедии их матерей.
Анна Герман внесла большой вклад в пропаганду советской песни в ПНР, в развитие польско-советской дружбы. Ее очень любили в нашей стране. Это была взаимная любовь. Она приезжала к нам, никогда не забывала, что в Москве вышла ее первая пластинка. Герман получала массу писем, дружила со многими из своих корреспондентов. Среди них профессор сибирского Академгородка и продавец московского магазина грампластинок, редактор фирмы «Мелодия» и школьница из Северодонецка… В одном из писем, с ним меня познакомила Анна Евгеньевна, говорилось: «Ваши песни не оставляют никого равнодушными. Они сразу же находят дорогу к сердцам людей, они трогают своей искренностью, мелодичностью, доверчивостью. Чувствуется, что Вы не только влюблены в песню, но жизни себе не представляете без нее». Уверен, это мнение разделяют множество почитателей солнечного таланта польской певицы.
Нет Анны Герман. Но осталась светлая память о чудесном человеке и замечательной певице. Эта память прежде всего в ее песнях, которым еще звучать и звучать…
Н. Ермолович
«Мое сокровище – симпатии советских слушателей»
В один из январских дней 1983 года брел я по заснеженным улицам старой Москвы с небольшим свертком в руках: в свертке было несколько банок сгущенки, масло облепихи и письмо Анне Герман. Эту скромную посылку еще летом должен был завезти в Варшаву мой знакомый. Но из Польши пришло известие о смерти Анны. И вот спустя несколько месяцев я возвращал непереданную посылку ее отправительнице Анне Николаевне Качалиной.
Они познакомились в середине шестидесятых: восходящая «звезда» польской эстрады Анна Герман и редактор студии грамзаписи фирмы «Мелодия» Анна Качалина. Обе высокие, худощавые, стройные, даже чуточку похожие внешне друг на друга. Позже я часто думал: что так поразительно сблизило эту удивительную польку, уже привыкшую к аплодисментам, к славе, свету юпитеров, огням рампы, вспышкам фотоаппаратов, и эту энергичную русскую женщину, тоже активно работающую в искусстве, но всегда остающуюся за кадром, вдали от шумной славы кумиров? Просто взаимное притяжение? Вряд ли… Скорее всего, отношение к жизни, к искусству, свое видение мира, свое понятие о чести, долге, человеческой красоте. Для подавляющего числа слушателей и зрителей, воспринимающих спектакль или концерт как праздник, естественно, за занавесом остается черновая работа – творческие и нетворческие споры, муки переживаний, неудачи, сомнения… А само слово «музыкальный редактор» звучит как-то туманно, расплывчато, иногда просто непонятно. Меж тем от музыкального редактора, от его вкуса, образованности, бескорыстия зависит очень многое: и репертуар, и манера исполнения, и оркестровка той или иной песни, и звучание оркестра… Одним словом, чему суждено родиться – пустой однодневке, не трогающей душу и сердце, или настоящему произведению, остающемуся в памяти поколений, заставляющему размышлять, сопереживать, грустить или радоваться…
Итак, они подружились в середине шестидесятых, когда Анна Герман потрясла весь музыкальный мир своим исполнением «Танцующих Эвридик» и приехала в нашу страну, чтобы выступить в сборном концерте, вовсе не подозревая о том, как много ей эта поездка даст. Советский Союз Анна считала своей второй родиной. В узбекском городе Ургенче прошли ее детские годы, трудные годы, опаленные войной, когда и дети понимали, что такое настоящее мужество, доблесть, человеческое участие и доброта. Она любила нашу страну самозабвенно, преданно, стойко и убежденно.
А. Качалина оказалась тем музыкальным редактором, который очень точно сумел распознать сущность огромного музыкального дарования Анны Герман, соразмерить ее творческий поиск, ее неутолимую жажду петь… Она как бы подсмотрела, а потом и помогла раскрыть огромный запас интеллигентности, задушевности, обаяния, мудрости и благородства в совершенно новом и необычном для Анны Герман того времени репертуаре – цикле советских песен… В них есть и любовь к нашим людям, к нашей земле, и мягкость, и глубина, и такт, и душевный порыв.
…Я сижу в гостях у Анны Николаевны, перебираю уже тронутые временем фотографии, читаю трогательные до слез письма Анны Герман, написанные в разное время, в разном настроении. И тогда, когда ей светила звезда удачи, и тогда, когда судьба оказывалась к ней беспощадной. Вот строки письма из Италии, написанные незадолго до автомобильной катастрофы, вычеркнувшей из ее жизни три обещавших быть счастливыми года: «Знаешь, милая, до чего мне здесь грустно. Никто не поймет и не поверит. Люди другие и сердца – тоже. А чаще их совсем нет. Очень бы хотелось приехать к вам, к тебе, погреться. Уж совсем я замерзла от их улыбок». А Италия принимала ее в то жаркое лето 1967 года так, как умеют принимать итальянцы зарубежных «звезд» первой величины. Газеты пестрели фотографиями Анны Герман, журналисты подстерегали каждый ее шаг, восторженные поклонники белокурой польки днями и ночами простаивали у билетных касс… А она писала в далекую Москву: «Мне жизнь „звезды“ совершенно не по сердцу». И никто не мог упрекнуть ее в ханжестве, позерстве, самолюбовании. Ее душа была далеко от красот Италии, от вздорных и самолюбивых кумиров эстрады, выступавших вместе с ней в концертах и ревниво посматривающих на восхитительную иностранку. И Анна писала в Москву: «Москва – это уже не чужой, далекий город, с тех пор как мы подружились. В Москве живет Анечка Качалина, думаю про себя, не просто подруга, а почти сестра, родной человек».
Беда пришла 27 августа 1967 года. Водитель не справился с рулем. И машину на скорости сто шестьдесят километров в час вынесло в кювет. И без того не отличавшаяся крепким здоровьем, Анна оказалась в трагической ситуации. Врачи ставили безнадежные диагнозы. И поражались ее выносливости, умению переносить жесточайшие физические страдания. И восхищались ее мужеством.
Я перечитываю письма Анны Герман, написанные два года спустя после катастрофы, письма ее матери, близких друзей и именно теперь, как никогда раньше, отдаю себе отчет в силе ее духа, ее жизнелюбии и отваге. Анна Герман не мыслила своего физического существования без песен, без служения искусству. Да и боролась за свое выздоровление она не только потому, что просто хотела жить, двигаться, гулять, дышать. Прежде всего и больше всего она мечтала снова петь.
И был еще один человек, который свято верил в исцеление Анны Герман, в ее возвращение. Это была А. Качалина, которая в те суровые и мучительные дни и месяцы готовила для польской певицы новый репертуар, которая нашла для нее одну из самых любимых и дорогих и всем нам, и Анне Герман песен – «Надежду» А. Пахмутовой и Н. Добронравова…
Вот одно из писем, адресованных А. Качалиной, когда кризис уже миновал: «Милая Анечка, не присылай мне больше пантокрин. Знакомый доктор сказал, что нельзя пить его как компот, надо иногда и перерыв делать. Я себя все лучше чувствую, только вот колено и руки заупрямились. Но пою, пою уже почти как прежде. Правда сил не хватает, и после двух-трех песен я устаю, как будто пол мыла. А ведь прежде я могла день и ночь петь. Старею, что ли?» А вот еще письмо: «Куда ты собираешься на Новый год? Где ты будешь его встречать? В каком платье, Анечка? Теперь, когда я еще не могу даже думать о том, чтобы куда-нибудь „пойти“, мне вдруг очень интересно, как мои друзья будут веселиться».
Да, самой ей было не до веселья, будущее выглядело туманным. До концертов, если им только суждено состояться, еще далеко. К тому же ко вчерашней «звезде», потрясшей музыкальную Италию, пришли бедность и нужда. Небольшие сбережения быстро истощились, муж зарабатывал немного, помогала мама. Пришлось ограничивать себя во многом. Но Анна от природы была оптимисткой. Подлинное счастье она видела в труде, в песнях, в любви к близким людям, в искренней и бескорыстной дружбе. «Я очень много работаю, – писала она А. Качалиной, – работаю, песни сочиняю, пластинки записываю, варю, убираю, полы мою».
Записывать пластинки – это, конечно, здорово, но это еще не выступления в концертах. А Анна боялась встречи со зрителями, боялась, что вдруг собьется, забудет слова или, еще хуже, закружится голова и она упадет. И все это: и травмы физические, и не менее тяжкие травмы нравственные, психические – надо было преодолевать. «Анечка, самое плохое позади. И теперь меня уже ждут в 1970 году самые хорошие „дела“ – моя любимая работа. А знаешь, люди даже говорят, что, мол, „она поет лучше, чем прежде“. Это, конечно, не так. Но слава богу, что не хуже. Правда, моя милая?»
«Раньше это были только мечты, а теперь уже все совсем реально. На репетициях атмосфера хорошая – это для меня страшно важно. Вот теперь я как раз собираюсь на репетицию».
И подпись «Аня – рабочий человек». Иногда она подписывалась по-другому: «Композитор, писатель, ежедневный повар». И первое, и второе, и третье было правдой. Она написала книжку о своей итальянской трагедии, она сочинила цикл песен «Человеческая судьба», в котором как бы отразилось многое из ее личного, пережитого, она вела хозяйство, мечтала стать матерью. И очень хотела приехать на гастроли к нам в страну.
Анна не очень любила разговаривать с журналистами. Она искренне считала, что самое убедительное интервью – это песни, которые требуют напряженного, кропотливого труда. Несмотря на усталость и старые травмы, она могла работать с композиторами, дирижерами, музыкальными редакторами день и ночь. Она обожала работать. И я не зря так часто подчеркиваю это. Как сейчас вижу ее у микрофона. В глазах – радость. Нет, пожалуй, «радость» не слишком удачное слово. Счастье. Жизнь или продление жизни.
Композиторы, и умудренные, и молодые, восторгались ее музыкальностью, ее высшим профессионализмом, ее умением как бы «выудить» из песни самое главное, самое значимое, ее даром сгладить несовершенство иных песенных текстов, ярко раскрыть сущность подлинной поэзии. Четыре диска-гиганта записала с Анной Герман редактор фирмы грамзаписи «Мелодия» А. Качалина, множество пластинок-миньонов – 85 музыкальных произведений. Анна Герман стала первой исполнительницей лучших песен М. Блантера, А. Пахмутовой, В. Шаинского, Я. Френкеля, А. Бабаджаняна, Е. Птичкина, В. Левашова, Р. Майорова, Э. Ханка. Специально с расчетом на ее исполнение писали стихи Р. Рождественский, Л. Ошанин, Н. Добронравов, И. Шаферан, С. Островой, А. Дементьев, М. Рябинин.
Отчасти благодаря «чудесам» телевидения у наших зрителей создалось впечатление, что Анна Герман чуть ли не жила в Советском Союзе – во всяком случае, приезжала сюда очень часто. Увы, это не так. С концертами она приезжала к нам редко. Все время возникали сложности в организации гастролей – у Анны не было постоянного оркестра, с музыкантами приходилось договариваться самой. Часто они подводили. Тогда приходилось «изворачиваться» – в наше время акустических гитар и синтезаторов петь под рояль. Зрители, очарованные голосом певицы, ее актерским дарованием, не замечали этого. Но самой ей приходилось нелегко, она, по природе легкоранимый, незащищенный человек, болезненно воспринимала все шероховатости и подводные камни эстрадного мира, где, увы, еще есть место зависти и недоброжелательности. Все это ей от природы было чуждо. Помню, как Анна рассказывала мне, что некоторые импресарио предлагали ей по три-четыре концерта в день. «Знаешь, как заманчиво, – говорила она. – Деньги очень нужны. Но что поделаешь, по-настоящему я могу петь только один концерт в день. А петь вполсилы, обманывать людей, которые придут на мой концерт, я не могу, не имею права».
…Вот уже прошло почти три года с тех пор, как мы с Анной Николаевной Качалиной пришли на последнее выступление Анны Герман в Лужниках. Разумеется, мы и не предполагали этого. Думали, что недомогание – опять последствие автомобильной катастрофы, старые травмы. Перетерпится, пройдет. Увы, другой жестокий неизлечимый недуг уже поразил ее организм. Потом были телефонные разговоры, письма и, главное, была надежда, даже уверенность, что Анна справится и с этой коварной болезнью. «Эх, Анечка, милая, – писала Анна А. Качалиной. – Ты даже сама не знаешь, как много здоровья и хорошего настроения мне дала твоя дружба. Анечка, так мы уже до самого „финала“ будем дружить, правда?»
…Накануне операции Анне Герман принесли кассету с написанными специально для нее песнями А. Пахмутовой и Е. Птичкина. И вот одно из последних писем, адресованных А. Качалиной: «Сегодня пятый день после операции. Я не могу еще читать, все сливается. Но писать могу. Только тебе. Збышек принес мне кассету, и я слушала такие добрые, сердечные слова и песни. Знаешь, что это значит для меня в такое время и в такой час. Я так ждала, что и твой голос услышу, но я только чувствовала, что ты там находишься рядом. И все это благодаря твоей любви и знанию искусства. Это благодаря твоим заботам у меня такое сокровище, как симпатии советских слушателей».
Незадолго до смерти Анна Герман попросила, чтобы к ней на похороны из Москвы обязательно приехала ее самая близкая подруга Анна Николаевна Качалина. Об этом дали знать в советское посольство. И воля умершей была выполнена…
Читаю и перечитываю письма Анны Герман, вспоминаю нашу многолетнюю совместную работу и дружбу и думаю о прекрасных и удивительных судьбах двух женщин – польки и русской, самоотверженных служительниц муз, бескорыстных, сильных, убежденных. Как много мы потеряли бы, не услышали, не повстречайся они много лет назад в Москве.
А. Жигарев
Наша Анна
…От встречи к встрече, от впечатления к впечатлению я все более убеждалась в том, что масштаб и диапазон таланта Анны Герман – неправдоподобен, неизмерим… Его хватило бы на несколько человек. И ни тени ханжества, добродетельного чванства, ничего подобного – напротив, всепонимание и мягкий юмор. И именно эту изливающуюся на нас доброту мы и слышали в кристально чистом голосе Анны, навсегда не только становясь поклонниками ее таланта, но и привязываясь к ней самой.
У меня сохранилось несколько интервью со зрителями, которые я брала на выступлениях Анны Герман. Мне удалось записать далеко не все имена и профессии моих собеседников, в чем приношу свои извинения, но желающих высказаться было слишком много.
Молодая женщина. Кажется, технолог:
– Такого я не испытывала ни на одном эстрадном концерте. Слушала, и все. А здесь… перед тобой прекрасный человек. Как будто в душу к тебе заглядывает. Хочется лучше стать…
Врач. Очень современная, красивая:
– Конечно, можно говорить общие слова: душевно, музыкально, обаятельно. Но главное, наверное, в другом. Как бы поточнее выразиться… Понимаете, слушаешь… ну, я не буду называть имен, слушаешь ведущих эстрадных певцов – хорошо! Прекрасно! Но ты, конкретно ты им не нужен! Для них это только концерт и не более того.
А для Анны Герман – больше! Может быть, именно после катастрофы она стала так любить людей… И понимаешь, что ты ей небезразличен… Это на самом деле трудно объяснить, но нечто подобное испытывают многие. Посмотрите, что делается после ее концертов, ведь просто не могут от нее оторваться… «Икарус» уже уйдет, а люди все стоят, как загипнотизированные.
Юная девушка:
– Я на все ее концерты хожу, на все! Во-первых, каждый раз все по-разному. И другое расскажет, и посмеется, и поговорит со зрителями… Вот ведь полька, а такая своя…
И потом, что бы она ни пела – грустное или веселое, – хочется ей как-то помочь, что-то очень хорошее сделать. Человеком себя чувствуешь, правда…
Школьник:
– Мне очень хочется путешествовать, посмотреть разные страны, но я пока еще учусь.
А Анна Герман рассказывает о каких-то событиях у себя на родине, о композиторах, с которыми работала, о случаях из собственной жизни, потом о ком-то из наших расскажет… И все становится общим, общим, как будто нет рубежей и границ. Волшебство какое-то!
Мне теперь кажется, что я Польшу давным-давно знаю. Изучать польский язык я уже начал.
Подвести итог этим высказываниям можно словами самой Анны Герман: «Я всегда пою с надеждой на то, что мои песни помогают людям жить, вселяют в них надежду и веру в лучшее завтра».
Анна Герман пробуждала неожиданную для эстрадного концерта тоску по чему-то несостоявшемуся, невстреченному, тоску по прекрасному, что неизменно венчает настоящее искусство…
Я уверена, что все присутствовавшие на ее концертах становились в те вечера лучше. Анна так доверялась самому искреннему, самому благородному в них, что не оставить все темное, все смутное и не устремиться всей душой к ней навстречу было невозможно.
Анна-Виктория Герман происходила из древнего голландского рода, осевшего в России 300 лет тому назад. Она родилась в городе Ургенче Узбекской ССР. В Ургенче их с мамой и старенькой бабушкой застала война. В Ургенче Аня пошла в школу, закончила первый класс, а когда война окончилась, вся семья переехала в Польшу, в город Вроцлав.
Окончив школу, Анна поступила на геологический факультет Вроцлавского университета.
С 1964 года началось стремительное восхождение молодой певицы на эстрадный Олимп. За два года, 64—65-й, на фестивалях в Сопоте, Ополе, Ульштине она получает семь первых премий и лавровый венок международного фестиваля в Остенде. Она совершает международные гастроли по Англии, Франции и США.
В 1966 году она приезжает в Варшаву для устройства своих гастрольных дел. Услышав звонок, поднимает телефонную трубку и с удивлением различает итальянскую речь… С дальнейшими событиями жизни Анны Герман читатель познакомился на страницах этой книги.
Приведу лишь письмо матери Анны Герман, посланное Лидии Ивановне Дубининой, ленинградскому другу Анны:
«Пишу Вам от имени моей девочки Ани. К сожалению, она ответить не в состоянии, но передает Вам, Вашим родителям и детишкам сердечный привет. Все, что с нами случилось, трудно описать, но кое-что Вам скажу. 27 августа, ночью, Анечка ехала с концерта. Пианист, молодой итальянец, ехал с большой скоростью, потерял управление машиной, и они разбились. Долго находились без сознания, пока их не нашли и не привезли в Болонью (80 километров).
Аня потеряла почти всю кровь и была на верной дороге на тот свет. Перелом левой руки (ниже плеча), левой ноги (ниже бедра), левой ключицы, на голове большая рана. Как говорится по-русски: не было надежды. Одним словом, горя – море».
Анна победила. И основой той редкой выносливости и великого терпения, с которыми она переносила физические муки, было не только чувство человеческого достоинства, так развитое в ней, но и врожденная мягкая деликатность, которая никогда, даже в столь ужасном положении, не позволила бы ей «обременять своими бедами» других, доставляя им чрезмерное беспокойство, но себя от чужих бед она не ограждала.
Совсем больная, писала Лидии Дубининой: «Извините, Лидочка, что так криво, я опять „прилегла“ немного. Упражняюсь все время, чтобы суставы в левой руке и ноге сгибались, пока хуже всего с нервной системой – сотрясение мозга и долгое пребывание без памяти не дают окрепнуть». В то время когда медицина категорически предписывала ей полный покой и положительные эмоции, она с головой окунулась в пучину человеческих страданий, сочиняя музыку для «Освенцимской оратории» на стихи Алины Новак, в основу которых вошли «рапорты» акушерки из концлагеря Станиславы Лещинской.
Вот какую тему выбрала Анна для своей первой работы. Почти во всех интервью Анна с законной гордостью упоминала о своей пластинке – «Освенцимской оратории», – но о том, что за этим стояло и чего это стоило, не сказала ни разу. Так же как не сказала, что это их личный с Алиной вклад в дело мира.
«Неужели и до катастрофы в Анне, тогда еще совсем молодой, жила эта жажда самоотдачи, это глубокое понимание и сострадание к людям?» – думала я неоднократно и однажды спросила ее об этом.
Как всегда уходя от темы «Моя жизнь в искусстве», она устало и печально сказала: «Ну что ж теперь говорить, здоровья-то нет…» Но и подорванного здоровья она не жалела для других. Достаточно было знать с какой подлинно материнской заботой она относилась к молодым коллегам. Впервые я это увидела на одном из ее концертов в Ленинграде, в Измайловском саду, на гастролях 72-го года.
Я пришла задолго до начала, вошла в зрительный зал и остановилась где-то у 11—12-го ряда, рассматривая сцену. Шла обычная работа. Что-то прилаживали, настраивали инструменты, прохаживались, «пробуя голос», и на всех лицах было выражение безрадостной, заунывной озабоченности. Перелет был трудным, ночь бессонной, люди устали.
Вдруг из правой кулисы появилась тонкая высокая девушка. Я не сразу поняла, что это Анна Герман, которую доселе я никогда не видела, настолько в ней ничего не было от «примадонны».
Она подошла к одному, тихо постояла рядом, потом что-то сказала, к другому – засмеялась, к ним подтянулись еще двое, потом она подсела к пианисту, стала что-то наигрывать правой рукой, он брал аккорды… Потом еще немножко прошлась, постояла, посмотрела в зал и исчезла за кулисами.
И что же? Когда, проводив ее взглядом, я вновь посмотрела на актеров, то увидела не недовольных одиночек, а сплоченную группу людей, единый коллектив. И двое из тех, кто были с нею на гастролях, на следующий год были отмечены на фестивале в Сопоте.
В следующий приезд Анны в Советский Союз в ее группе была юная девушка, лауреат фестиваля в Зеленой Гуре. Наделенная голосом оглушительной силы, она решительно не знала, что с ним делать, и каждый вечер после концерта страшно расстраивалась.
И вот вестибюль Октябрьской гостиницы. Поздно. Все устали. Музыканты торопливо разбредаются по номерам. Анна устремляется в противоположную сторону.
– Анна, куда Вы? Вы же плохо себя чувствуете!
– Нет, я не могу ее так оставить.
Она нагоняет «молодую коллегу», склоняется над ней, что-то нашептывает, утешает и успокаивается лишь тогда, когда, уже вернувшись к нам, звонким шепотом посылает ей вслед «спокойной ночи» и слышит ответное пожелание.
Еще небольшой эпизод, уже на телевидении.
– Анна, нам бы хотелось снять второе отделение концерта.
– Нет, нет, и первое, пожалуйста, тоже.
– Но Вы ведь в нем не участвуете…
– Ну и что же? Там поют мои товарищи, это наш общий концерт.
– Но их никто не знает.
– Тем более их нужно поддержать, а так их вообще никогда не узнают. Для молодых это очень важно.
Считая свой коллектив лицом всей страны, она приходила в ужас от появления подвыпившего или опоздавшего музыканта, от чьей-то грубости, легкомысленной бестактности… Иногда эти тревоги разрастались до тягостных размеров. Нужно было от этого освободиться, выговориться! И тогда она снимала трубку и звонила… Могу ли я знать кому?… Но летом 1975 года часто звонила мне.
И начинался разговор. То была ее внешняя жизнь, то была ее речь, почти по-детски захлебывающаяся, взволнованная, с бездной тревог, забот, огорчений, с неизменным недовольством собой. Но такая почти безудержная откровенность была свойственна ей только в житейских мелочах.
Всепрощающая, мягкая, уступчивая, бесконечно добрая, она бы и осталась такой в памяти знавших ее, если бы не экстремальные обстоятельства, где проявлялось все то, что казалось несовместимым с образом «кроткой лани», возникающим из ее повседневного поведения.
Там, где нужно было вступить в борьбу с судьбой, там, где на карту были поставлены жизнь, творчество, любовь, убежденность, она была неустрашима. Она была олимпийским бойцом, где главные резервы: сила духа и воли, мужество, верность себе – вводились в бой только тогда, когда надо было защитить честь страны, завоевать мировое первенство, победить в борьбе со смертью, вернуть себе сцену.
Да, только в этих случаях проявлялся ее могучий характер, а так:
– …конечно, конечно, берите, пожалуйста.
– …мне показалось, что Вы себя плохо чувствуете…
– Оставьте, не беспокойтесь, я все сделаю сама.
– Что за вопрос, я очень рада, это для меня большая честь.
– Поделимся?
Но главное, о чем нужно говорить, рассказывая о магии ее творчества, – это о контакте со зрителями. Она шла к нему всю жизнь.
В ее представлении контакт со зрителем, скорее всего, приближался к понятиям всеобщего братства, всемирной гармонии… Он был для нее чем-то глубоко интимным, скорее из области человеческих, а не условно сценических отношений, ибо так раскрываться, как это делала она, можно лишь при абсолютном доверии, при полной взаимности, в редкие счастливые минуты жизни, которые она испытывала на сцене почти всегда.
Песня для Анны Герман была не целью, а лишь средством к достижению цели, а быть может, к осуществлению смысла жизни, который она видела в служении людям. Тем дороже и желанней становились для Анны поездки в Советский Союз. Зрительный зал в любой точке России, залитый светом ее любви, счастья от возможности встречи, становился для нее единым добрым, благодарным существом.
Анна Герман бывала счастлива у нас, я знаю!
В 1974 году на Ленинградской студии научно-популярных фильмов возникла идея о создании документального фильма под условным названием «Наш друг пани Анна».
Предполагаемый гонорар мог быть весьма скромным, и, спрашивая Анну о принципиальном согласии на подобную работу, я должна была изложить ей материальную сторону.
И вот письмо Анны Герман, пришедшее вслед за телеграммой «Да! Да! Я очень рада. Ждите письма». Привожу его почти полностью:
«…скажу Вам честно, когда я прочла Ваше письмо, сначала очень обрадовалась, а потом решила, что это слишком ответственная вещь, и решила, что лучше – нет. Потом все-таки опять начала сомневаться и придумала такой выход. Разговоры с моими слушателями будут только преамбулой, чтобы показать фрагмент их жизни, работы, круг интересов, ну и между прочим место музыки в их душе.
Чтобы я была совсем в тени, правда? Вы правы, такой фильм может быть важнее и нужнее, чем самый веселый художественный фильм. Это ведь настоящая жизнь, а не придуманная история.
Поблагодарите от меня, пожалуйста, сотрудников студии, передайте мою радость и скажите, что это для меня большая честь.
А раз я буду работать с друзьями и для моих друзей, не может быть и речи о деньгах. Это мое единственное условие… Распоряжайтесь теперь мной и моим временем. Я рада – интересная, большая цель впереди – спасибо!
Только что получила Ваше коротенькое письмо. Ну что вы! Не беспокойтесь из-за денег! Я же буду проводить обыкновенные гастроли, и у меня будут средства на ряженку с пирожками!
Если бы это был обычный художественный фильм, плата за мою работу была бы естественной. Это моя профессия – пение. А в вашем фильме – дело другое, совсем другое. Я ведь предлагаю людям заглянуть ко мне в душу, мою и моих друзей, советских слушателей. За это я взять денег не могу и не хочу.
Вы ведь меня понимаете, правда? Но чтобы не было хлопот в финансовом отношении, мы за эти деньги купим для детского дома, для самых младших, игрушки и книги. У меня в Польше тоже есть такие маленькие друзья…»
– Но где же фильм? – спросите вы теперь.
– Он не снимался, – отвечу я. Зимой 76-го года на свет появился не фильм, а маленький Иварр-Збигнев – сын Анны.
Ему исполнилось всего шесть лет, когда не стало его прекрасной мамы.
…Смерть, не простившая Анне победы над собой, оставив свои зловещие меты, вновь подползла к ней и поразила так коварно, так жестоко, что, казалось, жизнь Анны оборвалась внезапно, как струна, на полузвуке, в зрелом, по-новому неотразимом взлете ее творческих сил.
Она успела все и не успела ничего. Да, она стала Анной Герман, певицей с мировой славой. Да, она стала «возлюбленной» России, душой нашего поколения, его жажды любви, его человечности. Да, она успела полностью осуществить свою давнюю мечту – остаться со зрителем один на один. 27 декабря 1979 года она вышла на громадную сцену ДК имени Горького прямая, торжественная, строгая до суровости, в глухом траурно-черном платье, оплетенном золотыми монисто, и одна, без музыкального сопровождения, запела «Аве Марию» Шуберта. Пианист вступил позже.
Зал разразился неистовой овацией. На эстрадном концерте классикой она покорила зал! Последняя и благороднейшая творческая победа! Отныне она могла все. Ее бы слушали уже за одно то, что она – Анна Герман. Полоса завоеваний была пройдена!
И все же она не успела ничего. Все, свершенное ею, лишь маленькая толика того, что она унесла с собой. Ее бездонная душа таила в себе такие неизмеримые возможности, что объять все то, что могла бы она оставить миру в любой области искусства и общественного служения, невозможно.
Анна Герман сделала неизмеримо много для укрепления польско-советской дружбы. Я не ошибусь, если скажу, что в течение 20 лет благородный облик Анны Герман для многих советских людей был образным олицетворением ее страны.
Среди звезд, загорающихся над Россией, мы всегда будем различать нежный согревающий свет звезды Анны Герман, ее великой души.
Л. Спадони
Примечания
1
Сначала до конца (итал.). – Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
ПАГАРТ – ведомство, организующее в ПНР заграничные гастроли.
(обратно)3
Окенче – варшавский аэропорт.
(обратно)4
Гураль – житель гор, польских Татр.
(обратно)5
Промах (франц.).
(обратно)6
Имеется в виду Мария Собеская (1641–1716), жена короля Яна Собеского (1629–1696).
(обратно)7
Вилянов – загородный дворец под Варшавой, построенный при Яне Собеском.
(обратно)8
«Цепелия» – кооперативное предприятие, организующее производство и сбыт изделий народных промыслов.
(обратно)9
Великая любовь (итал.).
(обратно)10
Богуславский Войцех (1757–1829) – польский режиссер, актер, педагог, один из основателей польского профессионального театра.
(обратно)11
Черный кофе, приготовленный особым образом.
(обратно)12
Ювеналия – весенние студенческие праздники.
(обратно)13
В польских вузах выпускники пишут научную работу, защитив которую получают младшую научную степень – звание магистра.
(обратно)14
Государственный театральный институт.
(обратно)15
Национальное польское блюдо.
(обратно)16
В польском тексте дается на русском языке, а затем в подстрочном переводе автора:
Мы гадали день и час, Когда же снова встретим Вас? Год прошел, а Вас все нет… В ожидании шлем привет! (обратно)17
Бещады – отроги Карпат на юго-востоке Польши.
(обратно)18
«Прощай, любовь» (итал.).
(обратно)19
Моя маленькая мама (итал.).
(обратно)20
Польская певица (итал).
(обратно)




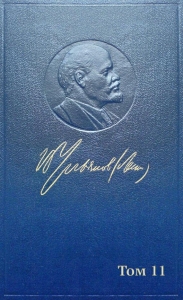


Комментарии к книге «Вернись в Сорренто?..», Анна Герман
Всего 0 комментариев