Евгений Стеблов Против кого дружите?
Сюжет души моей…
«Антилигенты»
Мои родители и по сей день любят вспоминать о том, как они добирались в 45-м году с Украины на подножке товарняка. Папа пристегнул маму брючным ремнем к поручням вагона, чтоб не свалилась. Боялся за меня, за нее. И на Украину возил нас с мамой, чтобы подкормились. Время тогда в Москве было голодное – только что кончилась война. Так мы возвращались. Собственно, я-то тогда еще не родился. То было летом. Я же появился на свет зимой, восьмого декабря 1945 года. Первая Мещанская (сейчас Проспект Мира), дом 126, кв. 29, третий этаж. Моя родина. И по сей день могу сходу взбежать на третий этаж любого здания независимо от крутизны лестницы. Выше без отдыха не получается. Задыхаюсь.
Третий этаж… Первая высота в моей жизни. Впервые я увидел мир из окна третьего этажа нашей коммунальной квартиры. Соседи нас звали «антилигенты». Очевидно из-за деда. Он даже на кухню не выходил без галстука. Стало быть интеллигент. Так что соседи в простоте своей были правы. Ведь мой дедушка, Виктор Павлович Стеблов, в анкетах, в графе социальное происхождение писал «из служащих». Скрывал, вернее сказать не афишировал свое дворянское происхождение. Почетное звание дворянина досталось ему от отца, служившего в городе Рыбинске директором гимназии.
Сохранилась старинная газета с «ятью», сообщавшая в некрологе о кончине депутата городской думы действительного статского советника Павла Павловича Стеблова, моего прадеда. Он получил дворянство от Николая II. Грамота о присвоении дворянского звания тоже сохранилась. Там от лица императора написано: «Покорнейше прошу принять…» Не награждается, не присваивается, а «покорнейше прошу». Сейчас уж так никто и не говорит. У советского пенсионера, служивого дворянина по отцу и столбового дворянина по матери (из рода Савельевых), моего дедушки Вити самое страшное ругательство было – «это же беспардонно в самом деле». Так он выговаривал мне в тогдашнем моем младенчестве. Всю остальную брань я узнал позже. Сначала от наших дворовых пацанов. Тогда они гоняли голубей и в «футболянку», играли на деньги в карты и «расшиши» – свинцовой битой от стенки, чинили трофейные немецкие мотоциклы. Впоследствии многие, став взрослыми, имели судимость. Однако соседство с Рижским вокзалом и рынком, близость бандитской Марьиной Рощи, привкус блатной послевоенной романтики у одного из них переварились в стихах с кричащими гортанными звуками «эр-р-р» и «сл-л-л». Ни маленькие мои сверстники, почтительно смотревшие на него снизу вверх, ни те, кто постарше, посылавшие его за бутылкой, не понимали, не могли знать, что он, этот самый Вовка из «нумеров» переделанной в коммуналки бывшей дешевой привокзальной гостиницы, станет народной совестью. Володя Высоцкий жил в нашем дворе. Нет, я не дружил с ним. Он был старше на восемь лет. В зрелом возрасте разница пустяковая. В детстве – пропасть.
Я встречал его потом. В общаге на Трифоновской, с гитарой, в комнате у девчонок с нашего курса. Вспоминали мы двор. Кто жив? Кто состарился? И еще после на телецентре. «Место встречи изменить нельзя». Он озвучивал роль Жеглова. Лицо его было бледное, выстиранное. Глаза будто бы знали то, что мы еще откроем потом… Жеглов – опер в штатском и сапогах. Таких было много в нашем дворовом детстве. Высоцкий один. «Женя, иди домой! – зовет в окно меня мать. – Спать пора!» Я возвращаюсь. «Возвращение к ненаписанному» – так спустя годы будет называться моя первая повесть. Повесть – сюжет души. Там будет детство и двор, и семья. В прозе. Беллетристика. Теперь же я пишу мемуары. Тут факты нужны. Мне так заказали. Редактор с издателем. Здесь с фактами вольно обращаться нельзя. «Над вымыслом слезами обольюсь…» – категорически неуместно. А в то же время повторяться не хочется. Ведь многое из того, что нужно вам рассказать, я уже осмыслил в своей повести. Вот бабушка моя, Мария Семеновна, не боялась повторов. Раз сорок рассказывала она мне романтическую историю ее сватовства и венчания с дедом и ни разу при этом не повторилась.
Пожалуй, сделаем так: перечитаем страницы маленькой повести и, если не наскучит, продолжим потом с фактами. Откроем карты.
Возвращение к ненаписанному
Маленькая повесть
Я обманул их… Они пристегнули меня ремнями… Но я обманул их и, ловко сорвав с себя грубые путы, победно вознесся вверх ногами! И уже сверху успел заметить склоненные надо мной головы операционной бригады. Я обманул их…
– Мотор!
– Есть мотор.
– Кинопроба. Монолог Трилецкого. Дубль третий.
– Начали.
– Алло! Алло! Не отвечает. Нет, нет, не надо, я сам. У нее сердце больное. Алло! Алло! Наконец! Это ты? Это я. Привет! Слушай, я разбился на машине. Жив, только рука сломана правая. Говорят, в нижней трети. Нет, еще недельку. Алло! Алло! Продлите еще, пожалуйста! Отключили.
Мой самолет был уже в Москве, а я был здесь, в хирургическом отделении клиники «Мотол» при медицинском факультете Пражского университета. Ритм сломался. Меня положили на каталку и медленно повезли длинными покатыми коридорами по серому гранитному полу с сохранившимися кое-где инкрустациями немецких воинских знаков – здание госпиталя построили еще при фашистах.
Их было четверо в палате: очень организованный пан инженер Прошек, добрый пан дантист, дряхлый пан магистр, непонятный пан Красный (профессии не помню), все с воспалением предстательной железы. И я, пятый, с увечьями. Храпели они отчаянно, особенно зверствовал пан магистр. Кроме того, двое из них были с капельницами физиологического раствора. На протяжении ночи через каждые пятнадцать-двадцать минут кричали в селектор: «Сестричка, фляжку! Пан Прошек докапал!» Приходила сестра, включала свет, меняла фляжку с раствором, а через двадцать минут опять: «Сестра, фляжку! Пан Красный докапал!» И так без конца…
Рассвело. Принесли завтрак: рогалик хлеба, порцию масла, розетку яблочного джема и чашку кофе с молоком. Коренастые, смешливые девушки в сандалиях на босу ногу подняли меня, раздели донага, привязали «кошель» (нечто среднее между фартуком и рубахой) и, проворно сменив постельное белье, уложили обратно. То же самое они проделали с остальными. Вытянувшись после завтрака в кровати, ощутил жесткую свежесть накрахмаленных простыней и нетерпеливую злость от голода. Когда началась «визита», по-нашему обход врачей, я сразу заявил, что не привык есть так мало. Доцент, заведующий отделением, энергичный преуспевающий пан средних лет, дружелюбно ответил мне по-русски почти без акцента:
– Вас необходимо оперировать. Я тоже окончил институт в Союзе, в Ленинграде. Прекрасный город! Не волнуйтесь, у нас очень хорошая метода. Я сам буду ассистировать травматологу. Недели через две будете дома.
И распорядился по-чешски, чтобы мне выдали дополнительное питание. Им оказалась бутылка сливок.
После обеда приходил парикмахер. Он остался доволен: все ему хорошо заплатили. Очень организованный инженер Прошек подчеркнуто заплатил больше всех и послал парикмахера в магазин за пивом. Я отказался бриться. Добрый пан дантист заметно повеселел после бритья, достал карманное зеркальце, аккуратно причесался, включил миниатюрный транзистор с наушником и застыл в блаженном просветлении. Наслаждение, которое испытывал пан дантист, заинтриговало инженера Прошека, он тоже включил свой еще более миниатюрный японский транзистор, но через некоторое время разочарованно выключил, взял газету. Между тем пан дантист продолжал свой праздник, пока не протиснулась в палату каталка санитара Мражека, пожилого жилистого аскета в зеленом стерильном комбинезоне. Пан Мражек, привратник операционного блока, никогда не улыбался. Рок, судьба, что-то зловеще неотвратимое было всякий раз в его появлении. Только он забирал больных на операцию – сухо, без церемоний – и привозил их обратно, с нежной мобилизованностью нес на руках отяжелевшего под наркозом человека от каталки к постели, как влюбленный рыцарь переносит свою подругу через грязную лужу. Уходя на операцию, пан дантист оставил мне свой транзистор. В этот день ему ампутировали ногу. Помимо воспаления предстательной железы, он страдал диабетической гангреной.
В день посещений ко всем пришли родственники, друзья. Я не рыдал, казалось, был спокоен, а слезы текли. Не выдержал в первый раз, потом это повторялось каждый день, достаточно было только мысленно произнести: «Москва». Попытался подняться – не получилось. Кто-то помог. Меня шатало. Опираясь о стенку, добрался до сестринского поста и попросил транквилизатор. Коренастые смешливые девушки в сандалиях на босу ногу не поняли меня и угостили тортом, они пили чай.
На следующий день сразу после обеда я был переведен в отдельную палату – узкое помещение размером чуть более хирургической койки с широким итальянским окном во всю стену. Наконец-то один! Хоть какое-то убежище, хоть какая-то защищенность. Дикая физическая радость во всем теле. Как в детстве, когда после гулянья, с мороза, судорожно укутаешься с головой в теплое мамино одеяло. Заметил себя в зеркале – бледного, нечесаного, с остатками грима на заросших щеках. Скорчил гримасу, медленно опустился на кровать, закрыл глаза.
Вскоре я несколько пообвыкся и стал видеть сны.
…Я увидел длинную кирпичную стену. Я увидел дерево – высокое-высокое, выше нашего окна, выше крыши и, казалось, выше неба. Но еще выше, в стороне, за деревянными постройками торчала церковная колокольня. За колокольней – ничего, дым, оттуда доносились паровозные гудки. Я увидел мир. Я обрадовался и заплакал. Катерина Васильевна отнесла меня от окна и накормила манной кашей.
Мы жили не на самой улице, а во дворе, за фасадным домом бакалейного магазина. Во дворе валялось много досок от ящиков и пахло тухлятиной из пустых бочек. Тару увозили на ломовых лошадях. Извозчики, все знакомые, проживали в пристройках за кирпичной стеной, на заднем дворе, который так и назывался – извозчичий. Ни один из них не отказывался покатать ребятишек. Бочки везли далеко-далеко: через площадь, мимо сквера, мимо вокзала, куда-то туда, за горбатый Крестовский мост, отсюда не видно. Но мы никогда не ездили дальше Колхозного рынка. На рынке продавались деревянные пушки, матрешки, курицы с цыплятами, два медведя с топорами, разноцветные молоточки, копилки и глиняные свистелки. Стоило недорого, можно было попросить у старших «за хорошее поведение», но неинтересно. Железнодорожные платформы тогда еще настилали досками, и если кто-то ронял монету, она проваливалась в щель под платформу, а мы собирали. Страшновато было от стука каблуков и колес, зато хватало на пушки и матрешки. Самой же заветной мечтой, почти несбыточной, оставалась электрическая железная дорога, выставленная в витрине ЦУМа. Она стоила целых сто рублей, по-теперешнему десять. Совсем как настоящая, как та, что на Рижском вокзале, в музее, куда дедушка часто водил меня.
Пожилой смотритель встречал нас с большим почтением и даже разрешал мне трогать руками экспонаты. Когда-то раньше, еще в двадцатых годах, мой дед занимал пост заместителя начальника Виндавской железной дороги. Старые служащие помнили его и любили. Дедушка пользовался слуховым аппаратом – абсолютно ничего не слышал, но меня понимал свободно по губам. В детстве он перенес осложнение на уши от скарлатины, стал постепенно глохнуть. Несмотря на глухоту, сам, без адвоката, оправдал себя на процессе так называемых спецов (кто-то из сослуживцев хотел свалить на него ответственность за саботаж). Моя бабушка тогда помогала ему – стенографировала все, что произносилось в зале суда. Она была подругой его старшей дочери от первого брака, ради нее дед бросил семью, пятерых детей. Она была молода, красива, носила красную косынку. Оставленная жена пыталась плеснуть ей кислотой в лицо (так было модно), но из-за безумной любви к отцу старшая дочь помешала этому. «Молодые» сели в дедушкин салон-вагон и укатили в свадебное путешествие. Теперь, когда кто-нибудь спрашивает бабушку: «Боже мой, как же вы решились на такой шаг?» – она томно вздыхает и отвечает: «Была революция!»
Дедушка похоронен на Пятницком кладбище. Там же, в одной могиле с ним, погребены его первая жена Августина Александровна и сын Павел. В середине тридцатых годов, неистребимо уязвленный изменой отца, Павел в припадке трагической ревности зарезал свою молодую жену, а сам отравился. У них осталась грудная дочка. Она спала и не видела этой сцены.
Сейчас не помню, кто привел меня впервые к Августине Александровне, но я любил навещать ее. Парадный подъезд заколочен. Тускло освещенный лабиринт черного хода. Стесанные ступени, лестница кое-где без перил. Крашеная, облупившаяся кожаная обивка входной двери. Пряный сдобный запах из кухни, длинный коридор. Небольшая светлая комната в одно окно: фамильная икона с лампадой, погашенные свечи в висячих подсвечниках всегда запертого фортепиано марки «Гранд» и неожиданно огромная, во всю стену, писанная маслом картина – цыгане с дрессированным медведем на ярмарке. Пестрая, навзрыд хохочущая толпа, медведь на цепи, в стороне белобрысый мальчик с перекинутой через плечо связкой баранок держит в руке шляпу для подаяний. Мне почему-то жаль медведя. Августина Александровна, пухлая, маленькая, седая как снег, обычно принимала меня сидя на диване, ласково беседовала, угощала пасхой или пирогами с малиной.
Дома у нас стояло точно такое же пианино, как у Августины Александровны. Иногда по утрам, чаще всего в ненастные дни, моя бабушка, лениво накинув темно-зеленого бархата халат до пола, величественно выходила из своей комнаты, садилась к инструменту и с серьезным чувством, правда несколько фальшивя, запевала: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина…» Ничего другого бабушка никогда не играла. Говорила, нет способностей. Она родилась в бедной многодетной семье, отец ее служил почтальоном, но еще ребенком она была отдана на воспитание к графу д’Верьер, у которого ее матушка жила когда-то в прислугах. Получив достаточное образование с определенно религиозной направленностью, она всегда придерживалась радикально ветреных взглядов и до сих пор не верит в Бога. Сохранилось ее девичье фото в мужском офицерском костюме с шашкой наголо. Она жила и живет в выдуманном мире и может бесконечно рассказывать одну и ту же историю, каждый раз по-разному, каждый раз удивительно искренне и интересно. Никакие правила не обязательны для нее, за исключением правил синтаксиса и орфографии. По профессии преподаватель русской словесности, она без конца экзаменовала меня диктантами, пока я окончательно не потерял остатки инстинктивной грамотности. Я и сейчас нередко допускаю ошибки. Пироги у нее всегда горят, а все мужчины «нечуткие».
Случилось ей со мной летом пятидесятого года гостить у нашей родственницы Дарьи Ивановны в селе на озерах близ станции Удомля.
Есть на белом свете такие закоулки, где родная земля наша особенно обнажена и прекрасна, природа создает особое настроение, порождает мысли и поступки неординарные, и начинается творчество. Возле Удомлинских озер стоял, по преданию, чеховский «дом с мезонином», Левитан писал «Над вечным покоем», работал в своем имении изобретатель радио Попов. В начале века там обосновался рано овдовевший лесопромышленник, отец Дарьи Ивановны. Он боготворил дочь, единственную наследницу его дела. Вдвоем они любили наезжать в Москву и Петербург, оставляя значительные суммы в увеселительных заведениях обеих столиц. Из этих буйных праздничных вояжей Дарья Ивановна привозила в Удомлю массу новых нарядов и впечатлений, а когда настала пора, привезла себе мужа, отставного военно-морского доктора Пал Палыча, родного брата моего дедушки, с которым была счастлива всю жизнь, только не дал им Бог детей.
Свою карьеру Пал Палыч начинал в Порт-Артуре под начальством адмирала Макарова во время русско-японской кампании. Попал в плен, бежал, вышел в отставку, женился и стал уездным лекарем. Он скончался в Удомле незадолго до второй мировой войны, заразившись брюшным тифом от колхозного пациента.
Шести лет держал я вступительный экзамен на дирижерско-хоровое отделение Центральной музыкальной школы. Пел «Варяга».
Наверх вы, товарищи, Все по местам! Последний парад наступает…Вроде бы гладко все шло, но на словах «Прощайте, товарищи! С Богом! Ура!» не удержал себя, пронзительно дал петуха и, пытаясь победить комок, подступивший к горлу, беспомощно разрешился едва заметной слезой. В зале смеялись. Они не знали, что под белой рубашкой на шее у меня повязана выцветшая матросская лента Российского Военно-Морского флота крейсера «Варяг» – драгоценный подарок Дарьи Ивановны.
В сенях у Дарьи Ивановны стоял загодя приготовленный ею для себя гроб. Но я тогда его не боялся, боялся индюка у калитки. Первое чаепитие начиналось совсем рано, как только выводили в стадо коров. Утреннее солнце, ударившись о начищенный самовар, стыдило в лицо Дарью Ивановну, приготовившуюся к обжорству, которое продолжалось весь день. Одних завтраков было три, два обеда, далее полдник и обязательная вечерняя трапеза. Спать ложились по куриному расписанию. Деревенские старики часто угощали меня земляникой, ласково называли «барчуком». По старой памяти они уважительно побаивались Дарью Ивановну как «дохтуршу» и делали снисхождение к ее с годами усиливающейся властности. Она занимала полгорницы в избе своей бывшей прислуги Ули, сочувственно приютившей ее на старости лет, и ею же помыкала.
В воскресные дни ездили попуткой на базар к станционному поселку.
– Ну что, чертовка, опять горькой сметаной торгуешь?
– Да что вы, Дарья Ивановна? Какая же она горькая?
– Ладно болтать-то. За полцены возьму, так уж и быть.
– Ой, Господь с вами, берите. Только не обижайте понапрасну.
– Тебя обидишь!
– Воnjоur! Я так рада вас видеть! – лепетала из-под чепца довольно пожилая худосочная особа несколько неопрятного вида.
– Воnjоur, Варенька. Как здоровье, mа сhеrе?
– Плохо, очень плохо, не спрашивайте, дорогая. Нам уж теперь о другом думать надо.
– Заходите на чаек как-нибудь. Милости прошу, не забудьте.
– Благодарю вас, моя дорогая.
– Не дай Бог, и впрямь припрется, чертовка, – обиженно добавляла Дарья Ивановна, провожая взглядом удалявшуюся компаньонку.
И действительно, через несколько дней старая худосочная дама в чепце возникала перед индюком у нашей калитки. Завидев подругу через окно, Дарья Ивановна тотчас бросала свое грузное тело ей навстречу, делая по пути необходимые распоряжения.
– Уля, дружок, тащи самовар к столу! А ватрушки-то готовы?
– Готовы, Дарья Ивановна.
– Так ты их припрячь, не подавай. Бог даст, и так обойдется.
Далее не было конца гостеприимным любезностям как на русском, так и на французском языках. И после одиннадцати-двенадцати чашек крепкого чая с колотым сахаром вприкуску приглашенную провожали восвояси.
– Нарумянилась-то, нарумянилась-то! Смех! Нехорошо уж так в наши годы, – рассуждала потом Дарья Ивановна, собирая посуду. – Ну и здорова же, чертовка! Чай, в оба конца около десяти верст оттопала.
Единственная баня в близлежащей округе находилась в селе Троицком. Дорога туда лежала не так чтобы уж очень и дальняя, но грязная, с болотцем посередине. Выходили спозаранку, шли неторопливо. Впереди Дарья Ивановна с березовым посохом, за ней бабушка с двумя медными тазами, я бежал сзади налегке с одними мочалками. Белья не несли, надевали на себя все чистое. По малолетству мыли меня в женском отделении. (А стыдно-то, стыдно-то как было после, когда женщин на улице встречал, одетых.) От пара духотища, конечно, с непривычки, зато потом в предбаннике благодать! Идем обратно. Впереди Дарья Ивановна с березовым посохом, за ней бабушка с двумя медными тазами, и я сзади налегке. Подошли к болотцу на полдороге, отдышались, осторожно, еле-еле двинулись вперед по проложенному бревнышку. И вдруг я (вечно я со своим баловством!) со всего размаху падаю, скользнув с бревнышка, прямо в грязь отмытыми льняными волосами и в чистом белье. Ну, вытащили меня, поохали, поахали да и повернули обратно в баню, той же дорогой.
А вообще-то у Дарьи Ивановны было скучновато. Правда, играла иногда со мной в фантики внучка изобретателя радио Попова, но то была девчонка, и годами намного старше – силы-то неравные. Только к самому концу лета, когда стало холодать от частых дождей, прибыл домой на побывку сын нашей хозяйки Ули сверхсрочный старшина Василий. И сразу в корне изменил мое существование: пришил мне погоны к рубашке. Стало весело. Он даже в поле на свидание к своей девушке меня брал. Уйдут там за стог, разговаривают, а я тем временем велосипедные шины подкачиваю… И бабушка преобразилась, совершенно не узнать человека – вся сияет. Надо сказать, что она всегда выглядела очень молодо. Ей тогда под пятьдесят было, а больше тридцати никто не давал. Честное слово. Самое главное, не прилагала к этому никаких усилий, только единственное – в голову ничего не брала. В одно ухо влетит, в другое вылетит. Даже бабушкой запретила называть себя – так ей этот Вася нравился. Тетей, говорит, зови. Ну что такое тетя? Вон их сколько вокруг.
Как ни жаль было, вскоре пришло время провожать Василия в часть. Напекли пирогов, собрали чемодан, присели на дорожку – вот и все. И двинулись в путь по булыжному тракту к железнодорожной станции. Еще не скрылось, не успело уплыть за озеро, обмотавшись там лесной паутиной, малиновое солнце, а ранние августовские звезды уже срывались, падали за горизонт. Я это видел, бежал впереди и видел… Перекрывая женские голоса, за моей спиной безудержно пел Вася:
Ходит по полю девчонка, Та, в чьи косы я влюблен…Не помню, ничего не помню. Не помню удара. Булыжник помню мокрый… Почему? Я только что видел звезды… Нет, не дождь, просто лужа. Это моя кровь? Он тяжело дышит. Как долго бежит. Зачем вцепился в меня своими ручищами? Больно! Ой, как больно! Сломалась моя голова. Мамочка, поцелуй меня! Уберите иголки! Мамочка, поцелуй меня!
Потом бабушка часто вспоминала: «Скорее всего, мотоциклист был „под шофе“, ведь даже не остановился! Я чуть не потеряла сознание, когда увидела бедняжку – тебя, мой мальчик. Спасибо Васеньке, знаешь, он подхватил тебя на руки и так бежал, так бежал до самой больницы. Через некоторое время и я подъехала на попутном тракторе. Ты так кричал, так кричал, что доктор вышел к нам и сказал: „Вы, мама, останьтесь, а вы, папаша, пройдите со мной, поможете держать ребенка“. Чудак, принял нас с Васенькой за супругов. Такой милый доктор оказался! Я еще долго к нему ходила. Водила тебя к нему, мой мальчик. И поила. Через трубочку. Ты ведь не мог есть с заклеенным ртом. Покажи шрам. Почти совсем незаметно. Да, если бы не Васенька… Представляешь: „Вы, мама, останьтесь, а вы, папаша, пройдите“. Сейчас таких докторов не встретишь. Не болезнь лечили, а человека. Человека надо лечить!»
Дверь резко распахнулась. Агрессивно размахивая двухлитровой клизмой, влетела стайка коренастых смешливых девушек в сандалиях на босу ногу.
– Давай, давай! – азартно предлагали они, сдернув с меня одеяло.
– Ниц! Ниц! – беспомощно отвечал я со стыдливой категоричностью, понимая абсолютную неизбежность подчинения жесткому правилу.
Через час надо мной уже мелькали плафоны коридора, вверх по которому толкал свою перевозку жилистый санитар Мражек. У порога операционного блока он задержал меня, нажал не глядя кнопку входного звонка. Отворили не сразу. Веселый бородач-анестезиолог распорядился повязать мне голову белой косынкой.
– Правда, хорошие у меня девочки? – спросил он по-русски.
– Очень, – трусливо улыбнулся я сквозь дрему транквилизаторов.
После этого «хорошие девочки» заботливо пристегнули меня кожаными ремнями к узкому операционному столу.
Но я обманул их и, ловко сорвав с себя грубые путы, победно вознесся вверх ногами тотчас, как принял наркозную маску. И уже сверху успел заметить склоненные надо мною головы операционной бригады.
Я обманул их.
…Выше, выше, еще выше кручеными железными ступенями тащит меня за руку отец сквозь штопор лестницы, выпускающей нас на чердак. А через разбитые, выдавленные ветром стекла смазанных черной пылью подъездных витражей следит, подглядывает за нами любопытный весенний день, и пляшет в каменном колодце лестничного проема, радуется вместе со мной гулкое эхо наших шагов. Открываем тяжелую дубовую дверь в пахнущую кошками темноту, которая хлещет по лицам, путает гирляндами развешанного после стирки белья, прежде чем показать нам лаз – полуприкрытое ставнями чердачное окно. На крыше отец отпускает мою руку, но скользкая покатая плоскость сперва не страшит меня. Я вижу свой город рядом с солнцем. Вдруг, жмурясь, роняю взгляд вниз: там, на месте бакалейного магазина, расплылась огромная клякса залитого дождями котлована. Страшно, страшно упасть туда, в шумный муравейник серо-зеленых человечков. Это пленные немцы. Они играют на губной гармошке и строят дом. Я еще крепче обнимаю холодное кирпичное туловище дымоходной трубы, к которой папа прикручивает телевизионную антенну.
Давным-давно, будучи школьником младших классов, отец сконструировал электрическую кормушку для рыбок в аквариуме. «Юраша – голова!» – определил тогда дедушка, а журнал «Знание-сила» осветил опыт юного изобретателя краткой заметкой. Сколько я помню, отец всегда возился с радиотехникой. Правда, некоторое время довольно увлеченно коллекционировал открытки и книги, но под кроватью, на подоконнике, на стульях, на диване, на обеденном столе, в угольном посудном шкафчике и в гардеробе среди белья постоянно не убирались разложенные трансформаторы, конденсаторы, панели, динамики, резисторы и прочие детали. Мама протестовала, пыталась навести порядок самовольно – возникали конфликты. Однажды в сердцах она даже разбила радиолампу о папину голову. «Юраша – голова!» – обиделся дедушка.
Почти к каждому празднику отец собирал новый приемник, и вся семья в торжественно-молчаливом сборе слушала Красную площадь. И дедушка тоже, через специальный контакт, подключенный к черепу. Особенно он любил слушать голос Шаляпина. Вскоре после праздника отец обычно разбирал приемник. Неизменным оставался только старый картонный репродуктор, который часто под вечер пугал меня трансляцией спектакля МХАТа «Домби и сын». Объявляли – начиналось, били колокола. «Слышите, это хоронят Домби», – скорбно вещал балованный голос. «Мама, мама!» – сдавленно призывал я, леденея от ужаса. Выдернув вилку репродуктора, мама прикрывает настольную лампу, ласково целует меня и оставляет, возвращаясь на кухню. Переделанная папой из керосиновой медная лампа со сфинксами в основании мягко размывает через газету лохматого Бетховена в темной багетовой рамке над пианино. Я отворачиваюсь от него и засыпаю, расковыривая пальцем засаленные обои. Засыпаю, привычно не замечая ночной тарабарщины железнодорожных диспетчеров, ритмично врывающейся какофонии проносящихся поездов, устало фыркающего паровозного разноголосья, не ведая близкого зова вновь разбуженных заводских гудков.
Однако в иные дни утро нашей квартиры начиналось несправедливо рано. Стены сотрясались от разрушительных ударов кувалдой, сопровождавшихся молодцевато-бравым:
Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела…Распахивал двери задвинутый, заставленный, захламленный коммунальный коридор. Вскочившие со своих постелей жильцы группировались в кухне семьями, каждая у своего стола, с любопытно-радостным негодованием наблюдая виновника побудки – молодого верзилу, по имени Ярослав, с песней вбивавшего в пол железнодорожный костыль. Это означало скорое приближение переаттестации в районном психоневрологическом диспансере, где он состоял на учете, симулируя умственную неполноценность с призывного возраста. Время от времени, нуждаясь в свидетельских показаниях, Ярослав валял дурака перед обитателями квартиры, двора и микрорайона. Обмазавшись лыжной мазью, туго замотавшись бинтами снизу доверху, варил в корыте суп из докторской колбасы, печенья и неразвернутых карамелек, маршировал по улице в белом маскировочном халате при полной охотничьей амуниции, имитировал на баяне воздушную тревогу, гремел речами агитационно-бредового содержания, возвысив себя голышом на скамейке посреди безмолвно озабоченных соседей. Унять, загнать Ярослава в комнату могла только его мамаша – немногословная старообрядка из раскулаченных, со средним образованием; принципиально не желая отдавать свои знания строительству социализма, она назло обществу служила уборщицей в банке. Папаша, лысый тщедушный техник неизвестного профиля, не имел никакой силы.
Официальное положение идиота давало возможность их сыну беспрепятственно заниматься бизнесом. Поначалу Ярослав пытался нищенствовать на паперти, откуда был вскоре изгнан и жестоко избит конкурентами за несоблюдение правил субординации. Затем, оправившись от побоев, задумался, недолго экспериментировал и наконец нашел истинно золотую жилу: собирал бутылки по вагонам, вокзальным залам и помойкам. А летом, скинув с себя вонючую робу, извлекал из сундука шикарный габардиновый костюм и отправлялся в круиз по черноморскому побережью, фотографируясь на память с праздно-красивыми дамами среди шашлыков и кипарисов. Однажды один из жильцов, фронтовик, желая припугнуть Ярослава силой печати, запечатлел моющего грязные бутылки бизнесмена в окружении смрадных мешков и возмущенных соседей трофейным аппаратом «лейка». Мамаша-старообрядка, пытавшаяся заслонить сына телом, потерпела неудачу, плюнула с досады в объектив, но промахнулась и настрочила на фронтовика анонимку. Отреагировать пришлось цеховой парторганизации с места работы бывшего фронтовика. Пришла комиссия, посмотрели, поговорили, посмеялись за чаем и, уходя, строго предупредили верзилу Ярослава о соблюдении норм общественной гигиены.
«Не те времена! Не вышло! – торжествовала, позволив себе к случаю дозу наливки, озорная вдовая старушка Марфа, вспоминая единственно любимого мужа, по прозвищу Птичка. – Выкусили? Птичка мой, Птичка! Шибко прибил полку над раковиной, до сих пор висит, держится – красотец!» – притопывала она.
Дед мой не выходил на кухню без галстука и пиджака. Он появился, шаркая, из глубины коридора с банкой покупного варенья в руках.
– Вот, Марфуша, к дню ангела презентую.
– А, старый хрен, глухая тетеря! – насмехалась в ответ Марфа, беря гостинец.
– Пожалуйста, пожалуйста, – искренне радовался дедушка, принимая ее брань за естественную благодарность.
Я уходил, убегал, исчезал, чтобы не видеть его, чтоб не расплакаться от обиды.
Над мокрыми шляпами и зонтами, над вымытыми до блеска панцирями легковых автомобилей, над прибитыми добрым грибным дождем вихрами молодых тополей, уже набухших зеленью вдоль улиц и переулков, плыву я в прозрачном уюте двухэтажного троллейбуса на гулянье в Останкине вместе с дедом…
Очнувшись в палате, я приметил над головой красно-стеклянный пузырь, оттуда по гибкой пластмассовой жиле каплями падала в меня новая кровь, сукровицей вытекающая через дренаж из заклеенной, перемазанной йодом только что прооперированной руки, раздутой отеком, как толстая ляжка. Боль, мытарная, ритмичными приливами вонзающаяся в кость, к ночи стала невыносимой, заставив стонать в ожидании облегчающих инъекций морфия.
Утром, когда делали перевязку и пан примач-травматолог предложил мне шевельнуть опухшими пальцами, я узнал непривычную, непонятную для себя весть: рука парализована, не действует.
– Скорее всего, нерв придавлен отеком. Надо чекать – ждать, пока спадет.
– Чекать, чекать, – заключил консилиум.
И наступило напряженное, бесконечное для меня ожидание хотя бы слабого, еле заметного шевеления парализованной конечности. Измучившись, я не запомнил эти, словно ластиком стертые в памяти, дни. И только другая, далекая память неизменно поддерживала меня тогда…
– Мужчина должен владеть толковым делом, любимой женщиной и боксом, – часто повторял дедушка, катая меня на лодке по пруду в парке возле Шереметьевского дворца.
– Скажи, дедушка, зачем владеть боксом?
– Затем, чтобы защитить слабого, защитить женщину.
– Значит, граф Шереметьев был не мужчиной, дедушка?
– Почему ты так решил?
– Потому что у него все женщины с отбитыми носами.
– С чего ты взял?
– Я видел там, у клумбы.
– Чудак, это скульптуры.
– Но это же скульптуры настоящих женщин, которые жили давно с отбитыми носами. Это, наверное, крепостные, крепостные артистки.
– Нет, малыш, это просто скульптуры. Для красоты.
– Тогда им надо приделать носы, дедушка.
Ни пестрая, точно заледенелая, мозаика графского паркета, по которой так легко скользить на огромных музейных тапочках в зеркально-шелковое великолепие парадных зал, ни призрачно-тусклая спокойная прелесть старинных картин, ни стертая временем позолота искусной деревянной резьбы Останкинского дворца не удивляли меня так, как намалеванное правдоподобие холщовых задников, фанерная пустота мраморно-бутафорских колонн и чудодейственная машинерия шереметьевского театра.
До этого я уже бывал на представлениях, но никогда не видел театр изнутри, не знал, как это делается. Не знал, не верил, что овладевшие моей фантазией, заставлявшие неразгаданной властью верить, смеяться и плакать сценические герои на самом деле переодетые и загримированные артисты – с виду такие же люди, как и я. И, счастливо подсмотренные художником, словно застыли в памяти душой уставшие глаза прекрасной графини Шереметьевой – бывшей крепостной примадонны придворного театра. Тогда я еще не смог осмыслить спрятанной в самое сердце грусти ее глаз и безнадежно заболел лицедейством…
– Скажи, дедушка, почему одни люди играют, а другие только смотрят на них? Почему они тоже не играют?
– Сначала, в детстве, играют все люди, малыш, а потом только те, у кого есть дар Божий.
– Что это – дар Божий?
– Осторожно, не наклоняйся к воде так низко. Вывалишься за борт.
И радио, говорившее со стенки, и толстые книги с картинками, которые рассказывал дедушка, и вечно уставившаяся на меня через окно улица, и бурлящие, скандальные будни коммунальной квартиры – все-все: шорохи, голоса, шумы, наконец, музыка, даже сны – стало объединяться, выстраиваться во мне нескончаемым спектаклем. Я недоумевал, не понимал своих сверстников, желавших стать шоферами, капитанами или врачами. Зачем? Это же так скучно – всю жизнь быть кем-то одним. Надо быть и врачом, и капитаном, и шофером, и еще кем только захочешь – надо быть артистом! Можно часами упоенно кривляться перед зеркалом, наслаждаться своим лицом, празднично размалеванным маминой помадой, но как заинтересовать этим других, как обрести зрителя? Своего зрителя. Мама и папа на работе. Бабушка все время запирается в запроходной комнате с частными учениками, а дедушка способен блаженно не просыпаться в своем кресле до самого конца представления.
Можно, конечно, прервать его сон, ошарашить деда, ударив половником в алюминиевые кастрюли или заорав не своим голосом, но тогда рискуешь настолько расшевелить его, что он весь затрясется, побагровеет, схватит рукой первый попавшийся стул, чего доброго, замахнется им, потом опустит и прохрипит, закусив губу: «Это же беспардонно, в самом деле!»
Безнадежно непонятый, я впадал в депрессию, прятался, запершись на крюк, в угловой комнате соседских стариков – Катерины Васильевны и Филиппа Васильевича.
Матери своей Филипп Васильевич совсем не помнил, помнил немного отца-пропойцу, от которого бежал из деревни в Москву еще мальчишкой, устроившись в ресторан учеником официанта. Им были довольны, хвалили за безотказность и расторопность. Когда в 1914 году напал на нас германец, Филипп, будучи призванным, не изменил своей профессии и даже удостоился чести подать осетрину фри великому князю на банкете в штабе округа.
А девица Катерина Васильевна работала шоколадной глазировщицей на кондитерском производстве, до тех пор пока хозяина фабрики не вывезли при всех за ворота, силком привязав к грязной подводе. Большевики объявили мир, и возвратился солдат Филипп Васильев в Москву, чтобы отыскать там глазировщицу Катерину и не разминуться с нею судьбами никогда. Не захотел, не пошел он по старой работе, не ко времени это было. Поступил на железную дорогу стрелочником. Вскоре, затяжелев, Катерина ни с того ни с сего почувствовала к мужу отвращение и, раздражаясь, прозвала его Стрелочник Карпушка. Отвращение прошло, а кличка осталась, прицепилась с годами еще крепче, словно в насмешку за неказистость Филиппа и его раннюю лысину.
Маленькая дочка недолго радовала: ушла из жизни, заболев «испанкой», оставила после себя задумчивую тоску в опустевших сердцах да остановившееся выражение недетского от страданий лица на посмертной фотографии. Других детей у них не случилось, потому так привязались они ко мне.
Бывало, захватит меня Катерина Васильевна отнести мужу горячий домашний обед в сложенную из шпал сторожевую будку на путях, и, пока он привычно похваливает обязательные грибные щи с жареной на сале хрустящей картошкой, я потешаюсь на крыльце цветными флажками, дую что есть мочи в его рожок, пугая издали гудящие поезда.
Если вспомнить, что приметного в Катерине Васильевне, пожалуй, даже очень долго и пристально раздумывая, так ни на чем и не остановишься. Разве только доброта. Да и та снаружи не видная, ничего не требующая взамен, не гордящаяся собой. Но такая была безотказная доброта, что чувствовалась всеми, всегда, везде, особенно детьми. Вот за это и ревновал жену Филипп Васильевич. Ревновал, потому что ведь почти у всех имеется жажда, желание пользоваться добротой.
– Ты что, старуха, ты что ему позволяешь лапать-то себя? – пыхтел он, видя, как я ластился к ней.
В ответ она незаметно опускала руку под стол, извлекая луковицу покрепче из припасенного на зиму мешка, и неожиданно метко запускала ею в мужнину лысину, приговаривая:
– Ах, ты… болтает невесть что про ребенка. Бессовестный! Стрелочник Карпушка!
– Ты что, с ума спятила? Прекрати! Ой, ой, что ты! Я пошутил!
Филипп Васильевич тут же сникал, закрывая голову полами железнодорожного френча с привинченным к нему орденом Ленина, который получил в числе избранных как отличник и ветеран труда незадолго до ухода на пенсию.
Филипп Васильевич очень гордился своим орденом. На ночь он снимал его, протирал специальной суконочкой, бережно укладывал в красную коробку и прятал под подушку.
Теперь Филипп Васильевич не провожал поезда, и мы не носили ему горячих домашних обедов. Теперь по утрам, привинтив орден к форменному френчу, он отправлялся в булочную за теплыми, только что доставленными из пекарни батонами для всей квартиры. Общее собрание избрало его ответственным квартиросъемщиком.
– Кто ты есть, чтобы указывать? Убью! – оскалясь, угрожал верзила Ярослав, когда ответственный призывал его к порядку.
– Как ты смеешь! Я… я… я – орденоносец… Да! – гневно задыхался Филипп Васильевич.
Больше всего Филипп Васильевич и Катерина Васильевна любили смотреть в окно. Они ложились животами на подоконник, подстелив для мягкости ватное одеяло, и смотрели, смотрели… А зимой, когда мороз делал непрозрачными оконные стекла, они смотрели друг на друга, сидя в разных концах комнаты, сидели и молча смотрели, часами.
Пленные немцы построили хороший дом. Высокий, он совсем загородил от нас шумную улицу. В праздники из наших окон теперь нельзя было увидеть веселую демонстрацию. Пение и торжественная музыка раздавались издалека. Мы, дети, выбегали через каменную арку, покупали конфеты, хлопушки, «уди-уди» и, стараясь затесаться в разукрашенную транспарантами колонну, двигались к центру, на Сретенку. Там гарцевала конная милиция, нас не пускали дальше, и мы возвращались домой есть вкусные пироги.
Однажды папа меня взял с собой на Красную площадь в октябрьскую демонстрацию, и я испытал ликование веры, которое никогда не забуду. И повторилось такое много лет спустя весной, когда полетел Гагарин. Общее стало сильнее, и все понимали друг друга…
Но возвратимся. Вернемся на крышу нашего дома, к холодному туловищу дымоходной трубы, где папа прикручивает телевизионную антенну.
Папин самодельный телеприемник был первым в округе. Дружба со мной стала необходимостью для дворовых ребят, и отъявленные хулиганы боролись за звание моих телохранителей. Благодаря телевизору положение мое обрело некую избранность. Вообще мне всегда делали поблажки и никогда не обижали физически. Сначала из-за телевизора, затем из-за постоянного успеха на школьных торжествах моего кукольного театра, потом из-за кино и, может быть, из-за того, что я сам никого никогда не ударил. Не могу, а жаль, надо бы.
Народу набивалось – до духоты. Гасили свет. Искрами вспыхивали огненные звезды радиоламп. Обнаженный непонятным для нас нутром, еще не запрятанный в корпус телевизор сперва как бы мурлыкал, издавал длинный пронзительный свист, казавшийся от нетерпения бесконечной увертюрой, и, опережаемый на мгновение звуком, наконец загорался голубоватый экран размером в половину ученической тетради. Все вскакивали со своих мест. Прямо на нас шел живой Ленин. Усталый, изнуренный, только что оправившийся после ранения. Что-то говорил, улыбался, и, отвернувшись, уходил по дорожке Кремля, и хотелось окликнуть, вернуть его, остановить кричащий немой фрагмент революционной хроники. Прямо на нас стройными, вышколенными рядами черных мундиров шли в психическую атаку белогвардейцы. И мы «подпускали их поближе» и вместе с Анкой-пулеметчицей косили смертельным огнем, а они все шли и шли под барабанный бой. И тогда врывался в кадр легендарный начдив – «впереди, на лихом коне». Взрывалось, гремело над полем боя победное чапаевское «ура!», и трагическая гибель его в бурной Урал-реке была для меня личной утратой.
Зажигался свет. От пыли телевизор прикрывали газетой. Захватив принесенные с собой стулья, расходились по домам приглашенные зрители. Склонивши голову набок, я еще долго сидел с открытым ртом, оцепенело приклеившись скошенными глазами к серой пустоте маленького экрана. Мальчишки во дворе прозвали меня за это Косым. Но прозвище не прижилось, так как с глазами у меня было все в порядке.
Я ведь только притворялся, что сплю. На самом деле слышал, о чем шептались в кровати мои родители.
– Ты заметил, – говорила мама, – его совершенно перестали интересовать книги. Кино – это, конечно, хорошо, но нельзя же только кино… Это односторонне.
– Надо заказать ящик для телевизора, – отвечал папа.
– Надо пригласить настройщика. Пора учить его музыке, – заключила мама, и они начали целоваться.
Моя мама замечательно играла на пианино, особенно «Лунный вальс» Дунаевского с вариациями. Мне так нравилось! Сам я желал научиться играть как можно скорее. Мама объяснила учительнице, доброй худенькой консерваторке с тонкими озябшими пальцами, что я очень способный, даже был принят на дирижерско-хоровое отделение Центральной музыкальной школы, но врач-педиатр запретил учить меня на дирижера, «а нам так хотелось бы владеть инструментом хотя бы немножко, для себя, просто так». Короче, сошлись на двадцати пяти рублях за урок (старыми деньгами) и приступили…
Поначалу я увлекся занятиями, однако вскоре стал охладевать. Конечно, я понимал, что нужно поставить руку, долбить гаммы, освоить азы, но сердцу хотелось песен, а не экзерсисов, песен из любимых кинофильмов: «Диги-диги-ду, ди-ги-диги-ду, я из пушки в небо уйду! Ай лав ю, Петрович!» – а меня заставляли играть про каких-то гусей и бабусю. И вместо того чтобы научиться исполнять авиационный марш «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц!» (от которого я и сейчас почему-то плачу, если случайно слышу по радио, не знаю почему), вместо этого я научился зевать с закрытым ртом, играя непонятные сонатины. Мама говорила мне: «Мы не так богаты, чтобы выбрасывать деньги на ветер. Если тебе не нравится заниматься музыкой, скажи честно. Не бойся, тебе ничего не будет. Признайся, ведь ты не хочешь заниматься?»
Но я молчал. Еще два года молчал. Было неловко перед доброй худенькой консерваторкой с тонкими озябшими пальцами, которая аккуратно ездила ко мне так далеко в любую погоду. И вовсе я не был невежей с дурным вкусом. Нет, просто очень любил кино.
– Вы спите?
– Нет-нет, заходите.
– Вас к телефону, Москва вызывает.
– Да, правда? Я сейчас, сейчас…
– Я помогу, не спешите.
– Спасибо. Осторожно!
– Больно?
– Ничего-ничего, пошли.
Как наступит воскресенье, Заверну я в заведение. Там спрошу чайку две чарочки Для себя и для кухарочки, –как-то шутя спел дедушка, понарошку аккомпанируя себе на игрушечной гармони, которую сложил для меня из плотной бумаги. Я тогда был совсем маленьким, но отчего-то запомнил эту песню. И хотя никогда не пел ее вслух, обязательно напевал про себя, мысленно, всякий раз как влюблялся.
Я всегда искал любви и всегда не там, где мог бы ее встретить. Задолго до вступления в пионеры изводился нежной страстью к одной из маминых подруг, пока она по погоде не переменила туфли на босоножки. Я терпеть не мог босоножки, и это столь значительное изменение ее туалета безнадежно разочаровало меня. Идеализировал я все – не только женщин. Пошлость и красота, добро и злодейство были для меня понятиями абсолютными, без всяких примесей и полутонов, такими же ясными и чистыми, как кинофильмы тридцатых годов и жизненные представления моих родителей. В конце концов это не подорвало во мне веры, но, безусловно, обострило врожденную чувствительность к разочарованиям. Пушкинские строки «Всегда так будет, как бывало, таков издревле белый свет: ученых много – умных мало, знакомых тьма – а друга нет!» – к двенадцати годам я принимал довольно близко к сердцу. Вот тогда-то и получилась у меня первая взаимная любовь.
Мы были соседями по даче. Она писала про меня в дневник (украдкой я подсмотрел однажды), а я лихорадочно обдумывал, как поцеловать ее по дороге на ферму, куда посылали нас за молоком лесной стежкой, и никак не решался. Иногда по пути мы купались в мелкой, прозрачной родниковой запруде. И она удивлялась, что я дрожу от такой теплой воды. Да не от воды я дрожал, прикрывая руками полыхающие огнем уши, не от воды! А она продолжала удивляться и однажды жалостливо обняла меня. Я поцеловал ее, и мы не испугались, и хохотали колхозницы в поле, которые видели нас…
Нас разлучили. Не то чтобы наши матери поверили слухам, нет. С поспешной бестактностью они чернили нас в глазах друг друга, безотчетно застигнутые врасплох инстинктом родительской ревности. Ее стали запирать в доме и прежде времени увезли с дачи покупать новую школьную форму, а я целыми днями вихрем метался по селу на велосипеде «без рук».
Теперь смешно, но так было, так неестественно прервалась первая реальная любовь, и я остался в одиночестве идеалов. Пришло трудное время – переходный возраст.
В зеркале я еще замечал черты милого, симпатичного мальчика, но неопределенность будущего моего облика беспокоила меня все больше и больше. Преодолевая ужасный стыд, я записался на прием в институт косметики, но чистка лица ненадолго успокоила меня.
Все же, признаться, большинство из нас думает о себе лучше, чем мы есть на самом деле, и мало кто видит себя со стороны, даже актеры. Поэтому я чуть ли не заболел душой, когда узрел и услышал себя в кино. Я казался себе неприятным типом, лишенным хотя бы мало-мальского обаяния. То была первая профессиональная травма. Однако окружающие удовлетворенно посмеивались и поздравляли меня с утверждением на одну из главных ролей в новой кинокомедии. А некая очаровательно миниатюрная кинематографистка из ветеранов производства, продолжавшая поражать дряхлеющих коллег сумбурно-вулканическим темпераментом, сказала мне:
– Запомни этот день. Теперь ты станешь другим, не таким, как прежде, и никогда не будешь самим собой.
В ответ я смущенно напомнил ей, что всего лишь полтора года назад именно она натравила на меня милиционера за то, что я влез в кадр, стоя в толпе зевак на Рижском вокзале во время натурных съемок завоевавшего впоследствии мировую известность фильма.
Как торопился я в тот день с «Мосфильма» в свою коммунальную квартиру, опасаясь, чтобы, чего доброго, не передумал режиссер и не разрушилось начавшееся волшебство! И счастливая будущность открывалась мне такой же близкой и ощутимой, как Москва с высоты Ленинских гор; капризное небо накрапывало будто бы от радости, а равнодушная уличная толпа казалась просто тактичной.
Дома я застал торжественный стол, накрытый вышитой скатертью, с тортом, конфетами, с мокрыми гроздьями винограда в серебряной вазе посередине. Катерина Васильевна сидела во главе стола, молчала, ела виноград, сплевывала в кулак косточки. Мне сказали: умер Филипп Васильевич, наш Стрелочник Карпушка. Катерину Васильевну успокаивали, а она не рыдала, не плакала. Она молчала так же, как зимой, когда мороз делал непрозрачными оконные стекла и они смотрели друг на друга, сидя с Филиппом Васильевичем в разных концах комнаты, сидели и молча смотрели – часами.
Я заглянул. Темно. Зажег свет. Он лежал на диване, где всегда спал, только орден был на груди, не под подушкой. Я погасил свет. Вспомнил, как вечером накануне он неожиданно разоткровенничался со мной, возбужденно шептал, что знает, кто стрелял ему тогда в спину, возле пакгауза, когда немец был под Москвой, что он еще выведет их на чистую воду… Я ничего не понял.
В детстве совершенно невозможно поверить, что когда-то не будет тех, кто рядом. Из задвинутого, заставленного, захламленного коммунального коридора Катерина Васильевна всегда выбегала мне навстречу, когда возвращался я после долгих отлучек. Обнимала, смеялась и плакала от радости. И после смерти мужа она так же по обыкновению еще несколько лет встречала меня. Маленькая, состарившаяся, утыкалась головой в мой живот, и я целовал ее. Еще несколько лет, потом перестала…
Хотел дойти сам – не разрешили, повезли на каталке. Очевидно, такой порядок, так уж заведено. Путь через улицу в новое здание, вверх на лифте. Опять пристегивают ремнями к узкому столу в просторном зале рядом с непонятной аппаратурой. Это не операция, это электродиагностика. Вонзают иголку с электродом в больную руку и сильно бьют током, перекладывая электрод по линии нерва, – пытка.
– Что, пан доктор, как?
– Шпатно.
Все же обратно добираюсь сам, без каталки. Не дождавшись лифта, долго спускаюсь по лестнице в больничный сад. Настроение скверное. Жарко. В тени под деревьями озабоченные парочки. Расстелив на траве разнообразные одеяла, молодые пациентки из гинекологического корпуса встречаются здесь, в саду, со своими возлюбленными. Их услужливые кавалеры оборвали уже всю ягоду, даже зеленую, еле созревшую, кислую. Немного осталось кое-где наверху, но мне не достать, не допрыгнуть. «Шпатно» – по-русски «плохо». Нерв не проводит тока. Стало быть, мертв, и парализованная рука останется парализованной. Правая рука! Не залезть теперь на дерево, не нарвать пыльных вишен – темных, спелых, сладких от солнца.
Вечером завотделением вызвал меня к себе в кабинет.
– Хотите чашечку кофе?
– Спасибо, пан доцент, хочу домой.
– Уже поздно, я тоже хочу домой, поэтому буду краток. Электрографическое исследование, сделанное после операции, давало нам все основания ожидать быстрой реабилитации утраченной двигательной функции. Повторный контроль показал сегодня полное функциональное прекращение нерва. Необходима срочная хирургическая ревизия. Операция назначена на понедельник. Мы пригласили хорошего военного специалиста.
– Пан доцент, а разве нельзя это сделать в Москве?
– Нет, дорого время. Вы можете остаться инвалидом.
– Знаете, пан доцент, я… завтра прилетает жена, ее вызвали через посольство сопровождать меня. Пан травматолог говорил – вот-вот выпишут. Я думал, иду к вам для прощальной беседы. Нам уже заказали номер в «Интерконтинентале». Сегодня пятница, в субботу и воскресенье в больнице только дежурные врачи. Отпустите меня в город до понедельника.
– Это не положено. Мы отвечаем за вас. А когда она прилетает?
– Утром.
– Не положено, но я ничего не знаю. Вы поняли?
– Спасибо, большое спасибо, пан доцент.
– Учтите: в понедельник утром вы должны быть на столе. Нейрохирург приедет в половине девятого. Не забудьте воздержаться от ужина. За двенадцать часов до операции ничего не пить и не есть.
– Даже пиво?
– Пиво будем пить после операции, но лучше коньяк, армянский.
Когда я возвращался в палату, из гипсовой вывезли на каталке бородатого анестезиолога.
– Лазил за вишней, упал с дерева и сломал ногу, – объяснили мне.
Рейс задерживался. Мы пили тоник, коротая ожидание в стеклянном возвышении экспресс-ресторана международного аэропорта «Прага». Помощник продюсера моложавый крепыш пан Виктор подробно рассказывал мне, как в прошлое воскресенье он ездил за оконными карнизами в ГДР, но не нашел там ничего симпатичного. Пан Виктор собирался жениться.
Реактивные лайнеры садились и взлетали почти беспрерывно, чиркая шасси по взлетной дорожке, будто спички о коробок. Карликовые вагончики-автокары развозили багаж и приземлившихся пассажиров. Я волновался. Она никогда не опаздывала на свидания, а мне никогда не нравились женщины, которые по беспечности или даже специально заставляют своих поклонников часами простаивать в условленном месте, как бы тем самым испытывая их. Мол, подождет, если любит. По-моему, в этом какая-то банальная игра и неуважение. Нет, в любви, наверное, должна быть игра, но талантливая… Впрочем, это кому как нравится – дело творческое. Но у нас у всех и без того хватает дел. Все некогда, некогда… Вот так и я жил, без любви, пока не встретил ее.
После чрезвычайно нервной, упорно неинтересной репетиции у меня разболелся живот, и я уже было собрался домой, вон из театра, на воздух, как вдруг кто-то поинтересовался:
– Чего ты вырядился в парадный костюм?
Я вспомнил, что приглашен. Мамаша приятеля – энергичная женщина, любившая пофилософствовать об утраченных идеалах, но руководствующаяся в неожиданных ситуациях единственным принципом «это жизнь, детка!» – накануне уговаривала меня: «Не надо никаких подарков, приходи запросто, будут все свои, как всегда, и племянница подруги – чистая, интеллигентная девушка, каких мало. Вот познакомишься».
Не скажу, что подобный «анонс» меня заинтриговал, нет. К тому времени, порядком утомленный холостяцкой суетой, я уже не ожидал для себя любви идеальной и, психологически созрев для женитьбы, сознательно, не надеясь на свой ленивый характер, вменил себе в обязанность не упускать случая.
Я застал вечеринку в разгаре и сразу выделил ее среди лиц, мне известных. Занятая вежливо-непринужденной беседой, она показалась мне совершенно неуместной в данном обществе по причине редкостной красоты. «Хороша Маша, да не наша», – сработал во мне комплекс неполноценности, и я стал выбирать что попостнее, так как живот мой не унимался. Помнится только, посмотрела она на меня, как врач на больного, не понимающего тяжести своего недуга. Теперь божится, что не смотрела так. Верю. Мне кажется, в век столь значительных интеллектуальных ухищрений верить друг другу – единственная возможность не быть обманутым. Она смотрела, смотрела, не зная об этом. Она вообще не ведает, что творит. Короче, я увел ее тогда, еще до чая, в другую комнату. Проговорили без малого два часа, не замечая времени. Узнал, кажется, все о ней и ничего не запомнил от возбуждения, даже имени. Ушел первым, не прощаясь, по-английски, заметив себе, что она вовсе не так хороша, как кажется с первого взгляда. Живот у меня прошел совершенно…
Интимно высвеченный комфортабельный модерн гостиничных апартаментов, куда поселил нас пан Виктор, привел ее в состояние навязчивого замешательства. «С нас не взыщут за это в Москве? Не расплатимся», – время от времени бормотала она.
Бесконечно корректируя воображением в сумерках больничного одиночества нашу встречу, я никак не мог предвидеть недоуменного равнодушия, возникшего во мне тотчас, как только выпустили ее из толпы через таможенную калитку – уставшую, с полными сумками, как будто бы прилетела не издалека, а только что вернулась со службы. Я испугался, подумал, что разлюбил ее, не знал, о чем говорить, поэтому говорил беспрестанно, особенно когда остались одни, хотя можно было бы и помолчать…
– Устала?
– Очень.
– После работы отсидела в парикмахерской, потом собиралась до ночи, а там уж и спать некогда – на аэродром пора, да?
– Да. Откуда ты знаешь?
– Знаю. Не надо, спасибо, я сам. Слава Богу, раздеться еще способен самостоятельно. Я так ждал этой минуты… Так ждал… Боже, какое наслаждение! Только не нужно так сильно. Более плавно. Вот так, хорошо, хорошо… Не царапайся!
– Извини.
– Давай еще раз, намыливай. Убавь, убавь воду – шпарит, горячая очень.
Кажется, никогда я не был так физиологически счастлив, как теперь, смывая заскорузлую грязь. Ведь сам-то не мог вымыться целиком, а сестер попросить стеснялся. Закончив с ванной, спустились в ресторан пообедать.
– Ты узнала этого голубоглазого американца в лифте? Дин Рид.
– Надо же, как обидно! Ты бы хоть толкнул меня!
– Но ты бы все равно не узнала. Для тебя все люди на одно лицо.
– Зато я прекрасно ориентируюсь на местности.
– Я думаю, эта твоя способность сегодня нам пригодится. Значит, так, пожалуйста, просим вас два больших пива, два салата из зелени, два бульона с кнедликами, два цыпленка на вертеле и… пока все.
– И мороженое.
– Да, и мороженое, одно. Я не буду. Знаешь, здесь по телевидению каждый вечер показывают портреты людей, погибших в автомобильных катастрофах. Для острастки, чтобы не очень суетились. И все-таки, по-моему, лучше погибнуть в дороге на пути к цели, чем проснуться на торжественном заседании по поводу чужого юбилея. Я знал одного старого актера, неудачника, который умер оттого, что его посадили на сцене во время юбилея театра не в тот ряд, на который он рассчитывал. А в гражданскую был комиссаром, водил в атаку людей… Вот так, не свою жизнь прожил. «Минуй нас пуще всех печалей» избрать не свое дело. Годами корпеть в кругу сослуживцев, достигать относительных успехов, мучиться неудачами, распутывать в меру способностей невидимую паутину, пытаясь не запутаться в ней, как муха. Всю жизнь зависеть от настроения какого-нибудь Сидора Ивановича или Ивана Сидоровича, испытывать неудобство, но продолжать длить его в силу инерции. И так и оставить сей мир, не зная, что рожден для другого. Кабы знать, для чего рожден! Раньше я понимал так: человек счастлив, когда не задумывается над тем, счастлив ли он, – в детстве и еще иногда в любви. Счастлив от полноты ощущений. Есть в нашей жизни дни, которые запоминаем… Теперь для меня счастье быть самим собой, и за это получить признание. И только. И больше ничего. Я понял, что искусство – не только форма познания и самовыражения, но и форма существования.
– Тебе понравился цыпленок?
– Его же еще не приносили.
– Что с тобой? Ты же его только что съел. Ты что, не заметил?
– А где кости?
– Убрали.
– Ты меня разыгрываешь?
– Конечно. Цыпленка не подавали, но если бы ты поменьше говорил, тебе бы цены не было. Поменьше говорил и побольше занимался серьезным делом.
– Иногда лучше заниматься несерьезным делом ради серьезной цели, чем серьезным делом ради несерьезной цели.
– Выкрутился.
– Прекрасное пиво, правда? Дождик пошел, смотри. Я так отдохнул здесь поначалу, когда прилетел. Мы снимали в маленькой деревушке, вернее, не снимали, потому что дождь моросил целыми днями. Отсыпался, визжал вместе со всеми перед цветным телевизором в баре деревенского отеля – транслировали автогонки из Монако, запивал пивом моравские шницели, шпикачки и бобовую «поливку». А в сумерках ходил под зонтом в костел слушать орган. И так трое суток, пока не открылось солнце. Если рука останется парализованной и я не смогу играть, клянусь, не буду больше досаждать тебе болтовней. Стану писать, например.
– Пиши, сейчас все пишут. Что мешает?
– Наверное, лень и любовь.
– Ты никогда не бросишь играть.
– Это не главное для меня. Главное – высказаться, освободиться от впечатлений. Актерская профессия слишком зависима – от внешности, от драматурга, от режиссера, от партнеров, от публики, от дирекции, от моды – слишком зависима, чтобы дать возможность не топтаться на месте.
– Хорошо, не топчись. Любовь тебе уже не помеха. Не отнимает душевных сил и эмоций, как прежде. Вот лень – этого у тебя не отнимешь.
– Видишь, тебе совсем нельзя пить, даже пиво. Начинаешь беспардонно кокетничать. А лень Чехов считал наивысшим блаженством.
– Нет, ты меня уже не любишь, как раньше. Я знаю.
– Ну вот, начинается семейная сцена. Смотри, дождь кончился. Пойди развейся, сходи в магазин, купи себе что-нибудь. Один работник съемочной группы все успокаивал меня после аварии: а чего, говорит, лежи себе да лежи – суточные-то идут. Так что у меня тут приличная сумма накопилась – действуй.
– Ну как ты можешь? Я так переживала за тебя, чуть с ума не сошла.
– За два месяца ни одного письма. Пожалуйста, получите. Сколько с нас?
– Платоша расстроился?
– Да… Он был так доволен… Очень хорошая кинопроба. Им нравится. Звонил в отличие от тебя, и не раз… В гипсе сниматься уговаривал. Им очень нравится. Я не могу… Я многое не могу, как Платоша: сутки-полсутки пить к радости, голодать раз в неделю, вываливаться из парилки на снег, ходить по инстанциям, в ночь репетировать до утра, снимать с утра до ночи, в перерывах играть в футбол, ждать солнца, печатать на машинке двумя руками, гнать автомобиль… И не жаловаться.
Кажется, что у нас общего с Платошей? Он человек веселый да серьезный, я человек грустный да смешной. Знаем друг друга давно, в детской театральной студии вместе постигали азы богемного колорита, учились в одном институте. Снимались вместе, но не дружили: я не принимал его как пижона, он принимал меня за городского сумасшедшего. Впрочем, не без взаимного интереса.
То ли оттого, что войны не знали, то ли потому, что с малолетства предпочитали искусство, не знаю отчего, но, встретившись на военной картине, оба увлеклись баталиями, как недоигравшие дети. Стреляли, взрывали, водили танки и в наивном стремлении к технологической доподлинности в кадре чуть действительно не подорвались пушечным снарядом семидесятипятимиллиметрового калибра с капсульным взрывателем. А вечерами спорили решительно обо всем, лишь бы спорить, давая обильную пищу коридорным смотрителям в гостинице: вот, мол, артисты – перебрали, небось, и бузят. То был захватывающий период юношеских заблуждений, полоса активного созидания личных философских догм, с виду до прозрачности ясная, как вымытые к празднику оконные стекла.
С неусыпной настырностью неизношенных организмов, наподобие несмышленышей, изводящих родителей бесконечными «почему», мы мучили себя, друг друга определением истинности всего. Во всем хотелось поставить точки над «и». Что есть подлинный гений, а что талант? Что искусство, а что ремесло? Что слова и что любовь?..
Как-то схлестнулись по поводу героизма. Я считал истинным бессознательный подвиг, он же отдавал предпочтение осознанному. И, вероятно, только затаенная размягченность (тогда он любил красивую женщину – актрису, мечту толпы, но оказался впоследствии с ней несчастлив), вероятно, только это помешало ему в тот вечер пустить в ход физические аргументы. Каюсь, уж больно противно я его донимал, с каким-то вдохновенным занудством, свойственным порой в крайностях характерам неспортивным. А утром следующего дня он со слезами на глазах предложил мне дружбу, и я с трепетным облегчением прочитал ему стихи, на одном дыхании придуманные ночью, смысла которых он не понял тогда, а я до сих пор.
И наступило согласие. Потекли иные беседы в непролазных белорусских чащобах, скрытые полумраком съемочного режима и лязгающим ревом «тридцатьчетверки», – беседы Андрея Болконского и Пьера Безухова (так представлялись мы теперь друг другу в потертых, отфактуренных гимнастерках танкового экипажа военных лет, с засохшими, будто кровь, следами лесной черники на кирзовых сапогах). И он сказал мне: «Ты хороший артист, а я плохой». И перепутал. Он был хороший артист, просто он уже знал что-то очень честное, что может изменить жизнь, а я еще нет; я еще не любил никого, а он любил красивую женщину – актрису, мечту толпы, и стал режиссером. Есть профессии, к которым приходят не сразу…
– Почему ты молчишь? Непривычно, да?
– Какая красота! Называется Карлов мост. Видишь – фигуры святых на парапетах. Построен по велению короля Карла Четвертого. Пойдем, там дальше должна быть скульптурная группа, какие-то звери на скале, я читала в путеводителе, и такая ниша или клетка. В общем, говорят, если лживый человек положит туда руку, то ее отрубит. Пойдем!
– Вернемся лучше в гостиницу. Стоит ли мне рисковать оставшейся рукой. Я устал.
Назавтра роскошная мраморная ванна была непригодно скользкой, жара на улице – изнурительной, «кондишн» в номере – не в меру прохладным, ресторанный сервис – неучтиво-пренебрежительным, жена – некрасивой, судьба – загубленной. Так не хотелось обратно в клинические казематы, к пропитанным йодом и душными мазями бинтам, к клейким, неотторжимым от разрезанной кожи пластырям, к капельницам, судкам, внутривенным уколам, к стреляющим прямо в костный мозг послеоперационным болям, ночным стонам, шоковым воплям, ампутированным конечностям, новеньким костылям и профессионально ободряющим улыбкам врачей. Не хотелось пресной больничной пищи, потому напоследок, перед тем как приехал за мной пан Виктор, я потребовал за обедом сильно наперченного сырого мяса. Первый раз, до этого никогда не ел. И, не получив ожидаемого удовольствия, расстроился окончательно.
– Прости меня. Я стал такой раздражительный, нетерпимый, совсем тебя задергал.
– Ну что ты, лишь бы завтра обошлось, сквитаемся. Все будет хорошо, вот увидишь! И ты напишешь, обязательно напишешь, как было.
– Зачем? Я и так помню.
Опустела стоянка возле хирургического корпуса, остались машины дежурного персонала. В саду ни души, только тени от еще не покинувшего день солнца: в больницах неестественно рано кончается день, наступает затишье. Мне что-то мешает, трудно ступать, будто из воды, из моря на острую гальку.
…И я вижу, я вижу, как мы влетаем в железобетонный осветительный столб на разделительной полосе левым боком. Я еще хотел было рвануть руль вправо, но не сделал этого. Шофер все понял в самый последний момент, но скорость не сбросил, не успел… Я обернулся: цел ли мой штоф хрустальный для водки? Цел. Подумал: «Что же ты со мной сделал, гад?» Увидел вдавленный в ребра руль, лицо шофера купоросного цвета со страдальческой виноватой гримасой и пожалел, что так подумал. Затем почувствовал – из головы льется кровь, и наклонился вперед, чтобы не испачкать джинсы. Левой рукой осторожно коснулся лба, понял, что только содрал кожу, и успокоился. Правая рука вцепилась в поручень над окошком передней дверцы, не выпускала его. Увидел ее со стороны, отдельно. «Неужели оторвал? И она сама по себе лежит в рукаве кожаного пиджака?» Попробовал пошевелить пальцами – работают. Не оторвал, а сломал. Ах, как обидно! Придется лететь следующим самолетом.
Подошел милиционер. Попытался открыть дверцу – не получилось, заклинило. Собралась толпа, дверь сломали.
– Просим… – предложил милиционер, пытаясь помочь мне встать.
Я тоже попытался – и вдруг резкая боль чуть выше правого локтя.
–…твою мать! – простонал я.
– Твою мать, твою мать! – понимающе закивали в толпе.
– Русский, русский, – подтвердил милиционер.
Меня приподняли, почувствовал: ботинки полны стекол. Как они туда попали? Лучше не вспоминать…
Зубная щетка на месте. Мыльница там же, где вчера положил. Я снова в палате. Душно. Открыл окно. Мимо идет старик с опущенной головой. Заметив меня, вздрагивает, останавливается, протягивает руку с кое-как свернутым узелком женского платья. Кивает, вроде бы соглашаясь с кем-то: «Замерла!» Протяжно вздыхает, беспокойно ищет вокруг рассеянным взглядом и, спохватившись, расслабленно продолжает идти по асфальту в гору к рельефно подсвеченному закатным маревом ажурному занавесу чугунных ворот.
Да… только бы не озлобиться! Что ни случись, только бы не озлобиться! Иначе – финита, страх от неверия или обезображенное тщеславием изживание. Как выразился неизвестный автор на стенке лифта:
Только летом листья зеленые, в осень – мертвые, золотые. Чаще юные люди влюбленные, чаще к старости люди злые.Разделся, проглотил горсть предписанных транквилизаторов и успокоился. Мне хорошо. Я снова в палате. За эти два дня я устал. Отвык от нормальной жизни.
И опять бесцеремонно пристегнули меня кожаными ремнями… Но я обманул их и, ловко сорвав с себя грубые путы, победно вознесся вверх ногами! И уже сверху успел заметить склоненные надо мной головы операционной бригады…
– Мотор!
– Есть мотор.
– Кинопроба. Монолог Трилецкого. Дубль третий.
– Начали.
– Послушай, – сказал я негромко, стараясь сдержать дрожь в голосе, – ты вот шутом меня считаешь. Все тут меня шутом считают, а что вы про меня знаете? Что вы знаете про меня? Душа моя утомлена, сердце высушено. Мне скучно, бесконечно скучно жить в этой глуши и не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и бояться, что за тобой приехали. А потом трястись по отвратительным дорогам на отвратительных лошадях. Читать только про холеру и ждать только холеру и в то же время быть совершенно равнодушным к этой болезни и к людям, которые ею болеют… И страшно, и скучно, и противно… Здесь веселиться, быть шутом, ездить на свинье, а дома ненавидеть свою жизнь, работу, со всеми поносами, рвотами, сифилисом… Господи! Стыдно за привычку жить и пить зря! И знать, что ничего другого уже не будет!
– Стоп, – улыбнулся Платоша, – теперь получилось. Все. Съемка окончена. Спасибо!
Я оторвал усы чеховского доктора Трилецкого, выпустил из глаз его слезы, еле сдержанные мною в кадре, и пришло облегчение, несмотря на усталость. Счастье от полноты страданий в принятых на себя чужих обстоятельствах. Редкое, парадоксальное счастье артиста.
Впервые на экране
Обо мне написало ТАСС
Поставив точку в конце этой маленькой повести, я попытался было издать ее, но увы. Вскоре понял, что в советской действительности писать и печататься два совершенно различных дарования, довольно редко сочетающиеся в одной персоне. «Нормально, если первой публикации автор ждет десять лет, но так как Катя относится к вам, как к „культу личности“, думаю, что это произойдет быстрее», – заявил мне Анатолий Алексин, бывший в то время секретарем Союза писателей по детской литературе. Ему передала мою рукопись Катя Маркова, дочка тогдашнего главы Союза писателей СССР Георгия Мокеевича Маркова, с которой я находился в приятельских отношениях. Параллельно с этим мои друзья показали рукопись Юрию Трифонову. Вскоре он сам позвонил мне и весьма одобрил. Мнение такого подлинного художника, как Юрий Трифонов, было для меня даже важнее публикации. У Алексина рукопись я забрал. Он оставил ее в редакции журнала «Юность». Пожилая работница «Юности» посоветовала мне в свою очередь обратиться в журнал «Октябрь». «А где это?» – спросил я. Мне подсказали. Я обратился в «Октябрь», на улицу Правды. И там обрел своих первых редакторов. Они опубликовали мою повесть в 12-м номере 1983 года, за что благодарен им до сих пор. Позже повесть увидела свет за границей, в Словакии. Но Юрия Трифонова тогда уже не было. Он умер, не пережив хирургической операции, буквально через пару месяцев после нашего телефонного разговора. «Не бросайте, пишите. В вас есть космичность», – низким глухим голосом напоследок обязал он меня и повесил трубку.
Отложим пока разговор о космичности. Вернемся к фактам, как обещал. Когда писал «Возвращение к ненаписанному», я не ставил перед собой задачи рассказать о себе любимом. Автобиографическая канва нужна была мне как каркас для ощущений, которые пытался вернуть, ибо всегда по детству равнял себя. «Будьте как дети!» – сказал Христос. А как это – «будьте как дети»? Ведь детям порой непонятно то, что абсолютно очевидно для взрослого. Например, в школе еще при Сталине, когда я пошел в первый класс, учителя говорили и в учебнике было написано, будто бы все равны. Как же это равны? Когда у меня шерстяная школьная форма, а у парнишки с «камчатки» (так называлась задняя парта) байковый комплект. Я вот учусь, стараюсь, слушаю маму и папу, а Владик целыми днями идиотничает, симулирует сумасшедшего, чтоб в армию не ходить. В повести он фигурирует «верзилой Ярославом». От того и имя ему изменил, что мне всю жизнь перед всеми Владиками неловко. Они-то ведь не дураки вовсе, если этот в детстве был дурак. Очень даже не дураки. Владик Владику рознь. Теперь-то я понимаю. Но где-то в глубине души Владик для меня – он и есть Владик, так и остался. Ну и Бог с ним.
Женское имя Екатерина сыграло в моей жизни гораздо большую роль. Если бы у нас с женой родилась девочка, я непременно назвал бы ее Катей. Тетя Катя – Катерина Васильевна Коробкина-Абакумова – соседка, ставшая для меня няней. Не по договоренности, по любви. Никто никогда не нянчился так со мной, как она. Тетя Катя принимала меня целиком, оправдывала, защищала порой даже от матери, когда мама наказывала меня за какие-либо провинности. Она дожила, гордилась, когда я стал артистом, снимался в кино. Часто спрашивала: «На могилку мою приедешь?» Я целовал, гладил ее, обещал.
Село Богослово. Кладбище, на краю заросший холмик. Полустертая надпись. «Родился, скончался… Филипп Васильевич, Катерина Васильевна. Абакумовы». Я разыскал, приехал, сдержал слово. Жену привез. На поклон, на смотрины. «Смотри, видишь – вот здесь, на кладбище, с мальчишками-пастухами мы собирали бутылки, сдавали в сельпо. Потом гудели – пряники, лимонад…» Мне было шесть лет. Я научился ругаться матом: «Пойдем, бл…, домой, бл…, спать, бл…, хочу». – «Не части», – советовали пастухи. Они меня уважали. Я был гость председателя. Иван Васильевич Коробкин – брат тети Кати – правил колхозом в селе Богослове. Последнее лето жизни Сталина. Теплое лето, свободное лето, последнее перед школой. Из Москвы я прибыл на грузовике. Впервые самостоятельно, без родителей. С тетей Катей. Она только кормила меня и укладывала. А остальное – трын-трава. Гуляй – не хочу. Вечером допоздна в клубе. Кинопередвижка. «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!..» На длинной скамейке сидим мы все, как один, деревенские пацаны – «дети капитана Гранта». И здесь, у нас на глазах, в Богослове – «Падение Берлина». Спишь потом, как убитый. Утром – хлеб, чай в самоваре, на шишках, сырые яйца из-под несушки, колотый сахар. И понеслась… По деревне, на пруд, в колхозные парники за огурцами.
Тогда я впервые решил, что жизнь не вечна – испытал жуткий страх. Двоюродный брат тети Кати заведовал парниками. Он вымыл мне огурец и предложил прокатить на узкой телеге. Запряг. Молодая кобыла была еще с жеребенком. Я только собрался, не успел еще сесть, как она понесла. Вперед рванул жеребенок, мать вслед за ним. И я оказался между досками и колесом. Ни в сторону прыгнуть – колесо не пускает, настигает железным ободом по спине, ни на телегу повиснуть, хотя бы краешком, животом. Только вперед! Бежать вперед! Не уступить лошади! Изо всех сил – вперед! Задыхаясь, не уступить, не упасть. Иначе – конец. Убьет, раздавит безжалостное колесо.
Когда кобыла все же остановилась, так же неожиданно, как понесла, возница, двоюродный брат тети Кати, еще долго орал благим матом, утирая от пота вожжами испуганное лицо. С содранной, развороченной в кровь спиной, с огурцом во рту я машинально ковылял к дому, и никогда более мат не казался мне таким благим.
Полученные таким образом раны сработали на авторитет. Уже не дачник из города, а свой в доску, действительный член ватаги подростков, я впервые почувствовал особую защищенность, меня приняли в стаю. Осталось только найти врага. Он держался отдельно. Не ходил с нами. Однако раньше пацаны боялись его побить. Он был сын агронома. Теперь же другое дело. Я был гость председателя. И я должен, просто обязан был врезать ему как следует, а то чего он? Это произошло на пруду. Я подошел к нему первый, в мокрых трусах. Я дрейфил, но стал задираться. Ведь за спиной стояли они – мои пастухи.
Начал издалека:
– Ну ты чего?
– А что? – растерялся он.
– А ничего, – обнаглел я и, ухватив его руками за шею, подножкой сбил с ног.
Но он не давал положить себя на лопатки. Он не сдавался. Я выкручивал ему руки, применял болевой, чего еще? Терпел, он терпел! Долго терпел, потом разревелся. Тогда пастухи засчитали мою победу. Удаляясь, мы так и оставили его в грязном песке. Не умолкая, пересыпая матом каждое слово, я пытался заглушить совесть. «Не части», – успокаивали меня тогда пастухи, но мне до сих пор перед ним стыдно.
В тот же вечер у скамейки за палисадником я сломал лапу котенку. Хотел научить его кататься на двухколесном велосипеде. Красном своем, подростковом. После ужина не мог долго уснуть. Ночью проснулся весь в слезах от страха. Подошла тетя Катя, гладила, утешала. Я признался ей про котенка: «А мама кошка не придет ко мне отомстить?» – «На нем все до свадьбы заживет», – уговаривала меня тетя Катя, и я уснул.
На этом же красном велосипеде в конце лета отец тащил меня, привязав веревку к рулю, на станцию через темный лес. Он специально приехал за мной. Забрал с вещами из вольницы в первый класс, в школу. Я только держал баланс. Педали крутились сами. «Дорогой длинною…»
Зачем в повести поменял имя своей двоюродной бабушке Катерине Ивановне Стебловой на Дарью Ивановну – и сам не знаю. Скорее всего, опять же боялся повторов. Куда ни глянь – одни Катерины. И не просто Катерины, а Катерины Васильевны. Вот и няня, и первая учительница в школе – тоже Катерина Васильевна. Запомнил, что добрая и высокая. С ней было как-то легче переживать неволю начального образования.
Однако первое полугодие закончил я радостно – абсолютным отличником. Во втором полугодии умер Сталин. Три дня объявляли – болел. Потом умер. Все плакали. Говорили: «Горе, большое горе! Как теперь будем?» Многие возлагали надежды на Берию. Тоже грузин. В пенсне… Может быть, с ним будет не хуже? Люди хотели увидеть сами. Шли, шли и шли туда, где гроб, к Колонному залу. По первой Мещанской, по Сретенке я тоже брел с пацанами. Шнырял в обход по дворам вплоть до Трубной. Дальше толпа испугала меня. «И слава Богу, что ты вернулся», – сказали домашние. Через два дня узнал – многие не вернулись… Погибли. Зато со временем потянулись из тюрем некоторые из тех, кто выжил… В наш двор опять возвратился пирожник. Опять, во второй раз. Его то сажали, то отпускали, то сажали, то отпускали. Мы, пацаны, совершенно запутались – шпион или нет. Вообще при Сталине черные воронки у нас под окнами являлись обыденностью. Мужики с каракулевыми воротниками, которых все звали «органы», жили в фасадной многоэтажке. Один из них был приятелем моего отца. В гостях у него я впервые узрел телевизор. Размером чуть больше тумбочки, он стоял на полу и светил экраном с коробку от папирос «Беломор». Не помню название этой модели, более ранней, чем КВН. Помню, отец купил у приятеля пальто с каракулевым воротником. В семье решили: дешево и сердито. Папа долго его носил. Долго работал в «ящике» радиоинженером. На одном предприятии до самой пенсии, сорок лет. Он у меня человек постоянный и в деятельности, и в любви. Впервые они встретились с мамой в младенчестве, в частной прогулочной группе при Ботаническом саду. Познакомились и разбежались, чтобы встретиться снова в десятом классе школы рабочей молодежи, где заканчивали прерванное войной среднее образование. С тех пор и не расставались. Юрий Викторович и Марта Борисовна. Мама была педагогом, директором школы, заведовала аспирантурой. Мама устроила меня в детский сад. В хороший, при папином «ящике». Но я удержался там только день. Тосковал, не мог в коллективе. Мама жалела меня – забрала. Другое дело – пионерские лагеря, где она служила в летние месяцы. Там я жил не в отряде, а в отдельном коттедже начальницы лагеря. Мама командовала, а я гулял, где хочу. То с большими, то с маленькими. Днем спать не ложился, сидел в столовой. Часами сидел над тарелкой каши. В детстве почти ничего не ел. Теперь потихоньку наверстываю. Только раз мне понравилось в коллективе. Лагерный коллектив подняли на карнавал. Клеили, шили, придумывали, мастерили костюмы, маски. Мне сделали грим и я был счастлив весь вечер и ночью во время костра. Но после отбоя наступила расплата. Холодной водопроводной водой пытался содрать с себя грим. Дошел до отчаяния – не оттиралось размазанное лицо. Не знал, не догадывался, что нужно с мылом. Выдохся и расплакался. Сдался. Остался в гриме. Как будто кто-то открыл мне будущее. С тех пор, можно сказать, жизнь моя поделилась на две половинки: без грима и в гриме.
Первая учительница, Катерина Васильевна, не говорила нам про стиляг. О них говорили по радио, помещали карикатуры в газетах. Не помню имени. Фамилия Измирянц. Хрупкая одноклассница в новом берете. После уроков поджидали ее на улице всем классом, и как появилась, обступили плотной толпой. Она недогадливо улыбнулась растерянными глазами. В ответ молчание, тишина. Вдруг кто-то срывается в выкрик: «Стиляга!» «Стиляга, стиляга!» – с энтузиазмом подхватывает толпа. Я из толпы поначалу не понял, в чем дело, но вот уже сорвали с нее берет и перекидывали словно мячик, когда она тщетно пыталась поймать его, затем не выдержала – побежала. Толпа вроссыпь с криком за ней: «Стиляга! Стиляга!» Я – за толпой молча и с удивлением. Ее гнали до самого дома. Она заплакала лишь у подъезда, боялась войти, подняться к себе в квартиру. Тогда, помешкав, сжалились, вернули затоптанный новый берет Измирянц, только предупредили – не напяливать на себя больше иностранные вещи. Я запомнил хрупкую девочку в новом берете. Я запомнил, что не смог ее защитить. С тех пор старался не ходить в толпу. Другое дело – ходить по улицам. Вылететь прочь кубарем с третьего этажа, лететь, нестись куда-нибудь от тоски в центр. По Сретенке, по Лубянке, по улице 25-го Октября. На Красную площадь, в Кремль через Александровский сад. И будто бы выдохнув радостную эйфорию, плюхнуться на дерматиновое сиденье троллейбуса, чтобы «зайцем» вернул обратно сквозь коммуналку в кукольный театр.
Домашние в детстве показывали мне диафильм-сказку «Страна дураков». А я им показывал кукольный театр. И что бы кому бы потом не показывал более или менее профессионально, всего лишь хотел вернуться в свою «Страну». И перо Николая Васильевича Гоголя, и наши мультфильмы, и грузинские короткометражки, и многое-многое другое не совсем «правильное», смещенное, преувеличенное или преуменьшенное, недотепистое, несовместимое – мое внутреннее пространство – «Страна дураков».
Стихийной силе неизменна, Хмельным весельем широка, Печальной памятью забвенна Страна Ивана Дурака, –робко сложу я позже, пытаясь рифмовать.
«Кто это тянет меня веревками на колокольню?» – «Это я, жена твоя, тяну тебя веревками на колокольню, потому что ты колокол…» – намного раньше напишет гениальный Николай Васильевич в своей незаконченной вещи «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».
До сих пор на даче, в сарае, пылится складная ширма, которую сделал отец. Он же научил меня формировать кукольные головы из папье-маше. И даже пытался резать из дерева. Тетя Катя помогала с шитьем. Со своей ширмой, с маленьким чемоданом, где теснились мои «артисты», всегда волнуясь, я шел выступать в школу или Дворец пионеров, или на какую-нибудь фабрику – куда пошлют. Без меня праздник – не праздник. Даже отпускали с уроков, чтоб готовился.
Я скупал резиновые клизмы в аптеке, вставлял им стеклянные, обретенные в зоомагазине глаза, приклеивал пробку на место носа, вырезал рот и заставлял говорить персонаж своим голосом, а иногда не своим – как получалось. За ширмой я забывался в конвульсиях упоительного самовыражения. Как гласит старая театральная шутка: «Занавес открылся, артисты заговорили не своими голосами, спектакль начался».
С марионетками не работал. Зато все остальные кукольные системы были освоены мною практически на профессиональном уровне. Это и перчаточные куклы (так называемые би-ба-бо), и тростевые, и механические, приводимые в действие элементарной системой блоков, и, наконец, большие куклы, частью которых был я сам. Например, садился на стул, верхняя часть моего туловища закрывалась специальным устройством – то есть как бы скрывалась в спинке. Одной рукой управлял головой куклы, у которой левая рука муляжная, а правая моя. Мои ноги становились ногами куклы.
В конце концов обо мне написало ТАСС, а я написал письмо Сергею Владимировичу Образцову, где предлагал усовершенствованную модель куклы-конферансье для знаменитого спектакля «Необыкновенный концерт». Вскоре мне ответили и пригласили на встречу. Через служебный вход старого здания Театра кукол под руководством С. В. Образцова на площади Маяковского я впервые проник в запретный мир закулисья.
Нередко артист кукольного театра прячет за ширмой некую личную проблему, связанную с неполной физической пригодностью к работе на открытой драматической сцене.
«Екатерина Третья». Заслуженная артистка Екатерина Васильевна Успенская не производила такого впечатления. Эта очаровательная миниатюрная немолодая женщина, которую прикрепили ко мне «по общественной линии» оказалась неформально добра к моим творческим судорогам и удивительно деликатно дала мне впервые понять, что научить актерскому делу нельзя, можно только научиться. Время от времени я готовил новые номера и сдавал свои первые маленькие премьеры Екатерине Васильевне. Я был в постоянном процессе, как драматург, режиссер, актер, художник, изготовитель кукол и декораций; я почти не думал о результате; я был человек-оркестр. Теперь иногда думаю: безрассудно невинные восемь лет в кукольном мире, может быть, были творчески наиболее счастливыми. И все-таки я вышел из-за ширмы. Вышел и ужаснулся, увидев себя в зеркале. Ну какой из меня артист с таким лицом?! Очень себе не понравился.
О бабе снежной и бабе живой
Прошла пора игры в куклы. Настало время игр с самим собой. С собственным сознанием. Занятие, надо сказать, небезопасное. Уже ты сам, а не кукла, все в тебе: руки, ноги, глаза, уши, нос. Рост, пластика, голос, ритм, темперамент – твой инструмент. И все это не настроено, не налажено, не подчиняется воли. Мысли, разбив безмятежность, улетают в бессонницу, как в трубу. А тебе лишь всего четырнадцать. Ты целуешь рубль в темноте коммунального коридора, который дала тебе одноклассница твоей мечты на взносы «за озеленение». И, не выдержав хаоса комплекса неполноценности, мчишься в Институт красоты выводить возрастные прыщи.
Сейчас можно писать об этом с некоторой самоиронией, с ясным пониманием, что комплекс неполноценности – всего лишь комплекс, ощущение, а не реальность. Но тогда это было подлинной мукой, подогреваемой к тому же буйными сексуальными фантазиями. Едешь с нотной папкой «на музыку» через всю Москву и буквально пьянеешь от стыдливого созерцания взрослых красавиц. И ни одна из них даже не подозревает о дерзкой истоме неуклюжего подростка, в ком сердце стучит не по нотам. А обольстительные замусоленные персонажи тайных страниц «Декамерона», обнаженная натура из папиных альбомов коллекционных открыток собрания живописи Третьяковки и Эрмитажа, случайные незнакомки в общественном транспорте будоражат другой музыкой, музыкой предвкушения встречи с еще неосознанным идеалом.
Но я успевал. Всегда успевал вскочить на подножку уходящего поезда, в самый последний момент брал высоту, отбрасывая в сторону паралич неуверенности. И главной опорой преодоления оказывалась конкретная творческая задача.
Роли, стихи, дневники, наивные пробы праздного сочинительства – они никогда не предавали меня. Не уходили, как друзья и надежды. Спасали в унынии. Бога не могли заменить, но пытались. До встречи с Ним было еще далеко. А пока я еще спотыкался в потемках. Ломился в закрытую дверь, хотя открытая была рядом. Стоило только сделать к ней шаг и войти… Ведь даже в буквальном смысле частенько прибегали мы маленькими пацанами через улицу на церковный двор, давили на кнопку входного звонка и, спрятавшись за углом, с восторгом наблюдали недоумение открывающего дверь священника, как он оглядывался, не понимая, кто это позвонил. А это я, я звонил и тоже не понимал, куда стучался в слепом восторге безотчетной шалости. Не понимал, зачем лезу на дерево посреди железнодорожных путей смотреть, как мчатся уходящие поезда. Куда я лезу? Куда они убегают, перебивая гудками церковный звон? И уже взрослым, женившись, привожу свою Таню к храму Святого Трифона Великомученика, и мы вместе лезем на это же дерево, чтобы увидеть те поезда, уходящие прочь из нашего детства. И мы любим. Мы счастливы. Мы думаем, что нашли то, что искали. Искали в дружбе, искали в любви.
Не мог поверить – недавно узнал, что он умер. Мой первый товарищ, тезка, брат Женька Бачулис – сосед по лестничной клетке. Там встречались с ним каждый день у пахнувшей кошками металлической лестницы винтом, увлекающей на темный чердак, где страшно. И в сладком испуге обратно вниз по железу ступеней, опрометью, гремя каблуками на весь подъезд, туда, где светло и привычно. Домой. К нему или ко мне.
Играли в солдатиков, в плошки, шашки и домино. Постарше – в шахматы. Взялся – ходи! Возились, боролись, смотрели в окно. Сквозь дождь, сквозь снег, на крыши сараев, с которых прыгали прямо в сугроб.
Зимой лепили голую снежную бабу и похотливо мечтали о бабе живой. Уговаривали подружку из соседнего дома изображать «маму с папой». Она соглашалась, ложилась в постель вместе с Женькой. Не знаю, чем они там занимались. Я дрейфил – сидел на атасе за дверью в соседней комнате. Мучился воображением, трусливо ждал свою очередь и как спасение воспринимал ничего не подозревающего отца, уводившего меня за руку кушать и спать: «Сколько можно сидеть у Бачулиса!» Когда же я подневольно нудил бесконечные гаммы или часами просиживал за школьными заданиями, Женька терпеливо сидел на сундуке у входной двери нашей коммунальной квартиры, дожидаясь моего досрочного освобождения. Но в коридор выходил дедушка Витя: «Женя Бачулис, иди домой. Ступай, ступай, завтра придешь. Наш Женя занят. Спокойной ночи!»
Женька часто оставался один. Можно сказать с еще несмышленого возраста. Никто толком не знал, как это произошло, но говорили, что мать в очередной раз оставила его без присмотра, выскочив в магазин. Младенец потянул на себя клеенку, на которой стоял керогаз. Тот упал со стола прямо на ребенка. Волосы его тут же вспыхнули. Он закричал. На счастье сосед пришел на обед с работы, услышал крик и спас Женьку. Но навсегда осталась метка у мальчика на обожженном виске, незаметно прикрываемая курчавым смоляным чубом. Женька вырос, стал стоматологом, однако взрослыми мы почти не общались. Так – пару раз повстречались в метро и только. Дом-то наш расселили, потом снесли.
Перед глазами осталась картина: дедушка Витя и Женька на сундуке, и слова в темноте коридора: «Женя Бачулис, иди, ступай, завтра придешь!..» И Женька уходит. И больше не придет никогда!.. Кто бы знал! Женька, Женька…
Теряя друзей, мы взрослеем. Но память, наша память навсегда оставляет их там, куда зовет нас безжалостная ностальгия. Ностальгия по Родине. Куда бы не забросили меня земные пути, куда бы не унесли устремления моего сознания, я всегда возвращаюсь. Возвращаюсь, чтобы не заблудиться среди людей и пространств, чтобы не предать себя, возвращаюсь по звездам воспоминаний. Я устал, я падаю на пороге. Вот он – мой дом, моя семья, моя Россия. Господи, дай нам силы!
Лихие опричники у Кремлевской стены, из тени в свет уходящего солнца, отраженного на морозном снегу – картинка, ушедшая в подсознание из книжки, которую читает мне дедушка на сон грядущий. Не помню названия, не помню автора, помню время – Ивана Грозного. Колокольный звон и гудки паровозов за окнами. Запах тепла и праздничных пирогов в зимней квартире. Заброшенные усадьбы подмосковного лета. Могилы Щепкина и Грановского на Пятницком кладбище. Полуразрушенная, забитая церковь с надгробиями князей Голицыных в селе Николо-Урюпино. Бунинские просторы. Чеховские мечты. Гоголевские абсурды. Надрыв Достоевского. Пушкинское «Мороз и солнце – день чудесный!..» И многое, многое, многое, без чего не могу – Родина.
Гладко пишется. Как бы не впасть в графоманию. Мне сызмальства нравилось водить пером. Еще в школьные годы нет-нет да и срывал я лавры за свои иронические сочинения на уровне класса, а то и педагогического коллектива. Поднимай выше. Бог знает куда бы это могло завести, если бы не лень. Лень всегда спасала меня.
Знаю, знаю, очень многие во всех бедах винят лень, а я ее прославляю. Стремлюсь, как только покончу с делами, тотчас к инструменту, к дивану. С дивана многое «дельное» кажется суетой. Диван дает передышку, «отстранение», отрезвление от дел. Для меня жизнь не в делах, а в поступках. Поступку же предшествует умозаключение. И вот тут уж одним своим умом не проживешь, тут посоветоваться надо с предчувствием, с подсознанием. Помечтать, потянуться на диване, помедитировать, полениться. Прозрение, изменение собственного сознания для меня поступок наиважнейший. Дела идут вслед, догоняют. Потом встал с дивана и, как говорится, «с Богом!».
Родители не только обожали, но и довольно хорошо знали и театр, и кино, как зрители. Однако, поощряя в принципе актерские склонности сына, все же считали, что лучше бы мне быть филологом, спокойнее как-то, увереннее, предсказуемее. Потому и наняли для меня частного педагога по литературе. Им был Борис Наумович Лондон. Яркий человек, можно сказать светило на небосклоне московского учительства. Ну и, разумеется, тоже влюбленный в театр. Борис Наумович привел меня в драматический театр им. К. С. Станиславского. В молодежную студию при театре, где он читал курс русской литературы. Свершилось. Куклы остались дома. Я вышел на человеческую сцену, выдержал экзамен, меня приняли.
Недавно, проходя мимо Манежной площади, со мной поздоровался какой-то прохожий. Из своих пятидесяти трех лет я вот уже 36 лет живу публичной жизнью, то есть меня узнают на улицах, в транспорте…
Поначалу мне это было ужасно смешно, просто еле-еле «держал серьез», чтобы не рассмеяться в ответ, затем привык и даже в определенной мере автоматически отвечаю на приветствия зрителей. И в данном случае я было ответил также полуавтоматически, но прохожий настойчиво остановил меня и предъявил вылинявшее, затертое удостоверение студийца театра Станиславского. Поразило, что он не только сохранил его, но и постоянно носит с собой. Актером не стал. Стал журналистом. Денег не нажил. Любит выпить. Юмора не теряет и хранит вместе с удостоверением неподдельный восторг тех юных, богемных лет. Мы простояли с ним, не замечая времени, часа полтора. Идеализировали тот восторг сквозь грусть реального опыта. Когда мы спускались на занятия в свой подвал по соседству с зрительским туалетом или поднимались в пропахший красками, лаками, древесной стружкой холодный зал декорационного цеха – на втором этаже подсобной пристройки, мы бросались в ад честолюбивых вожделений и взмывали в эйфорию случайного вдохновения, мы чувствовали себя на седьмом небе. Мы – это Инна Чурикова, Никита Михалков, Виктор Павлов, Александр Пашутин, Саня Лахман, Лиза Никищихина, Яша Пакрас, Саша Кобозев… Всего около тридцати человек. Саша сыграл тогда главную роль в фильме «Друг мой, Колька» и был предметом нашей особой гордости. Руководили студией режиссер Александр Борисович Аронов и актер Лев Яковлевич Елагин. Они приглашали к нам интересных людей – поэтов, писателей, бардов. Помню молодого Роберта Рождественского и сценический вариант его «Реквиема», который мы ему «сдавали». Помню еще только становящегося известным Булата Окуджаву и его импровизированный концерт в нашем декорационном зале. Помню долгожданную встречу с Михаилом Михайловичем Яншиным, народным артистом СССР, актером МХАТа и главным режиссером театра Станиславского. Не помню, о чем он говорил с нами. Только: «Я в детстве был пышечкой, любил много покушать, а теперь у меня рожа-рогожа, ни на что не похожа». Осталась в душе его интонация. Большой артист – всегда тайна. Может быть, даже и для него самого. Большой артист – всегда особая интонация, неповторимая, присущая только ему одному. Тот же Яншин в экранизации чеховского рассказа «Сапоги», в роли настройщика Муркина: «Я человек болезненный, ревматический. Мне доктора велели ноги в тепле держать». Сколько уже было киноверсий этого рассказа, но подлинный Муркин один единственный – тот, яншинский. Или, скажем, еще одна тайна: Петр Мартынович Алейников: «Здравствуй, милая моя, я тебя дождался…» в «Трактористах». Его же присказка из фильма «Семеро смелых»: «Во, брат, как!» Чего особенного в этом «Здравствуй, милая моя», в «Во, брат, как!» – но годы прошли, а ведь помним, ликуем. Кстати, Чарли Чаплин – Чарльз Спенсер Чаплин – считал Алейникова одним из великих актеров мирового кино. И я с ним согласен – во, брат, как! Алейников, его интонация, вибрация его души настолько жила в сердцах зрителей, что, когда он только выходил на сцену стадиона (а именно на стадионах проходили обычно встречи со зрителем артистов кино в советское время), народ вставал и приветствовал его нескончаемыми овациями, не давая ему буквально рта раскрыть, а он благодарил, плакал и повторял только: «Ну так же нельзя!»
Однажды я возвращался с гастролей из Ростова-на-Дону. Вагон «СВ», в котором я ехал, был «штабной», то есть в нем находился начальник поезда. Вернее, начальница. Она и обратилась ко мне с просьбой: «Защитите нашу девочку, нашу проводницу. Сейчас на остановке войдет один „мент“ – парень-милиционер. Он жуткий садюга, сволочь, принуждает ее к сожительству, шантажирует. Он едет один перегон, полчаса. Этого времени ему хватает на скотство. Через него уже многие наши проводницы прошли. Откажешь – статью пришьет, наркотик подкинет, сволочь. Помогите, отвлеките его. Жалко девчонку. Молоденькая еще совсем». – «Попытаюсь», – ответил я.
На следующей остановке действительно вошел молодой, довольно интересный парень в милицейской форме. Узнав меня, попросил автограф на денежной купюре. Подписал. Слово за слово, выясняется, что я любимый артист его матери, что сам он тоже ужасно любит кино, музыку, играет на бас-гитаре в клубном ансамбле. Обожает Высоцкого. И когда я сказал ему, что мы с Высоцким из одного двора, он совсем забыл о девочке-проводнице, все о Владимире Семеновиче твердил, выспрашивал. И вдруг, внезапно переменившись в лице: «А этого я ненавижу, сам бы убил суку! Что он все ноет и ноет?!» – «Кто?» – растерялся я. – «Ну, этот… „Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки…“ Окуджава, блин!» Мне стало страшно и жаль мальчика-милиционера. Что-то не так, что-то не строило в его душе, не отзывалось на доброту, вызывало агрессию. Оттого, видать, и насильничает проводниц в перегоне за полчаса. Я заговорил его, отвлек, спас девочку. И был потрясен. Оказывается, интонация, струна художника может не только объединять, но и выявлять людей.
Есть в Москве подъезд известный под названьем Черный ход. В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он не требует, не просит, желтый глаз его горит. Каждый сам ему выносит и «спасибо» говорит. Оттого-то и не весел дом, в котором мы живем, Надо б лампочку повесить, денег все не соберем… –пел Окуджава в холодном декорационном зале нашей студии. По лестнице, через зал, в общагу, в свою каморку на третий этаж поднимались влюбленные, счастливые Евгений Урбанский и Дзидра Ритенбергс. Они были молоды и уже знамениты. Вся страна знала, любила его «Коммуниста» и ее «Мальву». В театр Станиславского пришли вместе с ними другие молодые артисты: Евгений Леонов, Юрий Гребенщиков, Майя Менглет, Леонид Сатановский, Ольга Бган. Мы, юные студийцы, гордились ими. И никто еще ничего не знал. Не знал, что Ольга Бган вскоре уйдет из жизни, а Евгений Урбанский погибнет на съемках фильма «Директор». Никто ничего не знал.
Александр Борисович Аронов и Лев Яковлевич Елагин сделали недюженное дело. Они выявили и привели в искусство целое поколение. По разному сложились судьбы. Но все мы, бывшие студийцы, объединены неким паролем, некой общей причастностью к нашей студии и времени ее рождения – времени хрущевской оттепели. «Надежды юношей питали!..»
Не так давно умерла Лиза Никищихина. Умерла внезапно. Было ей за пятьдесят. Замечательная, талантливая, уникальная актриса. На панихиду в театр Станиславского пришли многие студийцы. Уходя, я спустился в подвальный этаж, где когда-то собирались мы на занятия. Но не нашел былого. Зрительский туалет, расширенный евроремонтом, поглотил репетиционный зал студии. Тоже веяние времени. Как там у Гены Шпаликова:
По несчастью или счастью, истина проста – Никогда не возвращайтесь в старые места. Даже если пепелище выглядит вполне, Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне…Мое отношение к учительству, мягко говоря, всегда было неоднозначно. Мама – директор школы. Бабушка – преподаватель русского языка, русистка. С детства я в курсе педагогических интриг, всех этих педсоветов, совещаний РОНО и ГОРОНО – грызня. Но был один директор, учитель, классный руководитель в моей жизни – действительно классный. Алексей Дмитриевич Фролов. Я учился у него всего два года, 9-10 классы, в 1140 школе. Но я его выпускник. Он выпустил меня на свободу из средней школы. Он сам был свободным человеком. Отец и дядя его, крестьяне Костромской губернии, купили на ярмарке лотерейный билет и выиграли кругосветное путешествие. Взяли деньгами. Основали игрушечное производство. Разбогатели. Дали детям приличное образование. Алексей Дмитриевич закончил классическую гимназию, высшую школу. Стал педагогом. Директорствовал. Сначала в провинции. Потом в Москве. И его служебная квартира при школе, и его коммунальная комнатенка с видом на Большой театр были перенаселены изысканными балеринами и породистыми собачками из фарфорового бисквита – коллекция. Даже внешне Алексей Дмитриевич был, как говорится, человеком старых правил. Плотный, основательный, неторопливый, хлебосольный, доброжелательный, галантный, аккуратный, ироничный, он жил закоренелым холостяком в окружении преданных лепных псов средь танцующих статуэток, храня на сердце какую-то тайну. Дети не только любили его, но и уважали безмерно. Называли Папа Леша. Участковый милиционер именовался им «околоточный», сберкасса – «казначейством», вышестоящие инстанции – «присутствием». Строго распекая провинившегося, он никогда не переходил на тон, унижающий человеческое достоинство. Многое прощал. Не терпел пошлость. Прятался от нее в свою коллекцию. Было в Папе Леше что-то традиционно российское, неподвластное осовечиванию, однако без излишних вольностей, без фрондерства. Выпускники, покидавшие школу, не порывали с ним. Приходили и в гости, и за советом, и в долг занять, и выговориться. Он обыкновенно угощал чаем в серебряных подстаканниках, с вареньем, с колотым шоколадом, с червлеными почему-то десертными ложками вместо чайных. Давал в долг, но брал расписку. Однажды он мне поверил свою историю.
Женился рано по страстной любви чуть ли не в совершеннолетие. Родился сын. Рос, учился отличником, вступил в комсомол. Потом война, Великая Отечественная. Сын – комсорг школы. Отец – директор. Он сказал ему: «Я агитирую ребят в добровольцы и сам должен. Иду на фронт». И он отпустил сына. И сын погиб. Жена не простила ему, что не прикрыл, не отмазал, «убил родное дитя». Они расстались. Да он не полюбил никого больше. Так и остался.
Когда Папа Леша, прожив свою жизнь, оставил нас, на поминках я увидел старушку. Ту самую, которую он любил. Но у нее была другая семья и другие дети. А Алексей Дмитриевич никогда не был ей мужем.
И сына у них никогда не было. Он все выдумал. Любил безответно.
Итак, вернемся к основному сюжету. Папа Леша облегчил мою участь. Я не сдавал выпускные экзамены – он освободил меня по медицинскому освидетельствованию. Какие там физика, математика, когда в голове сплошной театр! Он понимал это. Я шел в районную медкомиссию веселый – косить по блату. Я возвращался оттуда придавленный зябкой мнительностью. У меня в самом деле нашли порок сердца.
Как известно, в театральные институты поступают сразу во все. Абитуриенты кочуют, словно цыгане, от училища к училищу. Первым делом я экзаменовался в школу-студию МХАТа. Срезался на втором туре у народного артиста СССР Виктора Яковлевича Станицына. Читая Маяковского, дал петуха и сконфузился. Пошел в ГИТИС. Пел там песенку, аккомпанирую себе на рояле:
В Москве, в отдаленном районе, двенадцатый дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила. У этого дома по тропке ходил я, не чувствуя ног. И парень был в общем не робкий, а вот объясниться не мог…Слушавшие улыбались. Впечатление произвел.
Затейливые дни студенческой жизни
Бабушка по маминой линии Татьяна Яковлевна была немногословна. Страдая тяжелым заболеванием позвоночника, она постоянно находилась в согбенном состоянии, передвигаясь при помощи костыля с дивана на стул, со стула на диван; по улице – в инвалидной коляске. Чтобы ездить в этой коляске, нужно было обладать недюжинной силой, действуя на ручные рычаги. У нее не было сил.
Мы помогали ей. Да я и сам любил с ветерком прокатиться в этом тарантасе летом на даче, под уклон, на диво соседям. Баба Таня окончила консерваторию по классу фортепьяно, но большую часть жизни преподавала немецкий язык в московском институте инженеров транспорта. Во время войны за ней частенько присылали номенклатурную легковую машину, увозили в высокие инстанции, индивидуально обучать немецкому кого-то из наших маршалов. Будучи малышом я ужасно боялся ее. В черной железнодорожной форме с серебряными погонами она приходила ставить мне банки или горчичники от простуды. Приходила, пока саму ее не скрутил неизлечимый недуг. Осознав, что внук всерьез «собрался в артисты», бабушка Таня позвонила подруге юности, легендарной вахтанговской Турандот Цецилии Львовне Мансуровой. Просила принять меня, прослушать и определить, на что годен. Несколько раз тщетно звонил я Цецилии Львовне. Встреча откладывалась. Но вот, наконец, стою перед входной дверью с медной табличкой «Ц. Л. Мансурова-Шереметьева». Выдающаяся актриса, вдова графа Шереметьева, который из-за любви к ней пошел на разрыв с родней, остался в красной Москве, работал музыкантом в оркестре театра Вахтангова и погиб на охоте при невыясненных обстоятельствах. Все это будоражило воображение, сшибало с ног неловким волнением. Шереметьевский дворец в Останкине, куда водил меня дедушка; дворцовый театр; ставшая графиней крепостная актриса Прасковья Жемчугова; принцесса Турандот – Мансурова… И я перед ней с куклой би-ба-бо в руках, в повязанном на голову шерстяном платке. Импровизирую монолог старой няни, баюкающей грудного младенца.
«Не играй стариков, возьми что-нибудь от себя, свой возраст, смени репертуар и поступай. Ты можешь, должен», – разрешила Турандот. Цецилия Львовна стала моей крестной матерью на театре.
Рассказ Бориса Житкова «Хвостики» оказался моим пропуском в театральное училище им. Б. В. Щукина. Мне подсказала его Катерина Васильевна Успенская. Я читал его от лица маленького мальчика, который срезал меховые хвостики с дорогой шубы маминой гостьи. Кажется, так. Впрочем, точно уж и не помню. Помню, успех был удивительный. Я рассказывал это дело, как говорится, совершенно серьезно, а все смеялись. Поступил как по маслу. Даже освободили от одного тура. Всего их было пять или шесть. Сто человек на место. В самом конце на конкурсе попросили сыграть этюд. Тему дали – химчистка
Пять минут на подготовку. Все ребята распределились по ролям. Я же был в крайней растерянности, не знал, что делать. Пригласили на сцену. Уже выходя, предупредил партнеров: буду директором. От страха родился выход. «Что это такое? Что это за работа? Ничего не очистилось. Как было пятно, так и есть», – спрашивала клиентка приемщицу. «Действительно, что это такое?» – переспрашивал директор. «Какое пятно, никакого пятна», – отвечала приемщица. «Действительно, никакого пятна», – невозмутимо повторял я. И так по нескольку раз. Эти повторы «на голубом глазу» спасли меня. Комиссия улыбалась. Ректор училища народный артист СССР Борис Евгеньевич Захава попросил почитать что-нибудь серьезное, патетическое.
– Александр Сергеевич Пушкин! – объявил я.
О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас?.. –обратился я к экзаменаторам, как бы совершенно по-бытовому и конкретно.
– Спасибо, спасибо, достаточно! – рассмеялся Борис Евгеньевич.
«Не вышло, – подумал я, – не вышло с патетикой. Чего они ржут?» Но тут же услышал, как Мансурова наклонилась к Захаве и сказала ему: «Это мой мальчик». Борис Евгеньевич одобрительно кивнул. Только убедившись, что я всем понравился, Цецилия Львовна позволила себе эту «протекцию». До этого она никому ничего не говорила. Считала невозможным.
Меня допустили к общеобразовательным экзаменам. Английский язык, история, сочинение и собеседование. Английский я ненавидел. Рыжая экстравагантная учительница в школе буквально издевалась надо мной. Каждый урок одно и то же: «Стеблов, к доске, плиз». И я – длинный, в кителе, волосы назад скоком: «Ай донт ноу» («Я не знаю»). «Садись, два». И так до конца четверти. В конце четверти: «Вызови мать!» Приходила мама. В то время она была директором соседней школы. Они любезно беседовали. На другой день рыжая вызывала меня, ставила пятерку и выводила тройку в четверти. Я не сопротивлялся, молчал, не говорил: «Ай донт ноу». В следующей четверти все повторялось сначала. Так вот к экзаменам в институт я подготовился эксклюзивно. Вызубрил на английском разные выражения. Например: «Что-то тут душновато. Нельзя ли открыть форточку? Дайте, пожалуйста, карандаш. Нет, не тот. Лучше вот этот». Напихал в карманы шпаргалок. Списал все, что можно. Произвел впечатление человека свободно владеющего языком и получил «отлично». Сам не поверил. Историю сдал на четыре. Ну а уж в сочинении я не сомневался. Взял свободную тему. Играл словом. Получил тройку – сделал несколько орфографических ошибок. Говорят, некоторые большие писатели тоже писали с ошибками. В этом мы схожи. На собеседовании улыбающийся Захава только и спросил меня: «Сколько вам лет?» «Шестнадцать», – признался я. Члены комиссии тоже заулыбались: «Идите, спасибо».
Через несколько дней я смотрел списки поступивших и не верил своим глазам. Меня приняли! Пришел домой. «Приняли!» Пообедал и опять поехал в училище на втором троллейбусе через всю Москву на Арбат. Опять смотрел списки. А вдруг ошибся? Уже после Мансурова призналась мне, что исправила мое сочинение. Ошибок было на двойку, а меня хотели принять. Понравился.
31 августа 1962 года впервые собрался наш курс. Наш худрук Анатолий Иванович Борисов знакомил нас друг с другом. Каждый читал фрагмент из репертуара, с которым он поступал. Обыкновенно, если среди выпускников одного курса два-три человека обретают признание зрителей, становятся известными, – это считается хорошо. У нас был уникальный курс: Инна Гулая, Валя Малявина, Маша (Марианна) Вертинская, Наташа Селезнева, Боря Хмельницкий, Толя Васильев, Эра Зиганшина, Земфира Цахимова, Нонна Терентьева, ваш покорный слуга…
Какое счастье: никакой физики, химии. Вместо этого русская и зарубежная литература, изобразительное искусство, русский и зарубежный театр, французский (о, насколько он милее английского!) и мастерство, мастерство, актерское мастерство, а вечером в театр бесплатно, по студенческому удостоверению. Правда, вот танец никогда не нравился. Танцевал конечно, но без удовольствия. На экзамен по танцу собиралось пол-института – на меня. Посмеяться.
Новый 1963 год мы с моим другом и однокурсником Витей Зозулиным встречали у одной из наших девчонок в старом доме на Гоголевском бульваре. План был таков: после двенадцати взять такси и объехать с поздравлениями любимых педагогов. Собрались заранее, часов в десять. Кто-то предложил аперитив. Оригинальный коктейль с яйцом через соломинку. Очнулся я в половине первого. Не помню, как уснул. Новый 1963 год я встретил во сне. И даже во сне мне никогда не могло присниться то, что произошло со мной в 63-м году. Жизнь моя переменилась кардинально. Театр театром, но кто же из нас не мечтал о кино?! Да, началось все с телевидения. Мне предложили принять участие в телеспектакле. Тогда еще не было видеозаписи, и спектакли шли в прямом эфире.
Не помню ни роли своей, ни содержания постановки. Что-то из западной жизни. И вот настал день дебюта на многомиллионной аудитории. Вся наша коммунальная квартира заняла места у телевизора. Я подошел к стоянке такси у Рижского вокзала. Сел в машину. Небрежно бросил шоферу: «На Шаболовку!» В это трудно поверить, таксист оказался бывшим водителем Мейерхольда. Всю дорогу до телестудии он рассказывал о Всеволоде Эмильевиче, о Зинаиде Райх, о Михаиле Цареве. О том, как предали великого мастера. О его одиночестве…
Почему я попал в эту машину, именно к этому человеку? Случайность? Может быть…
Мне казалось, что на следующий же день после появления на голубом экране меня начнут узнавать на улицах, но этого не произошло. Жизнь продолжалась по обыкновению. Днем в институте. Вечерами частенько собирались недалеко от моего дома в театральном общежитии на Трифоновской улице. Там возникали разнообразные ситуации, от заурядных посиделок до жестоких розыгрышей. Учился у нас на курсе некто Володя Гордячев (фамилию намеренно изменяю по причине, которая далее станет ясна). Парень из деревни, в зеленом костюме из бильярдного сукна. Во время занятий по мастерству он внимательно вглядывался через очки в работающих на площадке товарищей, упираясь двумя руками в колени своих кривоватых ног, время от времени резко ударял ладонями по ляжкам, поправлял одним пальцем съезжающие с носа очки и вскрикивал всегда одной и той же фразой: «Кончай болтать, туши фонарь!» Что он имел в виду? Одному ему было известно. В этюдах Володя, как правило, играл или парторгов, или агрономов, или колхозных председателей. Жил он в старом здании театрального общежития, что в начале Трифоновской улицы, в огромной сорокаметровой комнате двухэтажного деревянного барака. Наши ребята, разделяющие с ним это жилье, стали подозревать с некоторых пор Володю в воровстве. Но не пойман – не вор. Когда я однажды вечером заглянул в гости к своим однокурсникам, то застал в этой комнате необычное многолюдье. Шел сеанс гипноза. Гипнотизер, не знакомый мне студент школы-студии МХАТа, на глазах у всех заставлял добровольцев спускаться под воду в акваланге, собирать грибы, ловить рыбу и т. д. Наконец, в комнате появился Гордячев. Он некоторое время оставался зрителем. Затем, резко выдохнув свое: «Кончай болтать, туши фонарь!», азартно вызвался: «А ну, попробуй меня!» Гипнотизер сначала приказал Володе сесть на кровать, ввел его в транс. Далее Гордячев как бы оказался на интимном свидании с девушкой, которой была пуховая подушка. «Смелее, смелее, будьте активны, отбросьте стеснение, развивайте инициативу!» – повелевал медиум. Володя и не думал стесняться. Он явно вошел в раж. Страстно обнимал, мял партнершу, осыпал ее мелкими поцелуями и в конце концов, окончательно овладев подушкой, разрешился натуральным оргазмом. Вот тут-то гипнотизер и «сбросил маску». Он объявил Гордячеву, что все это было розыгрышем, а предыдущие добровольцы – подставные лица. «Неправда! – сопротивлялся обессилевший Вова. – Я ничего не помню!» Ответом был дружный смех. После этого происшествия кражи прекратились. Володю Гордячева даже избрали в профком института. Но через год, на втором курсе, он внезапно исчез, прихватив с собой профсоюзную кассу. Ни по стилю, ни по содержанию ему не было равных в рефератах по изобразительному искусству. Чудно.
Затейливые дни студенческой жизни. Предчувствия, планы, ожидания… Актерская судьба – закономерность и лотерея. «Первый троллейбус», киностудия им. Горького. Мой первый фильм.
Савва
Весна 63-го года. Впервые лечу в самолете. Ту-104, Москва–Одесса. Роль пустяковая – две сцены. Но я лечу. Лечу на съемки! Первый съемочный день. У общественного туалета на Приморском бульваре. Рядом с бронзовым Пушкиным. Какое счастье! Между Пушкиным и туалетом. За веревкой толпа зевак. Когда-то и я стоял среди них на Рижском вокзале. Снимали «Балладу о солдате». Маленькая энергичная женщина из киногруппы гнала меня: «Вот вы, молодой человек, отойдите, отойдите подальше, мешаете, отойдите!» Когда-то… Я был еще школьником. И вот теперь сам сижу перед камерой вместе с партнером Савелием Крамаровым.
– Вечером чего делаешь? – спросил Савва.
– А что?
– Пойдем в «Лондонскую», в ресторан. Девочек склеим.
– Пойдем, – испугался я.
Это теперь одесские девочки работают исключительно за валюту. Тогда брали в рублях, а то и харчами. Та, с которой мы познакомились, согласилась на ужин. Ужин в «Лондонской» – это тебе не хухры-мухры! Туда еще попасть надо. Ресторан «Интурист», только для иностранцев. За иностранца выдавал себя Савва. За болгарина. Я же представился переводчиком с болгарского на русский. Очевидно мы были достаточно убедительны и по-болгарски, и по-русски – швейцар поверил. Он, видимо, не был кинолюбителем, и Крамарова еще не очень узнавали на улицах. Наша очаровательная спутница осталась довольна ужином и в завершение «кинула» нас, отлучившись на минутку под благовидным предлогом. Говоря по-русски – сбежала. Савелий слегка огорчился. Я сделал вид, что огорчен тоже, а на самом деле вздохнул с облегчением. Крамаров улетел в Москву. Мне предстояло лететь следом. Как выяснилось, Савелий забыл паспорт. Оказалось, что жил он рядом со мной, и меня попросили передать ему документ, что я и сделал, посетив его коммуналку напротив кинотеатра «Форум». Савва очень благодарил и в знак признательности презентовал мне красные импортные синтетические носки. Тогда это был дефицит.
Я обескураженно отказался. Он обаятельно настоял. И я удалился с носками, хотя и пришел не босой. Так началось наше товарищество. У Савелия в те времена не было еще актерского образования. Он окончил лесотехнический институт, а в театральный поступил позже, по моему совету. В ГИТИС на заочное отделение. С тех пор Савва обращался ко мне – Учитель.
– Учитель, ну как я сыграл? Как дубль?
– Жмешь, Савва, наигрываешь.
– Ну, Учитель, ты в легком весе выступаешь, а я в жиме.
Однажды мы благочинно обедали у нас дома. Мама, папа, я и Савелий.
– Скажите, Савелий, что же вы так – и не числитесь ни в каком штате? – спросила мама, разливая суп. – Ведь съемки это так непостоянно, время от времени. Что ж вы делаете, когда кончаются деньги?
– Беру чемодан и еду за деньгами, – парировал Савва.
Он имел в виду встречи со зрителем.
Позднее Крамаров поступил в штат Студии киноактера киностудии «Мосфильм». Получил звание. «Я фюрер, Учитель. Выхожу в Лужниках – стадион стонет. Мой народ!» Действительно, популярность его стала тотальной. Если он случайно нарушал дорожные правила на своем букашке-«фольксвагене», милиционеры вытягивались, делая под козырек, только увидев его, высовывающегося на ходу по пояс из люка крыши. И вот в середине семидесятых Савелий Крамаров совершенно неожиданно для окружающих подает документы на эмиграцию в Израиль. Ни одному из рядовых отечественных антисемитов и в голову не могло прийти, что Савва еврей, что уж говорить о высокопоставленных. Судьба отворачивается от него. Но как бы ни переменилась к нему государственная машина, как бы ни замалчивали его, народ не может забыть своего любимца. Да и количество фильмов, в которых он снялся, столь велико, что если бы их все «положили на полку» – пришлось бы снять с экрана примерно треть кинопродукции тех лет. Наконец, после годичного «замораживания» его выпускают из страны и он уезжает в Америку. Ходили слухи о баснословном наследстве, которое оставили ему еврейские родственники из-за кордона. Не знаю, не могу подтвердить, а врать не хочу. Знаю только, что Саввушка был сиротой. Отец его, видный адвокат или прокурор, попал под сталинские репрессии и сгинул в ГУЛАГе. Мать умерла. Русские родственники взяли его к себе. Он рано зажил самостоятельно. Привык рассчитывать на самого себя, слыл достаточно бойким, коммуникабельным и даже в известной мере ушлым человеком. Но все это внешне. На самом деле Савелий был человеком нежным и трогательным. Никогда из его уст я не слышал ни одного ругательства. А если, бывало, я сам этим грешил, то он говорил мне: «Зачем так? Не надо».
Не терпел грубости, пошлости по отношению к женскому полу. И они, женщины, отвечали ему взаимностью. Одна из дам его сердца даже пыталась покончить с собой, когда они было расстались. Он любил ее, эту блондинку, но она была старше его, а он очень хотел жениться на еврейской девушке. И чтобы обязательно была целомудренна, и чтобы было много детей, и чтобы все по закону. По иудейскому, религиозному правилу. Последние годы Савва регулярно посещал Московскую хоральную синагогу. Носил тюбетейку вместо кипуры, ел только кошерное, чтил субботу. И не снимался он в этот день, хоть ты лопни. А совсем недавно пришла печальная весть. Там, в Америке, от какой-то редчайшей и скоротечной болезни сердца скончался заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров. Один известный артист рассказал мне, что позвонил в штаты, в дом Крамарова, его жене выразить соболезнование. «Не смешите меня», – раздалось на том конце провода. Не знаю, нашел ли Савва, чего искал. Помню, мы снимались с ним в Киеве в телевизионном музыкальном ревю. Одну ночь ночевали вместе в старомодном шикарном люксе. Пожелали друг другу спокойной ночи. Пауза. Длинная пауза.
– Женя, а ты любил когда-нибудь? – спрашивает Савва из темноты.
«Не знаю», – подумал я.
Я себе не понравился
Но вернемся к красным носкам в 1963-й. Импортные носки, которые подарил Крамаров, оказались малы мне. Я не носил их и продолжал ходить в своих, в отечественных.
Закончился первый курс. Раскрылось окнами желанное лето. В один прекрасный день, как в сказке, мы с Витей Зозулиным пошли на «Мосфильм» с неясной целью. У нас, студентов, существовал нехитрый прием. Слоняясь по коридорам студии, мы время от времени открывали дверь какой-нибудь киногруппы, неловко бормоча: «Ой, извините, я, кажется, не туда попал…» Все это делалось с тайной надеждой: а вдруг кто-то заинтересуется нами и мы выиграем свою лотерею? А вдруг?! Уже на проходной, той, что со стороны правительственных особняков (тогда там жил сам Хрущев), мы повстречали одного из наших студентов с вечернего факультета.
– Вы куда? Ну да, понятно. Поднимитесь на четвертый этаж в группу «Я шагаю по Москве». Им нужны молодые герои, – посоветовал он.
Мы так и сделали. Нас встретила маленькая экстравагантная женщина неопределенного возраста. Та самая, которая гнала меня на Рижском вокзале во время съемок «Баллады о солдате». Она-то, конечно, меня не запомнила. А я ее еще как! Это была многоопытный второй режиссер Маргарита Александровна Чернова. Она посадила нас почитать сценарий. Сценарий Геннадия Шпаликова. О чем? Ни о чем. Во всяком случае, я тогда ничего в нем не понял. Затем нас показали режиссеру-постановщику Георгию Николаевичу Данелия. Он распорядился сделать фотопробу для Вити Зозулина, а меня вовсе забраковал. Но, как говорила потом Маргарита Александровна, у меня был столь жалостливый вид, что она послала на кинопробу нас обоих. Вот с этой-то фотопробы в роли жениха и началась по-настоящему моя киносудьба. Все завертелось. Назначили кинопробу – сцену на свадьбе.
Я впервые попал в съемочный павильон. Вокруг трудилось много людей. Кто-то подходил ко мне, что-то поправлял, что-то мерил. Каждый из этих работников и все они вместе отвлекали меня. И тогда я отчетливо понял, что если сейчас, здесь мне не удастся собраться, сосредоточиться, обрести так называемое публичное одиночество, то ничего не получится – я завалю кинопробу. И мне удалось. Я выключил их из круга внимания, оставшись один на один с глазком кинокамеры. И все получилось. Через некоторое время меня утвердили.
Впервые я увидел себя на экране в маленьком просмотровом зале генеральной дирекции. Показывали кинопробы художественному совету. Все смеялись, похлопывали меня по плечу, поздравляли. Я вежливо улыбался в ответ, но в душе была буря. Я только что видел на экране сумасшедшего человека, и этим человеком был я. Ведь каждый из нас думает о себе лучше, чем есть на самом деле. Тогда я очень себе не понравился. Да и теперь не в восторге.
И тем не менее я был счастлив! Даже не верилось! Осталось только получить разрешение у нашего ректора Бориса Евгеньевича Захавы. Вот уж действительно, что Бог ни делает, все к лучшему. Меня не приняли в школу-студию МХАТа. Но в школе-студии категорически не разрешалось сниматься в кино. Меня приняли в Щукинское училище. В Щукинском разрешали сниматься студентам. Иногда, в виде исключения. Захава в ту пору сам снимался в роли Кутузова в «Войне и мире» у Бондарчука. Данелия и Бондарчук были друзьями. Вопрос был решен. Борис Евгеньевич благосклонно подписал ходатайство киностудии. Тем более что производство картины не мешало учению. Все снималось в Москве. Мы вышли из ректорского кабинета – я и ассистент по актерам Лика Авербах. Очаровательная женщина грациозно заикающаяся матом. Мы звали ее Лика-Заика. На Арбате торжествовало июльское солнце. Ноги деревенели от радости. Хотелось лететь в детские сны.
– За-за-за-помни этот день, – пропела Лика. – Ты никогда уж не бу-бу-будешь са-са-самим собой.
Действительно, что-то закончилось. И началось что-то еще неведомое. Моя жизнь перестала быть только моей жизнью. Она становилась частью жизни общественного сознания, которым тогда еще оставалось наше кино.
Удаляясь, Гена вдруг обернулся…
Вскоре меня постригли под ноль. Сцены снимали вразнобой. Не по последовательности сюжета, а по производственной необходимости. Иногда начинали «лысую» сцену, не заканчивали и на другой день снимали меня с волосами, для чего использовали парик, сшитый под мои естественные волосы. Когда же вновь возвращались к «лысой» сцене, волосы уже чуть-чуть отрастали. На глаз не было заметно, но на экране, на крупных планах, разница была очевидной. Поэтому меня снова и снова стригли наголо. Причем только определенным номером машинки. Рабочие смены, как правило, начинались довольно рано, часов в семь или восемь. Мне было лень специально приезжать на студию за час до начала смены для очередного «облысения». И я договорился с гримером, что накануне буду стричься в ближайшей районной парикмахерской. И вот представьте себе картину: с перерывом в два-три дня в парикмахерскую приходил лысый молодой человек и требовал, чтобы его еще раз постригли под ноль, причем обязательно определенным номером машинки. Меня принимали за городского сумасшедшего. Надо сказать, что и Никита Михалков считал меня поначалу не то чтобы сумасшедшим, но человеком слегка странным, может быть, из-за присущей мне тогда особенной непосредственности. Я же в ответ считал его слегка пижоном. Как-то Данелия пригласил меня на прослушивание музыки к фильму, которую привез Андрей Петров. Хотел проверить ее на мне. Среди других мелодий Петров показал и теперь хорошо известную тему нашего фильма. Георгий Николаевич спросил меня, какая мне понравилась больше. И я угадал, назвал именно ту мелодию, которую сейчас знают почти все:
Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, Нормальный летний дождь…Гена Шпаликов написал этот текст, сидя в ресторане «София», что напротив памятника Маяковского, во время съемок нашего с Никитой прохода над автомобильной эстакадой. Он смотрел сквозь стеклянные стены на съемочную площадку и записывал:
А я иду, шагаю по Москве, Но я пройти еще смогу Соленый Тихий океан, и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, Пока не знаю с кем…Гена Шпаликов тогда был влюблен в свою невесту Инну Гулая. Нас, студентов уже второго курса, отправляли автобусом на общественные работы, на овощную базу. Гена пришел провожать Инну. Они стояли в обнимку, очень счастливые. Так и запомнились мне тогда – очень счастливые. На базе я видел, как лошадь мочилась в квашеную капусту. С тех пор никогда не покупаю в магазине банки с этой самой капустой. На базе ребята кидались картошкой и случайно попали в меня. В губу. Губа распухла, и я не снимался несколько дней. Разучивал в институте вместе с Никитой мелодию песни. Я пел эту песню под собственный гитарный аккомпанемент в сцене первого своего появления в фильме, у Кольки дома. Я не умел еще играть на гитаре, имитировал. Мое пение не вошло в окончательный монтаж. Осталась только сцена в финале, где Никита поет нашу песню на эскалаторе метрополитена. Я не спел на экране. А на гитаре играть научился. Позже – «Крутится, вертится шарф голубой». Но эта популярная мелодия звучала уже в следующей моей картине «До свидания, мальчики». До этого еще надо было дожить. Надо было дожить и до того, как «А я иду, шагаю по Москве» заорали пьяные в сумеречных электричках, застонали приторными тенорами по радио солисты советской эстрады, зачеканили на парадах военные оркестры, забили железной поступью почетные караулы перед иноземными лидерами. «Картина-то получается, тьфу-тьфу, – заметил Никита. – Будет успех». И успех был. Может быть, главный успех в моей жизни. Успех-паспорт, звездный билет. Чтобы я ни сделал в дальнейшем и на сцене, и на экране, все равно имя мое у зрителя в первую очередь будет ассоциироваться с той первой главной ролью. Честно говоря, я тогда по-настоящему недопонимал своего счастья. Что попал не просто в кино, а именно в свое кино, в свой мир, в свою эстетику.
Божьим промыслом поэтика Гены Шпаликова, режиссура Георгия Данелия, камера Вадима Юсова, музыка Андрея Петрова, наши актерские интонации соединились, срезонировали в единое настроение или впечатление, «импресьон», говоря по-французски. «Я шагаю по Москве» стала первой отечественной импрессионистской картиной, картиной почти не связанной с социумом, потому и жива до сих пор. Гена хвалил мою работу в фильме. Даже сравнивал с Чаплином. Я же воспринимал многочисленные комплименты, посыпавшиеся на меня со всех сторон, со смешанным чувством. С одной стороны, был, естественно, рад. С другой стороны, мне казалось, что это какая-то случайность или даже обман, который скоро раскроется, и все кончится для меня позором. Сам себе опять же не нравился. Только через несколько лет, в очередной раз пересматривая картину по телевизору, до меня дошло, что сработал неплохо.
В конце 70-х один мой приятель разводился с женой и попросил приютить его на несколько дней. Дело было летом, мои были в отпуске, и я согласился. На свою голову. Приятель относился к тому сорту людей, которые стараются переложить свои проблемы на других. Он измучил меня своей постоянной рефлексией. Но в благодарность за муки, съезжая, подарил книжку «Геннадий Шпаликов. Избранное». Я раскрыл ее и заплакал. Не от излишней сентиментальности. Просто Гена никогда не читал этой книги. Она вышла посмертно, через некоторое время после его самоубийства.
Случилось все в Переделкине, в писательском Доме творчества. Григорий Горин рассказывал мне, что первый вошел тогда в Генин номер. Первый увидел свершившееся.
Не прикидываясь, а прикидывая, Не прикидывая ничего, Покидаю вас и покидываю, Дорогие мои, всего! Все прощание – в одиночку, Напоследок – не верещать. Завещаю вам только дочку – Больше нечего завещать.У него было много стихов об этом:
Ах, утону я в Западной Двине Или погибну как-нибудь иначе, Страна не пожалеет обо мне, Но обо мне товарищи заплачут… Я к вам травою прорасту, Попробую к вам дотянуться, Как почка тянется к листу Вся в ожидании проснуться, Однажды утром зацвести, Пока ее никто не видит, А уж на ней роса блестит И сохнет, если солнце выйдет… Не приоткроет мне оно Опущенные тяжко веки, И обо мне грустить смешно, Как о реальном человеке. А я – осенняя трава, Летящие по ветру листья, Но мысль об этом не нова, Принадлежит к разряду истин. Желанье вечное гнетет – Травой хотя бы возвратиться. Она из мрака прорастет И к жизни присоединится.Гриша Горин до сих пор жалеет, что одолжил Гене денег только на бутылку красного, а не на водку, как тот просил. Мол, одолжил бы на водку, его бы «развезло» и не смог бы осуществить… Думаю, что это иллюзия. Вот одна из первых работ Гены Шпаликова на сценарном факультете ВГИКа: доска объявлений. К ней в беспорядке приколоты кусочки бумаги. Кривые, дрожащие буквы… Буквы складываются в слова. «Верните будильник людям из общежития! Потерял штаны в библиотеке. Не смешно. Штаны – спортивные. У кого есть совесть – передайте на 1-й актерский».
В самом низу – листок, вырванный из тетради. Он обрамлен неровной чернильной рамкой, вроде траурной. Делали ее от руки и второпях:
Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни Шпаликов Геннадий. Его тело лежит в большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам. Доступ в 6 час., вынос тела – в 7.
После выноса будет просмотр нового художественного фильма!!!
Последний раз я встретился с Геной возле Дома кино на Васильевской. Они с Инной вышли из ресторана, были в очень хорошем настроении. Я знал, что так бывает не всегда. И скорее всего то были редкие часы семейного примирения. Гена бросился обнимать меня, как очень и очень близкого, дорогого человека, хотя, по правде, мы редко встречались. Меж нами не было бытовой дружбы, но душевное сродство всегда ощущалось.
Удаляясь, Гена вдруг обернулся посреди улицы и закричал: «Женя, а кино нет! Нет кино! Только документальное осталось!» Он помахал мне рукой и ушел… Через полтора месяца его не стало. Теперь я понимаю, что он прощался… Это было время «брежневского застоя», и публично о самоубийстве говорить не рекомендовалось. Позже, уже при Горбачеве, в Доме кино состоялся первый официальный вечер памяти поэта и сценариста Геннадия Шпаликова. Вел вечер Булат Шалвович Окуджава. В числе других выступал и ваш покорный слуга. Читал «Ах, утону я в Западной Двине…» Читал очень эмоционально, почти трагично. Боялся спугнуть слезы из глаз. Вдруг один из друзей и собутыльников Шпаликова выкрикнул мне из зала:
– Да ладно, кончай ты это! Он был веселым человеком!
Я растерялся.
– Продолжай, продолжай, Женя, – ободрил Булат Шалвович, – это любители прозы кричат, а мы вспоминаем поэта.
Я влюблен в Машу Вертинскую…
Солнечным осенним днем 1963 года я сидел в институте на занятиях по французскому языку, смотрел в окно и записал в тетрадь, не слушая педагога:
Я сердце потерял в арбатском переулке. Его нашел дурак и бросил, где окурки. А я без сердца бьюсь, взбираюсь на котурны. Вернись скорей, дурак, и вынь его из урны!Я пострижен наголо. Снимаюсь в «Я шагаю по Москве». Влюблен в свою однокурсницу – Машу Вертинскую.
Почти все отрывки к экзаменам мы играли втроем. Витя Зозулин, Маша и я. Кроме этого, мы с Витей провожали Машу до дома, а Боря Хмельницкий и Толя Васильев водили ее в кафе-мороженое. Все это было еще до того, как Боря и Толя напишут музыку к знаменитому спектаклю Юрия Петровича Любимова «Добрый человек из Сезуана», войдут в труппу нового театра, родившегося в стенах Щукинского училища, – Театра на Таганке. И задолго до того, как Боря Хмельницкий и Марианна Вертинская все-таки станут мужем и женой. Мне же достанется лишь поцелуй. Один-единственный поцелуй, да и тот – сценический, но, как говорится, «этот поцелуй дорогого стоит». Так говорится в пьесе А. Н. Островского «Последняя жертва», а мы с Машей репетировали сцену из другой его пьесы – «Правда хорошо, а счастье лучше». Сцена свидания Платона и Поликсены. Тогда впервые от поцелуя я ощутил какой-то горячий озноб, умиление во всем теле. Тогда многое для меня было впервые. Я ведь был самый младший на курсе и потому не забыл, запомнил ласку на всю жизнь, посвятив Маше Вертинской свою следующую большую работу в кино – «До свидания, мальчики». Почти весь фильм снимался в Евпатории, начиная с конца марта 1964 года. На майские праздники мне удалось вырваться в Москву. И вот в коридоре нашей коммунальной квартиры раздается телефонный звонок. Звонит Маша. Она не знала, не могла знать, что я прилетел.
– Заходи.
– Когда?
– Сейчас.
Утром 1-го мая с праздничной демонстрацией и без нее, дворами, тупиками да переулками, сквозь пешее и конное оцепление я пробирался в центр, к Кремлю, к Пушкинской площади, к дому, в квартиру, углом смотрящую на улицу Горького с последнего этажа. В костюме, в белой рубашке, при галстуке через сараи, через заборы и, наконец, «взятие Зимнего» – внутренний двор Елисеевского магазина. Высокомерные кованые ворота с острыми пиками позади, через клетку скрипучего лифта я приподнят и принят в кабинете Вертинского. На стенах фотографии Александра Николаевича, маленькие дочки Настя и Марианна, жена Лидия Владимировна. Фотографии жизненные и в ролях. Когда я впервые услышал голос Вертинского, небрежно преодолевающий шипящее патефонное несовершенство, впечатление попало в самое сердце. Я был потрясен. Потрясен, как можно столь скупыми тонкими средствами создать такое объемное образное пространство, и сам полюбил «вязать кружева», предпочитая изящную паутину сценического рисунка лобовому воздействию.
В детстве мама водила меня в гости к дальнему родственнику. Я запомнил интеллигентного старика в вольтеровском кресле и вид из окна на улицу Горького, по которой шли танки, выдвигающиеся к параду. Вид из окна кабинета Вертинского точно совпал с тем, что в детстве, только без танков. Совсем недавно случайно узнал: старик из детства в вольтеровском кресле жил рядом с Вертинским, в соседней квартире. Как это переплелось! Стало быть, вернулась картинка оттуда, где пел живой Александр Вертинский:
Я был против. Начнутся пеленки. Для чего свою жизнь осложнять? Но залезли мне в душу девчонки, Как котята в чужую кровать…Маша угощала меня кофе, и мы говорили не помню о чем. Маша подарила мне в тот день свою фотографию. С надписью «Милому, чУдному Жене Стеблову от Маши Bертинской». Она специально проставила ударение, чтобы получилось «чУдному», а не «чуднОму». Этот портрет я увез с собой в экспедицию. Улетел, возвращаясь на съемки. Самолет Москва – Симферополь не прибыл в порт назначения по расписанию. В воздухе загорелся двигатель. Многие пассажиры были в полуистерическом состоянии. Я был спокоен, до меня просто не доходила острота ситуации. Мы чудом сели в Одессе, еле дотянув на одной турбине. В Симферополь попали ночью другим бортом.
Когда, бывает, в отсутствие партнерши играешь перед камерой крупный план лирической сцены, фиксируя взгляд на болте осветительного штатива, тебе помогает воображение. На «До свидания, мальчики» в воображении у меня возникал портрет Маши Вертинской. Этот портрет хранился мной долго-долго, пока не исчез неизвестно куда. Бесследно исчез.
«До свидания, мальчики»
Некоторое время после «Я шагаю по Москве» почти все роли молодых героев на киностудиях Советского Союза предлагали или Никите Михалкову, или мне. Сценарии провинциальных кинофабрик мы по глупости тогда даже и не читали. Только «Мосфильм», «Ленфильм» или студия Горького. Когда же Михаил Наумович Калик предложил мне попробоваться на главную роль Володи Белова в его картине «До свидания, мальчики» по одноименной повести Бориса Балтера, я растерялся. С одной стороны, нашумевшая повесть о поколении наших отцов, ушедших на фронт второй мировой войны буквально со школьной парты, «не долюбив, не докурив последней папиросы»; с другой стороны, это была любовная роль. То есть роль героя-любовника. Причем предстояло сыграть на экране сцену интимной близости несовершеннолетних молодых людей, что до того на советском экране никто не делал, а я тем более. Кинопроб было несколько, с разными партнершами. И Калику они не понравились, как я узнал позже. Он даже собирался отказаться от моей кандидатуры, но когда Борис Исакович Балтер увидел на экране сцену с матерью, которую играла со мной народная артистка СССР актриса МХАТа знаменитая Ангелина Степанова, он сразу сказал: «Вот он – мой Володя Белов». И Калик утвердил меня, потому что Балтер написал Володю с себя. Повесть была в значительной степени автобиографической. Нужно было на четыре месяца уезжать в киноэкспедицию. Из училища меня не отпустили. Пришлось брать академический отпуск, уходить с курса с неясной перспективой восстановления. Решение, давшееся мне очень трудно – боялся потерять институт. Съемки начались под новый 1964-ый год. Сначала павильонные. В конце марта поездом выехали в Евпаторию. Этот приморский город открылся нам пустыми холодными пляжами, дрожащими на ветру стеклами санаторных веранд, перегораживающих взгляды больных полиомиелитом детей. Взгляды, убегающие в горизонт апрельского моря. Еще не зацвели магнолии и глицинии. Весна еще только обещалась. Гостиница была коридорного типа. Мы жили втроем в одной комнате: Миша Кононов, Коля Досталь и я. В соседней комнате обитали наши героини: Наташа Богунова, Аня Родионова и Bика Федорова. Михаил Наумович Калик занимал «люкс». Он взял с нас расписку и честное слово о том, что я, Коля и Миша не совратим Богунову, так как она была несовершеннолетней и он самолично отвечал за нее в отсутствие педагога или родителей, полагающихся ей по договору в надзор. Михаил Наумович отнесся к своему долгу со всей серьезностью, совершенно без юмора, но, несмотря на несомненное очарование юной Наташи, он явно преувеличил нашу сексуальную агрессивность. Мы отнеслись к его страховым усилиям со скрытой иронией.
Каждый день, когда мы выезжали на съемку в черном, представительского класса «ЗИМе» (бывшая правительственная машина Анастаса Микояна), Калик садился впереди, рядом с шофером, я – сзади, на откидном кресле. Садясь, он поворачивался лицом ко мне и произносил одну и ту же фразу: «Ты бы там не выдержал. Поехали». Там – это в тюрьме, в концлагере, где Михаил Наумович провел три года по обвинению в покушении на Иосифа Сталина. Обвинение, естественно, было ложное. Застенки настоящие. Взяли его из ВГИКа. Туда же он и вернулся после реабилитации для окончания учебы. Его дипломной работой стал полнометражный фильм по роману Александра Фадеева «Разгром», который он снимал вместе с Борисом Рыцаревым в подмосковной деревне Дюдьково, где я еще мальчиком жил на даче. Вот тогда-то я впервые и снялся у Калика – в массовке. Теперь снимался в главной роли. Вечерами Михаил Наумович иногда репетировал со мной и с Наташей любовные сцены. Он красочно рассказывал ей о языческих праздниках плодородия в древние времена, о фаллическом культе, о публичных ритуальных совокуплениях. «Мне учительница не разрешит», – смущенно бормотала в ответ Наташа.
В гостинице горячая вода «не работала». Разгримировывались холодной. Над раковиной можно было смыть грим с лица, но тело густо покрытое загарного цвета морилкой в раковине не отмоешь. Так мы и жили в морилке, и спали в морилке неделями, пока снимали пляжные сцены. И «млели от жары» на пронизывающем ветре, преодолевая апрельский холод профессиональным энтузиазмом. Для «блеска» изобразительного решения время от времени наши тела окатывали морской водой из ведра. У нас зуб на зуб не попадал, а в кадре мы еще ели мороженое по нескольку дублей. Надо сказать, что Михаил Наумович больше любил монтировать, чем снимать. Поэтому в экспедицию взяли монтажный стол. Вечерами после смены он вместе с монтажницей просиживал допоздна, складывая картину. Помню, буквально через пару недель работы Калик показал первые наброски картины. Сидя в темноте на полу зимнего курортного кинотеатра, я чуть не плакал. Я был околдован ностальгической прозрачностью приоткрытого мира. Он уже жил в нем, в его памяти, в его душе, в его иронии, в его глазах, наш будущий фильм. Через хрупкую музыку Микаэла Таривердиева, через изысканную поэзию камеры Левана Патаашвили, через наши лица и голоса черновой фонограммы Михаил Наумович пригласил нас войти туда, где мы еще не были; но он уже знал, куда идти.
Ни одна картина не давалась мне таким «кровавым» душевным трудом, как эта. Калик вычеркивал из сценария почти все жанровые сцены. Я пытался сопротивляться. Борис Иванович Балтер был на моей стороне, но режиссер оставался неумолимым. Можно сказать буквально весь фильм я сыграл на крупных планах. Это требовало постоянного психологического напряжения. Часами выстаивал я не шелохнувшись на установке кадра, словно кукла из анимационного кино. Но к концу фильма я уже стал совершенно кинематографическим профи и мог выразить одними глазами сложнейшую гамму чувств и переживаний героя, ничего не играя, а только внутренне погружаясь в образ.
Обычно весь день мы толком ничего не ели. Так, перехватишь кой-чего – и все. Зато вечером, разгримировавшись, мы отправлялись через Приморский парк в ресторан. Посреди пути заходили в тир. Это был ритуал. Попадали в десятку. Раздавалось утесовское:
…И как пройти на Поцелуев мост… Когда бывали молоды, ходили мы по городу. Свиданье назначали на мосту…Однажды в день рождения Коли Досталя мы втроем – я, Коля и Миша Кононов – выпили за праздничным ужином три бутылки коньяка. В гостиницу ползли из ресторана трамвайными путями по-пластунски полторы остановки. Слава Богу, на следующий день съемки отменили из-за погоды. Нас спасла затяжная облачность. Не было необходимой ясности ни на небе, ни в наших головах. После этого я коньяк видеть не мог несколько лет, пока не смягчился в своем отношении к этому зелью на правительственном банкете в Ереване.
В нашей картине снимался Ефим Захарович Копелян. Он играл жестянщика, выдававшего себя во время курортного сезона за капитана дальнего плавания. Сцена танго в ресторане-поплавке не получалась у Ефима Захаровича. Танго не получалось. Калик нервничал, кричал. Копелян тоже нервничал, молчал. После съемки он взял несколько бутылок сухого вина. Собрались у нас в номере.
– Понимаешь, Женя, – сказал Ефим Захарович, – вот я говорю: «Чайник». И каждый из нас представляет свой чайник. У кого какой есть. А у всех разные чайники… Вот так и в искусстве…
Что же вы не пьете, дьяволы? Или я не сын страны? Или я за рюмку водки Не закладывал штаны?.. –запел Копелян есенинскими словами.
Эпизодическую роль торговца вином Попандопуло сыграл в нашей картине артист вахтанговского театра Максим Греков. Все в группе ждали его приезда. Все знали, что это последняя роль замечательного мастера. Он был обречен из-за злокачественного заболевания крови. Говорили, что облучился случайно где-то на гастролях, искупавшись в речке после аварийного радиоактивного сброса с секретного атомного предприятия. Приехал Греков. Сцену сняли, отработали, как обычно. И он вел себя вроде бы как ни в чем не бывало. Только ночами не спал. Ходил по номеру. На озвучание в Москве его привезли даже из больницы. «Стакан молодого вина – двадцать лет жизни!..» Записал он свою последнюю экранную фразу и ушел. Ушел навсегда. Это был подвиг, профессиональное завещание неповторимого Максима Грекова. На экране в его грустных глазах отражалось солнце. «Стакан молодого вина – двадцать лет жизни!..»
Потеплело. Крымская курортная нега располагала к праздному разгильдяйству. Миша Кононов и Коля Досталь все чаще и чаще в трусах и халатах выходили на набережную и устраивали лягушачьи гонки. Игрушечные гуттаперчевые лягушки прыгали на своеобразных надувных «фаллосах», воздух в которые поступал через полутораметровые шланги от сжимаемой в кулаке резиновой груши. А я целовался под водой с молоденькой работницей киногруппы, чтобы никто не видел. Мы прижимались губами друг к другу и судорожно целовались взасос, пока хватало дыхания. Потом выныривали в разные стороны.
На земле я крутил другие романы…
И никто ничего не ведал о нас. На земле я крутил другие романы. Надводные и подводные похождения не пересекались. Конечно, «крутил романы» – громко сказано. Я тогда еще не жил с женщинами, но в страстно-техничных ласках явно двигался в направлении совершенства. Доводил подружек до исступления и… робел. Теперь раскаиваюсь в своей трусливой жестокости, уходящей корнями в комплекс неполноценности. И через этот же комплекс Господь спас меня, не дав превратиться в заурядного бабника. При развитой с детства затейливой сексуальной фантазии я безусловно истаскался бы, если бы не робел. А репутация ходока все же настигла меня. «Знаю, знаю, о чем ты думаешь, страшный, страшный человек», – иронизировал Леван Патаашвили. Он в то время еще задержался в холостяках и в киноэкспедиции жил с мамой. Михаил Наумович Калик вообще месяца полтора почти не разговаривал со мной, только по делу. Пока однажды на съемке он, отозвав меня в сторону, не ткнул пальцем в песок, где валялся использованный презерватив, и резко шепнул с вызовом:
– Я не люблю с презервативом, а ты?
– Я тоже, – соврал я в ответ.
Выяснилось, что Михаил Наумович приревновал меня к одной нашей коллеге, которой я отдал букет цветов, полученный на встрече со зрителями. Ну просто избавился от букета, а он приревновал. Мы объяснились и наладили отношения. Однако мое «динамистское» поведение все-таки было отомщено. Перед сном, вечерами, Вика Федорова в купальном костюме регулярно наведывалась к нам в номер. Поочередно ложилась в постель к Мише, Коле или ко мне. Доводила нас до статического напряжения и игриво удалялась восвояси. Бог знает чем бы могла окончиться эта шалость, этот сумеречный «визит дамы», если бы роль у Вики была побольше и она чаще прилетала бы из Москвы.
Моргунов подписался: «Олег Стриженов»
Евгений Моргунов около двух недель ожидал своего «Судного дня». Ожидал своего съемочного дня в маленьком эпизоде, а его все не снимали и не снимали. Объявили выходной.
– Дженерал Моторс, – обратился ко мне Евгений Александрович, – поедем кататься на адмиральском катере!
Я согласился:
– Поедем!
Рано утром, не завтракая (ведь едем кататься на адмиральском катере), я ожидал Моргунова у выхода из гостиницы. Он появился в сером габардиновом макинтоше, в серой же шляпе, надвинутой по уши. Вылитый номенклатурный «бутуз» хрущевского типа. Типичный член или кандидат в члены какого-нибудь бюро или президиума. Сели в такси.
– В ГАИ! – начальственно рявкнул Евгений Александрович.
Таксист съежился.
– Инспектор, почему фонари не развешаны? – продолжал Моргунов.
– Не успели, – подыграл я.
– Смотрите у меня! – пообещал он.
Водитель совсем присмирел.
Начальник местного отделения ГАИ капитан милиции Петя встретил нас с распростертыми объятиями:
– Евгений Александрович! Какие люди!
– А деньги-то за проезд? – попытался было присоединиться к разговору водитель.
– Езжайте, езжайте! – строго указал ему Петя и пригласил нас в свой кабинет.
Сделав несколько звонков по телефону, Моргунов признался, что поездка на адмиральском катере сорвалась.
– Евгений Александрович, познакомьте с Шульженко! – умолял Петя.
Клавдия Ивановна в те дни гастролировала в Евпатории и жила в нашей гостинице.
– А это как вести себя будете, – парировал Моргунов.
– Старшина! – позвал Петя.
Вошел старшина.
– Дженерал Моторс, ступай с ним, – напутствовал Моргунов.
И я проследовал за старшиной.
Через десять минут в милицейской «раковой шейке» мы подъехали к высокому забору из красного кирпича с колючей проволокой наверху, похожему на тюремное заграждение.
– Ну? – спросил старшина.
– То есть? – переспросил я.
– У вас есть во что? – настаивал старшина.
– Нет у меня ничего, – отрицал я.
– Ясно, – вздохнул старшина и побрел вдоль забора.
Через некоторое время он вернулся с канистрой сухого вина и только тут до меня дошло, где я. Мы поехали прочь от красной стены винзавода. Вино тоже оказалось красное. В стаканах оно походило на чай. Помешивая этот «чай» чайными ложками, Петя, Моргунов и я начали прием посетителей. Посетители шли один за другим. Все они ломали шапки и просили о снисхождении.
– Ну хорошо, – осаживал их Моргунов. – С вас штраф. Пятнадцать рублей.
– Многовато, – шептал ему я.
– Вот инспектор говорит – восемь. Скажите спасибо инспектору.
Посетители благодарили, платили, а Моргунов выписывал им квитанции, вырывая листки из своей записной книжки. Набрав таким образом некую ощутимую сумму, Евгений Александрович решил подвести черту, и Петя закончил прием.
– Познакомьте с Шульженко! – опять занудил он.
– Ну что с тобой делать? Едем! – хлопнул Моргунов его по спине.
На милицейском мотоцикле с коляской мы тронулись в путь по центральной улице. Впереди за рулем капитан Петя. Я сзади на козлах, Евгений Александрович размахивал шляпой, приветствуя народ из коляски. Народ отвечал ликованием, видя живого Бывалого. Мол, «Пес Барбос», «Самогонщики»!..
Я-то с голодухи, без завтрака, действительно захмелел. Тормознули. Чуть не влетели в канаву возле гостиницы. Рядом стояла телега с запряженным тяжеловозом.
– Кто хозяин кобылы? – рявкнул Моргунов.
– Я. – Из канавы показалась седая голова.
– У вас права есть на вождение кобылы? – не унимался Евгений Александрович.
– Да пошел ты! – отмахнулся седой.
– Вы как разговариваете? – строго подключился капитан Петя (он ведь был в форме).
– А чего? Я ничего, – осадил седой. – Сколько лет живу, никогда на вождение коней права не надобились.
– Коней! А у вас? Кобыла! С вас рубль двадцать! – подвел черту Моргунов, выписывая квитанцию из своей записной книжки.
Из канавы высунулись еще несколько недоуменных голов с лопатами.
– Да он у нас лучший работник, начальник! Мы бригада коммунистического труда!
– Разговоры! – оборвал их Петя-капитан и, газанув, развернул мотоцикл к подъезду гостиницы.
Когда Моргунов, представившись, постучался в дверь номера Клавдии Ивановны Шульженко, в ответ раздался голос ее компаньонки:
– Клавдия Ивановна отдыхает. Зайдите позже.
– Хорошая женщина. «Синенький скромный платочек…» – запел Моргунов и натурально заплакал в ответ на немой вопрос топтавшегося в холле капитана милиции.
Распрощавшись во дворе гостиницы с милиционером, Евгений Александрович завидел на балконе Михаила Наумовича Калика в сомбреро и шортах.
– Ну что, Миша, все в корзину снимаешь?
– А ты все для Марии Ивановны, для Марии Ивановны? – нервно парировал режиссер.
На этом и завершилось пребывание Моргунова в солнечной Евпатории. Ибо после этого краткого обмена мнениями Калик распорядился завтра же отснять Моргунова и срочно отправить в Москву.
Напоследок перед отъездом Моргунов записал благодарность в книге отзывов ресторана и подписался: «Олег Стриженов».
Разбил гитару и простился с юностью
Бывают впечатления, которые не дают покоя долгие годы. Носишь их в своей памяти, в своей беременной душе и никак не можешь разродиться, выразить их наиболее полным образом в ролях, или на бумаге, или в любви. Они все требуют и требуют выхода. Не иссякают и не исчерпываются. Не отпускают. Таким отпечатком легла на сердце мне эта давняя киноэкспедиция «До свидания, мальчики». Это прощание с юностью не только моего героя, но и меня самого. И когда выходили мы в море, казалось, что удалявшийся берег отчаливал от меня вместе с молодыми мечтами «О Шиллере, о славе, о любви!», как писал Гена Шпаликов. На смену приходила жестокая реальность профессиональной жизни, где надо вкалывать, пока на тебя ставят, как на скачках в тотализаторе, и не раскисать, если не придешь первым, а, проанализировав свои просчеты, готовиться к новым заездам с прыжками через барьер.
В нашей картине несколько раз, как рефрен, повторяется титр «Помню…»
Помню вечернюю съемку сцены первого поцелуя Володи и Инки при огромном стечении пляжных зевак на одесском Ланжероне. Поистине публичное одиночество.
Помню подводные съемки в холодной пятиградусной воде севастопольской Голубой бухты, на дне которой еще сохранились приборы и декорации фильма «Человек-амфибия».
Помню, как в конце экспедиции с размаху разбил о пирс свою гитару и выкинул ее в море. В Москве у меня была другая гитара.
Калик бывает в России, а Вика Федорова живет в Америке
В Москве я пришел в институт и меня восстановили на моем, теперь уже третьем, курсе с обязательством сдать все общеобразовательные экзамены за пропущенные полгода. В Москве, досняв некоторые сцены (в основном комбинированные кадры) и закончив озвучание, я очутился на раскладушке в саду на даче, совершенно без сил, обложенный нескончаемыми книгами и конспектами, которые мне предстояло наверстывать. Шекспир, Островский, Горький, Чехов и Ибсен слились во мне в единую безысходную драму, из которой я пытался вдруг вырваться рысью верхом на велосипеде по деревне к реке, к лесу, туда-сюда и обратно в сад, на раскладушку, обессилев от сознания долга. Надо!
Выход картины на экраны страны притормозился конфликтом между Каликом и Госкино. Начальство настаивало на купировании некоторых кадров. Особенно сцены издевательской, как им казалось, – сцены ударного труда под пьяный оркестр на соляных разработках. Помню трогательную утонченную фигуру Микаэла Таривердиева, безуспешно пытавшегося репетировать во дворе евпаторийской гостиницы с местными лабухами, пока их руководитель смущенно не прервал композитора:
– Вы знаете, извините, конечно, но у нас еще сегодня два жмурика.
В результате на съемке Калик велел поставить им ящик водки и снимать до упаду. В буквальном смысле, пока не рухнули пьяные духовики. Михаил Наумович отказался вырезать эту сцену. Тогда начальство заставило сделать это второго режиссера и в таком виде выпустило наконец фильм. Калик требовал, чтобы из титров убрали его фамилию. Калик при встрече не подал руки Романову – председателю Госкино. Калик снял еще две картины и уехал в Израиль в эмиграцию. Казалось, что навсегда. Фильмы его выгнали из проката. Запретили упоминать. А тираж копий «До свидания, мальчики» даже сожгли. Но те, кто видел нашу работу и в кинотеатрах, и на закрытых показах, не забыли ее. Помню, Володя Ивашов сказал мне: «Завидую. Ты сыграл замечательно в замечательное кино». Но я опять не нравился сам себе, хотя и любил картину.
Прошли годы. Рухнула советская власть, которую так не любил бывший политзаключенный кинорежиссер Михаил Наумович Калик. И он вернулся, вернее, стал приезжать. И даже снял фильм здесь, у нас, у себя. О детстве, о родине, о заключении, о любви, о кино. Фильм завершается финальными кадрами из нашей картины «До свидания, мальчики» – любимой картины Михаила Калика, по его теперешнему признанию. Теперь мы время от времени встречаемся с ним, когда он бывает в России. Теперь Вика Федорова живет в Америке. Аня Родионова стала драматургом. И Коля Досталь, когда лежал под кроватью, как самый худой из нас, в чужом номере евпаторийской гостиницы, чтобы напугать проживавшую там красавицу актрису неожиданным ночным появлением, даже не подозревал, что станет впоследствии известным кинорежиссером. Бедная женщина! Мне до сих пор стыдно за наш злой розыгрыш, но я почему-то не забыл это. Не забыл, как снимались начальные кадры, где мы прыгали в море с бака. Мы прыгали и опять забирались на шаткий поплавок полузатопленной железнодорожной цистерны, раздирая в кровь загримированные тела о грубые сварные швы. Танцевали на баке и снова ныряли в воду. И плавали там в солнечных бликах и выбросах канализации проплывающего невдалеке парохода. Но на экране остались только мы в бликах. Три юных героя.
Я привез свою бабушку Таню на костылях в кинотеатр «Уран» на Сретенке, надвинул на лоб кепку, чтоб зрители не узнали. Мы смотрели фильм «До свидания, мальчики». И мне уже кажется, что это не со мной было. И я знаю, что когда-нибудь напишу об этом.
Никита
«Кого трахать будете?»
Одна из самых больших, а может быть, и самая большая дружба в моей жизни связывала меня с Никитой Михалковым. Мы и теперь дружны. Судьбы наши переплетены. Да, теперь мы скорее дружны памятью о том, что было меж нами. Дружны ностальгией. В повести «Возвращение к ненаписанному» я вывел его Платошей. Сейчас я записываю мемуары. Как было. Как есть. Без вымысла.
Недавно на встрече со зрителями в Доме архитекторов из зала меня спросили:
– Как вы относитесь к планам Михалкова баллотироваться в президенты?
– Да никак я не отношусь. Во-первых, президентская кампания еще не стартовала. И никто ни о чем таком официально не заявлял, в том числе и Никита. А в общем, это его дело. Если такое случится, я буду ему сочувствовать и жалеть. Ибо, на мой взгляд, президентская ноша совсем незавидная.
И в студии Театра им. К. С. Станиславского, и на картине «Я шагаю по Москве» мы были знакомы, товариществовали, но не дружили. Дружба началась с «Переклички». После «До свидания, мальчики» мне поступили два предложения. Одно от Алова и Наумова – главная роль в сценарии Леонида Зорина по «Скверному анекдоту» Ф. М. Достоевского. Другое – роль в новой картине Георгия Николаевича Данелия «Тридцать три». Данелия поставил вопрос ребром:
– Или я, или Алов с Наумовым!
Мне же хотелось совместить обе работы.
Он опять:
– Или я, или они!
Я выбрал Достоевского.
– Так друзья не поступают! – обиделся Георгий Николаевич.
В результате Алов с Наумовым не утвердили меня. И в «Тридцать три» я не снялся. Через несколько месяцев иду по «Мосфильму». Настигает, останавливается микроавтобус. Дверцу открывает Георгий Николаевич:
– Садись, подвезу.
Мы помирились.
Известный сценарист Даниил Яковлевич Храбровицкий (автор «Чистого неба» Г. Чухрая) дебютировал в качестве режиссера кинокартиной «Перекличка». Директором фильма был Николай Миронович Слезберг. Личность примечательная. Бывший хозяин фирмы «Тульские самовары». Высокий, похожий на генерала де Голля, носил французские костюмы (сестра из Парижа присылала), говорил тонким голосом:
– Женя, у вас сколько комнат?
– Две.
– У нас двадцать шесть было. Монгольское посольство теперь.
Все свои капиталы Николай Миронович сдал «Советам». Лично Дзержинскому. Феликс Эдмундович деньги оприходовал, спросил:
– А что же с таким состоянием за кордон не махнули?
– Вы поляк, вы меня не поймете, – ответил Слезберг.
Он был «выкрест», крещеный еврей – православный. И Железный Феликс выписал ему мандат: «Подателя сего не трогать! Председатель ВЧК Дзержинский». И Николая Мироновича не арестовали. Ни в 37-м году, ни в 49-м во время борьбы с «космополитами».
Еще до начала съемок мне позвонил заместитель Слезберга:
– Куда вам машину прислать?
– В Щукинское училище. А куда ехать?
– На Кропоткинскую.
– Да там два шага, я сам дойду.
– Нет, не надо. За вами заедут.
Приехал «ЗИС-110» – начальственная машина сталинских времен. Через пять минут привезли меня в многонаселенную коммуналку, в комнаты Слезберга, обставленные екатерининской мебелью. Столик карельской березы сервирован дорогим фарфором. Парадные кресла друг против друга. Как на переговорах в Кремле. Николай Миронович по-светски радушно встречает:
– Как доехали?
– Слава Богу! – отвечаю.
– Присаживайтесь… Хорошая погода.
– Да. Потеплело.
– Чай. Не стесняйтесь, прошу вас. Конфеты, печенье.
– Спасибо.
– Ну что же, приступим к делу. Работа предстоит тяжелая. Белорусский город Борисов – танковая столица под Минском. Полтора месяца. Режим в основном ночной. За всю роль мы предлагаем аккорд в сумме… – Николай Миронович называет цифру.
Пауза. Я опускаю глаза. Переспрашиваю ту же цифру с вопросом. Слезберг без паузы увеличивает ее в полтора раза. Я соглашаюсь, купленный его щедростью на корню.
– Переделайте, – бросает он заместителю, стоящему за его спиной по правую руку чуть согнувшись.
Тот разрывает приготовленный в руках договор, пишет новый. Контракт подписан.
Позже я понимаю, что на меня было заложено в смете в два раза больше. Но я очарован. Он не торгуется. Он хозяин фирмы «Тульские самовары». Капиталист по сути и по манере. Он не ловчит – он предвидит. Однажды после отснятой тяжелой драматической сцены он встречает меня в коридоре гостиницы:
– Женя, вы прекрасно сыграли. Зайдите ко мне.
Захожу. Его супруга, бывшая балерина, предлагает бульон с пирожком собственного приготовления (вечерами они с Николаем Мироновичем играли в порнографические карты и пили бульон. Она гордилась, что он еще нравится молоденьким женщинам и они ему тоже).
– Это вам, Женя. – Он протягивает мне конверт.
– Что это?
– Прибавка – деньги. Я плачу артисту столько, сколько он стоит!
Николай Миронович никогда не экономил на людях. Он считал, что для этого есть дрова.
– Что вы такой грустный, Николай Миронович?
– Да как же, Женя. Завтра снимаем сцену ночного боя. Минск-Товарная. Юра Сокол (оператор картины, теперь в Австралии – «Сокол корпорейшн продакшн») велел два товарных состава сжечь на заднем плане.
– И что же? – деликатно успокаиваю его я.
– А на хрена? – задумчиво вопрошает он.
Приехал лесничий.
– Вы нам гектар леса танками повалили! Мы на вас в суд подадим! Иск предъявим!
– У вас ничего не выйдет, – отказывается Николай Миронович.
– Почему?
– У меня связи очень большие.
Репетиция в номере у Храбровицкого. Даниил Яковлевич, Юра Сокол, Никита и я. Спрашиваю режиссера:
– Что вы хотите здесь, в этой сцене?
– Я хочу, Женя, чтобы все, так сказать, было на чистом сливочном масле.
Стук в дверь. Входит Слезберг. В руках у него несколько досье из картотеки «Мосфильма».
– Извините, Даниил Яковлевич, Юра, Женя, Никита, я вот что. Городишко тут маленький. Девчонки провинциальные. А «бульбашки» – они очень рано развиваются. Думаешь, ей девятнадцать, а ей четырнадцать…
– Вы что, Николай Миронович, мы репетируем. Какие «бульбашки»? – заводится Храбровицкий.
Николай Миронович продолжает все о своем:
– Я же говорю: думаешь, ей двадцать пять, а ей пятнадцать, а это подсудное дело. А тут вот есть по девять пятьдесят, есть по десять пятьдесят, даже по одиннадцать пятьдесят за съемочный день…
– Вы что, так сказать, какие одиннадцать пятьдесят, какие девчонки? Я не понимаю, так сказать! – багровеет Храбровицкий.
Николай Миронович невозмутим:
– Я же говорю, городишко маленький. Думаешь, ей девятнадцать, а ей сами понимаете. А тут вот свои штатные на зарплате…
– Вы что, так сказать, я Сталинград брал! – орет Храбровицкий.
– При чем тут Сталинград, – грустно недоумевает Николай Миронович, – я говорю, кого трахать будете?
Мы с Никитой и Юра еле сдерживаемся, чтобы не разрыдаться от смеха.
Однако, действительно, борисовские девчонки не оставляли нас своим вниманием. Бывало так, что, вернувшись под утро с ночной смены, я или Никита, открыв ключом дверь своего номера, обнаруживали в нем незнакомку.
– Как вы сюда попали?
– Ой, извините, я комнату перепутала…
Так что заботы Слезберга были небезосновательны. Николай Миронович внимательно относился ко всем членам киногруппы, но не допускал фамильярности и уравниловки. Все знали свое место: и рабочие, и творческий персонал. И не дай Бог, если на съемку кто-то прихватит с собой посторонних.
Но Настя Вертинская выбрала Михалкова
Однажды ночью километрах в двадцати от города снимали довольно простые актерские планы, но осложненные операторскими спецэффектами. Приехав на площадку, мы с Никитой залезли в свой «игровой» танк и обнаружили там молоденькую девушку. Кто привез ее и припрятал, она не сознавалась. Первым снимался я. Выглядело это следующим образом: я высовывался по пояс из верхнего люка и говорю свой текст. Со спецэффектами что-то не очень клеилось, пришлось повозиться. Но это все наверху, с наружной стороны, а внизу, внутри, в танке Никита крутил шашни с очаровательной гостьей. Меня отсняли. Пришел Никитин черед работать. Теперь он вылезал из люка, а я, как мог, утешал незнакомку… Тем временем один из осветителей бегал вокруг и тихо стучал по обшивке брони:
– Люся, вылезай! Вылезай, я сказал!
Но Люся совсем неплохо устроилась и не собиралась менять киногероев на осветителя. А он до смерти боялся, что мы пожалуемся на него Слезбергу. Тогда конец – вышлет из экспедиции. Хозяин фирмы «Тульские самовары» терпеть не мог путать дело с безделицей.
Для съемок фильма мы проходили в свободное время краткий курс танкиста. Учились водить наш «Т-34», стреляли боевыми зарядами семидесятипятимиллиметрового калибра с капсульным взрывателем. Когда ведешь танк, кажется, что «нам нет преград ни в море, ни на суше»! После стрельбища протрешь ветошью пушку, прыгнешь в «газик» и, поднимая пыльное облако над танкодромом, едешь обедать в столовую для рядового состава. Чувствовали себя настоящими мужиками, воинами, пока один из офицеров не посоветовал:
– Кушали бы с офицерами.
– Нет, мы с солдатами! Вместе хотим.
– Ну, смотрите, только напрасно. Им ведь соду в харчи подсыпают.
– Зачем?
– От женщин, для облегчения, чтобы «не стояло».
Мы играли войну, мы играли в войну. Как человек совершает подвиг? Сознательно или бессознательно? Я считал – бессознательно, порывом, повинуясь нравственному инстинкту. Никита, напротив, был того мнения, что только осознанно. Спорили, горячились, доходили до высокого пафоса.
– За родину! Для родины! – возражал я ему. – А что ты знаешь о этой самой родине. Ты вообще жизни не знаешь. Вырос в аквариуме. А туда же… Тоже мне горьковский Цыганок – взвалил на себя крест. Смотри, как бы не придавило. На смерть-то идут без громких слов. Трусят порой, а идут. Вот это и есть подвиг. Пижон!
И если бы не Шавкат Газиев, таджикский актер, механик-водитель нашего танкового экипажа, то Бог знает чем это могло бы кончиться, потому что Никита уже медленно приподнялся с постели, чтобы ударить меня. Я это почувствовал.
– Эй, эй! Ребята, ребята! – развел нас Шавкат.
И я ушел из Никитиного номера, где происходил такой разговор, ушел к себе. Сел за стол. Открыл тетрадку и записал одним махом:
Я к вам пришел, чтобы умыться в купели горькой чистоты, Чтобы в другого окреститься. Другой, я знаю, это ты. Кто ты? Я сам. Я этот нищий, который просит у тебя Поджечь его же пепелище, но подаятель тоже я. А вы? Вы совесть и свидетель, толкающий меня к себе. Вы пред собой и мной в ответе за то, что вы открыли мне!Было два часа ночи. Я лег спать. И ни тогда, ни теперь так до конца и не понял, что написал. Утром во дворе гостиницы я смотрел, как осветители играли в футбол. Подошел Никита. Тихо сказал:
– Давай дружить!
Так началась наша дружба. Я этого никогда не забуду.
У нас в группе была гримерша. По натуре несколько рассеянная и мечтательная. Поклонница знаменитого эстонского певца Георга Отса. Постоянно выжигала паяльником по дереву его портреты. Случилось так, что она забыла прихватить на съемку глицерин, которым делается пот.
– Ничего, мальчики, я сейчас разведу сладкой водички и нанесу вам тампоном на лица. Водичка подсохнет и лица будут блестеть под глицерин. Не возвращаться же за ним на базу. Ночь-полночь – киселя хлебать. Уж вы не выдавайте меня!
Мы согласились. В этот раз работали с танком, в броне которого были вырезаны специальные отверстия для камер. Предстояло снимать сцену боя, стрелять боевыми зарядами весом двадцать пять килограммов. Пушка в том танке не стреляла с войны. Военный консультант картины генерал-лейтенант Иванов привязал веревку к гашетке, лег за сто метров в окоп, где находилась вся группа, включая режиссера и оператора, дернул веревку – пушка выстрелила. Заверил:
– Порядок. Можно работать.
Чтобы не рисковать, лишний раз снимали сразу три дубля с трех камер. Я сам хлопнул хлопушкой, взял из креплений снаряд с капсульным взрывателем, послал его в затвор, крикнул Никите через ларингофон в шлемофоне:
– Готово!
Он покрутил триплекс-прицел, ответил:
– Огонь! – И нажал гашетку.
Раздался оглушительный выстрел. В глазах дым, во рту земля. Ее засосало взрывной волной через отверстия для камер. Из-за них танк оказался разгерметизированным. Все бегут из окопа к нам. Вылезаем из люка. Чувствуем себя героями. Раздается еще один взрыв. Взрыв смеха. Оказалось, сладкая вода высохла и наши небритые лица стали похожи на засахаренные марципановые булки. Пришлось перегримировываться, переснимать. И я уронил двадцатипятикилограммовый снаряд с капсульным взрывателем, но он упал на тряпки, на ветошь и не взорвался. Так Господь сохранил нас с Никитой и дал мне возможность писать эти строки.
В другой раз мы купили новые спиннинги и поехали на рыбалку. Грузовик, который мы голоснули, перевернулся в пути. К счастью – лишь набок. Никита успел выпрыгнуть из кузова, а я уцепился за борт и так и остался, не сразу поняв, что случилось. Опять Бог уберег.
Никита тогда уж любил, я еще нет. Он любил Настю Вертинскую. Андрей Миронов тоже сватался к ней, но она выбрала Михалкова. Он победил. Он всегда стремился к победе. Это всегда для него было очень важно. На пышной, многолюдной свадьбе в гостинице «Националь» Паша – дачный домоуправитель Михалковых – пафосно-громогласно выдохнул: «За любовь!..» И начались будни. Счастливые будни. Во всяком случае, так мне казалось, когда я приходил к ним в гости в однокомнатную квартиру, недалеко от метро «Аэропорт». Настя пекла оладьи и подводила глаза «под Вертинскую», если собиралась «на выход». Тогда многие девушки красились «под Вертинскую». «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Гамлет» принесли Насте огромную популярность. Они учились вместе с Никитой на одном курсе Щукинского училища, а я на курс старше. С ними на курсе учился парень. Назовем его Д. Его даже выбрали старостой курса. То есть администрация видела в нем опору – надежность и организованность. Но у него была тайная страсть – мечтал сыграть Гамлета. Произведение знал почти наизусть. Раз в общежитии он позвал с кухни девушку:
– Пойдем ко мне. Я тебе «Гамлета» почитаю. Монолог.
Она не знала его (училась в другом институте, то ли в ГИТИСе, то ли во МХАТе) и согласилась. Вошли в его комнату, заперли дверь.
– Быть или не быть? Вот в чем вопрос, – задумчиво со слезой произнес Д. и попросил: – Раздевайся.
Парень был видный. Она разделась. Он оглядел ее и решил:
– Ты – Офелия. Я тебя рисовать буду!
К сожалению, так часто случается в творческих вузах – иногда принимают безумие за талант. После роли Офелии в фильме Григория Козинцева Д. стал преследовать Настю Вертинскую, угрожать и ей, и Никите. Говорил, что убьет ее, себя и его. И если бы не Настина мама, которой удалось изолировать Д. в психлечебницу, еще неизвестно, чем бы все кончилось. Вскоре у Насти с Никитой родился Степа. Очаровательный мальчик, но я немножко робел перед ним. В нем сразу был виден начальник, хотя он еще и говорить не умел.
Как-то под вечер на даче Михалковых, что на Николиной Горе, мы с Никитой пили водку и рассуждали о старой России. Никита называл меня «очаровательный князь Щ.». Я мечтательно рассуждал о жизни в усадьбе, о крепостных девушках с крыжовным вареньем. Теперь в «Неоконченной пьесе для механического пианино» или в «Обломове» узнаю те наши «помещичьи грезы». Когда мы уже изрядно выпили, приехал на мотоцикле «Ява» внук Корнея Ивановича Чуковского Митя. Он присоединился к застолью, к беседе. Засиделись. И уже далеко заполночь Никита предложил:
– Поехали!
– Куда?
– Поехали!
Он сел за руль. Митя возражал. Фанат мотоцикла, он понимал, чем это могло кончиться. Но Никита не унимался. Он должен рулить – и все! Чуковский сел за Никитой, а я за ним. Думаю: в случае чего встану на землю и «Ява» выедет из-под меня. Маленько трусил. Уже выезжая с участка, путались в трех соснах. В буквальном, не в переносном смысле. Митя все же уговорил Никиту. Сам сел за руль. И сорвались, погнали через поселок к мосту. К Москве-реке. Заборы мелькали. Недалеко от санатория ЦК партии «Сосны» на повороте рванули по лугу к берегу. И не вписались – летим вверх тормашками, через руль – Митя. Я соскочил, как и думал, но зацепило, проволокло. Никиту ударило, придавило меж ног раскаленным картером «Явы». Я подбежал в испуге, оттянул мотоцикл, освободил его. Слава Богу, Митя встал сам. Отделался ушибом руки. В общем, нам повезло. Обратно оборванные, побитые и окровавленные тянули, как бурлаки, за собой мотоцикл. Километра три, в гору. Пытались шутить, но не всегда удачно, так как протрезвели вконец, разом. Я порвал новый костюм. Только одел. Обидно. Я тогда не зря трусил. Я был в «самоволке», без документов, в районе правительственных дач, рядовой «команды актеров военнослужащих Центрального театра Советской армии». А тут, как говорится, в каждом дупле – телефон спецсвязи. Всю ночь Никита заботливо промывал и залечивал раны и мне, и себе. А рано утром, «подбитый», без прав он мчался на чужом мотоцикле по той же трассе на мост по Рублевке. В Москву. По Кутузовскому проспекту. По Садовому. В центр. И никто не остановил его за превышение скорости на правительственном пути. Удивительно, но бывает же такое! Ведь он опаздывал на крестины своего сына. Бог миловал.
С Никитой языком ультиматумов нельзя
Никита убеждал меня, что я должен писать. Кое-какие ранние опыты я показал ему. Он говорил, что вкалывать нужно с утра до ночи, а не время от времени, когда найдет вдохновение. Я же считал, что задницей ничего не высидишь. Тем не менее дома у Михалковых среди уникальных картин сидели мы часто. Прадед Суриков, дед Кончаловский… Такое родство постоянно обязывает к собственным достижениям. Мол, не ударь в грязь лицом. А рядом Андрон, старший брат, его друг и соавтор Андрей Тарковский.
Андрон и Никита всегда были очень привязаны друг к другу, несмотря на различия в их характерах, взглядах. Никита эмоциональнее, сентиментальнее, громче, красочнее и мощнее. Андрон рассудительный, рефлексивный, глубже, тише, демократичнее. Никита – патриот, почвенник. Андрон – западник, человек мира. Воля у обоих железная. Не всякий сможет, как народный артист России, один из первых режиссеров страны, уже снявший «Первого учителя», «Дворянское гнездо», «Дядю Ваню», «Асю Клячину», «Романс о влюбленных», «Сибириаду», Андрей Сергеевич Кончаловский бросить все, уехать и сделать карьеру в Америке, в Голливуде. С нуля. С ничего. Не всякий сможет. Теперь вот вернулся. Можно сказать «возвращение Одиссея». Многие ругали его за фильм «Курочка-Ряба», обвиняли в снобизме, в презрении к родному народу, в издевательстве над нашей деревней. Показывает, мол, алкоголиками и деградантами простых сельских тружеников. А я позвонил ему и поздравил с прекрасной работой, с замечательной кинопритчей, которую приняли за фильм социальный. Что делать – издержки марксистского менталитета. Кончаловский – прославленный мастер и все-таки недооцененный. Не было бы его картин – не было бы целого поколения его последышей. Последышей «Первого учителя», выпорхнувших из «Дворянского гнезда». И Никитиного «Обломова» тоже бы не было. И когда Никита снимал во ВГИКе свой первый пятичастный фильм по моему сценарию, он находился под благородным влиянием «Аси Клячиной». Тоже снимал в одной из главных ролей не артиста – капитана портового крана из Ялты. Снимал методом провокаций. Иногда этот удивительный человек – смесь Альберто Сорди с Борисом Андреевым – просто считал до десяти на крупном плане, а я затем сочинял ему текст за монтажным столом, вкладывая в его уста новый смысл. В результате сыграл он прекрасно и очень переживал, когда все закончилось:
– Куда же я теперь, Никита Сергеевич? Да как же?..
Втянулся, бедный, в «заразу» актерскую.
Никита перешел на режиссерский факультет ВГИКа после второго курса Щукинского училища. Наш ректор Борис Евгеньевич Захава сказал ему:
– Или ты учишься, или снимаешься!
И Никита ушел. С ним так нельзя – языком ультиматумов. Он так не может. Еще учась на актерском, он сделал первую режиссерскую пробу. Поставил как самостоятельную работу отрывок из «Петра Первого» Алексея Толстого. И сам сыграл Петра. Никитин дедушка по материнской линии Петр Кончаловский дружил с Алексеем Толстым. Оба были большие гурманы. И Никита рассказывал, как соревновались они в изготовлении специальных резцов для ветчины. Кто тоньше нарежет. Собственно говоря, первый свой фильм Никита снял не по моему сценарию, а по моему рассказу. Сценарий написали мы вместе. Но он оставил в титрах в качестве сценариста только меня. Сюжет навеялся мне: крымская экспедиция «До свидания, мальчики». Повествование шло от первого лица. Это лицо – мое лицо – в картине сыграл Сергей Никоненко. Главную женскую роль сделала Татьяна Конюхова. Фильм назывался «А я уезжаю домой». Числился он курсовой работой Никиты и дипломной работой очень хорошего оператора Игоря Клебанова. Впервые, в конечном варианте я увидел эту картину в маленьком просмотровом зале монтажного цеха «Мосфильма». Я плакал. Я понял, что друг мой Никита талантливый режиссер. Там, на экране, впервые возник его киномир. Мир, подаривший нам «Пять вечеров», «Неоконченную пьесу для механического пианино», «Ургу»… Сергей Соловьев говорил мне, что видел нашу картину во ВГИКе и был потрясен, не ожидая такого от артиста Никиты Михалкова. Так что я честно пишу, не хвастаю. Начальство ВГИКа встретило фильм в штыки, увидело там что-то зловредное официальному курсу. Даже искало меня, требовало на ковер, но тщетно.
Никита показал работу Михаилу Ильичу Ромму. Ему понравилось.
– А что тут Стеблов делает? – спросил Михаил Ильич, когда свет зажегся.
– Он сценарист, это он написал, – ответил Никита.
Михаил Ильич долго и пристально смотрел на меня. Я этот взгляд запомнил. Мудрый, пронзительный. Где теперь этот фильм? Только Бог ведает, да Никита. Говорит, что оставил его финнам в Финляндии, когда лекции там читал. Ну и Господь с ним.
Марина Влади: «Как вам не стыдно, вы – антисемит!»
Молодой режиссер Коля Губенко предлагал написать для него сценарий, но я стал писать детектив с Никитой. По мотивам судьбы его дяди, родного брата Сергея Владимировича. Он воевал, попал в плен, бежал, выдал себя за немецкого офицера, так как с детства знал немецкий язык в совершенстве, опять бежал… Сценарий назывался «Барьер». Хороший, крепкий сценарий, но без открытий. Ему не суждено было стать фильмом. Начинался брежневский застой, и тема плена, концлагеря в частности уже не могла быть реализованной. «Барьер» мы писали летом, на даче. Моя семья арендовала дом километрах в десяти от Николиной Горы в деревне Ивановское. По проселку, велосипедом, через лес мимо кладбища, тропкою над рекою, крутым откосом, рядом с храмом, что на высоком обрыве, по лугу, по асфальту, к санаторию «Сосны», к Никитиной даче. К вечеру, на закате или утром ни свет, ни заря – все равно. Я представлял себя бунинским дворянином верхом, навещающим друга в соседней усадьбе. Два-три дня гостил у Никиты, потом в Ивановское, к себе. Опять к Никите. Снова к себе.
Марина Влади и художник Коля Двигубский как-то заехали на Николину к Михалковым. Никита купил барана по случаю у деревенского парня. Шашлык восхитительный получился в камине – словно в горах среди бабочек и цветов. Марина тогда еще не была с Высоцким. Она снималась у Сергея Юткевича в картине о Чехове, играла Лику Мизинову. Обаятельная, рассудительная, в очках, совершенно не походила на свою колдунью из знаменитого фильма. Завели музыку. Твист. Марина предложила мне танцевать. Я сказал: «Не хочется», потому что стеснялся. Марина, похоже, не привыкла, чтоб ей отказывали и самолюбиво, по-женски употребила на меня специальное время. Я сдался и твистовал вместе с нею, как мог. Спать разошлись далеко за полночь. Поутру завтракали на веранде: Никита, я и Сергей Владимирович. Несколько позже появилась Марина. Двигубский уже уехал рано в Москву с Андроном, который приехал накануне довольно поздно, и мы его не видели. За столом все молчали, чувствуя неловкость от того, что под глазом у Марины был синяк. Спросить ее никто не решался. Но то был синяк от удара или ушиба. Что произошло – никто ничего не понимал. Наконец заговорила Марина. Она была крайне раздражена:
– Как вы можете, Сергей Владимирович! Вы – известный писатель, общественный деятель. В Европе, вообще в цивилизованном обществе это выглядит дикостью! Антисемитизм – дикость и атавизм! Вы антисемит!
Сергей Владимирович был явно ошарашен и видом Марины, и ее монологом. После ее ухода он еще помолчал некоторое время, а потом сказал:
– Во то-то-то-тоже. Приехала – ест, п-п-п-пьет и еще оскорбляет!
Позже выяснилось, что столь резкий выпад Марины объяснялся каким-то нелицеприятным высказыванием Сергея Владимировича во французском посольстве в адрес Лили Брик. Но происхождение синяка осталось неясным. Как известно, у Марины Влади было несколько сестер. Одна из них, Оля, телевизионный продюсер, намеревалась запустить проект нового фильма. Этакое «Я шагаю по Парижу» с участием Марины, Никиты и вашего покорного слуги. Оля приезжала с этой целью в Москву. Мы ее принимали. Нам, конечно, до смерти хотелось 2-3 месяца поработать в Париже. Тогда, в брежневское время, это казалось почти фантастикой. И Оля, и Марина – дочери русских эмигрантов – говорили и понимали по-нашему вполне свободно. Кроме мата и юмора, которые построены на алогизмах и требовали более углубленного знакомства с Россией.
Как-то, засидевшись в ресторане Союза композиторов, Оля, я и Никита вышли на заснеженную ночную Тверскую улицу (тогда улица Горького). Вернее, Олю я нес на руках, пока Никита ловил такси. Мы были в приподнятом настроении от водки, мороза и заманчивых замыслов. Я бросил Олю в сугроб к ее удовольствию. Я чувствовал, что ей это нравится. Что ей хочется чего-то этакого – черт знает чего! Когда сели в машину – Никита рядом с шофером, а мы с Олей сзади, – я положил ее ноги на плечи водителю.
– Пораспускали бл… своих! – в ответ буркнул он.
Оля была совершенно счастлива. Ее приняли за свою, за русскую бабу. Она получила то, что желала, а мы нет. Проект фильма был запрещен на корню. Власти не поддержали замысла. Марине суждено было освоить русские алогизмы в большей мере. Судьба связала ее с Володей Высоцким.
Так они разошлись – Никита и Настя
Все-таки больше всего на свете мне нравится писать. Только ты, перо и бумага. Никаких посредников. Ни режиссера, ни партнеров, ни драматурга. Я даже времени не замечаю, когда пишу. А пишу редко, крайне редко. Какой-то стопор овладевает мной. Ах, если бы я был графоманом! Если бы ни дня без строчки!.. Нет же, не получается. Мне обязательно нужно, чтобы кто-нибудь меня заставлял, принуждал, или же я сам себя связал каким-нибудь обязательством. Жестко. Когда с Никитой работали, он не давал мне ни спуску, ни продыху. Почти каждый день собирались у него дома. И независимо от того, «шло» или «не шло», шли потом в Дом кино (старый Дом кино), который находился во дворе, под окнами. Прорывались на какую-нибудь кинопремьеру. Или же отправлялись в ресторан.
– П-п-пить идете, п-п-подонки? – как-то спросил Сергей Владимирович, не понятно – всерьез или нет.
– Пап, ну что ты говоришь? Женя почти не пьет, да и я не злоупотребляю, – улыбнулся Никита.
– А ты молчи, З-з-зайка-зазнайка! З-з-зайка-зазнайка! – ответил отец.
Удивительным образом в Сергее Владимировиче сочетается изощренность государственного мужа с неподдельной детскостью натуры, звучащей в его стихах.
Я карандаш с бумагой взял. Нарисовал корову. Потом быка нарисовал, И рядом с ним корову.Наталья Петровна Кончаловская как-то призналась мне, что известные строчки «в этой речке утром рано утонули два барана» сама подсказала Михалкову после семейной ссоры. Наталья Петровна – мудрая женщина, человек большой культуры. Ее авторитет и для Никиты и для Андрона был непререкаем. Она многое прощала, держала семью. Веровала. Царствие ей небесное!
Итак, мы шли в ресторан. Рестораны Дома литераторов, Дома композиторов, Дома кино, Дома журналистов, Дома архитекторов, Дома актеров, Центрального дома работников искусств, Дома ученых, «Прага», «Арагви»… И география, и биография нескольких поколений творческой интеллигенции советского времени. Материально это почти ничего не стоило. Есть трояк – и ты в полном порядке. Ну а уж с десяткой – кум королю. Можешь, как говорится, «возлежать» в отдельном кабинете. А какие люди встречались! Было что посмотреть и послушать. Как-то в «Арагви», проходя по коридору второго этажа, я услышал торжественно-тревожный голос Левитана: «От Советского Информбюро. Сегодня 22-го июня немецко-фашистские войска вероломно напали…» Заглянул в приоткрытую дверь отдельного кабинета. За столом сидели маршалы и генералы во главе с Юрием Борисовичем Левитаном. Они «проходили» с легендарным диктором всю войну. По всем фронтам. С сорок первого по сорок пятый. «С победой вас, дорогие товарищи!» Полководцы слез не скрывали.
В клубных домах, в их бильярдных, в застольях доигрывалось не сыгранное, сочинялось не сочиненное, доживалось не прожитое. Описывать же подробно всю затейливость существования этих творческих приютов вряд ли возможно. Это примерно то же самое, что вести репортаж из операционной. Для неподготовленных, для неспециалистов опасно. Может вызвать шоковое состояние. Недаром соратник Константина Сергеевича Станиславского Леопольд Антонович Сулержицкий говорил: «Все слабости обычного человека прощу я художнику, но ни одной слабости художника не прощу я обычному человеку».
Никита позвонил ночью:
– Ты можешь приехать?
– Что случилось?
– Можешь приехать?
– Сейчас приеду.
Я взял такси:
– Улица Воровского.
Он ждал меня в сквере возле Театра киноактера. Растерянно, вопросительно выговорил:
– Она сказала, что не любит меня…
Я еще не любил тогда. Только влюблялся. Не мог разделить, ответить на эту боль. Но я не забуду. Я видел ее в его глазах. Так они разошлись, Никита и Настя. Два сильных характера. Они были обречены. Настя с ребенком еще некоторое время жила в семье Михалковых. Никита ушел жить в комнату, в коммуналку, к Сереже Никоненко. Помню эту ступенчатую квартиру, это арбатское житье-бытие и узнаю его в фильме «Пять вечеров».
«Надо будет – ты и через меня переступишь…»
Со временем Михалковы вступили в актерский кооператив на улице Чехова. Никита получил однокомнатное жилье. Настя со Степой – двухкомнатное на другом этаже. Со временем их любовь трансформировалась в любовь к сыну.
Никита предлагал мне уйти из театра, работать с ним. Но я не решился. Театр казался мне чем-то прочным и постоянным, кино – уравнением с многими неизвестными. К тому же теперь думаю, что просто стал психологически уставать от него. От Никиты. С одной стороны, он человек чрезвычайно притягательный. С ним всегда праздник. Жить хочется. У нас схожее чувство юмора. Наши мироощущения близки, по глазам понимаем друг друга. С другой стороны, в умозаключениях можем не совпадать. К тому же я человек «отдельный». Мне всегда нужна внутренняя автономия – как говорится «в гостях хорошо, дома лучше». Меня можно увлечь, но увести от себя невозможно. Где сядешь, там и слезешь. Это помимо меня происходит, свыше. И даже порой к моему огорчению. Мы поругались. О чем-то спорили, не помню о чем.
– Тебе надо будет – ты и через меня переступишь, – сказал я ему.
Казалось, он вжался спиной в коридорную стенку между прихожей и кабинетом Сергея Владимировича. В глазах у него слезы выступили и он ответил:
– Переступлю!
Я уходил от него по улице Поварской (тогда Воровского). Я обернулся, почувствовал взгляд. Он смотрел на меня из окна, сверху, с последнего этажа… Никита позвонил через день, вечером. Мы продолжали работать за монтажным столом на «Мосфильме». Заканчивали «А я уезжаю домой», его первый фильм. Но что-то надорвалось между нами. Постепенно мы отдалились. Потом его «загребли» в армию, в морскую пехоту, на Дальний Восток…
Не сразу я понял, что был не прав. Не сразу. Прошло время. Мой ортодоксальный идеализм был только преддверием. Вера еще не пришла. «Не суди и не судим будешь!» А я судил. Предъявлял жесткий счет. Особенно тем, кого любил. Прижимал к стенке. Загонял в угол. Когда пришел срок переосмыслить, я извинился перед Никитой. Отношения возобновились.
Никита предложил купить у него кожаный пиджак. Дефицит, редкость. В семидесятых годах я был помешан на коже. В сладком забвении, словно загипнотизированный, мотался по комиссионным магазинам. Один пиджак покупал, другой продавал, удовлетворение не наступало. Я мечтал о нем, как гоголевский Акакий Акакиевич о новой шинели. А тут действительно новый пиджак, не подержанный предложил Никита. И, главное, мой размер. Размер-то у нас почти одинаковый. Когда, бывало, я в самоволку смывался в военной форме из подразделения актеров военнослужащих при Театре Советской армии, брал такси и ехал к Никите писать, то всегда переодевался в его одежду. И рукава как раз. Не надо удлинять, переглаживать утюгом через кальку. Кожаный пиджак, джинсы – джентльменский набор советского кинематографиста. Джинсы Никита мне ранее подарил. Сергей Владимирович привез из Европы. Никите они маловаты пришлись, а мне удалось натянуть. Живот вдавишь и впору. Я потом эти джинсы Саше Пороховщикову отдал, когда промежность протерлась. Его мать вставила кожаные ластовицы, и он еще в них долго ходил. Так-то обычно я в «самостроке» бегал. Из декорационной ткани в пошивочном цехе заказывал за десять рублей. Так вот, пиджак я забрал у Никиты, а о деньгах договорились, что на следующий день занесу. Договорились встретиться в проходной Театра имени Моссовета, с утра. Встретились. Никита отвернул меня в сторону от вахтера. Тихо предупредил:
– Меня хотели убить!
– Что? Как?
– Кто-то открыл газ на кухне. Газ шел всю ночь. Хорошо, форточка не закрылась. Ветром откинулась.
– А кто вчера уходил последним?
– Саша Адабашьян.
– Да ну, чушь какая-то. Нелепость. Случайность.
– Да нет, конечно, я сам понимаю. Но все-таки, представляешь, меня бы уже не было.
Впервые в лице Никиты я видел такой испуг, жуткий страх…
«Рабу любви» снимали в Одессе. Я играл Канина – звезду немого кино. Роль небольшая. Требует яркости. Когда роль идет через всю картину, есть пространство для маневра, для нюансов, штрихов, ритмических построений. Локальная роль – любовь с первого взгляда, в ней нет места развитию. Впечатление возникает, как вспышка. Зритель сразу должен принять тебя. У Никиты существовал прототип этого персонажа, герой-любовник немого кино Витольд Полонский. А я вспомнил Слезберга, его тонкий голос. Мне хотелось несоответствия внешних данных внутреннему содержанию. Скрытой трагедии, выраженной в смешном. С таким голосом нечего делать в звуковом кино. Мой Канин понимал это, оправдывался, сочинял: «Раньше я обладал приятным баритоном… Потом простудился, пришел в кино». К тому же я сделал Канина «голубым». То была моя ироничная «месть» Виктюку, его тогда еще скрытому «гормональному» театру. Роман репетировал со мной пьесу Арбузова «Вечерний свет». Ни пьеса, ни роль мне не нравились. Роман репетировал на гастролях нашего театра во Львове и ставил палки в колеса, на съемки не отпускал. Картина стала событием. И я получил совершенно неожиданный для себя успех.
Ну что там? Шутка, импровизация. Приехал с женой на неделю в Одессу, хотел отдохнуть, заболел, слава Богу, гриппом, так и отснялся, «не приходя в сознание». Не приходя в сознание от мнительности. Нас поселили в номер, где перед нами жил Николай Пастухов, попавший в больницу по подозрению на холеру. Диагноз не подтвердился. Действительно, слава Богу. Так угадал я свой персонаж в изысканной обреченности уходящей России. Россия, как «великий немой», кричала глазами, звала на помощь всей пластикой века серебряного перед восходом красной зари большевизма в новом фильме Никиты «Раба любви».
Хуже нет – работать с друзьями. Близкие отношения и производственные не всегда совместимы. У нас получилось. Я не потерял своего друга. Я обрел своего режиссера, к тому же стал первым артистом, сыгравшим в советском кино представителя сексуальных меньшинств. Единственной, можно сказать, диаспоры по природе своей не требующей политической автономии.
Когда прочитал сценарий «Неоконченной пьесы для механического пианино», приглянулась роль Трилецкого, но Никита и Саша Адабашьян предложили мне старика (его в результате сыграл Павел Петрович Кадочников). Разговор происходил за столом в нашем доме, и я пытался убедить их, что должен играть Трилецкого. Так ни на чем и не остановились. На Трилецкого пробовали другого актера. Однако, уж не знаю в силу каких обстоятельств, все-таки спустя время и мне предложили пробу. Получилось отменно. Бывают в творчестве такие минуты, когда сам себя удивляешь. Никита в восторге. Я утвержден. Шьют костюм. Подписываю договор и улетаю на съемки в Прагу – картина Студии Горького совместно с «Баррандовым» по сказке Андерсена. Кроме того, осталось закончить работу в Армении у Фрунзе Давлатяна, где играл одну из главных ролей. И в театре премьера. Питер Устинов, «На полпути к вершине». В те времена для выезда за границу требовалось добро КГБ и райкома партии, что в принципе было одно и то же. Райком прошел. Сроки отъезда визированы. Премьеру сдали с успехом. И тут вдруг директор театра Лев Федорович Лосев заявляет, что нужно было бы мне остаться, не уезжать, отыграть в официальной премьере, отложенной по вине театра на несколько дней.
Перенести съемки объекта в Чехословакии нереально по соображениям производства, занятости партнеров и визового режима. К тому же в театре готов сыграть Саша Линьков. Он был вторым исполнителем. Директор встал в позу. Требует, чтоб играл я, что спектакль очень ответственный, хотя роль при всей важности не была главной и один спектакль ничего не решал. Я разрывался. Конфликт нарастал. Как быть? Что делать? Никита советовал уйти из театра и поступить в штат Студии киноактера. Сам сочинил для меня заявление об уходе культурологического содержания в духе дипломатической ноты, что еще более ожесточило директора и иже с ним. Давление со стороны руководства не ослабевало. В последнем разговоре я взорвался, послал директора куда подальше и улетел в Прагу.
Далее все, как в повести «Возвращение к ненаписанному». Возвращаясь в Москву, я попадаю в автомобильную катастрофу. Из-за нелетной погоды отменен вертолет Брно – Прага. А я тороплюсь на съемки к Никите. Триста пятьдесят километров машиной по скоростной трассе, и у самого международного аэропорта чудовищная авария. Клиника. Операции. Никита звонит. Ждет. Уговаривает играть в гипсе.
Но риск потерять правую руку вынуждает меня к отказу.
– Как ты думаешь, кто мог бы тебя заменить?
– Играй сам, – советую я ему.
Опять Господу было угодно оставить меня в живых. «Остановись, подумай. Кто ты? Зачем? Куда?» – возникло в душе.
Как-то, выступая на моем творческом вечере, Никита сказал:
– В общем-то, мы делаем с тобой одно дело, только я долблю, а ты размываешь…
Ощущение некого единения, сочувствования никогда не покидало нас; независимо от того, видимся чаще или реже, работаем вместе или нет – мы не чужие друг другу. Поэтому злые слухи, суровые обвинения в адрес Никиты мне всегда неприятны. Не любя человека, не испытывая к нему хотя бы симпатии, ничего в нем понять нельзя. Но и вакханалия подхалимажа, зажигательного холуйства, часто сопутствующие Михалкову, также меня смущает. И то и другое унижает моего друга. Я часто думал: если бы соединить воедино наши творческие качества, наши энергетические потоки, вот получился бы человечище (чуть было не написал «матерый человечище» – известное выражение Ленина). Нет, конечно же, не матерый, но безусловно более многомерный художник. Но перст Божий распорядился иначе. Каждый из нас идет своею дорогой. И когда переплетаются в очередной раз наши векторы, мы оба чувствуем нечто необычайное: что-то высокое и трагическое, смешное и сентиментальное, парадоксальное и заветное…
Хоронили Юру Богатырева. После широких поминок во МХАТе мама Юры пригласила нас узким кругом домой, в его однокомнатную квартиру на улице Гиляровского. Нелепы всегда погребальные трапезы, как всегда нелепа любая смерть. Уходя, мы вышли с Никитой на лестничную площадку, постояли, посмотрели навстречу друг другу, обнялись и заплакали… Нас никто не видел.
Театр Эфроса
Еще на третьем курсе театрального института студенты полны собственного достоинства, снисходительного отношения к младшим собратьям. На четвертом курсе все кардинально меняется. Они опять начинающие. Им предстоят первые шаги на профессиональной сцене, но прежде еще нужно устроиться в театр.
– Вы только, пожалуйста, не смейтесь, не смейтесь, пожалуйста, это совершенно серьезно, – предупредил руководитель нашего курса Анатолий Иванович Борисов. – Надо навестить, помочь Наташе Селезневой. Ей что-то там на голову со шкафа упало… Но все обошлось, все обошлось.
Навещал пострадавшую кто-то другой. Меня Анатолий Иванович попросил подыграть ей в отрывке для показа в Театре сатиры. Известное кинодитя, начавшая сниматься еще ребенком, сохранившая и по сей день невинное выражение лица, Наташа всегда обладала довольно определенным женским характером и практической хваткой. Репетировали недолго, по-деловому. Показались художественному совету во главе с Валентином Николаевичем Плучеком, и Наташу приняли в труппу, а меня нет. Да я и не стремился туда, и в Театр Вахтангова не стремился, только подыграл Маше Вертинской и Вите Зозулину перед Рубеном Николаевичем Симоновым. Я стремился в Театр Ленинского комсомола к Анатолию Васильевичу Эфросу, куда и попал. Ну что они могут, Плучек, Симонов? Их время прошло, казалось мне. Товстоногов, Ефремов, Эфрос, Любимов – вот главные театральные ледоколы шестидесятых. Но Товстоногов в Питере, далеко. Ефремов рядом, чересчур рядом, как на улице, в транспорте, на собрании – сплошной социум. Дымка, тайна, загадка, пауза, чудо из ничего, попытка безвременья – моим первым главным, единственным режиссером стал и остался Анатолий Васильевич Эфрос!
Бывают крылья у художников, Портных и железнодорожников, Но лишь художники открыли, Как прорастают эти крылья. А прорастают они так: Из ничего и ниоткуда… Нет объяснения у чуда, И я на это не мастак, –решил Гена Шпаликов.
Таким был Эфрос. Я проработал в Ленкоме у Эфроса меньше сезона. Театр разогнали, Анатолия Васильевича перевели на Бронную, а меня через военкомат мобилизовали в Театр Советской Армии.
Но те, с кем имел счастье играть у Эфроса, остались навсегда людьми интонационно и понятийно своими. И Тоня Дмитриева, и Митя Гошев, и Шура Ширвиндт, и Миша Державин, и Валя Гафт, и Саша Збруев, и Лева Дуров, и Гена Сайфулин, и Толя Адоскин, и Оля Яковлева, и появившийся под конец из Еревана Армен Джигарханян… Эфрос жил театром, жил в театре. Даже свой кабинет перенес в репетиционный зал, подальше от администрации, от доносов. Отгородился хрупкой перегородкой, откуда возникал перед нами с легкой полуулыбкой и начиналась «Репетиция – любовь моя», как он назовет впоследствии свою книгу, осмысляющую дело его жизни. За полгода я сыграл зубного врача в «Похождении зубного врача» Александра Володина, Витьку Аникина в «До свидания, мальчики» Бориса Балтера и одну локальную роль – эффектную истерическую сцену свидетельских показаний в пьесе Волчека «Судебная хроника».
Когда приходишь играть спектакль, попадаешь в особую атмосферу. И закулисную, и сценическую. Все равно как в знакомый дом к родственникам, друзьям или приятелям. К одним ходишь из уважения, по обязанности, чтобы не обидеть. К другим летишь сломя голову, в уют, в радость, как к себе домой. Весь день крутишься в делах, в суматохе и вечером, наконец, впадаешь в отдохновение: «Дома, да небо синее, то в рот тебе магнолия, то в нос тебе глициния…» Крым, довоенная Евпатория – здесь, в Москве, на улице Чехова, в представлении Сергея Львовича Штейна «До свидания, мальчики» по одноименной повести и кинофильму, где я работал главную роль – Володю Белова. В Ленкоме же Витька Аникин был мой персонаж. Володю делал Саша Збруев в очередь с Геной Сайфулиным. Инку играли попеременно Оля Яковлева и Люся Савелова. Олечка Яковлева необыкновенная, сверхобычная. Партнерша, дрейфующая естеством в нежный сон своего театра. Как упоительно вместе с ней слиться в сюжете, не спугнув зрителя. Не мешать оставаться самой собой – излюбленной музой Анатолия Эфроса. Гена Сайфулин ворчал:
– Ты на зрителя играешь. Это не наш театр. Зачем ты на зрителя работаешь?
Нет, не играл я на зрителя. Терпеть не могу идти на поводу у него. Но всегда характер искал. А они нет. Мой Володя Белов в фильме – один человек, Витька Аникин в театре совсем другой, хотя внешне все тот же я.
– Театр – зверинец. Вы – мой зоопарк, – радовал нас Анатолий Васильевич. – Только во МХАТе большие звери: слоны, львы, медведи. А вы у меня маленькие обезьянки. Не надо наигрывать, не нужно характера. Играйте действие. Играйте себя.
И показывал, как это делается. Здорово показывал. И все старались, как он. Все играли его. Его действие, его манеру. Себя-то как раз никто не играл. За исключением Оли Яковлевой.
Потом на Бронной, через несколько лет, Эфрос воскликнет: «Назад, к Качалову!» Ему надоест театр маленьких обезьян. Захочется дрессировать хищников, крупных особей. Но даже такой большой мастер, как Коля Волков, еще долго будет говорить голосом Эфроса, несколько лет, пока не придет в себя. Эфрос творил репетицию, театр из фейерверка действенного анализа. Он приносил с собой тихую радость. И из нее рождался спектакль. Из радости. Я благодарен ему за это полурелигиозное состояние.
В Театре Ленкома, бывшем здании купеческого собрания, выступал Ленин на съезде коммунистического союза молодежи. От Эфроса требовали, чтобы он поставил спектакль про такое событие. И Ильич, мол, у вас свой имеется – Лев Дуров. Тоже лысый. Но Анатолий Васильевич сопротивлялся категорически. На собраниях указывал на конкретных людей: «Знаю, что вы на меня стучите!» Вот это уж ему не простили, а главное, не простили успеха. Необычайного успеха нашего театра. Вскоре у нас появились новые администраторы. По всему видно – со «специальным заданием». Распространяли анкеты с требованием выказать отношение к главному режиссеру. В довершение организовали выезд в Тулу на ноябрьские праздники. «Специальные администраторы» выполнили задание. Подвыпившая заводская публика практически сорвала гастроли. На спектакле «До свидания, мальчики» пьяный субъект в первом ряду сгрызал кожуру с апельсина и методично швырял на сцену. Не останавливая хода пьесы, я собрал эти огрызки, влепил прямо в лоб чавкающему апельсином рылу и продолжал как ни в чем не бывало. Рыло задумалось. Оно не могло вместить этой обратной связи. Оно присмирело перед такой силой искусства.
Больше всего противился Эфросу глава московской партийной организации Егорычев. В ЦК комсомола пытались смягчить удар – все бесполезно. Эфроса сняли. Незадолго до этого меня вызвали в военкомат:
– У тебя уже была отсрочка. От добра добра не ищут. Завтра с паспортом явишься в Театр Советской Армии к Анатолию Андреевичу Двойникову, прапорщику команды актеров военнослужащих.
Из нашего театра, от нашумевших спектаклей «Снимается кино», «Сто четыре страницы про любовь», «В день свадьбы», «Мольер»… попасть на площадь Коммуны, в здание сталинского Пентагона… Театр Советской Армии выстроен как звезда. Звезда с многочисленными переходами, стилобатами, лабиринтами помещений, где до сих пор находят ранее неизвестные комнаты во время ремонтов, где правительственные лимузины въезжают прямо с улицы в бункер к лифту, похожему на начальственный кабинет с креслом, столом и зеленою лампой, который медленно выдавливает тебя в главную ложу на третий этаж – выше некуда. Там роскошь, банкетный зал и почти ничего не слышно – дефект акустики времен «культа личности».
Театр Андрея Попова
Встретил меня удивительный человек – Андрей Алексеевич Попов. Утешил: «Не расстраивайся. Мы тебе главную роль даем. Понравится – останешься. Не понравится – обратно вернешься после дембеля». И улыбнулся извиняющейся гримасой. Народный артист СССР, главный режиссер главного Театра Советской Армии, сын основателя театра, выдающегося режиссера Алексея Дмитриевича Попова. Он ничему меня не учил – я у него учился всему. Пьеса, которую мы репетировали, называлась «Часовщик и курица, или Мастера времени». Автор Иван Кочерга. Постановщик Леонид Хейфиц. Леонид Ефимович, заместитель главного режиссера, любил этюды. Казалось, что в наших импровизациях он что-то искал для себя. Этюды – занятие увлекательное, но в меру. Мы же вынуждены были предаваться сему творческому «игроблудию» почти до самой премьеры, не имея ясных решений. Андрей Алексеевич бесконечно доверял Хейфицу. Он блистательно сыграл в его постановке «Иван Грозный». Спектакль, ставший событием театральной Москвы. Спектакль, талантливо совместивший пространство сценического полигона Театра Армии с масштабом человеческой личности Андрея Попова. Сцена, скорее пригодная для парадов, чем для драмы, на этот раз подчинилась эпическим декорациям Михаила Сумбаташвили. Он же стал художником «Часовщика». Герой мой, Юркевич, метался по авансцене на фоне огромного паровоза в натуральную величину. Паровоз времени тащил за собой героя, трансформируя его внешне и внутренне. Мне, двадцатидвухлетнему малоопытному артисту театра, предстояло сыграть четыре возраста. Последний, лет пятидесяти, что гораздо сложнее, чем семьдесят или восемьдесят с явными признаками дряхлости. Вторую роль играл Андрей Алексеевич. Его немецкий философ Карфункель – «часовщик», владеющий временем, периодически возникал на пути Юркевича. Они как бы сверяли часы, сопрягали время с безвременьем. Конечно, мне было трудно. Я советовался с Поповым.
– Сам, сам, – отвечал мастер. – Артист как щенок: бросили в воду – барахтайся. Выплывешь – будешь жить.
Как-то, назначив вечернюю репетицию, Хейфиц попросил нас с Поповым сыграть очередной этюд матом. Зачем ему это понадобилось? Не знаю. Труда нам это особенного не составило. Пользы тоже. Один конфуз, да и только. Хейфиц, видно, удовлетворился экспериментом, больше не возвращался к нему.
В команде актеров-военнослужащих я находился на привилегированном положении, как премьер. Поначалу, правда, еще выходил в массовках, пока не начались репетиции «Часовщика». После высшего образования служить предстояло год. До получения офицерского звания. В первый же день моей действительной службы (день моего рождения – 8 декабря 1966 года) шел спектакль «Волоколамское шоссе». Предстояло идти в атаку. Глубина сцены уходила в почти естественный горизонт. В полном зимнем обмундировании, в маскхалате, с автоматом ППШ застали меня в казарме во время антракта, перед выходом, Лариса Голубкина и Федя Чеханков. Пришли познакомиться, посмотреть, засвидетельствовать почтение. Они же стояли в кулисах и видели меня в «деле», в «бою». По команде помрежа я зарядился с товарищами моими у самого задника, рядом с танковыми воротами, куда действительно может въехать танк (специальное перекрытие выдержит вес – так рассчитано). Залегли. Затемнение. Музыка, свет, фонограмма и:
– Ура!.. За Родину!.. За Москву!..
Бегу вместе со всеми вперед, на зрителя. Публика еще далеко, еще полпути и вдруг – неудача. Сваливаются стеганые штаны. Подхватываю их на ходу левой рукой, правой придерживаю автомат.
– Ура!..
Только бы не остаться в кальсонах! Только не это! Подтягивая штаны с колен, наконец убегаю в кулису. Лариса с Федей видели сей «пассаж».
На другой день прапорщик Двойников выдал мне форму. Солдатскую, но сшитую из офицерской диагонали. Погоны я носил музыкантские, нагрудный значок о высшем образовании, в кармане пачку своих открыток, как киноартиста, которые продавались в киосках «Союзпечать». Все это на всякий случай, для военного патруля, если остановят на улице. Такая же карточка, выпускаемая бюро кинопропаганды, лежала у Двойникова в кабинете на столе, под стеклом.
– Стеблов, – тянул слегка в нос Анатолий Андреевич. – Чего такое? Входишь к полковнику на ковер – говори: «Здравия желаю, товарищ полковник! Рядовой Стеблов явился по вашему приказанию!» Понял? А то чего такое: «здравствуйте», «добрый день»… Чего такое? Понял?
– Понял.
– Я вот… Фоно сыну купил, это самое. А он заниматься не хочет. А ты каждый день, это самое: увольнительная, увольнительная…
– Ну так что?
– Что, что? Не хочет, это самое, сын заниматься.
– Ну и что?
– А ты каждый день, это самое: увольнительная, увольнительная…
– Ну и что?
– Научи, это самое, хотя бы одной рукой… «Все выше, и выше, и выше!..» Это самое. Марш авиации. Я слышал, играл ты… И три поросенка.
– Хорошо. Давайте попробуем.
– Только не говори никому, это самое. Все обедать пойдут, а ты, это самое, задержись.
– Хорошо.
Начали с трех поросят. Попроще. Я показал Анатолию Андреевичу одним пальцем. Попросил выучить к завтрашнему дню. Назавтра, еще до прихода Двойникова, открыл крышку рояля и увидел помеченные чернильным карандашом клавиши. Какую первую нажимать, какую потом. Цифры, цифры, цифры… И если бы такелажники не унесли рояль с нашего этажа, неизвестно, каких высот достиг бы этот педагогический метод.
Из главного политического управления армии в команду время от времени приходил проверяющий. Элегантный морской офицер, кавторанг с кортиком. Как-то во время политзанятий он обратил внимание на мою прическу. Волосы, мол, длиннее положенного по уставу.
– Это парик, это самое, для спектакля, – нашелся Анатолий Андреевич. – Попробуйте, это самое, можно снять.
Он больно дернул меня за волосы.
– Не надо, не надо, отставить, – остановил его капитан.
Зам. начальника театра майор Суворов являлся иногда по утрам на поверку, расхаживая перед строем и разглагольствуя:
– Да, Стеблов, это вам не Театр Ленинского комсомола. Мы с вами церемониться не будем. И вообще… Я не говорю, что в команде нет внешней дисциплины. Я этого не говорю. Не говорю, что посторонние женщины ночуют в физиотерапевтическом кабинете, что выпивки случаются в несвободное время. Я этого не говорю. Но внутренней дисциплины нет. Вот опять недавно в «Иване Грозном» стражники не того схватили… А ведь мы с Анатолием Андреевичем церемониться, повторяю, с вами не будем. Представьте себе, что нет Анатолия Андреевича…
Стоявший «во фрунт» Двойников насторожился. Суворов запаузил, потом продолжал:
– Переводят Анатолия Андреевича комендантом Кремля. – Опять запаузил. – Или меня не будет… – Суворов тяжело вздохнул.
Наступало лето 1967 года. Театр уезжал на гастроли. Команду отправляли в военные лагеря, в Алабино. Меня оставили в Москве. Состоялся разговор в кабинете начальника театра полковника Антонова.
Он официально предложил перейти в труппу с первых чисел сентября, после дембеля. Я выдвинул два условия: оклад в 100 рублей и отказ от присвоения офицерского звания. И то и другое удивило Антонова.
– Наличие лейтенантских погон обяжет меня, находясь в запасе, время от времени призываться на сборы, отрываться от дела, – объяснял я.
– А почему именно 100 рублей? Не больше, не меньше? – иронично поинтересовался Антонов.
Честно говоря, я не нашелся с ответом. Промямлил что-то и только. Первый оклад после института составлял семьдесят пять рублей. Потом, кажется, было 85 рублей, 90 и 100. Скачок с ленкомовских семидесяти пяти, минуя две позиции, казался мне очевидным успехом в материальной жизни. Хотя водитель троллейбуса получал в те времена 200-300 рублей, а уборщица метрополитена – 85. В обычном, не академическом театре потолок равнялся 150 рублям.
В так называемой кишке, узком проходном помещении, где висела репертуарная доска с графиком спектаклей и репетиций, взял меня за руку и отвел в сторону Андрей Алексеевич Попов:
– Ну, ты остаешься? Решил? Ты скажи, а то мы на тебя еще одну пьесу берем. «Поручик Каховский» Гены Шпаликова. – И снова улыбнулся своей смущенной гримасой этот удивительный человек.
В сентябре, в самом начале, вышел приказ. Дембель! Ура! На сборе труппы в начале сезона я уже штатский. Одной актрисе вручили букет и конверт с деньгами. Поздравление с юбилеем. «Вот так и я когда-нибудь, не успев оглянуться, получу свой конверт. Жизнь – мгновение», – пришла на ум банальная мысль.
Площадь Коммуны (ныне площадь Суворова, не майора, конечно, а генералиссимуса) считалась у нас территорией части, но в ресторан Центрального дома Советской Армии вход рядовым был заказан. Только офицерский состав мог воспользоваться этой трапезной. Еще когда не снял я погоны, состоялся закрытый показ премьеры «Часовщика». Днем, нарушив запрет, я сидел в ресторане, обедал. У стойки бара возник военный патруль. Офицер с бляхой и два солдата с повязками на рукавах. Офицер поманил меня пальцем. Я понял – это конец. Арест. Городская гауптвахта. Пока разберутся, что, как, почем, нахлебаюсь по самое горло. Отступать некуда. Подойдя к «бляхе», я положил руку ему на погон, сказал тихо, как можно спокойнее: «Ты меня не серди. Меня вечером маршал Захаров смотрит, а мне еще отдохнуть надо». И пошел от него прочь не оборачиваясь, но ожидая окрика вслед. Видимо, от моей наглости «бляха» опешил и онемел. Скрывшись за дверью, я дернул в театр, в команду. Все обошлось. Вечером нас действительно смотрел начальник Генштаба маршал Захаров, и спектакль, приуроченный к пятидесятилетию Советской власти, получил официальное признание.
Когда представители высшего командования посещали театр, главным образом по случаям каких-либо торжественных заседаний, в кишке собирались полковники-адъютанты. Смешно было слышать их разговоры о своих подопечных:
– Мой сегодня от кофею отказался. Давление поднялось.
– А у нас гастрит разыгрался.
Двойников по таким дням старался отправить команду на увольнение. С глаз долой от генералов и маршалов. А то чуть что не так… Подворотничок плохо пришит или еще что. Высшее начальство разбираться не будет и может сослать нашего брата куда Макар телят не гонял. Команда актеров-военнослужащих была образована в 1945 году. Служили в ней Михаил Глузский, Андрей Попов, Всеволод Ларионов, Владимир Сошальский, Алексей Баталов… Некоторое время набора в команду не было, а с 1965 года служба восстановилась на постоянной основе. С тех пор и возглавлял подразделение Анатолий Андреевич Двойников. Не каждого можно определить на такое дело – командовать таким контингентом. «Чтоб сносить мои актерские наклонности… В этом тоже надо что-то понимать…» – пел Александр Вертинский о своей жене. Анатолий Андреевич был для солдат-артистов и отцом, и дядькой. Человек природной доброты, справедливости и ума, обладающий своеобразным юмором и недюжинным терпением, он стал личностью легендарной для всех, кто прошел его школу или слышал о ней. О нем рассказывают анекдоты и байки, его любят и пародируют. Это ли не признак подлинного признания? Пятидесятилетний юбилей команды невольно превратился в его личное чествование. И Сергей Шакуров, и Сергей Никоненко, и Михаил Швыдкой, и Андрей Караулов, и Леонид Ермольник, и ваш покорный слуга, и многие-многие другие, играющие заметную роль на разных подмостках российского культурного пространства, благодарны Анатолию Двойникову за дни пребывания в этом своеобразном «театрально-пажеском» корпусе.
За месяц до моей демобилизации на «Мосфильме» запустилась картина «Урок литературы» по рассказу Виктории Токаревой «День без вранья». Сценарий написал Георгий Николаевич Данелия вместе с Викой, но в титрах осталась только ее фамилия. Данелия вроде бы сам собирался снимать, но планы его изменились, и режиссером-постановщиком стал Алексей Александрович Коренев – отец Лены Кореневой, будущей кинозвезды. Главная роль учителя литературы писалась с прицелом на меня. Но я еще состоял в солдатчинe и требовалось особое разрешение начальства. Дирекция киногруппы получила добро от полковника Антонова. Осталось заручиться согласием художественного руководства. Мы с Алексеем Александровичем разыскали на подмосковной даче Леонида Ефимовича Хейфица. Он не имел возражений, но не решился подписывать, послал к Попову. Андрей Алексеевич пребывал тем временем на курорте в Минеральных Водах. И Коренев полетел туда. Каково же было искреннее удивление Андрея Алексеевича, когда Коренев возник перед ним в санатории за тысячи километров от Москвы. Узнав к тому же, что Алексею Александровичу необходимо было в сей же день возвращаться обратно, Попов совсем растерялся:
– И вы летели из-за такой ерунды? Из-за подписи? Могли бы позвонить да и только.
Он всегда тяготился формальностями, этот удивительный человек. После афишной премьеры «Часовщика» на банкете в Доме актера Андрей Алексеевич грустил, глядя на торжество.
– Вы недовольны спектаклем? – спросил я Попова.
– Нет культуры пития! – ответил учитель.
Он не был трезвенником, но пошлости не терпел. Однажды на сборе труппы ведущая дама театра затеяла бурную склоку. Владимир Сошальский пытался юмором потушить костер, но не достиг цели. Скандал разрастался. Андрей Алексеевич сидел за столом президиума, обхватив голову двумя руками, затем поднялся и сдавленно прошептал на весь зал:
– Вы что? Это ж театр!
И все притихли, увидев слезы в его глазах.
Началась работа над «Каховским». Я буквально не видел белого света. Бывало, с утра машина увозила меня на киностудию, к двенадцати или к часу доставляла в театр на репетицию, потом опять на съемку, и опять в театр на спектакль. Перед началом зайдешь в парк ЦДСА, плюхнешься на скамейку, съешь с голодухи плитку шоколада «Золотой ярлык», который стоит комом в горле от частого употребления (зайти куда-нибудь поесть времени не хватает) и прямым ходом на пятый подъезд. Одеваться, гримироваться.
– Вам какой сапог подавать сначала? Левый или правый? Вам как привычнее? – спрашивала заботливая костюмерша.
– Все равно, – еле поворачивается в ответ язык.
Но выйдешь на сцену – и третье дыхание открывается, взмывает, влечет по волнам эмоций, ритмов и мизансцен. И ты, как пьяный, не ведаешь, что творишь. Словно кто-то ведет тебя, выворачивает изнутри, и ты подчиняешься и смотришь со стороны на себя. Куда ведут тебя и зачем?
– Женечка, не забудь пожалуйста, – стесняясь, напомнит Андрей Алексеевич.
А я опять ошибусь, неточно дам ему реплику, сам извинюсь, но на следующий раз снова сделаю ту же ошибку, будь она проклята! И он опять, стесняясь, напомнит, этот удивительный человек, мастер, учитель! Ни раздражения, ни упрека. И мне от этого до сих пор стыдно перед его смирением, и я не забыл, и пишу об этом.
– Если тебя плохо слышно, не кричи, говори еще тише, – посоветовал как-то Андрей Алексеевич. – Тогда все умолкнут и будут прислушиваться к тебе.
Репетиции «Каховского» тоже шли через этюды. Бесконечные, изматывающие этюды. Истерики, истерики, истерики. И хотя после «Часовщика» один рецензент писал обо мне, что я открыл новое амплуа «советского неврастеника», мне самому эта стимулируемая Хейфицем эмоциональная экзальтация никакого удовольствия не доставляла и не дарила открытий, только оскомину и усталость. Леонид Ефимович внушал исполнителям: декабристы такие же люди, как ребята с Марьиной Рощи (известного бандитского района Москвы). Я парировал, что если уж судить по районам, то скорее с Арбата. Такие ассоциации не казались мне убедительными. Может быть, Хейфиц и хотел вернуть в день сегодняшний героев декабря 1825 года, но, на мой взгляд, искал он не там. Природа любого восстания или революции в нетерпении, в поиске быстрых, простых решений, коротких путей. В результате путь удлиняется цепью личных трагедий, и, только пройдя через общественную «заморозку», через репрессии, человек раскаивается, смиряется и возвращается к Богу, от которого отошел.
Развязка наступила внезапно. Как-то во время очередного этюда я вошел в раж и стал избивать партнера ногами за предательство общего дела. Когда пришел в себя от этого наваждения, решил – так дальше нельзя. После краткого конфликтного спора один на один Хейфиц объявил мне, что отстраняет меня от работы, заменяет вторым составом. Я объявил об уходе из театра и пошел прочь. Леонид Ефимович нагнал меня, уговаривал не делать глупостей, не уходить. Он явно не рассчитывал на такую мою реакцию. Ведь под удар ставился не только выход «Каховского», но и репертуарное существование «Часовщика». Я был непреклонен.
– Жизнь покажет, кто из нас прав, – сказал он мне вслед.
Перед началом очередного спектакля я вошел в гримерную Андрея Алексеевича:
– Вы слышали? Я ухожу.
– Почему?
– С Хейфицем творчески разошелся. Вы режиссурой не занимаетесь…
– Дурак, – как-то медленно, отстраненно ответил Попов. – Я тебя люблю.
На сцене в тот день мой Юркевич творил бог знает что. В конце спектакля отменил все мизансцены, взял табуретку, встал на нее и сыграл весь финал, не сходя с места. Попов-Карфункель смотрел на меня с озорным восхищением. Мол: «Ишь, что творит!» Он не мешал, понимал, что, взобравшись на постамент, я не только прощался с театром Попова, но и утверждал какую-то свою, еще даже самому себе не ведомую правоту. Он уважал Человека, и не сгонял его с табуретки. Его философ Карфункель действительно владел временем, знал секрет.
Начальник театра, полковник Антонов официально пытался отговорить меня от ухода. Сулил звание и зарплату, но я уже «закусил удила». Впоследствии жизнь расставила все по своим местам. Конфликт не имел продолжения, тем более что носил он характер творческий, по-человечески мы не ругались. И спустя годы президент государства присвоил звание народного артиста России одним указом артисту Евгению Стеблову, режиссерам Леониду Хейфицу и Петру Фоменко. «Там, наверху, режиссеров не очень знают. Так что я звание получил благодаря тебе», – пошутил Леонид Ефимович. А я так думаю, что, может быть, кто-то где-то там чего-то не знает, но Бог все знает, да не скоро скажет. И все устроит. Все к лучшему. Через своих людей.
Я закончил тогда сниматься в «Уроке литературы», ушел из театра и улетел в Крым. Сейчас я думаю – тот уход мой из театра Андрея Попова все-таки был ошибкой, но я не мог тогда поступить иначе. Нервная и физическая истощенность, недостаточное умение распределять силы, попросту говоря отсутствие внутренней гармонии – удаленность от Бога толкали меня к поиску причины не в себе самом, а вовне. К изменению обстоятельств, а не себя. «Охота к перемене мест» казалась единственно правильным выходом. На самом деле то было начало большой маеты, мучительных испытаний на пути к истине. Некоторые перипетии того сюжета души требовали разрешения и отразились затем на бумаге. Сформировались в повесть «Не я».
Не я (Маленькая повесть)
Пролог – встреча со зрителем
Сегодня не нравлюсь сам себе. Просто видеть себя не могу. Отвернулся. Облокотился на зачехленный рояль, расстегнул пуговицы над клавиатурой, открыл крышку, попробовал звук. Вязкий и дребезжащий. Заигран, разболтан, расстроен приличный вроде бы инструмент. И я вот тоже не в духе. Но он-то понятно: рожден был концертным, для славы, для блеска – и на тебе, прозябает в заштатном клубе, заставленный стульями, задвинутый в самый угол пустой и холодной сцены, где только и знают, что крутят кино в темноте, как сейчас. А мне-то грех жаловаться на судьбу.
Однако пора, фрагмент заканчивается. И снова стою я лицом к себе, к тому, что там, на экране, – неопытному, давнему, молодому, еще в черно-белом изображении и облика, и души. Только вижу себя как бы вывернутого наизнанку, шиворот-навыворот, в иной плоскости, не так, как зритель видит меня. Оттого, что стою сейчас за экраном и вижу его обратную сторону. Пленка истертая, ролик заезженный. Смотрел его сотни раз. Порой кажется – играю прекрасно, порой – несносно, как вот сейчас. И изменить уже ничего нельзя. Что было, то было. Можно только самому измениться. Впрочем, не следует унывать… Аплодисменты. Мой выход.
– Спасибо! Ну, что же. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Так… Записка первая: «Пожалуйста, расскажите подробнее о себе. Кто ваша жена?» Знаете, на киностудии есть актерский отдел, где на каждого актера заведена учетная карточка. Так вот, обо мне там написано следующее: «Докучаев Сергей Александрович, год рождения 1945, русский, сложение астеническое, рост 178 сантиметров, шатен, глаза голубые, голос баритональный, немного играет на гитаре и фортепиано, спортивных разрядов не имеет».
А жена у меня – красавица. Не правда ли, довольно банальная вырисовывается картина? К сожалению, более подробно о себе ничего сказать не могу. Потому что сам еще не до конца разобрался в этом вопросе.
Так… Следующая записка: «Уважаемый Сергей Александрович! В печати промелькнуло сообщение о том, что вскоре будет опубликована ваша повесть. О чем она, если не секрет?» Да… Вы знаете, я, действительно, как-то по неосторожности сказал об этом в одном интервью, но, честно говоря, так до конца и не уверен, будет ли она опубликована. Боюсь сглазить… все не так просто… О чем моя повесть? Трудно вот так, здесь, в двух словах сказать об этом… О чем моя жизнь? Можно так спросить? Я когда-то надумал и записал, что каждый человек создает вокруг себя психическое, или психологическое, что ли, пространство. Большой человек – большое пространство. У маленького – закоулочек, закуток. Иные притягивают, иные пленяют, иные отталкивают. Некоторые даже очень профессионально занимаются такой работой. Писатели, композиторы, вообще поэты – артисты, художники… Миры заселяют. Мир дарят нам. Кому-то не хватает. Кто-то задыхается. Ну, действительно, некоторые не могут никак без книг или без музыки там, положим… как без рук. А артист – драматический или кинолицедей – пожалуй, чаще других то здесь, то там… Меняет предлагаемые обстоятельства. И вымышленные, и реальные. Много ездит, много играет. Здесь – один я, а там – другой, третий, четвертый, десятый… И все – я. И не я. Не знаю, понравился ли вам мой ответ?
Так… Еще записка: «Скажите, Сергей Александрович, вам не кажется, что вы на себя очень много берете? Воображаете? Все „я“ да „я“, а „я“, между прочим, последняя буква в алфавите. Поскромнее, советую, поскромнее! Лучше расскажите что-нибудь из смешного. Вам это больше идет. Извините, конечно».
– Простите, но я вынуждена вмешаться, – громко прервала пестро одетая женщина с корзиной цветов, поднимаясь на сцену. – А мне в свою очередь, – объявила она, – хочется в заключение поблагодарить уважаемого Сергея Александровича от лица устроителей сегодняшней встречи за интересное и содержательное выступление и вручить ему нашу скромную икебану – эти цветы, любовно выращенные нашими женщинами в нашем подсобном хозяйстве. Огромных вам творческих успехов, Сергей Александрович, и в личной жизни! Не обидитесь? Нет? Не обидитесь? Ну, пожалуйста! Если я назову вас Сережа, по-матерински, и пожму вашу руку? Вот… Вот так… Так держать!
«Да-да, пожалуйста», – подумал я и улыбнулся.
– А мы переходим к следующей страничке нашего устного журнала, – вдруг посуровела пестро одетая, – страница называется «Индийские йоги – кто они?».
«Fasten your belts» («Пристегните ремни»)
Сосны, ели, кустарник поодаль – остатки вырезанного краюхой леса, само поле, скорее походившее на луг зеленью да цветами упрямыми меж бетонных плит, и даже, казалось, птицы – словно попали под стеклянный колпак нового здания аэровокзала. Старое деревянное здание из некрашеных бревен более подходило здешнему захолустью.
Я отказался идти в буфет, остался караулить вещи. Он не настаивал долго, ушел один. Мы были на ты, хотя познакомились утром сегодня, перед самым началом работы. Он сам так захотел – видно, привык так. Так ему, видно, легче. Он был значительно старше и меня, и многих, да, пожалуй, старше нас всех на натурной площадке. Одет невпопад, не со вкусом, но неярко, стерто, неприметно в толпе. И лицо из толпы – обычнее обычного. Во всем этом и была его необычность среди нас, за это его и ценили. Объявили посадку.
– Извини, у тебя термоса нет? – поинтересовался он возвратившись.
– Нет, а зачем тебе?
– Армянский коньяк, понимаешь, нашелся в буфете. И внутрь, как говорится, взял, и с собой. Так-то ведь из бутылки неделикатно в салоне. Как можно! А из термоса – вроде чай, знаешь… Ты-то что, в завязке или вообще не пьешь?
– Вообще.
– Совсем, значит. А куришь?
– Нет.
– Молодец! Значит, не пьешь, не куришь… Что же ты целый день делаешь, как говорится?
Я не нашелся с ответом, поэтому разговор продолжили уже на взлете, пристегнув ремни. Самолет целиком был зафрахтован «Интуристом». Красочные англоязычные старушки в химических перманентах, их бодро дряхлеющие кавалеры – и мы по спецброни, в виде исключения, в самом хвосте.
– Какими иностранными языками владеете?
– Не владею.
– Как мы в этом похожи! А жаль, знаешь, – признался он, – так иногда хочется поболтать с басурманами.
– Отчего ты в загранку на гастроли не выехал? – спросил я. – Не взяли?
– У меня бюллетень. Уговаривали, я отказался. Продлил больничный, а сам сюда. Ха-ха! В случае чего, ты меня не видал, как говорится.
– Приболел?
– Ага.
– А что такое?
– Инфаркт.
– Как?
– Так.
– Шутишь?
– Нет, серьезно. Недели три отвалялся.
– Да ты что? Какого же ты лешего летаешь, снимаешься, коньяк пьешь?
– Да что, знаешь… Дочь взрослая, жена старая… А захочу, дам дуба, все переснимать будете! Испугался?
– Зря ты так.
– Это ты зря! Эх ты… Я еще с утра по нечетным, знаешь, на радио успеваю. В детской редакции. Святое дело – ребятишки! Рефлекс! Великая вещь, Маршал.
– Почему маршал?
– Я тебя Маршалом буду величать. Чую, далеко пойдешь. Если не споткнешься, как говорится. Слушай, был у нас Дедушка, знаешь. Сколько себя помню, все его Дедушкой в театре звали. В молодости блистал нарасхват. Герой не герой – фат, одним словом. Не выдержал себя, сломался, запил, опустился, как говорится, Дедушкой на выходах. Занимал часто, не отдавал – перестали давать. Потом статейки лудить намастырился, в газеты сносил. Мол, пятьдесят лет за сценой Иван Иванович Иванов ставит в темноте чистые перемены, как говорится, не промахнется, по меткам, аккурат одно в одно. Слава невидимому труженику Мельпомены… И будьте любезны, Дедушка, получите червонец, расслабьтесь в Театральном обществе. Так и пошло-поехало… Знакомства завел, сам в театральной энциклопедии прописался как мастер маленькой роли. Да что говорить, трезвый – золото Дедушка, напьется – осел, сладу нет. А если спектакль, если на сцену вот-вот… «Ваш выход, мастер» – а он в лоскуты, ни тпру ни ну, как говорится. Тут одно средство – запеть:
От Москвы до Бреста нет такого места, Где бы не скитались мы в пыли… С «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом Сквозь огонь и стужу мы прошли…Он встрепенется, знаешь, подхватит и пойдет:
Выпьем за победу, за нашу газету, А не доживем, мой дорогой…Под руки его с любимой песней, ступенька за ступенькой:
Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой-ой-ой-ой…Да в спину его – плавным толчком на публику… И чудо, преображение, как говорится: занавес открылся, артисты заговорили не своими голосами, спектакль начался! Рефлекс! Великая вещь! Дедушка всю войну, знаешь, в концертной бригаде пробыл, исколесил – фронтовик! А выйдет со сцены – опять сладу нет.
Они со стариком нашим, Главным, покойным, вместе еще в провинции в частной антрепризе начинали. Старик-то матерый был, Богом меченый, эпоха, мамонт, знал что почем, разбирался в клубничке. Грудь в орденах – полный иконостас.
Бывало, запускают новую пьесу. Вывесят распределение, а для Дедушки ничего нет. Снова, значит, в который раз «артист в театре роли не играет», как говорится. Так Дедушка ночью, знаешь, по телефону выходит на Главного, раз пятнадцать за ночь будит его, хрипит свою просьбу: «Третьего стражника!» Не выдержит, знаешь, Главный, сдастся, разрешит ему эпизод. Жалел он Дедушку как-никак…
Обычно-то Дедушка опрятностью не отличался. Ни Боже мой, знаешь, чтобы лишний раз рубашку сменить. Срамота! Холостяк заскорузлый. Слушай, слушай! Намекнули раз ему в профкоме, что, может быть, за границу возьмут. Смотрим, является в новой крахмальной рубашке. Подошел к приказу со списками, знаешь, отъезжающих, изучил сверху донизу – себя не нашел. «Кончай маскарад», – говорит и опять на другой день, как прежде, в грязную облачился… Так вот…
Не надолго Дедушка Главного пережил… Отчислил его на пенсию новый директор. И не стало Дедушки – помер через неделю, как говорится. Не смог он без театра, не справился Знаешь…
Ты ж мэнэ пидманула, Ты ж мэнэ пидвэла, Ты ж мэнэ молодого З ума, з розуму звэла… –вдруг хором грянули иностранцы на чистом украинском языке. Я даже вскочил от неожиданности. «Фастен е белтс! Сидайте, хлопче!» – захохотала англоязычная старушка, указывая рукой на табло «Пристегните ремни!» Я опустился в кресло, достал репертуарную книжку, заглянул в завтрашний день: в 9.30 утра партсобрание, в 11 часов – репетиция, с 15 до 18 – запись на телевидении, вечером – спектакль и, наконец, спать, но не домой, не к жене, а на вокзал, на плацкарту, в спальный вагон, к случайным встречам на пути в киноэкспедицию и обратно.
Сквозь стекла иллюминаторов еще различались дома, маленькие машины и даже люди. Они не слыхали поднебесного хора канадского землячества малороссов, они шли по своим делам.
Хорошо бы сбросить все, исчезнуть куда-нибудь от репетиций, съемок, спектаклей, аккордных контрактов и разовых соглашений… Исчезнуть на время или заняться праздным сочинительством… Видно, устал… Вспомнил…
Лицом в безветрие – праздное сочинительство
Приземлившись, я не узнал солнца и неба, сразу же забыл дом, работу, московскую осень, а когда такси вывинтило меня резьбой горного серпантина к гостинице, с неожиданным наслаждением плюхнулся на казенное ложе, пораженный экзотикой дурманящего ароматом острых специй здешнего воздуха, и, словно заживо сваренный его раскаленной неподвижностью, уснул мгновенно. Проспал день, ночь, но очнулся уже ранним утром без привычного вазомоторного насморка, свеж и весел. Вот что значит мягкий климат – чудо!
Да почему же время от времени я обязательно меняю климат? Прячусь, скрываюсь, исчезаю. Ну что мне не сидится на месте? Чего я бесконечно ищу? Мыкаюсь, мыкаюсь, потом утону в траве, к небу глазами, и чтоб вокруг ни души, никого, не беспокоили чтоб, ни-ни, только волны да камни или поле цветами, или солнечный лесной блеск, или еще что-нибудь вообще неописуемое – красота, какая-нибудь красота! Тогда отдыхаю! Мгновение, несколько минут – и на весь год вперед. Иначе не могу. Сил не хватит!
Ну хорошо, ладно, где бы поесть? Холодная вода на ремонте, горячая тоже – авария. Ресторан закрыт. Спускаюсь в город. Экий наклон! Стоять нельзя, бежать больно – пропустишь что-нибудь, не рассмотришь, не разглядишь – утраченного не вернешь. Домишки на склоне клеятся, похоже – опята к срубленному дереву. Люди усмешливые, хмельные южной приветливой негой, размягченные дешевыми ценами и привычно необозримой красотой. Некоторые видны не целиком, только наполовину, а то и вовсе одни головы торчат из винных подвалов. Никто не бежит, не дергается, не суетится: слоняются праздно вразвалочку или стоят гордо, как кипарисы, вдоль улиц, лицом в безветрие. Здесь нет мусора, разорванности, хаотичной тяжести ни в мыслях, ни в движениях, ни в речах. Везде ясность, законченность, круг, даже на базаре среди изобилия яств, интересов и темпераментов, где, перепачкавшись восточными сладостями, я не устоял перед кровавым куском жаренного на углях бараньего мяса и прохладными, гранатно-сахарной спелости ломтями арбуза. Ах, как хорошо! Нет, не зря я сюда приехал.
Еще мне казалось, судьба как-нибудь сжалится надо мной, и та, что встречу, будет прекрасна. Вот, может быть, здесь, сейчас, какая-нибудь чертом замешанная метиска – буйство красок. А может быть, и не здесь, может быть, завтра – и не метиска. Когда-нибудь… потом… Я верил. Скользя, шаг за шагом карабкался вверх на скалы, дальше, вперед, выше, в тканые пестротой долины, сквозь пьяный их запах и жужжание пчел, к сладко недоступным ледяным маковкам земной верхотуры, пока не боялся, и, раздумав в кустарниковой тени, пропетляв, проблудив покатыми улочками, спускался, не спеша пообедав, к закатному морю смотреть далекие корабли и все, что можно увидеть в шуме прибоя.
Через три дня напрасного ожидания встречи, захандрив от безмятежного сна и усиленного питания, я купил билет первого класса, чтобы комфортабельно уплыть от своего предчувствия в горизонт, к другому берегу. Опять сменить обстановку.
На следующий день швейцар гостиницы посоветовал мне посетить вырубленный в горе древний храм – основную достопримечательность здешних мест. И как я до сих пор не слышал о нем?
Даль оказалась изрядная, регулярного сообщения не было, пришлось добираться попутками, затем пешком. Наконец внезапным изгибом тракт потерялся под торжественно отвесными склонами заросшего хвоей ущелья. Далее, перепрыгнув отполированными валунами разогнавшиеся горные струи, взвивалась тропка, но вид уже открывался отсюда, снизу. Горельеф храма лысел бархатно-каменным отсветом послеполуденных лучей, будто повис, падая, зацепившись за случайный выступ. Да, ничего не скажешь – эффектно! Вот ведь умели, могли! И без единого соединения выпустить из скальной глыбы такую махину? Узоры долбить! Внутри полусвет – веером, брызгами в прорези окон. Только мутные свечи оттаивают пред алтарем. Ни лика, ни письменного толкования на стенках нет.
На мгновение я как бы оцепенел, забылся, словно уясняя для себя что-то, и вдруг, терпеливо стараясь не разбудить, не нарушить небрежной поступью завораживающую мелодию тишины, возвратился. И солнце открылось мне из-под темного свода ярче обычного. И горы, и небо – весь мир вокруг, показалось, вымели дочиста, как этот монастырский двор, окруженный стеной розового туфа с покосившимися сараями. И на душе тоже стало прибрано. Так быстро. Право же – впечатлительная натура!
Посреди двора улыбался монах. Молодой, слегка бородатый астеник, стройно облаченный в гладкое, черное платье. Наверное, рядовой монах, скорее всего служка, но миниатюрный золотой крестик у него на груди явно был благородной работы. Он двинулся мне навстречу, и я ответил невольной улыбкой, а он прошел мимо к воротам, где уважительно столпилась группа иностранных туристов. Я перестал улыбаться и решил обязательно присоединиться к туристам, надеясь вернуться в гостиницу их автобусом. Монах гостеприимно возглавил экскурсию, свободно поясняя каменные святыни на языке гостей. Я не понимал его. Щедрость и энтузиазм, с которыми он делился своими знаниями, на мой взгляд, были выражением скуки его уединенного существования. Монах запел. Легким выдохом отозвался ему храм в привычном многоголосье, хвастаясь неразгаданным секретом древних акустиков. Глаза монаха сияли, не скрывая триумфа. Скромная, продуманная пластика окончательно выявила естественный артистизм натуры. Нет, он был явно не служкой. Он производил впечатление.
Рядом со мной затихла пухлая молоденькая иностранка, почти девочка, видимо, верующая, – плакала. Но слезы не придавали слащавости ее смазливенькому личику, а наоборот, искажая его, выдавали затаенную, еще не растраченную чувственность, которая, впрочем, ежели приглядеться, угадывалась и в фигуре. Да-да, только угадывалась, скорее даже домысливалась, предполагалась. Знаете, ничего внешнего, вызывающего не было. Все спрятано до поры, оттого и интересно.
В довершение всего монах повел нас к покосившимся вдоль ограды сараям и, отомкнув один из них, пригласил войти. Каково же было изумление, когда в столь шатком, непривлекательном снаружи строении обнаружили мы двухкомнатные покои, облицованные мрамором теплого, телесно-белого цвета. Одно помещение представляло собой кабинет, другое – спальню с вольготной, красного дерева, резной кроватью времен императрицы Екатерины. Хозяин извлек из папки несколько рисунков и аппликаций, выгодно расположил их на рассохшейся столешнице букового секретера и, распахнув занавешенное холстом окно, показал вид, который интерпретировал в своих работах в разное время, в разных состояниях, зимой и летом, в ясность и непогоду – одно и то же: заросшие хвоей склоны ущелья да речка на дне, там, где тракт возникал внезапным изгибом, где стоял мой роскошный полупрозрачный автобус. «Мой» – потому что я уже успел столковаться с водителем о возвращении в город.
Похоже, сумеречной витриной исчезала вдаль, в перспективу, обнаженная храмом скала через зеленовато-дымчатые обзорные стекла, почти не пропускавшие в кондиционированную прохладу салона еще обжигающее день солнце. Только панорама дороги теперь совершенно не занимала меня. Я думал о молоденькой иностранке, которая что-то читала, удобно откинувшись в кресле несколько впереди меня. Я думал: отчего она плакала, когда монах пел? Что это? Обостренная чувствительность тонкой души, молодость, состояние влюбленности или всего-навсего глупость, не связанная с возрастом? А может быть, просто с жиру бесится. Безудержная, богатая иностранка, привыкшая потакать прихоти мимолетных желаний. Девчонка! Смазливая девчонка – и только. Стоит ли она дум моих?! Вечно мы что-то приписываем понравившимся женщинам, что-то нетривиальное, обещающее. На самом деле все гораздо проще.
Да-да, не надо идеализировать! А с чего это я решил, что она мне понравилась? С чего-то ведь решил. Может быть, меня слегка укачало, и пора выходить из автобуса?
«Девушка, что вы читаете?» Хорошо, что не обратился, а только подумал. Ведь иностранка, все равно не поймет.
В этот момент она коротко обернулась и посмотрела вроде бы на меня, а может быть, просто обернулась. Но через некоторое время она надела очки и явно посмотрела на меня, даже пристально. Все-таки есть в женщинах что-то. Что-то есть!
Когда вернулся к себе, почувствовал жар. Смерил температуру – действительно. А я знал, несмотря на свою мнительность, догадывался, что не болен. Наоборот – хотелось куда-то деться, действовать хотелось, идти куда-то, бродить… Но пошел дождь, и я, несколько пометавшись по гостиничным этажам, вскоре заперся в номере и заснул, перепутав все впечатления. Во сне дождя не было…
Поутру караулил у окна из-за гардины отъезжающих туристов. До тошноты простоял неприкрытый, голый, как выскочил из-под одеяла, без маковой росинки во рту с самого пробуждения. И все напрасно – роскошный полупрозрачный автобус так и не показался. Хотя бы тенью скользнул, проездом, мельком!..
Тогда я съел очень большое, спелое, хрупкое, очень вкусное яблоко и решил жить дальше.
И вновь, как прежде, скользя шаг за шагом, карабкался вверх на скалы, дальше, вперед, выше в тканые пестротой долины, сквозь пьяный их запах и жужжание пчел, к сладко недоступным ледяным маковкам земной верхотуры… И, раздумав в кустарниковой тени, пропетляв, проблудив покатыми улочками, спустился к закатному морю… В последний раз. Прежде чем унесет меня, убаюкает на волнах белый корабль. Скоро – как кликнут склянки дышащую прибоем полночь.
Отужинав, очутился на набережной. Время, оставшееся до отвала судна, застопорилось. Я разменивал его в тире на горсти бесцельных выстрелов, просиживал вместе с влюбленными у кромки воды, отбрасывающей на лица ненужный им свет фонарей, выхаживал по протянутой к морю ладони пирса, слухом ловил в тягучих портовых гудках, но оно оборотилось ко мне, запомнилось, мучило бесконечностью, как светлый колодец неясных глаз давешней иностранки. Конечно, я понимал всю бессмысленность, быть может, выдуманность моей влюбленности. У нее иная жизнь, совсем несхожая с моей, другая. Только чаще приковывает, поражает, обезболивает глубина темных очей и значительно реже – я утверждаю: значительно реже – встретишь такую бездонную светлость взгляда. Такую покойную, да неясную до конца – и оттого мудрую. К тому же она явно смотрела на меня, даже очки надела, даже пристально смотрела на меня тогда в автобусе. Такая пухлая молоденькая иностранка, почти девчонка! И все-таки я уехал.
Ночью что-то случилось с морем. Вода пугала, отталкивала, тревожила сон. Я не очнулся, заспал, вышел на палубу поздним утром, когда улеглось. Расправились волны, скользким штилем подгоняя умытый штормом корабль, солнечное рассеяние билось осколками, играло крестообразными бликами в радужные переливы. Стихия сменилась умиротворением, движением плавным в парении птиц, приглашала к блаженному созерцанию собственной радости. И никакая болезнь, даже морская, не в силах была помешать этому общему состоянию.
В шезлонге рядом со мной дремал военный, капитан артиллерии. Время от времени погружался он в трюм, в бар, к желаемой рюмке и, возвращаясь, восклицал каждый раз: «Годится!» Наконец после обеда мне пришлось составить ему компанию. Я не хотел пить, но, чувствуя его особенное намерение выговориться, согласился.
Начал он, как обычно, как начинают военные, с разрешения беседовать запросто, невзирая, как говорится, на чин и звание. Просил поверить, что он не какой-нибудь там солдафон и все понимает. Уговорил выпить еще по одной и только потом начал о главном – о женщинах:
– Не женат?
– Нет.
– А я вот рискнул. Местную взял. Машинисткой она в канцелярии. Я сам с пяти лет без матери. У чужих людей вырос. Отец, вернее, жив… Да Бог с ним. Я… Она… вообще все при ней. Ну что тебе рассказать? Старше я, семнадцать лет разницы, понимаешь. Жизни не знает. Идеалистка, понимаешь. У меня-то, конечно, были там разные… баловство… не без того. Мы все в эти годы любили, но мало любили нас… понимаешь. Вот уехал… в командировку… и неспокойно… Думаешь, бросит она меня?
Я не знал, что сказать, чем утешить переживания артиллерийского капитана, а он, опьянев, уж не мог скрыть их ни голосом, ни лицом, и от неловкости я предложил пропустить еще по одной.
– Я сейчас тебе ее карточку покажу, – продолжал капитан.
– Да не надо.
– А чего?
– Да не стоит…
– Это ты брось, брось… все путем. – И он показал карточку. Стандартную курортную фотографию с памятной надписью.
Нет, видно не дано мне счастливого свойства, никогда ничего не понимал я в женщинах, не разбирался, потому без конца и влюбляюсь легко, как мальчишка. Наверное, обиделся капитан, ведь я не ответил тогда ему, не расспросил, спустился в каюту, заперся и не выходил из нее до конца путешествия. Стало быть, выдумал я свою незнакомку? На фотографии в руках артиллериста была она, она вне всяких сомнений – такая пухленькая молоденькая «иностранка», почти девочка… Ну, а с другой стороны, отчего же выдумал? Не следует горячиться. Да не ревную ли я?! Действительно, тут еще вопрос… Тут еще большой вопрос! Да что там какая-то иностранка в сравнении с женой нашего офицера! И почему она плакала, когда пел монах?..
Однако буквально через полгода случилась оказия: пришлось опять побывать в тех краях по служебным делам.
И заново, скользя шаг за шагом, карабкался вверх я на скалы… в тканые пестротой долины… к недоступным ледяным маковкам… Зашел и в храм, огороженный розовым туфом. Не утерпел, постучался в мраморные покои. Открыл привратник, я пояснил, что был здесь давно и снова хотел бы видеть отца-настоятеля. Выяснилось: монах почивает, просил не будить. Затем, удалившись, привратник окликнул меня и пригласил все же войти.
В комнатах почти все сохранилось как было. Только вместо рисунков и аппликаций цветной телевизор. Пред ним в кресле сидел толстый, незнакомый старик в нижней рясе – смотрел хоккей…
Отцветали деревья, переизбирались парламенты, я женился, но не забыл той истории. Правда, отдаляясь, помянутая в суете, она казалась все более выдуманной и нереальной. Иногда я домысливал: влюблял машинистку и молодого монаха друг в друга, сводил конфликт в треугольник, сталкивая священнослужителя и артиллерийского капитана. Концовка с цветным телевизором представлялась особенно выигрышной. Одним словом – праздное сочинительство. Пустое это, пустое!
Куда лезем? Чему любопытствуем?
Но оставим теперь прозу, как литературный жанр и обратимся к прозе как таковой – к прозе жизни.
После крымско-кавказской неги Малороссия позвала, поманила полтавскими вечерами, гоголевской поэтикой. Без которой сердцу невесело моему, да мелко уму. Днем предавался купанью, борщу и вареникам. К ночи утопал в перине гостеприимного ложа, в свежепомазанной хатке за печкой, сливался ухом с транзисторным шумом, пытаясь понять, осмыслить «Свободу», услышать далекий «Голос Америки» или на крайность не так далекой «Немецкой волны». Они объясняли наперебой, что происходит там, куда летят стаями самолеты. 68-й год. Оккупация Праги. Конец «Пражской весны». Конец надеждам на размораживание социализма. И развитого и недоразвитого одновременно. Начало брежневского застоя. По приезде в Москву узнал весть нерадостную: «Урок литературы» запретили к прокату. Без объяснения причин положили на полку. До пражских событий фильм представлялся в Доме кино, анонсировался в центральной печати и вдруг канул в небытие. Как будто и не было его вовсе. Собственно говоря, в картине не было никакой политики. Попытка героя один день не врать приводила к курьезам, к нравственному переосмыслению, а вовсе не звала на баррикады. Но положили на полку десять картин. По принципу «как бы чего не вышло». И, несмотря на безобидность сюжета, почуяли в нашей работе что-то не то. В настроении, что ли, в расстегнутости существования, неподходящего для данного политического момента. После непостоянной хрущевской оттепели страна опять делала под козырек.
Мой персонаж в «Уроке литературы» следовал в буквальном смысле из кадра в кадр. Поэтому мы с Алексеем Александровичем Кореневым почти все решения принимали совместно. Знаменитая Валентина Серова через своих высокопоставленных поклонников ходатайствовала о возможности творческой реабилитации. Многолетний начальник актерского отдела «Мосфильма» Адольф Михайлович Гуревич просил Коренева дать шанс Серовой вернуться из небытия, утвердить ее в небольшой роли матери моей невесты. К сожалению, Валентина Серова страдала хроническим алкоголизмом, и я не советовал Кореневу рисковать, предложив вместо нее вахтанговскую Ларису Пашкову.
«Все стало вокруг голубым и зеленым», – поет время от времени неподражаемая Серова по телеку в давнем фильме «Сердца четырех». И мне стыдно теперь, что помешал ей вернуться к зрителю, на экран, помешал продлить жизнь этому чуду, которое называлось в кино для миллионов Валентина Серова, а за кулисами, среди товарищей в театре ласково-уважительно Тетя Валя. Вскоре она умерла. Не так давно телекомпания РЕН-ТВ в рубрике «Несостоявшиеся премьеры» вернула из тридцатилетнего плена наш «день без вранья», наш «Урок». Он остался живым несмотря на годы, но столько воды утекло… Иных уж нет, кто работал в картине, а те далече… Ушли в иные миры Лариса Пашкова, Евгений Леонов, Николай Парфенов. Уехала в штаты к отцу – генералу американской разведки Вика Федорова. Осталась там, вышла замуж. Там встретила дикую весть о гибели матери. Отсидевшая в сталинских лагерях за свой военный роман с атташе посольства Соединенных Штатов знаменитая Зоя Федорова была застрелена на старости лет у себя в московской квартире. Моя однокурсница и симпатия Валя Малявина – невеста по фильму – вышла не так давно из тюрьмы, куда попала по подозрению в убийстве собственного жениха. Об этом подробнее еще напишу. У фильмов, как у людей, случаются разные судьбы…
По возвращении из лета в Москву я оказался некоторое время полностью не у дел. Кино запретили, из театра ушел. Что дальше?
В ресторане Дома актера встретил режиссера Театра Ленинского комсомола Сергея Львовича Штейна:
– Что делаешь?
Рассказал.
– Что думаешь делать?
– Хочу попробовать себя в режиссуре.
– Иди ко мне в ассистенты. Я ставлю новый спектакль по пьесе Анчарова «Этот синий апрель».
Новый главный режиссер Театра Ленинского комсомола Владимир Монахов – невдохновенно-испуганный человек – встретил меня поначалу нормально. Договорились, что прихожу на актерскую ставку, но занимаюсь исключительно режиссурой вместе со Штейном. Пошли репетиции. Анализ, разбор материала. Застольный период.
Сергей Львович был человек ироничный и образованный, талантом лирический, мягкий, интеллигентный. Бережно относился к артистам. Пытался понять, подвести, не навязывая, к необходимому для него решению. Работали радостно и несуетливо. После работы, как правило, шли вместе обедать в ВТО или «Русскую кухню». Отношения становились все теплее, и я чувствовал, что Сергей Львович в меня влюбляется. Еще при Эфросе после моего ввода в его спектакль «До свидания, мальчики» Сергей Львович при поздравлении неожиданно поцеловал меня в губы. Я опешил. И Саша Збруев с улыбкой ответил на мой невысказанный вслух вопрос:
– Да-да! Ты разве не знал?
Я не знал, что Сергей Львович был «голубым» – человеком иной сексуальной ориентации. От обеда к обеду я все более ощущал себя не в своей тарелке. Стал даже сочувствовать, понимать женщин, которые вынуждены тяготиться маслянисто-игривым взглядом настырно ухаживающего мужчины. Каково им? А мне тем более, с моим характером. Терпеть не могу натяженности, невыясненности отношений. Молчал, молчал – и прорвало. После ухи, расстегайчиков и пятидесяти грамм в лоб спросил Сергея Львовича:
– Что бы вы сейчас хотели?
Мастер не растерялся, пошел в атаку:
– Хочу, чтоб поехали сейчас ко мне, легли на диван, сняли носки…
Я прервал его:
– Из глубокого уважения, Сергей Львович, я перед вами могу снять только шляпу.
Лицо его опрокинулось от моих слов. Не разговаривая мы вышли из ресторана к Пушкинской площади. В троллейбусе, через стекло возникла девушка перед глазами. Чуть-чуть беззащитное очарование – «о бон кураж!»
– Сергей Львович, простите, но мне пора.
– Куда?
– Туда!
– Не надо, Женя, – хотел воспрепятствовать, отговорить отчаявшийся влюбленный мастер.
Но тщетно. Троллейбусное видение увозило меня. Им оказалась студентка факультета музыкальной комедии, будущая опереточная примадонна Лия Амарфий.
Два свидания, один поцелуй в сквере на площади перед Рижским вокзалом остались от этого наваждения. А Лия запомнила, как я кормил ее пельменями в старой московской квартире. Лия приехала из Молдавии. Она играла на моем бабушкином фортепьяно и пела. Она играла и пела слишком профессионально, совсем не так, как моя бабушка, мама и папа. Не так, как я в детстве тарабанил по клавишам этого инструмента, просто так, для себя, удовольствия ради, отвлекаясь от грез о «прекрасной даме». Она пела не так…
Три дня Сергей Львович испепелял меня жестким сарказмом. Прилюдно, на репетициях. Я понимал его уязвленное самолюбие и покорно оставлял его без ответа. Три дня. Потом как отрезало. Мы общались, как ни в чем не бывало. Он не вернулся больше к «этому» никогда. Он был иной сексуальной ориентации, но ироничный и образованный, талантом лирический, мягкий, интеллигентный человек. Владимир Монахов прикрыл наш спектакль. То ли из ревности, то ли из опасений. Согласившись пойти «местоблюстителем» после Эфроса, он чувствовал себя неуверенно не на своем месте и опасался каждого и всего. После консервации «Синего апреля» Монахов запустил спектакль по поэме Александра Блока «Двенадцать», поручив режиссуру маленькому, лысому, кривоногому бывшему артисту миманса Большого театра с грузинской фамилией. Когда-то он выезжал на осле Санчо Пансой в балете Минкуса «Дон-Кихот», теперь решил попробовать себя в драме. Монахов назначил меня исполнителем одной из ролей. Лишившись «режиссерского поприща», я вынужден был трудиться артистом, согласно штатному расписанию, но воспринимал ситуацию временной и сюрреалистической. Санчо Панса, как постановщик спектакля, толком не мог ответить ни на один мой вопрос по сути. Только взрывался кавказским выкриком, чихал, сморкался в безразмерно белый платок, напоминающий о приближающейся капитуляции. Так и случилось: спектакль не состоялся в конце концов, но прежде и мне попало как следует. Санчо пожаловался на меня главному. Монахов, затравленно заглядывая мне в глаза, обвинил меня в диссидентстве, прямо спросил, не добиваюсь ли я повторения чехословацких событий своими вопросами к Санчо, и оперся на местную организацию КПСС. Но Всеволод Ларионов от партийной организации посоветовал главному не связываться со мной, потому что я на хорошему счету в ЦК комсомола и близок к семье Михалкова. А Сергей Владимирович, мол, сами знаете, депутат, руководитель Союза писателей, автор гимна, вхож наверх, звонит по «вертушке» спецсвязи…
Всеволод Дмитриевич Ларионов – Вока, как мы зовем его меж собой – всегда блестяще держал серьез, талант его всегда очевиден, а ирония беспощадна. Несмотря на свои сложные отношения с Эфросом, он всегда понимал, что к чему и кто есть кто в нашем деле. Мы с ним в симпатии до сих пор, хотя видимся редко. На следующий день главный вызвал меня и предложил стать опорой, его правой рукой на театре. Абсурд сгущался.
Эфрос при переходе на Бронную взял с собой несколько человек: Тоню Дмитриеву, Олю Яковлеву, Гену Сайфулина, Митю Дарлиака, Леню Каневского, Шуру Ширвиндта, Валю Гафта, Мишу Державина, Леву Дурова, Сашу Збруева. По разным причинам спустя время разошлись пути Мастера и его артистов. Ширвиндт с Державиным ушли в «Сатиру», Гафт – тоже в «Сатиру», да ненадолго, потом в «Современник» почти навсегда. Збруев вернулся в Ленком. Лева Дуров, будучи долгое время близким помощником Эфроса еще до Ленкома, с Детского театра, намекнул мне, что я мог бы вернуться к Анатолию Васильевичу. Но я намека «не понял». Подсознательно мне уже не хотелось быть исполнителем даже у такого большого художника, как Эфрос. Не хотелось быть членом команды. Хотелось существовать без структуры, самому, авторски, как «старики», выносившие целый мир на сцену, проникать в неосуществленные измерения, непросчитанные режиссерской формулой. Нет, я не отрицал режиссуру. Упаси Боже. Но защищал пространство своей души от любых посягательств, в том числе и талантливых. Тянуло на академические подмостки, к «старикам». К динозаврам.
Анатолия Михайловича Адоскина Эфрос не взял на Бронную. И Толя вернулся в Завадскому в Театр им. Моссовета, где начинал когда-то. В 69-ом году из Театра Гоголя туда же пришел новый директор Лев Федорович Лосев. Бывший артист Ленкома, бывший инструктор райкома партии. Решил опираться на молодежь. Адоскин посоветовал Лосеву пригласить меня. Дело было весной, перед гастролями, перед отпуском. Мы договорились с Толей вернуться к этому разговору осенью, в начале сезона. А весной 1968 года в Москве свирепствовал грипп – вирус «А», гонконгский. Я заболел, получил осложнение. Подпрыгивало, тараторило сердце, срывалось давление – то в пропасть, то в небо. Крайнее возбуждение чередовалось с упадком. Буквы не строились перед глазами. Работать не мог. Еле-еле доснялся в музыкальном ревю новогоднего содержания с Крамаровым и Анофриевым. От других предложений отказывался.
Попал в больницу. Клиника Мясникова. Кардиохирургия. Впервые встретил ее не в парадной, торжественной обстановке, а буднично, запросто, накоротке. Вчера сидели, играли с ним в шахматы. Сегодня она пришла и забрала его тихо, по-деловому, не так, как в кино, не так, как в романах или на сцене. Никто ее не зовет, но она приходит. Не знаем ни дня, ни часа, когда придет. В детстве боялся ее панически. Бежал, забивался, куда подальше – лишь только услышу зов похоронной трубы. Смерть! Я приручал себя к ней, бродя подростком с товарищами по ее гущам на Пятницком кладбище у фамильных могил. Гуляя в толпе надгробий среди фарфоровых фотографий, хранящих секрет того, что не будет того, что было когда-то тогда… Позже, учась в институте, назначался нередко в комиссию по ее делам. Носил гробы и венки печали больших артистов, покинувших нас. Привык. И сочинил под гитару:
У кладбищенских ворот, там, где свален хлам, Дни и ночи напролет выл кобель Полкан. Он покойников встречал, как встречал прохожих. И он привык ко всем чертям. И черти к нему тоже.В кардиохирургии со смертью сотрудничают, договариваются: «Нет-нет, не сегодня. Придешь потом!» В кардиохирургии чувствовал себя симулянтом. Что там мои проблемы, когда рядом Она. И у детей, и у взрослых. Там все равны. И бедные, и богатые. И подчиненные, и «вожди» всевозможного уровня. Там вместе встречают и провожают, как в космос, на операцию и с нее. Там хотят жить. Там влюбляются в первый раз. И в последний. Там выздоравливают и выписываются из смертных рядов. Видит Бог! Провел там месяц. Как выяснилось – по ошибке. Целый месяц в шестиместной палате с прогулками в садике через забор с синагогой в Петровеликском переулке. С шашнями с накрахмаленной медсестрой и с пониманием невозможности. Чего? Всего, на что нету сил. Впервые стукнулся лбом об стенку. Как обуздать их? Как связать цепь времен в душе и на небе?
На втором этаже института в отдельной палате лежала Софья Владимировна Гиацинтова, народная артистка СССР, блиставшая еще с Михаилом Чеховым во Втором МХАТе. После разгрома Второго МХАТа Иван Николаевич Берсенев, муж Гиацинтовой, возглавил ТРАМ – Театр рабочей молодежи – ныне Ленком. Для советского официоза Софья Владимировна стала матерью Ленина, сыграла Марию Александровну Ульянову в известном спектакле. Умная, тонкая, представительница подлинно голубых кровей, Софья Владимировна, несмотря на преклонные годы, ясностью понимания времени давала фору своим молодым коллегам. Она приняла Эфроса и поддерживала его. Гиацинтова страдала тяжелой формой гипертонии. Несмотря на усердие врачей, приступы, кризы мучили ее каждый день. И каждый день к семи часам вечера она выздоравливала. После одиннадцати становилось хуже. С семи до одиннадцати душа ее находилась на сцене, в спектакле – так привыкла за долгую жизнь. Я спускался с четвертого этажа на второй, навещал Софью Владимировну, и мы беседовали о гениальном Михаиле Чехове, о его методе, о былом и об Эфросе, Ефремове, Товстоногове, о том, что случилось в театре в ее отсутствие. Леонид Марков закончил студию у Берсенева. После смерти Ивана Николаевича театр возглавила Софья Владимировна. Не очень удачно. Молодой Марков с товарищами выступал против нее. Однажды заболел артист, игравший Петю Трофимова в «Вишневом саде». Гиацинтову спросили: «Кем заменить?» Она ответила: «Марков». Леня ввелся в спектакль. Прекрасно сыграл. Лучше заслуженного артиста, прежнего исполнителя. Гиацинтова распорядилась поставить Маркова первым составом, а заслуженного перевести во второй. Это было невероятно в те годы, вне всякой субординации. Марков пытался было, извиняясь учтиво, поблагодарить ее, обратился:
– Софья Владимировна…
Гиацинтова прервала:
– Подите прочь! Я вас презираю!
Она ценила талант выше человеческих отношений. Так спустя годы, рассказал мне об этом сам Леонид Васильевич, с которым мы были друзьями.
Институт Мясникова отпустил меня с неопределенным диагнозом «диницифальный синдром». Никто толком не знает, что это такое. Один знакомый доктор пояснил: «Когда не могут сделать точное заключение, пишут „деницифальный синдром“. К тому же установили порок сердца, но незначительный. Мама устроила мне консультацию у знаменитого академика Касирского. Врачи из свиты предупредили, что он человек со странностями и чтобы я не пугался, внимания не обращал на его „выходки“. Со всеми выписками, показателями и заключениями я приехал на прием к академику в Институт гематологии. Он появился – стремительный, резковатый, категоричный. Бумаги мои смотреть не стал. Выслушал не стетоскопом, а маленькой трубкой, пальпировал тонкими, мягкими пальцами – виртуоз. Внезапно воскликнул:
– Развратничать надо поменьше! Из головы все, из головы! От мыслей! Что за прическа? Ишь, волосы распустил!
Из свиты подмигивали, успокаивали, но я немного смутился, несмотря на предупреждения. Касирский обмяк и добавил спокойно:
– Порок твой на полкопейки. Причины там, в голове. Всю жизнь заниматься зарядкой будешь два раза в день. Все!
Сроду не занимался зарядкой, спортом не увлекался, сачковал на занятиях физкультурой, разве что мог постоять на воротах во дворе, в футболянку. Однако, предсказания академика оправдались, но об этом потом.
Мама достала путевку по блату. Получал ее в здании ЦК партии на Старой площади. Путевка в Прибалтику, в Ригу, местечко Юрмала на побережье. Летел самолетом. При посадке играл в болтанку западный ветер с залива. Впервые Домский собор, щели сказочных улиц латвийской столицы. Когда Михаил Чехов покинул Советы, буржуазная Рига стала первым оплотом его эмиграции. Здесь люди театра хранят память о нем, гордятся. Прибалтика в СССР – «Запад для бедных». Все, как там, за кордоном, но «понарошку». Вежливое издевательство продавщиц с акцентом над профсоюзными толпами отдыхающих тружеников села в черных костюмах и тапочках на босу ногу, слоняющихся под шляпами по мокрой кромке морского песка. В первый же день пребывания в санатории я довольно тяжело отравился неизвестно чем, хотя нигде не ел, кроме столовой. Врачи уверяли, что это реакция на местную воду. Как бы там ни было, эмоциональный фон отдыха был испорчен. Когда выздоровел, познакомился с молодым инженером из Москвы, тоже маявшимся по путевке и так же, как и я, не свободным от озабоченности женским вопросом. Рижских девушек, которых он раздобыл, встречали на станции Лиелупа. Разбрелись парами ближе к реке высокими травами. Та, что досталась мне, на гулящую не походила. Высокая, кровь с молоком, хорошо говорившая по-русски латышка. Наша динамистская горячность обоим пришлась по вкусу. На большее не решились. А разговаривать, собственно говоря, было не о чем. О чем там говорить? Так, ни о чем… Спустя годы, будучи на гастролях, я заглянул с маленьким сыном в первую попавшуюся гостиницу в центре Риги. Ребенок хотел по малой нужде. Дежурная по этажу проявила участие, провела в соответствующем направлении. Показала нам где. Она узнала меня. И я ее. Мы улыбались друг другу. Ни я, ни она не жалели, что не пошли тогда дальше в траве у реки на станции Леелупа. О чем говорить? Чисто, но не совсем. Вежливо, но не очень. Разнообразно, но ограниченно. Европейски, но захолустно. Немножко советской власти. Немножко германо-балтийской мечты. Всего понемножку. Кукольный театр – Запад для бедных. Бедные мы, бедные с нашими-то бесхозными просторами перед глазами да и в душе. Куда лезем? Чему любопытствуем?
Пора возвращаться к себе. Вернувшись домой, позвонил Адоскину.
Театр Завадского
Фаворит
Толя представил меня Лосеву. Казалось, мы произвели друг на друга приятное впечатление. Осенью 1969 года я уволился из Ленкома и перешел в Театр им. Моссовета. Через несколько дней состоялось знакомство с Ириной Сергеевной Анисимовой-Вульф. Опытный режиссер, педагог, стратегический соратник Завадского, какое-то время их связывали и близкие отношения. Человек изысканный, даже эстетствующий, Ирина Сергеевна была верна своим пристрастиям. Если любила – то любила. Если не любила – то не любила.
«Человек человеку – вульф» (похоже на «волк» по-немецки), – говорили те, кого Анисимова не принимала. Среди тех, к кому она благоволила, на первом месте Геннадий Бортников. Сказать, что Бортников при Завадском и Анисимовой был премьером – это ничего не сказать. Его положение нельзя было сравнить ни с одной примадонной – женой главного режиссера любого театра. Он был их «культом», умилением и восторгом. Ему дозволялось все. Мог задержать спектакль, и Ирина Сергеевна сама ехала за ним, уговаривала, привозила играть. Как-то на сборе труппы, когда Гена имел несчастье сломать ногу, Завадский поинтересовался его отсутствием.
– Бортников в гипсе, – доложили ему.
– А почему не в бронзе? – вслух удивился Адоскин.
Вторым фаворитом Анисимовой был Вадик Бероев – дар гордый, глубокий, интеллигентный. «Майор Вихрь» для телезрителей, князь Звездич из «Маскарада», Антуан де Сент-Экзюпери для театральных поклонниц. Ушел из жизни в 34 года. Не без помощи алкоголя. Трагедия для театра, для всех, кто любил его.
Третье место в симпатии Ирины Сергеевны со временем суждено было мне.
Лосев при первой встрече прямо сказал, что производственные соображения требуют, к сожалению, замены Бероева из-за болезни (тогда он был жив еще) и предложил мне роль для дебюта, которую играл Вадим – Павла в «Старике» Горького. Я вынужденно согласился. Вынужденно, потому что не хотел никого «подпирать». Знал свое место и не желал чужого. Предстояло знакомство с Завадским. Юрий Александрович ранее меня в театре не видел, знал только по телевидению. Я решил взять рекомендательное письмо у соученика Завадского по студии Евгения Багратионовича Вахтангова ректора Щукинского училища Бориса Евгеньевича Захавы, который ко мне хорошо относился. Объяснил Борису Евгеньевичу, что хотел бы более развернутой информации о себе для Завадского. Захава отнесся к просьбе моей с пониманием, не отказал.
Настал день первой встречи с Завадским. Кроме Юрия Александровича, в кабинете присутствовали Лосев, Плятт и Анисимова. Внешне все демонстрировали ко мне улыбчиво-доброжелательное отношение. Расспрашивали меня, шутили, затем Юрий Александрович помрачнел:
– Тут вот Боря Захава прислал мне письмо… – Достал конверт, вскрыл, начал читать вслух: – «Дорогой Юрочка, до меня дошли слухи, что собираешься взять к себе нашего выпускника Евгения Стеблова. Должен предупредить тебя – артист он действительно неплохой, однако человек отвратительный. Так что подумай как следует, прежде чем принять решение…»
Надо было видеть мое лицо в этот момент. Я был совершенно уверен, что Борис Евгеньевич Захава как человек чести не мог написать такое. Если бы он был дурного обо мне мнения, то просто отказал бы в рекомендации, но момент плохо скрываемой растерянности в моих глазах доставил Юрию Александровичу явное удовольствие. Он был доволен розыгрышем, доволен собой.
Начались репетиции по вводу меня на роль Павла. Вел репетиции Анатолий Иванович Баранцев. Милейший, книжный, даровитый человек и артист. Он вместе с сыном Завадского Евгением Юрьевичем был постановщиком «Старика». Самого старика играл Сергей Сергеевич Цейц – острый, яркий, графичный и страстный.
Мама тем временем нашла мне своего старика, старика-знахаря, травника, ставившего диагнозы по глазам. Знахарь ткнул пальцем мне в шею, сказал, что я застудил жилу и что он наладит меня травой, предупредив об ухудшении, которое будет предшествовать окончательному выздоровлению. Репетировал я в полноги. Мешало, зашкаливало давление. Ухудшение нарастало. Из метро на станции «Маяковская» я уже выползал по лестнице еле-еле, как разбитый, бессильный старец. Партнеров смущало и настораживало мое крайне вялое поведение. Становилось все хуже и хуже. Пришлось прервать травяное лечение.
Настал день дебюта. И я рванул, не думая о последствиях. Как на сцене Театра Советской Армии теперь не щадил себя, выворачивал наизнанку, поражал изумленных партнеров. Победа была очевидной. Поползли преувеличенные слухи о моей явной незаурядности. Настороженное отношение коллег сменилось уважительной сдержанностью. На следующее представление, решив, что, собственно говоря, дело сделано, можно и поберечься, не надрывать пупок, сыграл расчетливее и спокойнее. Вадим Бероев, наслышанный о моем триумфе, пришел на второй спектакль посмотреть на своего конкурента и остался доволен, не найдя в моем исполнении ничего такого, что превышало бы его скептические ожидания. В общем нормально, но уж не «ах-ах!». Я поберег себя, несколько разочаровал и тем успокоил коллег, неоднозначно чувствительных к чужим успехам. Бероев сыграл Павла надломленным, прикладывающимся к бутылке. Я трактовал иначе. Павел в моем исполнении пытался самоутвердиться во всем. Для своего времени я делал вещи несколько вольные. Например, после того как уводил монашку в кусты, появлялся на сцене, вытирая платком ширинку, одновременно продолжая диалог. Или в другом месте, когда Яков говорил мне: «Лишь бы выделил тебя отец», отвечал: «Да, жди, выделит он!..» – и делал характерный фаллосоподобный жест рукой. По теперешним дням такие сценические действия просто невинны среди откровений «гормонального» театра. Однако тогда это вызвало разговоры. Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф как-то, деликатно отведя меня в сторону, попросила:
– Не поймите меня превратно, я не ханжа, но, может, вы сможете отказаться от одной из этих двух красок?
– Вам не нравится? – переспросил я.
– Да нет, что вы, я все понимаю, но все же? – мягко вопросила она.
– Да могу вообще не делать ни того ни другого, – с легкостью отказался я от своих «находок».
Ирина Сергеевна была явно разочарована. И она, и Юрий Александрович Завадский исповедовали бережное отношение к таланту. Они считали, что одаренный человек имеет право на некоторые человеческие слабости, даже на отклонения. Тех, кого они принимали, баловали терпимостью. Ну что ж, что пьет, ну что ж, что не стандартен в сексуальной ориентации, ну что ж, что не всегда дисциплинирован, ну что ж, что характер имеет неадекватный, зато яркая, творческая индивидуальность, тонкая рефлексирующая натура – искусство требует жертв! Ирина Сергеевна полагала, что мои эротические мотивы в роли Павла столь глубоки, что она готовилась к долгому, мучительному разговору с трепетным дарованием и, когда я так легко отказался от избранного, была, повторяю, явно разочарована. Однако я продолжал играть так, как играл, и ни от чего на деле не отказался.
Театр Секссовета
Театр имени Моссовета можно было бы назвать театром Секссовета. Столь много придавалось здесь значения этой стороне жизни. Некоторые яркие представительницы женской половины труппы «гремели» в этом смысле на всю Москву. Затем многие угомонились, да иные, к сожалению, искалечили личную судьбу бурной молодостью. Такие считали, что, если ты не завел романа с кем-нибудь из своих, – стало быть, «голубой». Известное правило советского джентльмена «не живи, где живешь» не выглядело для них убедительно.
Рита Терехова простодушно подошла познакомиться, предложила поддержку. Товарищескую. Чтобы не конфузился в новом коллективе. Я с благодарностью принял ее инициативу. Завязались дружеские отношения. Ходили гулять в Останкинский парк. Разговаривали разговоры. Однажды Рита великодушно разрешила поцеловать ее в щеку. Поцеловал. Но на отказ от «чисто дружеских» отношений влечения не почувствовал. Мечта многих мужчин не была моей мечтой. Я действительно дружески относился к ней, но скрывал, чтобы не обидеть, так как Рита считала, что все в нее влюблены. Бедная Рита! Она всегда была склонна к фрейдизму и почти все и в искусстве, и в жизни объясняла взаимоотношениями полов. Считала, что режиссер может раскрыть, понять ее только через любовь, только через эротику. Познакомила меня с проживающим на Патриарших прудах поэтом, который усиленно сублимировал половую энергию в творческую. Показывал письменный стол в своем кабинете, за которым он, по его словам, «кончал» неоднократно в буквальном смысле, предаваясь литературному возбуждению.
В пространных беседах о временах дохристианских он явно любопытствовал тройным союзом. Двое мужчин и одна женщина. Я не разделял его любопытства, но благодарен за запрещенные книги, которые брал у него читать. Он пытался руководить моим чтением. «Доктор Живаго» мне не понравился, несмотря на упоение Пастернаком, его стихами. Роман показался мне злым. А может, я не был еще готов. А может, уже не понял. Годами позже я часто встречал Ритиного поэта у себя во дворе. Он регулярно захаживал к одной женщине из нашего дома. Не одинокой. Казалось, чисто дружеские отношения с Ритой все же наладились. Я даже давал ей ключи от своей отдельной квартиры, где она ночевала не знаю с кем. В конце 60-ых годов с опаской вступали в жилищные кооперативы. Боялись, что вдруг отберут после того, как деньги выплатишь. Я не боялся. Вступил. И деньги были – снимался в кино. И не такие большие деньги понадобились. Еще дешево было. Народ не вошел во вкус. В однокомнатной квартире на Маломосковской я только встречался, не ночевал. Спать ходил к маме с папой. Экзальтированная, одинокая учительница математики в возрасте этажом ниже, регулярно страдавшая от шумов с потолка, якобы от меня, звонила тревожно, стучала, пыталась ворваться, застать, увидеть, но я не пускал.
– Порядочная к вам не придет! – кричала она.
– Вы же ходите, – отвечал я.
Как-то перед очередным отъездом Риты на авербаховский «Монолог» в Питер, где она снималась, впопыхах заскочили ко мне домой. Мама быстро сделала бутерброды Рите в дорогу.
– Хорошая у тебя мама, – сказала Рита.
Как-то зимой зашли к моему товарищу, тоже артисту и бабнику по совместительству. Мать товарища – женщина многоопытная – накрыла стол из дефицитных продуктов (отчим товарища имел паек от советской власти, занимал пост). Посидели с морозу, попили чайку с чем Бог послал. Размякли. Рита кокетничала с товарищем. Проводили ее на подъеме, счастливой.
– Шапочка меховая с ушами длинными у нее симпатичная? – спросил я товарища.
– Да все они… – предположил он.
– Брось ты! Ты что? – возразил я приятелю.
Мне было стыдно за него. И жалко Риту.
Рита позвала меня встречать Новый год в семейном доме к своим друзьям. Уже под утро рассуждали о браке. Я сказал, что хочу жениться, только не знаю пока на ком. Пока не встретил. Посмеялись и перешли на другое. На улице, когда расставались, Рита заметила между прочим:
– Мог бы и не показывать, что не имеешь меня в виду. Из приличия.
Действительно, мне еще Маша Вертинская говорила: «Поменьше бы болтал – цены бы тебе не было».
Когда женился, Рита, встретив меня на лестнице в театре, тихо отрезала:
– У тебя своя жизнь – у меня своя!
Так закончились чисто дружеские отношения.
Рита снялась у Андрея Тарковского в «Зеркале» и совсем изменилась. Стала вещать. Как-то в Вильнюсе, где мы снимались с ней в фильме «Расписание на послезавтра», в разговоре во время работы я сказал:
– Я считаю…
– Ты считаешь? – прервала она.
Вечером того же дня Рита рвалась в ночное кафе со стриптизом встречать Старый Новый год, 13-го января. Но что-то не получилось, и я пригласил ее к нам с женой в номер справить втроем. Открыли шампанское, друг друга поздравили, беседа не клеилась. Скорее был монолог. Монолог Риты Тереховой. Она рассказывала мне и жене о том, как трудно быть известной актрисой…
В постановке Камы Гинкаса репетировали «Гедду Габлер». Рита репетировала Гедду. Я – асессора Бракка. В какой-то степени мой герой доводил Гедду до самоубийства. К тому времени я уже открыл в себе некоторую способность управления психической энергией и как ребенок играл ей. Предупредив Каму перед репетицией, что попытаюсь воспользоваться этой возможностью в работе над парной сценой с Ритой, я стал между прочим, говоря текст, посылать энергию в эрогенные зоны партнерши. Сцена шла замечательно. Рита творила вдохновенно, на подъеме. На другой день при повторе этого же куска я отказался от своей затеи. На этот раз Рита сказала:
– Странно, вроде бы все делали как вчера, но что-то не то, чего-то недостает.
Я промолчал. Сейчас думаю – был не прав. Не имел права на подобный эксперимент. Но тот случай показал, что увлечение Фрейдом не было случайным для Риты. Она была действительно достаточно зависима в творчестве от эротических инвольтаций, и нет в этом ее вины. Так распорядилась природа.
Великие старухи
Первый мой выезд с Театром им. Моссовета в город Донецк – столицу Донбасса. В гастролях, в общем гостиничном сосуществовании люди познаются лучше, яснее проявляются взаимоотношения. В спектакле «Ленинградский проспект» я играл роль Бориса – молодого героя-футболиста. Моего отца – старого пролетария – играл Георгий Степанович Жженов. Мать – мудрую домохозяйку – Варвара Владимировна Сошальская. То была вторая, возобновленная редакция спектакля. В первой, годами ранее, играли выдающийся артист Николай Мордвинов и Вадим Бероев. Тогда исполнение Мордвиновым простого рабочего вызвало своего рода сенсацию. После героя революции Котовского на экране, когда все дети Советского Союза играли в него, во всех дворах пацаны в порыве самоутверждения кричали наперебой: «Спокойно! Я Котовский!» После лермонтовского Арбенина в «Маскараде» и шекспировского Отелло Мордвинов появился в бытовой пьесе, и это стало открытием новой ипостаси его романтического дарования. Постановщицей спектакля была Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф. Ее ближайшая подруга Варвара Владимировна Сошальская, игравшая свою роль в обеих редакциях спектакля, со свойственной ей определенностью доверительно предупредила меня:
– Ирина Сергеевна к тебе очень хорошо относится. Цени! Вера Петровна (Марецкая) тоже относится к тебе неплохо, но Ирина Сергеевна – лучше. Не ударь в грязь лицом.
Только что принятому в труппу молодому артисту Анатолию Веденкину, крепкому рыжеватому обаяхе, поручили опекать по дороге в Донецк Любовь Петровну Орлову. Проще говоря – нести чемоданы. Веденкин не оправдал доверия руководства. Сильно пьяный, он пришел в купе Любовь Петровны и заявил ей среди прочего бреда, что годится ей во внуки. Явная бестактность по отношению к любой женщине, а уж к Орловой тем более, так как она особенно следила за собой, и по фигуре ей нельзя было дать более тридцати пяти лет. После этой чудовищной промашки Веденкин продолжал пить далее и, можно сказать, совершенно не «просыхал» в столице Донбасса. Участь его была предрешена. По возвращении в Москву его ожидало немедленное увольнение.
Утром в ресторане гостиницы за завтраком Толя Веденкин курил и опохмелялся в одиночестве пивом. В дальнем углу зала за общим столом сидели Вера Петровна Марецкая, Любовь Петровна Орлова, Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф и Варвара Владимировна Сошальская. Более в ресторане никого не было. Завидев меня при входе, Толя громогласно пригласил сесть рядом с ним. Настоятельно и от души. Отказать ему было неловко, но и согласиться становилось опасно. Из дальнего угла зала за нами внимательно наблюдали В. П., Любочка, Вульф и Варвара, как их звали в театре. Я застыл в нерешительности. Сесть рядом с Толей означало в глазах влиятельных дам «ударить лицом в грязь», подмочить репутацию. Толя не унимался в приглашении, и я сел. Пауза. Все застыло в тревожном молчании.
– Сигарету? – добродушно протянул пачку Веденкин.
– Не курю, – сдавленно отвечаю.
– Пивка? – продолжал Толя.
– Спасибо, не пью, – сказал я погромче.
Веденкин подпер рукой голову, задумался и обобщил вслух:
– Не пьешь, не куришь? Что же ты целый день делаешь?
Фраза эта вызвала улыбку у дам, спасла мою репутацию, пошла почти анекдотом по театру, но не спасла Толю. Ему пришлось вскоре уйти из театра. Перейти в штат киностудии Мосфильм, жениться на директрисе магазина и под ее влиянием завязать с привычкой к спиртному. Но тогда в Донецке он не знал еще, что его ждет. И я не знал.
Молодость. Еще запомнилось Донецкое региональное телевидение. Без тракта, то есть без студийной репетиции, сходу мы с успехом сыграли «Ленинградский проспект» в прямом эфире. Провинциальные операторы импровизационно подхватывали нас по ходу действия. Нежданно-негаданно получилось зрелище в духе итальянского неореализма.
«Миллион за улыбку» – так назывался шлягер Ирины Сергеевны Анисимовой-Вульф, долгие годы не сходивший со сцены. Менялись исполнители, а спектакль все шел и шел с неизменным успехом. Пьеса Анатолия Софронова имела лишь отдаленное отношение к тому, что происходило на подмостках. И Ростислав Янович Плятт, и Вера Петровна Марецкая, и Сергей Сергеевич Цейц и Константин Константинович Михайлов, и Людмила Викторовна Шапошникова, и Тамара Сумбатовна Оганезова, и Михаил Бонифацевич Погоржельский, и Наталья Владимировна Ткачева, – словом, все, кто когда-либо работал в этом спектакле, обильно привносили в него свои импровизации. В том числе и ваш покорный слуга. Надо сказать, что Софронов при очередном переиздании пьесы вносил в ее текст эти импровизации и тем самым «канонизировал» их. Так же, как он «канонизировал» сюжет французского водевиля, один к одному схожий с его творением. Человек он был широкий и не любил мелочиться. Частенько давал большие банкеты, на которые приглашал не только артистов, но и всех, с кем имел дело в данный момент и хотел отблагодарить. Это могли быть самые разнообразные люди, самых разнообразных профессий – от мелких чиновников до отраслевых министров. В спектакле можно было делать почти все что угодно. Разумеется, в рамках вкуса и меры. Однажды, играя «Миллион» в Театре Сатиры впервые после очередного отпуска, мы с Михаилом Погоржельским несколько минут делились друг с другом летними впечатлениями и только затем плавно перешли к сюжету. Как-то по инициативе Плятта вынесли в финале огромный фикус из фойе и вручили его Марецкой вместо ожидаемых ею по действию цветов с шампанским.
Михаил Бонифацевич Погоржельский был очень смешливым человеком. Сергей Сергеевич Цейц каждый раз готовил ему сюрпризы. Играя на гастролях в Ташкенте, он во втором акте лежал на диване, закрыв лицо газетой. Погоржельский должен был сорвать с него газету. Сделав это, он обнаружил Цейца в тюбетейке, но не рассмеялся, сдержался. Тогда Цейц приподнял тюбетейку, и Погоржельский «раскололся» истерическим смехом, прочитав на лбу Сергея Сергеевича начертанное гримом вольное выражение.
Однажды, на сцене Театра Вахтангова, где мы играли «Миллион» каждый вторник в их выходной, Марецкая говорила по тексту персонажу Цейца:
– Спой, спой, Женя!
Сергей Сергеевич отвечал тоже по тексту:
– Я не могу, у меня катар верхних дыхательных путей.
– Пой нижними, – неожиданно «выдала» Вера Петровна и ушла со сцены.
Но это были еще цветочки. Далее Цейц подходил к роялю и начинал петь под собственный аккомпанемент. Вернее, он только нажимал потайную кнопку, за кулисами загоралась сигнальная лампочка, и наш аккомпаниатор Татьяна Исаковна делала свое дело, а Цейц только ударял по клавишам пустой клавиатуры. И вот Сергей Сергеевич давит кнопку, а за кулисами тишина. Не то Татьяна Исаковна заснула, не то задержалась в буфете, не то лампочка перегорела. Цейц потирает руки и, оправдывая паузу, говорит мне: давненько, мол, не садился за инструмент – и опять жмет кнопку. Татьяна Исаковна не отзывается. По сюжету во время его лирического пения я смотрел на молодую героиню, изображая зарождавшееся чувство. Так вот я показываю ему глазами, что мы купируем этот кусок, раз Татьяна Исаковна заснула. Он понимает меня, и мы переходим на авансцену для дальнейшего действия. В этот момент то ли Исаковна проснулась, то ли ток в лампочку наконец дали – но рояль заиграл. Сам. Так сказать, «механическое пианино». Цейц с испугу как взмахнет руками, словно курица крыльями и на весь зал вслух:
– Твою мать, твою мать!..
Я ему отвечаю в шоке, тоже вслух:
– Вы что? Они же все слышат!
А он продолжает:
– Ни хрена! Им даже в голову не придет!
Смотрю краем глаза в зал – все сидят как ни в чем не бывало. Только одна дама в первом ряду вопросительно покосилась на мужа. Не послышалось ли ей чего? Тот сидит, смотрит на сцену с серьезным видом. Она удовлетворенно вздохнула: значит, послышалось.
Замечательно в этом спектакле работала народная артистка России Тамара Сумбатовна Оганезова. Тамара Сумбатовна вообще пример женской стойкости. Лет ей было немало. Сама говорила, что семьдесят – стало быть, наверняка больше. Вроде бы до революции еще Сорбонну кончала, если верить слухам. Косметикой особенно не пользовалась. Предпочитала естественный стиль. Перенесла серьезную операцию, уже после этого попадала под троллейбус и тем не менее излучала энергию и обаяние – «о бон кураж». На гастролях в Новосибирске не явилась на спектакль (просмотрела или забыла). Администрация даже и не волновалась особенно. Послали машину к центральному универмагу и объявили по радио:
– Тамара Сумбатовна Оганезова, вас ждут у входа, у вас спектакль!
И действительно она тут же появилась. Все знали, что если ее нет в гостинице, стало быть, она в универмаге. Обожала магазины. Когда спрашивали, в чем секрет ее молодости, отвечала, что никогда ни в чем себя не ограничивала, никаких диет и зарядок, только всю жизнь следила за желудком, очищалась любым способом. «Если девушка побледнела к утру после позднего бала, значит плохо воспитана, не следит за желудком», – кокетливо утверждала «соленая армянка», как она себя называла, Тамара Сумбатовна. Она начинала свой путь в кабаре «Летучая мышь» у Балиева. Выиграла там конкурс на лучшие ножки. Она блистательно играла в «Миллионе», пела: «Пара гнедых, запряженных зарею. Тощих, голодных пара гнедых…» Всегда под бурные аплодисменты.
Последний раз сыграли «Миллион» на юбилей Тамары Сумбатовны. Это официально. Снимало телевидение. Существует несколько телеверсий. На самом деле то был и последний выход на сцену Веры Петровны Марецкой. Но об этом мало кто знал. Вера Петровна называла меня Спартаком. Не знаю почему. Может быть, потому, что я совсем не Спартак.
– Спартак, – протяжно, чуть-чуть капризно говорила она несколько в нос, – ну расскажи мне, кто с кем? Какой расклад? Я ведь редко бываю в театре.
Я не мог удовлетворить ее праздное любопытство амурными интересами, так как сам мало что знал. Только уж то, что знали все. Да и она интересовалась не всерьез. Всерьез она была тяжело больна последние десять лет. Полосные операции и трепанация черепа не надломили ее. Человек удивительного мужества, она еще и смеялась над собой.
Как-то сразу после больницы пришла играть «Миллион» в черном полупрозрачном платье.
– Спартак, как тебе мое платье?
От неловкости я зажато промямлил:
– Элегантно… так… просвечивает…
– Да, уже всю просветили из пушки… – шутила она по поводу облучения, курс которого только что приняла.
Семья. В. П., Фуфа, Сима, Любочка
Хоронили Любовь Петровну Орлову. Стою с Пляттом у гроба в почетном карауле. Рядом стоит Марецкая. Тихо спрашивает Ростислава Яновича:
– Славик, ты уже придумал, что будешь говорить на моих похоронах?
– Ты что, Верочка? – растерялся Плятт.
– Да нет, ты зайди ко мне, порепетируем. А то будешь городить какую-нибудь чепуху, – настаивает она.
Вот пишу и ловлю себя на том, что невозможно писать о Марецкой и не упомянуть Плятта, или Завадского, или Анисимову, или Уланову. Фактически это была одна семья. В разные годы они были женами Юрия Александровича, и всегда рядом был Плятт. Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф везла весь черновой воз театра. Вера Петровна тоже была хозяйкой в театре, но не хозяйкой театра. Галина Сергеевна Уланова держалась несколько особняком. Юрий Александрович понимал, что авторитет великой балерины выше его авторитета. Новый год он часто встречал с Улановой. Марецкая опекала его даже в быту. Анисимова проводила в жизнь его художественную политику. Плятт произносил спичи. Как-то он признался мне:
– Знаете, Женя, я благодарен Юрию Александровичу. Я его ученик и всегда верен ему. Но, в сущности, мы с ним совершенно разные люди. Он эстет. А я хулиган.
Одной из самых дорогих реликвий стала для Ростислава Яновича справка об исключении его из профсоюза РАБИС (работников искусств) за то, что он бегал голый вокруг храма Христа Спасителя в молодые годы. На спор. Он обожал соленые анекдоты. Если анекдот ему нравился, обычно соглашался: «Беру». Но при этом оставался глубоко интеллигентным человеком.
Его отношение к Вере Петровне было всю жизнь рыцарским. Она часто бросала ему с очаровательно-капризной интонацией по какому-нибудь поводу: «Славик, ты не товарищ!» – будучи абсолютно уверенной в обратном. Как-то, уже после ее ухода, Ростислав Янович поинтересовался:
– Женя, видели вчера «Член правительства» по телевидению, Веру Петровну видели?
– Видел.
– Правда, здорово? – В глазах его проступили слезы.
У турникета проходной закрытого предприятия Плятт, Марецкая и ваш покорный слуга. Приехали на шефский концерт. Возбужденная лицезрением живых артистов простоватая работница охраны суетливо мечется взглядом меж паспортами и нашими лицами, командует сама себе вслух:
– Так, спокойно. Кто из вас Плятт? Кто Марецкая?
В Алма-Ате, в скверике напротив гостиницы, сидим на скамейке в том же составе. Прохожий, кривоногий казах, прищурившись, целится пальцем в Плятта:
– Так-так-так… Сейчас скажу… Граббе!
Вера Петровна хохочет. Ростислав Янович смущенно улыбается. На тех гастролях, гуляя по казахской столице, Вера Петровна вспоминала, как в войну снималась на объединенной алма-атинской киностудии в фильме «Она защищает Родину». Вспоминала о прошлых романах с Иосифом Хейфицем, с Михаилом Зощенко. Игриво призналась:
– Люблю доводить мужиков до безумия и покидать в последний момент… Так им и надо!
Там же, в Алма-Ате, после спектакля «Миллион за улыбку» Марецкая таинственно отвела меня в сторону:
– Спартак, против тебя заговор. Ты сейчас вернешься к себе в номер, там будет жуткий беспорядок – пьяный прибалт подселился. Они уговорили латыша-спортсмена участвовать. Я обожаю розыгрыши, но подумала: это все-таки не совсем этично по отношению к тебе. Спартак, а вдруг ты не один? С женщиной? Нет, некрасивый розыгрыш. Только ты не выдавай меня, пока я жива.
Я дал слово Вере Петровне. И при ее жизни никому об этом не рассказывал.
А было так. На гастролях я предпочитал жить один, без соседа. Даже когда еще не имел званий и официально не имел права на оплачиваемый одноместный номер или люкс. Обычно сам доплачивал за свое одиночество. В Алма-Ате меня поселили в двухместных, заверив, что никого не подселят. Вот коллеги и решили разыграть меня. Инсценировали подселение. Вернувшись с работы в гостиницу, застал у себя полный хаос. На столе огрызки, окурки, пустые бутылки, стаканы в винной луже. На кровати, на стульях, в ванной разбросано грязное белье. Чужое. Латыш-спортсмен вполне справился с ролью пьяного подселенца. Я поблагодарил его и проводил восвояси. Грязное белье выкинул вместе с мусором. Навел порядок. Затем позвонил администратору Виктору Михайловичу Сигалову. Влюбленный в театр, в артистов, он поразил нас однажды на пляже в Одессе во время гастролей монологом Незнамова из «Без вины виноватых» Островского: «Мацэрям, бросающих своих детей…» С подлинным чувством, со смешной патетикой, при трогательном еврейском акценте Виктор Михайлович запал в наши души, и, когда в брежневские времена его уводили из театра в наручниках за какую-то невинную по теперешним временам «валютную операцию», не было в театре человека, не сочувствующего ему в его злоключениях. Так вот, позвонив Сигалову, я возмущался до слез, играя на всю катушку, чтоб мне поверили. И Виктор Михайлович поверил, поверили и авторы розыгрыша и пришли успокаивать, признаваться в своем озорстве. И теперь не верят, что это я разыграл их, а не они меня. Но я сдержал слово, данное Вере Петровне. Уже перенеся трепанацию черепа, она ввелась на роль странной миссис Сэвидж в одноименном спектакле. После того как Раневская отказалась выходить в одной из лучших своих ролей, после того как Любовь Петровна Орлова сыграла Сэвидж, сыграла неожиданно, с какой-то предсмертной мукой, о которой сама еще не подозревала. Сыграла и умерла. После всего этого Марецкая приняла эстафету. Записала телевизионную версию. Зачем? Зачем понадобилось ей это соревнование со смертью? Откуда нашла в себе силы? Читала для радио, когда уже не могла играть. Поддерживала, утешала Завадского до его последнего вздоха в кремлевской больнице. Брала на себя его боль. Большая актриса – большая воля.
Через маленький экран папиного самодельного телевизора они входили в мое сознание, когда я сам ходил только еще пешком под стол. И я восхищался ими: и Верой Петровной Марецкой, и Фаиной Георгиевной Раневской, и Серафимой Германовной Бирман. Но ее я любил. За что? Не знаю. Ее все любили. Просто любили и все. В театре Веру Петровну звали В. П., Фаину Георгиевну – Фуфой, Серафиму Германовну – Симой, ее – Любочкой.
В. П., Фуфа, Сима – мои близкие старшие товарищи по цеху. Уникальные индивидуальности со своими особенными характерами и слабостями уже немолодых женщин. Она – Любовь Петровна Орлова – тоже вроде бы была рядом. Я разговаривал с ней, выходил на сцену. Однако между нами существовала дистанция. И эту дистанцию держали мы, не она. Я и мои сверстники, служившие в театре, не могли позволить с ней никакой «свойскости». Вроде бы каждому из нас она пела: «Я вся горю, не пойму от чего…», «Диги-диги ду, диги-диги ду, я из пушки в небо уйду», говорила: «Ай лав ю, Петрович!» А мы понимали – «руками не трогать!» И здесь, за кулисами, она оставалась для нас кино-Золушкой из «Веселых ребят», «Цирка», «Волги-Волги», «Светлого пути». Она оставалась отражением нашей любви. Вызывала преклонение. Хотя вела себя чрезвычайно естественно и демократично, как все хорошо воспитанные, подлинно интеллигентные люди.
Один из рабочих сцены справлял юбилей, выписал родственников из деревни, пригласил всех ведущих артистов. Никто не пришел. Только Любочка – народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий, первая суперзвезда советского экрана Любовь Петровна Орлова. Иосиф Прут – друг дома Орловой и Александрова – увидел ее впервые маленькой девочкой на детском новогоднем празднике в доме Федора Ивановича Шаляпина. Отец Орловой, певец-любитель, дружил с великим оперным артистом. Прут вспоминает, как двери открылись и оттуда выплыло белое облако – маленькая Любочка-Золушка в платье от феи. Когда Прут перед уходом на фронт второй мировой войны пришел прощаться с Григорием Васильевичем Александровым и Любовью Петровной, она посадила его в машину и повезла на авиационный завод, к знакомому директору, попросила небольшой кусок авиационной брони. Наклеила свою фотографию, вложила Пруту в левый, верхний карман гимнастерки, с тем чтобы только после войны отклеил и прочитал, что написала ему. Невероятно и в то же время банально, словно кто-то придумал в романе, но пуля попала прямо в сердце. «Бронированная» фотография спасла его, и он узнал ее пожелание после войны.
Любовь Петровна считала Григория Васильевича гением. Видимо, для нее это действительно было так. Она говорила, что он показался ей римским патрицием с первой их встречи, когда пришел смотреть ее в Театре Станиславского и Немировича-Данченко, искал исполнительницу на роль Дуни в «Веселых ребятах». Он пошел провожать ее после спектакля и больше они не расставались. Обращались друг к другу «на вы». Может быть, это была игра. Может быть. Тогда игра очень красивая. Красивые отношения.
Каждый раз в конце представления среди моря цветов, которыми одаривали ее, различала «Гришенькины» цветы. Всю жизнь. Каждый раз! Костюмерша Агния Ивановна – преданная театру душа спросила:
– Любовь Петровна, отчего вы никогда не сердитесь, не раздражаетесь?
– На что же мне сердиться? – удивилась Орлова.
Она была сдержанным человеком. После очередного кинопросмотра в Кремле Сталин пошутил, подойдя к Орловой и Александрову:
– Почему она у вас такая худая? Кормите ее, а то мы вас расстреляем.
Комедию «Волга-Волга» он примечал особенно. Часто пересматривал. Подарил президенту Рузвельту.
Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам не страшны ни льды, ни облака… –«Марш энтузиастов» из кинокартины «Светлый путь». Под этот марш всей труппой, бывало, вышагивали через зал на сцену по торжественным случаям. Впереди несли знамя. За ним – Орлова, Марецкая, Завадский, Плятт… Вслед – остальные. Раневская никогда в таких выходах не участвовала. Бирман – иногда. Видя живую Орлову, публика испытывала неподдельный восторг. Сама же Любовь Петровна как-то сказала мне, что женщине уместнее появляться не на фоне знамени или других женщин, а на фоне нескольких элегантных мужчин.
Однако она, как никто, с честью несла крест своей тотальной популярности и официальной, и неофициальной, понимая, что не имеет права разочаровать зрителей. Известно, как Орлова работала над сохранением своей формы, но мало кто знает, чего это ей стоило. На съемках фильма «Весна» в Чехословакии Орлова вместе с Черкасовым попала в автомобильную катастрофу. Последствием стало хроническое нарушение вестибулярного аппарата. Для сна ей необходима была полная темнота, чтобы не ясно было, где пол, а где потолок. На гастролях ее номер занавешивали дополнительными шторами. Последний раз Любовь Петровна появилась публично в телепередаче «Кинопанорама», которая вышла в эфир за несколько дней до ее ухода из жизни. Это было прощание выдающейся кинозвезды со своим народом.
Александров был рядом, но глаза его не выдавали трагедии. Он держался. Он потрясающе держался потом у гроба. Ни один мускул не дрогнул на величественном лице. Шли и шли люди. Казалось, очередь бесконечна. Спустя время мне позвонили из Дома кино. Попросили выступить на торжественном вечере памяти Любови Петровны. Вел вечер Алексей Баталов. Предупредил:
– Мероприятие официальное!
Присутствовали Герои Социалистического труда, капитан парохода «Любовь Орлова».
Просил:
– Без вольностей!
Я сказал. Сказал о своей любви к этой необыкновенной женщине. О том, что она значила для нашего поколения. О том, что во время второй мировой войны, может быть, в последнем предсмертном крике наших солдат «За Родину!» в самом эмоциональном ощущении Родины была и работа Любови Петровны Орловой в фильмах Григория Васильевича Александрова.
Говорил искренне. Чувствовал – получилось. Герои Соцтруда плакали. Через несколько дней опять позвонили. Из журнала «Искусство кино». Предложили написать статью по моему выступлению. Написал.
Статья стала первой моей публикацией. Так «благословила» меня Любовь Петровна. Григорий Васильевич успел еще снять документальный фильм об Орловой. Он принял статью и процитировал в фильме.
С тех пор меня записали в орлововеды. И часто берут интервью о ней – о знаменитой представительнице знаменитого рода братьев Орловых, которые поставили на трон императрицу Екатерину Вторую. И мне смешно, когда теперь некоторые тележурналисты ассоциируют Любовь Петровну с культом Сталина, с тоталитаризмом, вульгарно монтируя финальные кадры из «Цирка» – «Широка страна моя родная…» – с картиной ГУЛАГа, где погиб ее первый муж. Что они знают о ней? Жизнь сложнее социальных схем.
Осторожный человек
Директор Лев Федорович Лосев предложил поехать с ним к Плятту записать для телевидения воспоминания о Любови Петровне. Приехали. Камера уже стояла в холле квартиры. Ростислав Янович появился из кабинета, с трудом преодолевая незначительное расстояние. Сказал, когда сел рядом с нами:
– Женя, знаете почему я море люблю? Я в нем не хромаю.
Тогда он уже не выезжал в театр. Мы партнерствовали с ним в пяти спектаклях: «Миллион за улыбку», «Несколько тревожных дней», «Возможны варианты», «На полпути к вершине», «Братья Карамазовы». Это много, учитывая, что каждый из них не сходил со сцены по нескольку лет. В «Тревожных днях» и «Карамазовых» я был его сценическим сыном. С ним было легко. Он был очень профессиональным, дисциплинированным, творчески деликатным, озорным и надежным партнером. Опытность не мешала ему быть наивным. Он чересчур вручал себя режиссерам, доверялся им целиком. Обижался, если не получал замечаний. Иногда ему делали замечания специально, чтобы поднять настроение. Считал, что если не делают замечаний, значит, не хотят с ним работать. Хотя на самом деле его не трогали, так как то, что он делал, было действительно точно и самоценно. Ростислав Янович учил текст на счетах. На обыкновенных бухгалтерских счетах. Как он это делал? Не знаю.
– Братья Гримм, – пошутил как-то Толя Адоскин про Ростислава Яновича и Андрея Владимировича – заведующего гримерным цехом. Андрей Владимирович ранее работал в Большом театре и любил яркий оперный грим. При каждой новой постановке они долго колдовали с Пляттом над изменением внешности. Шли в дело усы, бороды, парики, но особенно Ростислав Янович любил клеить носы. Обожал перегримировываться несколько раз за спектакль. В «На полпути к вершине» его герой сначала представал в генеральской форме, затем обросшим, оборванным хиппи – полное удовольствие для Плятта.
В «Миллионе» они с Михайловым и Марецкой упрекали меня в недостаточности грима: «Ты нас продаешь!» Сами они тонировались по полной программе. Не так, как я – «на три точки» светло-коричневым тоном. Размазывал точку на лбу и на скулах по точке. Понятное дело, Михайлов, Плятт и Марецкая почти вдвое старше меня. Константин Константинович играл моего брата, Вера Петровна – его жену, Ростислав Янович – их друга. Я же и по сей день не сторонник обилия грима. Психологическая трансформация больше греет.
В пьесе «Несколько тревожных дней» Плятт играл академика-физика, директора института, а я – его сына, молодого кандидата наук. Там была одна парная сцена спора между нашими персонажами. Сцена получалась выигрышной для меня. Ставил спектакль Юрий Александрович Завадский вместе с сыном Евгением Юрьевичем. Завадский не ходил на все репетиции. Отсматривал этапы. И вот он первый раз смотрит эту самую сцену. Евгений Юрьевич на репетиции отсутствовал. Фактически мне предстояла первая репетиция с Юрием Александровичем. От нее многое зависело в наших творческих отношениях. В театре ведь очень важно себя верно поставить с самого начала. Признаться, я опасался, что Завадский разложит свои карандаши (он коллекционировал карандаши, всегда во множестве носил в папке и в карманах) и процитирует Станиславского: «А ты знаешь, Стеблов, что театр начинается с вешалки…» Начнет кормить меня банальностями, как начинающего мальчишку. Хотелось предстать перед ним «не мальчиком, но мужем». Утвердить себя в его глазах. Завадский командует:
– Пожалуйста, начинайте!
Сыграли. Чувствую – хорошо сыграли. Ростислав Янович понимал, что это «моя сцена» и очень деликатно подыгрывал. По лицу видно – Завадский доволен, но решил не проявлять удовлетворения на всякий случай. В педагогических целях. Пауза. Долго что-то рисует карандашами цветными. Потом вдруг задумчиво:
– А ты знаешь, Стеблов, что театр начинается с вешалки… – И далее в том же духе.
Я терпеливо все выслушал. Ну, думаю: «Сейчас или никогда!»
– Ты понял? – спрашивает Завадский, не сказав ни единого слова по существу.
– Понял, Юрий Александрович. Разрешите еще раз попробовать. Именно в развитие вашей мысли.
– Ну, пожалуйста, пожалуйста, начинайте, – кивает Завадский.
И я начал. Обострил конфликт, заложенный в сцене до полной неадекватности, в внезапном истерическом порыве сломал реквизиторский стол и два стула, но все по действию и по тексту, как установлено. Надо было видеть глаза Плятта при этом. Скрытый восторг, смешанный с заразительным любопытством – чем кончится? Пауза. Длинная пауза. Медленно собрав карандаши, Юрий Александрович направился к двери. Видно было, что он немного испуган. Он не любил беспокойства, берег себя, а тут псих какой-то. У выхода обернулся:
– Мне кажется, у вас все на мази. – И пошел. Затем обернулся снова. – Ведь что такое театр? «Добрый день. – Здравствуйте. – Как дела? – Спасибо, неплохо. – Хорошая погода? – Как кому». Уже конфликт, уже драматургия, уже театр.
С тех пор Юрий Александрович меня больше «не трогал». Относился с бережной симпатией. После моей экстравагантной выходки Ростислав Янович промолчал. И это было более чем поддержка с его стороны.
«Я человек осторожный», – часто повторял он. Действительно, обычно Плятт уходил от конфликтов, не вмешивался. Но в принципиальных ситуациях проявлял твердость. Помню заседание художественного совета, когда состоялось «второе пришествие» Риты Тереховой. В период репетиции «Гедды Габлер» театр гастролировал в городе Кемерово, практически в газовой камере. «Лисьи хвосты» химических выбросов в этом городе душат все живое. Там не бывает клопов, тараканов и прочее. Птицы молчат. Только люди тянут еще, хотя и родятся уроды. Люди терпят. Куда деваться? Рита отказалась ехать.
У нее в то время сынишка был совсем маленьким и она имела полное профсоюзное право не участвовать в гастрольной поездке. Выехала ее дублерша по «Царской охоте» Нелли Пшенная. И с ней случилось несчастье. Понадобилась срочная операция. Требовалась замена. Обратились к Тереховой, попросили выручить. Нашли ее где-то на юге. Она отказалась. Нелли играла с тяжелым приступом. В кулисах врачи дежурили. На второй спектакль пришлось срочно вводить другую актрису. В Москве у Лосева с Тереховой разговор состоялся тяжелый. Рита подала заявление об уходе. Лосев подписал сразу. К тому же отозвали поданные на звание ее документы. Несколько лет она не работала в театре. Затем обратилась к министру культуры Демичеву с просьбой о содействии. Содействие получила. И вот встреча с художественным советом. Но Рита обусловила свое возвращение еще и некоторыми требованиями, среди которых фигурировало намерение снять для телевидения спектакль «Тема с вариациями», в котором она играла вместе с Ростиславом Яновичем. При этом Рита предварительно не поинтересовалась ни намерениями самого Плятта, ни планами постановщика спектакля Сергея Юрского. Лосев предложил членам художественного совета высказываться. Дошли до Плятта.
– Я считаю, первая ошибка была отпустить вас из театра. Вторая ошибка будет взять вас обратно, – заключил обсуждение Ростислав Янович.
Рита растерялась. Не ожидала. Однако большинство худсовета возвращению Маргариты Тереховой не препятствовало. Мнение Плятта осталось особым.
Был и еще один случай на моей памяти, который касался вашего покорного слуги, когда Ростислав Янович изменил своей обычной толерантности и дипломатичности. После автомобильной аварии на съемках в Праге я перенес три операции за год и некоторое время не работал в театре. Умер Юрий Александрович Завадский. По слухам, среди других пунктов завещания он в том числе высказал и пожелание о моем возвращении в труппу. Время от времени мне звонили из театра женские голоса, справлялись о здоровье, намекали, что пора бы уж вернуться. Однако я не торопился. Случайно на улице встретился с Пляттом.
– Женя, почему не возвращаетесь?
– Куда возвращаться, Ростислав Янович? Мы служили с вами в театре Завадского. Завадского нет. И театра его нет. Театр уже другой. Скажу вам откровенно: мне теперь не так важно, где я работаю, сколько то, что я делаю и с кем. Возвращаться к своему старому репертуару на прежних условиях не вижу смысла.
– Я вас понял, – ответил Плятт.
Вскоре, когда пришел в театр на перевыборное партсобрание, получил предложение от Павла Осиповича Хомского: или Смердяков, или Алеша в «Братьях Карамазовых».
Несколько слов о партийности. Как-то узнал, что некто, человек неумный и малоприятный, намеревается вступить в партию. «Твою мать, – подумалось мне, – такие вот соберутся там – совсем житья от них не будет! Сам вступлю». Побуждение возникло спонтанно из-за желания противостоять. Противостоять злу внутри партии, так как извне невозможно. Нереально. Диссидентом никогда не был. Путь социального борца – не мой путь. Я слишком занят своим делом. Обратился к директору с просьбой о рекомендации для вступления в ряды. Отношения мои с ним тогда уже омрачились. Он предлагал мне в свое время стать секретарем комсомольской организации – я отказался. Я уходил от ролей, которые мне не нравились. Все это задевало его самолюбие. Моя независимость явно раздражала его. В ироничной манере вялого циника он частенько «проходился» по поводу моего здоровья (я тогда действительно часто болел). И, когда в очередной раз он с отеческой фальшью посоветовал: «Опять получили главную роль. Смотрите, не заболейте…» – я брякнул: «Мы-то заболеем – нас подождут. Вы-то не заболейте». Разговор случился один на один. Никто не слышал, но перемену в отношениях наших заметили многие. Директор действовал, как умел. Выдвинул лозунг «Борьба со звездностью», вызывал на ковер, намекал, что не так как-то, мол, мыслю, веду себя, держусь обособленно, неколлективно. Ему подпевали его шестерки, прикармливая которых он в глубине души в грош не ставил. Уже не театр-храм, а театр-гадючник ярмаркой больных тщеславий окружал меня. Вспомнились тогда слова Варвары Сошальской о благосклонности Ирины Сергеевны Анисимовой-Вульф ко мне: «Цени!» Теперь действительно понял, насколько был защищен ею от всяческих дрязг и интриг.
Был, потому что Ирина Сергеевна ушла внезапно, как гром среди ясного неба в осенний день. Лосев не отказал мне в партийной рекомендации – для этого не было убедительных оснований. А может быть, ему почудилось, что, дескать, и я шагнул той же дорожкой, по которой давно уже нехотя, но упорно брел он. Я стал членом КПСС. И мог теперь сам с полным правом делать многозначительные паузы и говорить «от имени партии». Стал защищен. Стал на хорошем счету в райкоме, в горкоме. Висел на Доске почета Краснопресненского района напротив метро. Стал заместителем секретаря партийной организации Театра имени Моссовета по идеологии. И, когда Павел Хомский предложил мне на выбор роль Смердякова и роль Алеши, выбрал Алешу. Смердяков актерски более выигрышная работа. Алексей Карамазов роль не выигрышная, роль – судьба. Судьба, которую не выбирают, ее чувствуют, ею живут.
В кабинете директора, кроме него, Плятт, Хомский и ваш покорный слуга. Обсуждаются условия моего участия в «Карамазовых». Я хотел заключить договор на роль – и только. Лосев и Хомский предпочитали мое возвращение в штат. Актерская независимость снова пугала Льва Федоровича.
– Судите сами, – мотивировал он. – Предположим, мы едем в Париж, и вы поедете без вопросов. Но если в Крыжополь мы соберемся – вы же откажетесь?
– И вам не надо в Крыжополь, Лев Федорович, – отвечаю.
– Ну, знаете, не всегда пирожное получается. Не выходит – пеки черный хлеб, – продолжал он.
– Потом вне штата тарификацию вам не поднимешь, – добавил Хомский.
За время моего отсутствия в театрах страны произошло косыгинское повышение тарификации. И мой старый тарифный оклад в сто пятьдесят теперь соответствовал двумстам рублям. Аргумент Павла Осиповича убедил меня.
– Только чтобы не создавать волны в труппе – как и что? Ушел – пришел, оклад повысили… Вы сейчас оформляйтесь на сто шестьдесят рублей. Сто пятьдесят – теперь нет такого оклада. И мы через месяц прибавим вам без волны, – попросил Лосев.
Я согласился.
– А вы не обманете? – поинтересовался молчавший до сей поры Плятт.
– Постараемся, – отшутился Лосев.
Прошел месяц. Зарплату не прибавили. Прошел еще месяц. Без изменений. После трех месяцев я между делом на ходу спросил Хомского. Он туманно объяснял, что профсоюзная организация возражает. Лосев вида не подавал. Будто бы не было между нами никакой договоренности. Я тоже вида не подавал. Не будил. Ждал, вдруг сам проснется. Репетиции шли полным ходом. Генеральные приближались. Однажды, уже в игровом костюме, перед началом прогона я зашел в гримерку Ростислава Яновича и сказал, что, похоже, дирекция все-таки меня обманула, и я очень прошу понять меня, но, если Лосев не выполнит обещания, то я выпускать премьеру не буду.
– Понял, – сказал в ответ Плятт.
Раздался звонок помрежа. По радио звали на сцену. Я спустился в зрительный зал. Хомский за режиссерским пультом просил всех к началу.
– Нет, подождите! – внятно заявил Ростислав Янович. – Сначала мы поднимемся к Лосеву. По поводу Стеблова.
Плятту не пришлось подниматься в дирекцию. Через минуту Лосев сам появился в зале. Пытался было уклончиво развивать легенду о профсоюзной организации. Но Плятт остановил его:
– Разве театром местком у нас правит?
Лосев сдался. К тому времени не было уже в живых ни Завадского, ни Анисимовой, ни Марецкой. Из «стариков» Плятт один входил в руководство.
Лосев решил не связываться со «Славиком». Ростислав Янович проявлял твердость редко, но метко. Лосев знал это. Обычно же Плятт позволял Лосеву теребить себя за пуговицу пиджака, похлопывать по плечу. Он был добродушен и выше фамильярности. Держался с ним дружески, без церемоний, как воспитанный человек, но сам не похлопывал Лосева по плечу, щадил.
За чаем в буфете директор по-своему осмыслил ситуацию:
– А вы, Женя, как в чешском хоккее, отступаете, выманиваете на себя, потом резкий проброс вперед – и шайба в воротах…
Вот пишу – и у самого оскомина. Однако из песни слова не выкинешь.
В туристической поездке по Испании в городе Кадис произошла со мной такая история. Выйдя из рыбного ресторана на набережную Атлантического океана, решили мы искупаться. Когда еще в океане поплаваешь? Но купальники в чемоданах, а чемоданы заперты в багажнике под автобусом. Заперт и сам автобус. Шофер Хуан отправился выпить кофе. Решили купаться в нижнем белье. В конце концов все из театра, свои. Я снял белоснежные шорты, остался в белом арабском дэсу. Искупался. Теперь желательно было уже снять трусы и надеть шорты. Не ехать же дальше в мокрых? Но где это можно сделать? Куда спрятаться, чем заслониться хотя бы на миг? Увидел телефонную будку на углу с наклеенной во весь рост полуголой афишной дивой. Зайду, думаю, в будку, за диву – раз, два, и дело сделано. Зашел. И передо мной открылся газетный киоск, из амбразуры которого выглядывала пожилая сеньора. Неловко. Заметил пустой торговый лоток на колесах, уже за будкой. Думаю: «Где наша не пропадала?» Раз, два! Положил белые шорты на лоток, скинул трусы, и… вдруг подул теплый порывистый ветер из Африки, подхватил мои шорты и понес вверх по улице. Кровь ударила в голову. Ведь там в кармане весь капитал – скромная сумма в песетах, все, что было в наличии! Не помня себя, я бросился за песетами, но белоснежные шорты парили зигзагами, как альбатросы перед грозой. В этот момент, спускаясь сверху, затормозил открытый красный кабриолет, за рулем которого сидела обворожительная синьорина с цветком в волосах. Она чуть не сбила мечущегося голого безумца со вздернутыми, хватающими воздух руками. Ее удивление было столь серьезно и любознательно, что только усиливало глупую эротичность момента. Не помня себя от нежданного возбуждения, я употребил всю свою страсть, внезапным рывком настиг улетающие вдаль песеты и стремительно ретировался, натягивая шорты на ходу. Мокрые арабские трусы так и остались лежать на передвижном прилавке испанского города Кадис, как сброшенная чешуя тогда еще советского человека.
Возвратившись на родину, историю эту я рассказал в Доме творчества Мисхора Ростиславу Яновичу Плятту, где мы отдыхали по путевкам Театрального общества. Точнее, я отдыхал с женой и сыном, а Плятт с будущей своей женой, диктором радио Людмилой Маратовой. Прежняя жена его Нина Бутова уже покинула сей мир. Надо сказать, что, несмотря на всегда присущую Ростиславу Яновичу элегантность, он в своей жизни не был особенно избалован женским уходом и вниманием. И обрел, может быть, впервые подлинный домашний уют и супружескую заботу с Людмилой Маратовой. Тогда, в Мисхоре, на наших глазах разворачивался финал их трогательного романа. Срок путевки Плятта закончился раньше нашего. Ростислав Янович накрыл стол, устроил «отвальную». Читал посвященные каждому из собравшихся шуточные вирши собственного сочинения. Он обожал капустники и по возможности почти всегда был их непременным участником. Прочитал он и строки, посвященные мне, вернее, моему испанскому казусу. Там были и такие слова:
Стеблов, он парень не простой, Недаром ведь, тряся …ми, бежал испанской мостовой.С самим Пляттом в те крымские дни тоже произошел казус. Затеяла все Оля Волкова. Она предложила эксперимент по преодолению силы земного притяжения. Ростислав Янович согласился на роль подопытного. После ужина, прилюдно, на пятачке перед столовой Оля посадила его на стул. Четыре человека – Оля, я и еще двое – расположили определенным образом свои ладони над головой Плятта, потом каждый из нас поддел его указательным пальцем соответственно под руки и под коленки и подняли его на высоту около метра. Подняли довольно грузного, крупного человека, можно сказать, четырьмя пальцами. Подняли с легкостью, будто бы книжку в 200 страниц, примерно такую, как пишу теперь. После этого Ростислав Янович «ушел в затвор», не выходил некоторое время на люди. Поколебались его жизненные представления. Так бывает, когда сталкиваемся с чем-то необъяснимым. Я никогда не говорил с Пляттом о Боге. Не думаю, что он был очень религиозным человеком, но он был большим ребенком, а стало быть, открыт к Богу. К концу жизни Ростислав Янович трудно ходил. Упал зимой. Поскользнулся у театра. В результате – операция, укорочение ноги. На «Карамазовых» при перемене картин, в затемнении он протягивал мне руку, и я ловил ее, помогая ему уйти со сцены. Это прикосновение осталось со мной до сих пор. Бывает, я ищу его в темноте.
Для женщины сумочка – часть тела…
Плятт и Раневская неоднократно снимались вместе, незабываемо играли в спектакле «Дальше тишина» разлученную жестокими детьми супружескую пару влюбленных стариков. Для публики они казались дружным дуэтом. На самом деле было не совсем так. Плятт не любил работать с Раневской, относился к этому, как к вынужденному явлению.
– Славик, ты халтурщик, – упрекала Фаина Георгиевна.
– Зоопарк, – ворчал Ростислав Янович.
Помню, Эфрос на репетиции «Тишины» терпеливо объяснял Раневской чувство матери:
– Понимаете, Фаина Георгиевна?
– Не понимаю, – басит она.
– Чувство матери, чувство матери! Понимаете? – повторяет Анатолий Васильевич, нервно поднимая по обыкновению правую руку с вытянутым указательным пальцем.
– Не понимаю.
И так несколько раз. Не выдержав, он объявил перерыв. Обратился ко мне, как своему человеку, человеку его театра:
– Женя, не могу больше! Издевательство!
Эфрос хотел от Раневской большей сдержанности – ее тянуло к сентиментальности. Она никак не участвовала в общественной жизни. Приходила в театр только по делу. Когда служила в Пушкинском театре, у нее не складывались отношения с главным режиссером Борисом Равенских, который тоже был человеком особенным – постоянно сгонял с себя чертей.
– Зачем вы? Вы сегодня не заняты? – испугался он вошедшей в зрительный зал Фаины Георгиевны.
– Шла мимо театра, захотела по-маленькому и зашла, – отвечала Раневская.
Когда-то она поругалась с Завадским.
– Вон со сцены! – вскричал Юрий Александрович.
– Вон из искусства! – без паузы отвечала она.
Придумывала клички. Завадскому – «вытянувшийся лилипут», «в тулупе родился» (однако Фаина Георгиевна была единственной в труппе, к кому он обращался «на вы»). Ие Саввиной, к которой очень хорошо относилась, – «гремучая змея с колокольчиком», имея в виду тонкий возвышенный голос и яростный, нервный темперамент Иечки. Директору-распорядителю Валентину Марковичу Школьникову, человеку доброму, отзывчивому, подлинно преданному театру, но порой излишне обещающему и фантазирующему: «Где этот Дошкольников, где этот еврейский Ноздрев!» Перед Олимпийскими играми Раневская позвонила Валентину Марковичу:
– Валечка, пришлите мне, пожалуйста, машину.
– Зачем, Фаина Георгиевна?
– Я хочу показать своему Мальчику олимпийские объекты.
Мальчик – собачка Фаины Георгиены, довольно брехливая и бестолковая дворняга. Хозяйка была сердечно привязана к ней. Раневская довольно редко и избирательно снималась в кино.
– Сниматься в плохих фильмах – все равно что плевать в вечность, – говорила она.
О натурных съемках:
– Такое ощущение, что ты моешься в бане, а туда пришла экскурсия.
О даровании:
– Талант словно прыщ на носу – или вскочил, или нет.
Сейчас выходит в свет множество печатных спекуляций о Раневской. Ей приписываются выражения и поступки, которых она не говорила и не совершала. Подобное мифотворчество, видимо, неизбежный удел выдающихся личностей. У меня складывалось такое ощущение, что Фаина Георгиевна своими афоризмами веселила душу от одиночества. Ведь подлинный художник на него обречен. Ему труднее найти адекватность в другом, чем ординарному человеку.
Я встретился с ней в работе над спектаклем «Правда хорошо, а счастье лучше» по одноименной пьесе А. Н. Островского, где играл роль Платона. Приступил к делу с месячным опозданием. Снимался в кино. В мое отсутствие репетировал второй состав. Первое о чем она спросила:
– Вы Платон номер один или Платон номер два?
– Номер один, – отвечаю.
– Ага, – вслух уяснила она.
Не помню, почему зашел разговор о крысах. И я рассказал со слов мамы, что в детстве меня укусила крыса за палец, в люльке. Мать запустила шваброй в нее, та убежала. Потом носили меня на уколы. Сорок уколов.
– Вы что, в помойке родились? – перебила Фаина Георгиевна.
Я посмотрел на нее рыбьим глазом и парировал:
– Нет. В интеллигентной семье. Просто голод был после войны, в сорок пятом. Крыс всегда много во время голода.
– Извините, – ретировалась она.
Раневская часто доводила до слез партнеров. Особенно тех, кто больше всех восхищался ею, смотрел в рот. Уже на второй репетиции она сказала мне о постановщике спектакля Сергее Юрском, который относился к ней крайне деликатно и комплиментарно:
– Он не режиссер. У него течка. Никакого отбора. Умрет от расширения фантазии.
Собственно говоря, ее роль Фелицаты была совсем небольшой. Но ради ее участия Юрский и затеял эту работу.
– Я нужна вам для спекуляций на моем имени! – порой публично бросала она ему, хотя в иные минуты относилась с нежностью и признательностью.
Однажды перед репетицией озаботилась:
– А где моя сумка? Сумку с ролью забыла дома.
Юрский советует:
– Ничего, читайте по книжке. Вот, возьмите.
– Нет, деточка, я так не могу. У меня там пометки в тексте.
Послали помощницу режиссера искать ее сумку. Минут через сорок та вернулась. Нашла ее около лифта в подъезде Раневской.
Фаина Георгиевна взяла сумку:
– Так, деньги на месте… роль… очки… – И, чувствуя неловкость, что из-за нее стояла работа, добавила: – Друзья мои, вы должны понять, что для женщины сумка – это часть тела!
Потом разговорилась, зажглась и стала импровизировать, показывать великую Сару Бернар на французском языке, которую, по ее словам, она видела в детстве в Париже. Мы сидели как завороженные. На наших глазах случилось чудо. Ни описать, ни рассказать это нельзя. Чудо, ради которого стоит служить театру. Когда она хотела было перейти непосредственно к репетиции, Юрский сказал:
– Я думаю, дальше сегодня репетировать невозможно.
Он тоже был потрясен. Мы разошлись.
Чем ближе приближалась премьера, тем больше нарастали мои разногласия с Юрским.
По сути дела он навязывал мне формальные выдумки, сочиненные домашние заготовки, исходя из мотивов собственной актерской индивидуальности. Моя внутренняя мотивация ему была непонятна. Известное выражение «режиссер должен умереть в актере» к нему совершенно не относилось. Единственная, с кем он вынужден был считаться, была Фаина Георгиевна. Юрский совершенно не чувствовал Островского, пытался его модернизировать фольклорно-развлекательными приемами. Сам, играя отставного вояку Грознова, явно трюкачил. При этом без конца говорил о Михаиле Чехове, о его системе, понимая ее буквально и формалистически. Забывая о том, что Михаил Чехов был гений, и система его была его системой, присущей только его неповторимому внутреннему миру, наполненному пограничными психическими состояниями и мистицизмом. Рационализм Юрского не мог вместить всего этого, хотя и пытался. Так же, как пытаются коммунисты и разного рода утописты «построить царствие небесное на земле», внедрить «систему». Но «царствие небесное внутри нас есть».
С Раневской у нас была парная сцена, когда Фелицата назначает Платону свидание с Поликсеной. Фаина Георгиевна не любила «расшаркивающихся» партнеров. Она даже как бы провоцировала партнера на проявление агрессии. Я не придавал этой сцене особенного значения. Для меня она была переходной. Однако, подогретый внутренним конфликтом с Юрским, решил устранить дополнительное препятствие в ее лице. К сожалению, понял, что нужно показать ей зубы. А как это сделать? О том, чтобы как-то объясниться с Фаиной Георгиевной, не могло быть и речи. Да и поле битвы в актерском деле интуитивно подсознательное. Слова тут мало что значат. В сцене был следующий диалог:
Фелицата. Послушай-ка ты, победитель.
Платон. Погоди, не мешай, фантазия разыгрывается.
Фелицата. Я послом к тебе.
Платон. Да ничего хорошего-то от тебя не ожидаю.
Далее она говорила какую-то фразу, на что я спрашивал: «Ну, что еще?»
Ну спрашивал и спрашивал. Совершенно обыденно. И в тот раз я поначалу говорил реплики довольно обыденно, даже несколько вяло, задумчиво:
– Погоди, не мешай, фантазия разыгрывается… Да ничего хорошего-то от тебя не ожидаю…
И вдруг на ее вопрос я повернулся к ней резко, схватил руками за кофточку и рявкнул на всю Еременскую:
– Ну, что еще?
Расчет мой на неадекватное поведение сработал. Раневская как-то дернулась, обмякла и, радостно испугавшись, как бы открыла для себя:
– Женечка!..
С тех пор меж нами не было никаких проблем. Видимо, я прошел проверку на прочность.
– Женя, вы любили когда-нибудь? – как-то спросила она.
– Любил.
– И чем кончилось?
– Женился.
– А сейчас?
– Сейчас?.. Я не хотел бы об этом говорить.
– Я никому не скажу, – не унималась она.
– Сейчас я люблю другую женщину.
– Из наших, из наших? Никому не скажу.
И, выдержав паузу, я признался:
– Вас!
– Шалунишка! – отмахнулась она.
Состоялась премьера. Опять «потерпели триумф», как говорят в театре. Вершиной триумфа была, конечно, Фаина Георгиевна. На мою долю тоже выпал успех. Я выиграл. Наша взяла!
Юрский, надо отдать ему должное, признал мою правоту. Подарил свою пластинку на память с надписью «Правда, хорошо? А?» Несмотря на наши противоречия, отношусь к нему с подлинным уважением. Он искренне предан театру.
Когда соприкасаешься в будничной рабочей обстановке даже с выдающейся личностью, ощущение ее масштаба стирается. Тем более если это пожилой человек со своими недомоганиями и слабостями.
– Выключайте лампочки, экономьте электроэнергию, – ворчала Фаина Георгиевна.
Я смотрел на приготовленный костюмерами ее игровой костюм, понимая, что эти туфли и это платье займут свое почетное место в Театральном музее имени Бахрушина. Как все люди преклонного возраста, Раневская иногда капризничала, обижала ни в чем не повинных гримеров или костюмеров. А иногда, наоборот, щедро осыпала ласками. Могла, например, ни с того ни с сего подарить французские духи.
В принципе она была бессребреницей. Ее часто обманывали, писали письма с слезными просьбами, выпрашивая деньги, фактически обирали. Она не отказывала. Хотя сама получала оклад меньший, чем Плятт или Марецкая, обладавшие, как и она, статусом народного артиста СССР. Очевидно, то была своеобразная плата за полную отстраненность от социально-общественной жизни социалистического государства. Незадолго до ее ухода из жизни Юрский навестил ее в больнице и рассказывал, что она играет в смерть, в умирание. Может быть, это так и было. Мы тогда еще не осознавали, что теряем ее. Истинный артист не то чтобы все время играет, но до конца жестоко исследует себя, наблюдает, пытаясь прочувствовать суть вещей, так же как ученый, экспериментирующий на самом себе. Умерла она внезапно, когда ее везли на каталке в операционную. Похороны стали ее последним спектаклем, продолжением высокой трагедии и беспощадной иронии ее жизни. На торжественной панихиде чиновники обращались к ней «Фаина Григорьевна» – по паспорту, по документам; люди искусства говорили «Фаина Георгиевна», как называла она себя сама. Во дворе Донского крематория чудаковатый пожилой фотограф, пытаясь выразительно построить кадр похоронной процессии, пятился, пятился от нас со штативом и, наконец, рухнул в цветочную клумбу. Во время последних прощальных слов хороший артист и добрый человек Михаил Львов, пытаясь сдержать рыдания, повторял: «Фуфа, Фуфочка!..» И, не выдержав, разревелся, неожиданно выдохнув: «Да ну, на хрен!» Только брехливый пес Мальчик молчал у гроба. И это было высшим выражением его собачьего горя.
Фаина Георгиевна приступила вроде бы к мемуарам, да одумалась. На многочисленные предложения снять о ней документальный фильм отказала даже Андрею Кончаловскому.
– Я еще не настолько в маразме, чтобы писать мемуары, – сочинила себе очередную защитную шутку.
Она нашла себе своего режиссера и на вопрос «кто он?» отвечала:
– Александр Сергеевич Пушкин.
В финале нашего спектакля «Правда хорошо, а счастье лучше» она отступала в глубину сцены, напевая нехитрый куплет:
Корсетка моя, голубая строчка, Мне мамаша приказала: гуляй, моя дочка…Затемнение. Пауза. Яркий свет. Овация.
«Сима! Не валяй дурака!»
Зима. Мороз. Выхожу из проходной театра, только что отыграв «Несколько тревожных дней», где мы с Пляттом играли физиков: отца и сына. Подойдя к метро «Маяковская», слышу за собой тяжелое дыхание. Оборачиваюсь и вижу Серафиму Германовну Бирман.
– Молодой человек, приятно видеть на сцене человека с позицией.
В принципе я равнодушен к комплиментам. Воспринимаю их, как необходимую атрибутику нашей профессии. Но услышать такое от «Симы»! Я видел – она сидела в директорской ложе, но уж никак не думал, что поспешит вдогонку за мной для столь добрых слов. Серафима Германовна – соратница Евгения Вахтангова, Михаила Чехова, Алексея Дикого по Первой студии МХАТа, слыла человеком прямым, честным, нелицеприятным.
– Вас ждут фабрики и заводы! – без обиняков заявляла она людям неодаренным, естественно увеличивая ряды своих недоброжелателей.
После ухода на Запад Михаила Чехова и разгрома Второго МХАТа, детища Первой студии, она вместе со своей близкой подругой Софьей Гиацинтовой и ее мужем Иваном Берсеньевым вошла в руководство Театра Ленинского комсомола, который Берсеньев возглавил. То был плодотворный период для Бирман. Период не только актерского, но и режиссерского проявления ее дарования, в котором сочетались, я бы сказал, монументальная внешняя выразительность с парадоксальной правдой характера и естественной органичностью существования. Невероятная смесь. В жизни она, скорее, была максималисткой. Театр воспринимала храмом в буквальном смысле. Была его строителем.
Завидев однажды, что Берсеньеву принесли чай с бутербродами во время репетиции, воскликнула:
– Ваня, в храме?!
Сейчас такое трудно представить, но для нее есть в театре, есть в храме было кощунством. Жили они с Берсеньевым и Гиацинтовой поблизости. В театр и из театра ездили на одной машине. В тот раз она в знак протеста пошла пешком. По Тверской. Берсеньев ехал за ней медленно вдоль тротуара. Гиацинтова уговаривала:
– Сима, сядь, не валяй дурака!
Бирман оставалась непреклонной в своем демарше.
В мою бытность она уже почти ничего не играла в Театре имени Моссовета. Это было трагично. Директор попросил меня, тогда еще только пришедшего в театр, опекать ее во время юбилейного чествования в Доме актера. Я заехал за ней на театральном микрике. Поднялся на самый верхний этаж, под крышу старого московского дома. Небольшая трехкомнатная квартира, в которой жила она после смерти любимого мужа с домработницей. Запамятовал, как звали ее, кажется, Фекла.
Эти две женщины – полные противоположности и по происхождению, и по внешности, и по культуре – оставались неразлучны, необходимы друг другу всю жизнь. При этом находились в постоянном конфликте.
К примеру, когда у Бирман собирались гости, интеллигентные люди, ведшие изысканные разговоры на полутонах, Фекла, разомлев от приятного общества и стопки водки, могла неожиданно громогласно затянуть «Степь да степь кругом…» – и не останавливаться до конца всех куплетов, несмотря на беспомощные призывы хозяйки: «Фекла, прекратите! Прекратите, Фекла!»
Я застал Серафиму Германовну за волнительными приготовлениями. Она прикалывала орхидею к концертному платью. Рядом навзрыд ревела Фекла:
– Последний раз, последний раз! На сцену последний раз!
– Фекла перестаньте! Перестаньте, Фекла! – вторила Бирман.
Все юбилеи в какой-то степени похожи друг на друга. Юбиляр сидит в кресле и выслушивает комплиментарные поздравления в свой адрес. Потом говорит ответное слово. И вот, когда в заключение вечера подошла очередь Серафимы Германовны, она вышла на середину сцены и заявила:
– Друзья мои, спасибо, если все это искренне!
Очевидно, она не могла иначе. Обладала особой нетерпимостью к фальши.
Отгремели аплодисменты. Я посадил юбиляршу в микроавтобус вместе с подарками, букетами, корзинами цветов. Мы только что тронулись, отъехали от Пушкинской площади, как Серафима Германовна воскликнула:
– Цветы – Пушкину! Пушкину цветы!
Водитель резко затормозил. Схватив две корзины, я бросился к памятнику великого поэта.
– Две не надо! Одну! – поправила меня Бирман.
Чего в этом возгласе было больше – скупости или вкуса? Я думаю, вкуса. Убежден!
Последние дни ее оказались особенно трагичны. Она умерла в Питере, куда увезла ее племянница уже совершенно беспомощную. Умерла ослепшая в сумасшедшем доме. Говорят, до последнего вздоха, несмотря на настигшее ее безумие, пыталась репетировать что-то.
Юрий Александрович Завадский часто говорил на сборах труппы:
– Вы думаете, вам после меня будет лучше? Нет! Будет хуже. Я ведь последний из могикан!
Но он забыл, что в Питере, в сумасшедшем доме, тогда еще жива была выдающаяся актриса и режиссер Серафима Германовна Бирман, соученица и соратница его учителя Евгения Багратионовича Вахтангова. Он забыл. Ее все забыли.
Переживший его карп…
Завадский собирал труппу каждую субботу. Кроме текущих моментов он всегда в принципе говорил одно и то же:
– Надо идти из вчера в завтра! Речь Достоевского памяти Пушкина… «И празднословный и лукавый в пустыне чахлой он влачил…» В пустыне, а не на асфальте! Театр должен заменить религию!
Эти выражения, тезисы переходили у него из выступления в выступление.
– Я всегда все строил на вере…
– Петровне, – добавил как-то Марков из зала.
– Я тебе не мешаю? – тут же парировал Завадский.
Приехали на гастроли в Болгарию. Он сел на край сцены, свесив вниз ноги и начал:
– Надо идти из вчера в завтра… – И так далее и тому подобное. Потом вдруг неожиданно: – Где мое пальто?
Все это казалось нам смешным. Мы его пародировали. Импровизировали от его лица на вольные темы с применением его клише. Но когда не стало его, только тогда поняли, что были это своеобразные проповеди. Воскресные проповеди, которых теперь мы лишились. И нам стало не хватать их. Этих смешных и возвышенных фраз очень красивого, очень изысканного режиссера и человека. Если политические тучи на советском небосклоне сгущались, он бросал нам:
– Вы все обуржуазились! Только и думаете о люстрах и о квартирах! Из больших люстр в фойе хрустальные висюльки пропадают! Вы отгородились от народа. А я всегда был близок к народу. Еще мальчиком дружил с нашим кучером. Он мне рассказывал очень много о жизни. А может быть, простой человек лучше понимает Шекспира. Встань, Басалаев, – обращался он к машинисту сцены. – Ты понимаешь Шекспира?
– Понимаю, Юрий Александрович.
– Вот. Садись, Басалаев.
При этом Юрий Александрович, как правило, горячился, швырял свои карандаши. Речи его записывал «для истории» на магнитофон специально приставленный человек. Но Завадский в страстях так колотил микрофоном о стол, что история сильно страдала. Если же политический небосклон светлел, Юрий Александрович нападал на чиновников, на их привилегии, на черные лимузины. В день своего рождения при телекамерах сказал среди прочего:
– Конечно, проблемы войны и мира очень важны, но и проблемы гомосексуализма нельзя сбрасывать со счетов!
К такому своеобразному юродству прибегали многие советские художники, уцелевшие в годы репрессий. Завадский отсидел месяц в ЧК в молодые годы. Перед войной его «пожалели», не посадили, сослали в Ростов вместе с группой его артистов, где он возглавил театр. Ростовский драматический театр считает его своим основателем, чтит его традиции. На самом деле Завадский пользовался непререкаемым художественным авторитетом. Всегда отличал искусство от суррогата и защищал талант. Когда в Ленкоме травили, снимали Эфроса, из всей театральной общественности он один в открытую выступил в его поддержку, ходил в МК партии, но его не послушали, оскорбили, однако тронуть побоялись. Слишком большая фигура. Позже он пригласил Эфроса на постановку в наш театр. «Турбаза» Эдварда Радзинского. Я был занят в этом спектакле. Его не выпустили, закрыли. Уже в ЦК.
Леонид Варпаховский начинал у нас ставить пьесу английского драматурга и актера Питера Устинова «На полпути к вершине», но Господь призвал его. Продолжили работу ушедшего мастера Юрий Александрович Завадский и Павел Осипович Хомский. Завадский назначил прогон спектакля в читке. Мы должны были как бы сыграть спектакль за столом, с текстом в руках. По окончании Юрий Александрович многое раскритиковал, а меня, наоборот, похвалил, поставив всем в пример. Я даже расстроился. Ведь такой поворот событий не усиливал вокруг меня доброжелательной атмосферы. На следующей репетиции я специально сработал хуже. Юрий Александрович теперь уже отругал меня, сказав, что перехвалил, видимо, и мне не пошло это на пользу. Я с облегчением вздохнул. Коллеги тоже. Все успокоилось.
– Стеблов, говорят, ты очень мнительный? – как-то спросил Завадский, проходя по коридору.
– Юрий Александрович, вы ведь тоже мнительный, – отвечаю.
Подумав, он согласился:
– Да, я тоже мнительный…
– Стеблов, – остановил меня Завадский у лифта, – ты очень импровизационный артист. Это большой дар. Ты это цени в себе.
– Хорошо, Юрий Александрович.
– Я вот собираюсь восстановить «Виндзорских насмешниц». Хочу, чтобы ты был «от автора».
– А там же Консовский играл «от автора».
– Да, Консовский… Ну и что же? Ну и что же? Пусть будет два «от автора». Ты молодой «от автора», а он старый «от автора», он старый, а ты молодой. Ты думаешь, Образцов импровизирует в передачах по телевидению? У него все написано! Написано! – вскричал Юрий Александрович, выбрасывая вверх руки, и поспешил прочь.
Дело в том, что Завадский и Сергей Владимирович Образцов дружили. Юрий Александрович даже рыбок завел в фойе и в дирекции, как у Образцова в Центральном кукольном. Образцов защищал природу, птиц, животных. Делал на эту тему телевизионные передачи и фильмы. А в это же время работникам культуры стали давать «Гертруду» – присваивать Героя Социалистического труда. Сначала в Питере Толубеева наградили. В Москве Юрий Александрович ожидал, что ему повесят Героя первому. Но первого «огертрудили» Образцова. Вот Юрий Александрович и приревновал. Рыбок убрал из фойе. Только в дирекции карп остался – один в аквариуме.
В день рождения Завадского вся труппа посылала ему поздравительные открытки. Перед этим заведующий репертуарной конторой напоминал каждому, чтобы не забыли, и даже выдавал открытку. Юрий Алесандрович очень обижался, если не получал поздравления. Как ребенок.
К очередной пушкинской дате Завадский задумал специальный спектакль-концерт. Велел всем артистам выучить по стихотворению Александра Сергеевича и вызывал к себе на дом для прослушивания. И вот я впервые звоню в дверь его квартиры на улице Горького. Он сам выходит навстречу в синем трикотажном тренировочном костюме за шесть рублей. Тогда в них все облачались в купе поезда, или в домашней обстановке, или в гастроном – за бутылкой. Дешево и сердито. Просторная трехкомнатная квартира с маленьким зимним садом в эркере. Юрий Александрович приглашает пройти в кабинет с его собственными картинами на стенах. Завадский был интересным художником, не мог без этого, всегда рисовал и всегда карандашами. К моему удивлению, он возлег на софу, предложив мне начать. Я несколько смутился, но виду не показал, читал стихи с пафосом (не помню теперь какие). Он сделал несколько замечаний. Поговорили о том, о сем. Завадский встал, пошел меня провожать. Тут-то и настал кульминационный момент. Юрий Александрович стал подавать мне пальто. Видимо, от «зажатости» я не противился, принял как должное, сказав просто: «Спасибо». Он-то ожидал: «Вы что, Юрий Александрович? Как можно? Не надо! Я сам!» А тут – «спасибо», словно швейцару. Он явно расстроился, словно маленький, но фразу проговорил приготовленную: «Нет-нет, у меня так принято. Я и мужчинам подаю пальто. В знак уважения». Потом я узнал от коллег, что он так проделывает со всеми. Так ему нравится.
Юрий Александрович был не лишен мистики. Его явно волновало потустороннее существование. Интересовала тайна работы мозга. В этом он пытался сотрудничать с академиком Симоновым. Одно время сотрудники академии присутствовали на каждом спектакле, изучали нас, наблюдали, опрашивали, замеряли давление до и после сценических выходов. Вообще Завадский потчевал нас людьми интересными. Однажды пригласил Галину Сергеевну Уланову для встречи с труппой. Его бывшие жены Марецкая и Анисимова-Вульф сели в первый ряд и как по команде вынули одинаковые записные книжки, как бы для записи основных тезисов старшей жены – Улановой. Юрий Александрович оценил юмор.
В последнем своем выступлении перед труппой Завадский тоже шутил. Открытие сезона – Иудин день. Так на театре традиционно называется первый день после отпуска, когда все целуются и не все искренне. На сцене – покрытый красным сукном длинный стол президиума во главе с Ю. А., как мы его звали. И опять…
– Вы думаете, вам после меня будет лучше? Будет хуже, – публично предчувствует Юрий Александрович.
Вспоминает:
– Я ведь почему в режиссуру ушел? Очень тихо говорил. Я был хорошим артистом. Святого Антония играл у Вахтангова. Графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро» у Станиславского во МХАТе. Но очень тихо говорил. Я был очень органичным на сцене…
Внезапно Завадский схватился за сердце. Замер. Президиум тоже замер. Замер и зал. Директор-распорядитель Валентин Маркович Школьников тихо-тихо движется за кулисы вызывать «скорую». Пауза затягивается. Держит ее Юрий Александрович. Держит и держит. И наконец улыбается:
– Я пошутил. Видите, как органично. Вы поверили?
Затем продолжает свое слово. Говорит, говорит и вдруг опять схватывается за сердце. Опять напряженное ожидание, и опять:
– Я пошутил.
В общей сложности Завадский проделал это три раза. И всякий раз мы немели от оторопи. Страшная шутка старого мастера, смотревшего на нас как будто откуда-то со стороны.
Вскоре его не стало. Не стало кумира и архитектора театра нескольких поколений. Им восхищались, боготворили. Женщины любили его. Порой безответно – и тогда мстили ему публично, как Цветаева своей «Повестью о Сонечке», продиктованной оскорбленным самолюбием автора. Мансурова говорила мне: «Юрочка – одуванчик». Говорила со снисходительной ласковостью принцессы Турандот к своему Калафу. Его награждали всеми мыслимыми наградами. «Иконостас», – называла его Раневская. У него учились. И среди его последователей нет ретроградов и консерваторов. Он был трогательный, обворожительный и смешной. Возвышенный, гневный и вдохновенный. Позер и мудрец. Искренний и политик. Он был живой. До конца. Артист, человек Серебряного века нашей культуры, живший сегодняшним и стремящийся из вчера в завтра. Потому по природе своей он не мог устареть, соединяя традицию и мечту. Он мог носить старую вещь и новую, рождая свой стиль. Модный, но не стандартный. Опись, анализ его работ – хлеб критиков. Моя память о нем – личная память. Иногда беру ключ на вахте, отпираю его кабинет. Вхожу в пыль оставленного им пространства. С огромным, в два метра, подарочным карандашом, с прижизненным его бюстом. И не нахожу его. Но слышу в записи его голос:
Восстань, пророк, и виждь и внемли, Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей.Последнее время он редко бывал в театре. Но мы знали, что он есть. Есть точка отсчета, есть обостренный вкус, есть провидение. Знали, что он где-то рядом. У себя на Тверской или на шестом этаже в дирекции, там, где плавает его карп. Карп пережил его. Еще долго смотрел на нас из аквариума. Годы и годы. Теперь перестал. Опустел аквариум.
Однако оставим на время театр. Пойдем в кино.
Лирическая «кинокомедия»
Действующие лица
– Ну как? – спросил я, окончив читать.
Помолчали.
– Занятно, но несколько вычурно, – откликнулся режиссер. – Хотя чисто пластически, изобразительно… Мне нравится, – добавил он, перегнувшись через подоконник.
Там, внизу, из гостиничного подъезда появилась Алина. И молодая, и привлекательная. Большего пока я от нее ничего и не ожидал. Ведь мы только начали нашу историю, наш фильм.
– Ну как? – теперь спросил он.
– Занятная, но несколько вычурна, – отомстил я. – Хотя чисто пластически, изобразительно… – И добавил, перегнувшись через подоконник: – Нравится?
– Да! – решительно удивился он. – Интересно, кого ждет?
– Меня. Поужинать сговорились.
– А можно я с вами?
– Разумеется. Только быстро.
Из дневника
Давно не писал. Не идет, не пишется. Очень давно – длинные годы. Но когда-то ведь все-все, буквально каждую глупость – в дневник. Мысль, чувство, событие, явь, сон, экстаз и обыденность, оформленное и случайное – копил, записывал на черный день. Потом перестал, бросил, действовал… Но приходил черный день – без мысли, без чувства… И открывал, и читал, и спасался – потухшим ликом в корявые записи. И тогда видел, видел истину – мельком, просветом. Случайную, неоформленную, даже в глупости, даже в обыденности. А выношенное, продуманное поворачивалось смешным, наивным – во сне и наяву. Так почему же? Зачем? Отчего?… Да, честно говоря, некогда остановиться, опомниться…
Здесь я уже во второй раз, но только-только огляделся. В прошлый приезд с самолета – в машину, из машины – на площадку, съемка, опять машина, опять самолет… Теперь вот вырвался из театра на несколько дней. Несколько дней… Какое пространство! Можно много прожить, если повезет. Или, не дай Бог, напротив, состариться…
Нет, положительно стоило забираться в такую глушь! Просто Венеция какая-то – поселок в реке. И в клуб, и в баню – на лодках и катерах. Все затопило. Только лозунги да каменные, поросшие мхом львы над водой. И никаких танцев в старом барском саду – здешнем Парке культуры. Еще несколько вечеров тишины… Надо успеть ее снять. Снять размытую до горизонта, обещающую, набухшую водами землю. Надо успеть. Потом, говорят, одумается речка, течение войдет в прежнее русло, и взвоет опять вековая роща трубой иерихонской танцверанды.
Так вот она, значит, какая, наша уходящая, уплывающая натура – всего два слова в сценарии: «весна, половодье». Пятьдесят восемь полезных метров. Съемка с вертолета. Вечерний режим.
Все. Ложусь спать. Завтра с утра снимаем финальную сцену – «прощание». Фактически первая серьезная сцена с Алиной. Алина и я – почти двадцать лет разницы… Она, наша героиня, совершенно другое поколение. Они – «хваткое» поколение. А может быть?.. Ничего не может.
Съемка
Толпа, возникшая здесь непонятно откуда в такую рань, очевидно, надеялась ощупать тайну. Нет, здесь не было места прохожему, праздному любопытству. И те, что все возникали и возникали из предрассветной мглы, стянулись сюда специально, за несколько верст. Пешком, велосипедами, мотоциклами, старые и малые, еще до конца не проснувшиеся – все сюда, по холоду, по росе. Сюда, к нам, к месту действа, в едкую, выкуривающую пиротехническую туманность, отбитую ясностью угольных прожекторов, в хрип динамо лихтвагена и мегафонных команд, к тому симфоническому хаосу лиц, профессий и индивидуальностей, в самой сердцевине которого, бывает, случится интимное – вдруг сотворит актер, и разглядит оператор, и не вырежет режиссер, и проявится чудо – часть жизни, которую кто-то назвал Кино. Ежели это, конечно, подлинное кино. Да ведь каждому, понятно, хочется верить, надеяться, что причастен он именно к такому. Каждому хочется, ну хоть бы чуточку, хоть самую малость, быть свидетелем истины, ощупать тайну.
Толпа нарастала. Я же смотрел, но не видел, не замечал их. Так привык. Так надо. Иначе нельзя. В театре зритель – помощник, партнер в процессе. В кино, на площадке – враг. Может дезориентировать, сбить с толку, нарушить реакциями монтажный, композиционный расчет. Не знает, не ведает ни причин, ни следствий снимаемого эпизода. А посему единственный выход артисту – публичное одиночество. Меня могут пудрить, подкрашивать, переставлять с места на место, бить по глазам дымящимися светоструями, но не зацепят, не выведут из готовности. Сейчас все они, работники съемочной группы, не загораживают от меня пространство. Я смотрю сквозь них, мимо, навылет. Там, в гостинице, в каждодневье, в быту я разделяю их на плохих и хороших, на очень плохих и никчемных совсем. Здесь, на съемке, и они, и зрители за веревкой – единое целое, не существующее во мне. И оттого именно, что, как бы ни затягивалось томительное ожидание солнца или ненастья, необходимого состояния мысли, природы, души режиссера, артиста и оператора, что бы ни стряслось, ни случилось у администрации по техническим или личным причинам, хотя бы самое сказочное, невообразимое безобразие, – все равно сбудется, настанет момент, когда отступать уже некуда. Раздастся команда: «Мотор! Начали!» – и нет тебе никакого тогда оправдания ни у съемочной группы, ни у коллег, ни у зрителей, ежели расплескал по дороге, не сохранил ты в себе готовность к высокому, проще сказать к прозрению. Возможно, найдется кто, возразит: мол, будет напускать на себя, видели, знаем, не боги горошки обжигают. На что не смолчу, отвечу словами одной старой, мудрой актрисы: «Сниматься в плохих фильмах – все равно что плевать в вечность».
– Мотор! Начали!… Стоп! Стоп! Никуда не годится! Алина, что вы канючите?! – вскричал режиссер.
Из дневника
Я не стал бы об этом писать, но ежели уж решился открыть дневник, изволь, стало быть, писать все, без обдумывания, без купюр – да простит мне зануда, мой внутренний цензор. Тем более время затягивается – не спится. Внизу, в ресторане, шаманствует диск-жокей. За стенкой в соседнем номере у осветителей – хохот, магнитофон. Они не мучаются.
Не вышла сцена. Конечно, увы, Алина, по-моему, не талантлива. Но он тоже не прав. Так нельзя. Стал останавливать и кричать с первого дубля. Уж раз ты ее выделил среди других, утвердил в кинопробах… И на гримеров, и на художницу по костюмам сорвался:
– Что за прическа? Что за костюм? Что за вид у актрисы?..
Кричал, кричал, кричал…
Вообще-то он деликатный, добрый, очень талантливый человек. Ему потакают, сочувствуют в группе. И знают, верят – картина будет, если кричит. На оператора, бывает, накинется:
– Что за цвет? Что за зеленый? Мы так не договаривались! Переснимать!
Он фильм свой чувствует, видит, слышит, не терпит фальши. Вот и ломает его, и взрывается… Орет, бедный, только не на меня – я этого сам не терплю. А вот Алина не выдержала, разрыдалась, бросилась прочь… И он не вернул ее, не искал и другим запретил.
– Сактировать смену за счет актрисы! – через два пальца с пронзительным свистом кинул он вслед, хлопнул дверцей микроавтобуса и тоже прочь…
– Кончай болтать, туши фонарь! – подождали и разошлись зрители.
Актировать смену не стали. Пустили, вывели музыку через тонваген. Но я ужасно расстроился. Зашел в гостиницу, белье кое-какое прихватил постирать, пошел в баню.
Деревянная поселковая баня. Понедельник, среда, пятница –женщины, вторник, четверг, суббота – мужчины. Я ее сразу присмотрел, как приехал. У меня тут есть свои взгляды: в одиночку, с друзьями или с начальством, в конце концов по-семейному, русскую баню на финскую не променяю. И на турецкую не променяю, и на любую другую ни за что! Потому что мне очень нравится русская баня. Я так привык с самого детства.
Но на этот раз и баня не получилась. Видно, не надо было связываться со стиркой. Ведь я сам-то стирать не умею, всегда отдаю. И что вдруг надумал, бес в ребро? Перемусолил мылом трусы, рубашки, майки, джинсы, махровый халат – ничего не отстирывается, а я как назло тру и тру, чуть не плачу. От жару, от пару поплыло в голове. Я ужасно расстроился. Грешен: меня самого часто бесит бездарность. Когда дано радовать, любить друг друга и кто-то блефует на сцене или в кино, не могу стоять рядом. Ненавижу партнера. Хотя потом, в перерыве, в буфете – пожалуйста, угощу его кофием, опять люблю. Да нет же – другое! Я еще в ресторане тогда, в первый день, все заметил, как он смотрел на нее – бритвой из глаз. И сегодня этот крик, этот вопль на съемке… Понятно! Ясно! Он не отступится! Он влюбился! Влюбился! Все видели, видели в группе, зрители видели за веревкой… Алина и я – почти двадцать лет разницы… А может быть?.. Ничего быть не может.
Намаялся, выбился из сил с постирушкой. Очнулся – голые люди вокруг. Смеются, узнали меня, обрадовались: «Как же вы тексту столько запоминаете? И где больше платят: в театре или в кино?» Я не домылся, вытерся, убежал…
Поселок полз наверх, как поспевшее тесто. Так казалось. Не верилось. Разлив вдруг стал уходить из-под ног. Вода спадала, сжималась – вдаль, вглубь. Спешила, куда ей надо. Деревья, скамейки и львы уперлись в еще местами размазанную, но уже покинутую рекой твердь. Я шел через парк. Гремела музыка. Ожила танцверанда. Душа заныла ускоренной обратной перемоткой, нашла и остановилась. Накатилась хандра…
Точка. Хватит. Ложусь спать. Надоело. Нужно как следует выспаться.
Стряхнуть все с себя.
«Хандра» – сон
Угловая квартира – из-за этого сквозняки. Приходится закрывать форточки. Зимой топят сильно – духота. Ночью кошмары. Ставим банки с водой под батареи и не спим на левом боку. Все равно кошмары. Перед одним окном баня с пивным заведением, массаж и прием в стирку. Перед другим – старый сад, а там уже стройки, башенные краны и Большой проспект за садом. Ну, кажется, чего бы не жить? Куда уж лучше?..
В сад можно попасть за деньги, через контроль, официально. Ветхий татарин-сторожевой сначала уважит, смехом поздоровается по-русски, а потом забубнит в строгости на свой лад, выгонит и спустит собак, когда стемнеет. Ночью по саду бегают злые псы, днем – дети и молодящиеся старики. И дети, и старики чаще предпочитают неофициальный путь через дырку в заборе. Этим же лазом пользуются влюбленные и всевозможные алкогольные товарищества. Тщетно пытались забить, заварить, загородить дырку. Она открывается вновь в другом месте, как хроническая язва.
Раньше я тоже лез в дырку, теперь – не знаю… Теперь, скорее всего, невозможно. Невозможно в новом пальто… Новое пальто – новый образ. Лет пятнадцать я кутался в размахайку – старенькую дубленку, купленную задешево, по случаю, с рук. Старенькая дубленка, потертые джинсы – мода, мечта! Мечтал, достал, женился – был счастлив.
По утрам в баню привозят солдат – вешалка в шинелях. Днем идут свободные посетители – вешалка в дубленках. А я не хочу платить за дубленку спекулянтам. Могу, а не хочу! Не из жадности. Жена хотела, действительно очень хотела – поднатужились, купили жене – пожалуйста! Как она радовалась… А я продолжал в старой дубленке… Не осуждаю ее. Завидую! Такую полноту радости от безделушки могут испытывать только дети и женщины. Пусть радуется. Терпеть не могу женской суровости, усталости женской не переношу, никак не привыкну. А что ж, видно, нужно привыкать… И радоваться такой радостью. Буйное веселье только опустошает меня, возвращает к усталости.
Я потому… мы потому и свадьбу не гуляли. Расписались, распрощались со свидетелями на перекрестке возле подземного перехода, пошли в магазин, купили продуктов и зажили. Всякое бывает… «В каждом дому по кому…» Живем, привыкаем, спасаемся тихой радостью, утренним ожиданием души.
Но между тем дубленка моя износилась вконец. Не мальчик уж – скоро сорок. Сын школьник. Многие детские болезни уже позади. Чего ждать?..
Удалось устроиться на пошив в ателье дипломатического корпуса, из их материала. Глухой, открытый, прямой, приталенный… Каким я буду? Друзья советовали – молодежный, колоколом. Зауженные плечи, с хлястиком. Новое пальто – новый образ. Ошибиться нельзя. И ткань очень ответственная – ратин. Темно-серый ратин со стальным отливом. Это прочно, на годы, может быть, навсегда. Я аккуратный.
Авторитетные закройщики в дипкорпусе рекомендовали английский силуэт как самый безопасный – на все времена. Строгий английский силуэт, чуть ниже колена, на ленинградском ватине. На спину – двойной ватин. Спина должна быть в тепле. Я согласился. Все равно они сделают как умеют, как привыкли. И о голове пришлось позаботиться. Плешивенькая заячья ушанка теперь не к лицу, не годится. Закройщики подсказали ондатру. Ондатра не подвернулась. Тогда они разрешили нутрию – на худой конец. Справил нутрию. Тоже из того же отряда. Семейство крысиных, отряд грызунов. Их теперь даже едят, нам тоже в гостях раз подсунули, обманули. Нежнейшая на вкус курятина нутрия, а как задумаешься – противно с непривычки.
Но шапка важная получилась, с лоском, только волосатая излишне. Приходится причесывать ее перед выходом. Иначе глаза застит, когда на лоб надвинешь. Я лоб ветру не подставляю – прячу. Слабое место, фронтит, хроническое воспаление лобных пазух. Перебузил в студенчестве разгоряченный, с непокрытой головой – на всю жизнь память. Да, джинсы тоже придется снять, исключить. Такое пальто с джинсами – несуразица, «моветон».
Ну вот и готов новый образ. Облачился и первым делом отправился в Старый сад. Пускай полюбуются. Там многие меня с детства помнят, когда еще на городских бульварах, случалось, прививали ребятишкам хорошие манеры. Одинокие пожилые дамы содержали группы для прогулок и обучения иностранным языкам. Группы были немецкие, французские, английские и испанские. Дамы были интеллигентные, полуинтеллигентные и неинтеллигентные, но обязательно добрые. Недобрые не выдерживали. Родители приводили меня к француженке в Старый сад на весь день, с термосом и бутербродами. Я съедал бутерброды, выпивал сладкий чай и возвращался домой с хорошими манерами и содранными коленками. Из французского ничего не усвоилось, не пригодилось. Пожалуй, только «моветон» («дурной тон»), «пардон» («простите») и «се ля ви» («такова жизнь»). Впрочем, нет. «Се ля ви» – это не в детстве, это я потом, позже схватил. Не помню где. В Бухаресте, возможно. А во Франции я все еще не был.
Я много где не был. И в Старый сад тогда не попал, когда хотел себя показать тем, кто знал меня с детства. Затворено оказалось, пусто – санитарный день. Не случился триумф. Сколько ни слонялся в толпе по Большому проспекту, никто не оценил во мне перемены, сдвига, перспективы нового образа.
Естественно, они не знают обо мне ничего. Воспринимают внешне, как есть, словно я родился в ратиновом пальто, наподобие дяди Илюши. Да ведь и он не родился таким. Просто очень давно сшили ему и никто не помнит его другим. Может, и сам он себя другим не помнит или не хочет вспоминать.
Дядя Илюша, еще живой крепкий старик, заходит домой только ночевать, остальное время проводит в Старом саду. Всегда бодрый, подтянутый, общительный. Много шутит, угощает детей и женщин конфетами. У него всегда для этой цели приготовлен специальный кулек. Дядя Илюша ничего не читает смолоду по причине контузии – травмы зрительного нерва. Радио слушает. Целый день на воздухе, только кушать отмечается по специальному пропуску в закрытую столовую от какого-то ведомства. Дома ничего не готовит, не ест. Воду для питья кипятит в комнате на электроплитке. На кухне газом не пользуется, чайника не оставляет. Боится – соседи отравят. Двери запирает всегда. Туалетом пользуется, когда все спят. Много повидал на своем веку, но об этом молчит. Трех жен пережил. Не унывает. Мужскому обществу предпочитает женское. Особенно отличает матерей-одиночек. Некоторых приглашает в ресторан. Имеет средства для поощрения. Однако совершенно бывает выбит из колеи, если не удается приобрести вовремя календарь настольный с переворачивающимися листками для записей. Слабость свою объясняет долголетней привычкой к кабинетной работе замдиректора «по географии». Одним словом, темнит дядя Илюша. Но тянется из последних сил к природе, к Старому саду.
Надежная вещь – ратиновое пальто. Может пережить человека, если не порвут где-нибудь в толчее. Да дело совсем не в пальто… Минует сезон, посыплем пальто нафталином, спрячем до следующих холодов. Дело во мне. Чего уж кривить душой…
Летом на даче сижу в неглиже на террасе, ем клюкву с сахаром из дуршлага, размышляю. Вдруг как побегут люди к озеру всей деревней. Зовут. Как был, с дуршлагом, в неглиже, побежал с ними. Возле купальни, на берегу, на песочке, на самом краешке, вытащили, посадили синей спиной к нам утопленника. Рассматривают. Догадываются, предполагают, следствия ждут. Приехало следствие. Подвыпивши малость, но в форме. Встал вопрос: увозить или не увозить? Закрывать дело или передавать выше? Утопление или убийство? Рана на голове случайная или умышленная? До темноты простояли. Я замерз в неглиже. Клюквой оскомину набил. Стоял, пока не разогнали. Смотрел ему в спину… Ночью спал плохо, а наутро с первой же электричкой к жене в город помчался. Глупые наши ссоры!
С женой часто ссорился первое время. Поначалу поссоримся, хлопну дверью, нырну через дырку в Старый сад, помаюсь под вязами, покурю, куплю цветов на углу – и обратно. Блям-блям-блям… Звоню в дверь, прошусь на постой. И все как прежде. До следующей ссоры. Дальше – больше. Обида больше. Повадился в баню бегать, благо близко. Как поцапаемся, созваниваюсь с друзьями – и за вениками… Помоемся, попаримся, пивка выпьем, побалагурим – отведем душу. Домой приду поздно, лягу отдельно, не пристаю. Держусь до последнего, до рассвета. С рассветом не выдержу – дам слабину… И все как прежде. До следующей ссоры. Бывало, на неделе по нескольку раз парился.
С годами стал поглядывать по сторонам. Приметил в старом саду студентку с конспектами. Рассказывал ей о садах Гранады, мавританских дворцах, о корриде и севильской табачной фабрике, на которой, по преданию, работала Кармен. Я тогда в Испанию готовился по туристической. Рассказывал, и глаза ее казались мне такими чистыми, как мои помыслы. Хотелось рассказывать ей обо всем и еще о многом… Однако однажды студентка пришла в Старый сад не с конспектами, а с окоченевшим арабом. Прохохотала с ним по аллеям и в оранжерею за руку потянула…
Они не видели меня. Я их видел через подталину в заиндевевшем стекле. Они целовались под пальмами во влажной духоте натопленной оранжереи, куда француженка приводила нас греться всей группой с термосами и с бутербродами, и мы тайком от нее мочились с мороза в кадушки под тропические пальмы.
Зачем я рассказывал о Кармен этой акселератке с конспектами? Лучше бы построил сыну двухмачтовый парусник с резиновым моторчиком, как обещал! А то, чего доброго, так и помрешь, уткнувшись в телевизор, или, того хуже, не заметишь, как сын вырос… Вон у испанцев: чуть что – фиеста! Как стемнеет, так карнавал… Французы тоже большие шутники… Пожалуй, и нам всей семьей в цирк стоит сходить! Или на абонемент в бассейн записаться!..
В добавление к этому ко всему все-таки крайне необходима какая-нибудь ерунда. Безделица, безделушка – родная, очень привычная. Которую в дальнюю дорогу прихватить с собой можно и рядом, около, с ней уснуть легко, как дома. А не вертеться всю ночь с боку на бок без успокоения.
День Победы
Да и оттого, что погода благоприятствовала, особенно было жалко терять этот день. Когда с таким трудом, всеми правдами и неправдами отпрашиваешься, высвобождаешься от репетиций, спектаклей, едешь, летишь – и на тебе, «не снимаем». Я уговаривал директора, режиссера не отменять смену, отметить праздник ударным трудом, но осветители грозились ухой, еще затемно махнули с бреднем на острова. День Победы – святое дело, имели право. Оставшиеся разом скинулись, приоделись, сварили, нарезали, откупорили, сомкнули столы. Группа распределилась, организовалась в застолье. Симпатии обнажились. Банкет начался. Ну, кто же первый? Единогласно, само собой, режиссер-постановщик – всему голова. Тост его. Просим! И он сказал:
– У нас другие одежды, понятия, лица. Иные ритмы, вкусы, мечты. Наша война – из песен, из фильмов, больше из книг. Так мы узнали ее, узнаем и узнавать будем. Как? Да нравственным слухом, что ли… Всегда! Безошибочно. Не знаю, понятно я говорю? И хотя мы, послевоенные, сами-то войну не отработали, не отстрадали, не отлопатили, всегда вот именно узнаем, отличим ее от неправды. Потому что война, наверное, это прежде всего очень честное время, открытая схватка добра и зла. Понимаете? Понимаете, да? И наша победа – это прежде всего победа любви, веры нашей, нашей мечты! Победа жизни, радости духа над страхом, над бездуховностью, над мертвечиной, над фальшью фашизма. Понимаете, да? Понимаете? Вот почему невозможно забыть эту радость. Да? И мы храним ее в душах, передаем из рук в руки, глаза в глаза, из уст в уста. Простите за высокопарность, так сказать.
Да, в нашей картине, в нашей истории нет солдатских шинелей. Да? Вроде бы совершенно мирный сюжет. Но я воюю. Для меня это тоже военный фильм. Понимаете, да? Понимаете?
Потому что о нравственности. Потому что о творчестве. О созидании, о любви! И нельзя нам, не нужно, не будем фальшивить. Вот…
Я предлагаю выпить за наших фронтовиков, за фронтовиков нашей группы, за присутствующих здесь наших дорогих Константина Леопольдовича, уважаемого директора нашего, бывшего, как мы знаем, сапера, партизана, разведчика, и за кавалерию, так сказать, за милейшего Ивана Васильевича – пиротехника дядю Ваню. А? Дядя Вань?! Ура!!
Задвигали стульями, встали, вскричали «ура!», дарили цветы, выпили, расселись и закусили. Пересеклись приглушенными голосами:
– Хотите студню?
– Огурцы передайте.
– Спасибо.
– Пожалуйста.
– Возьмите хлеб.
Ответ держал Константин Леопольдович:
– Послушай, вот ты назвал меня бывшим сапером. А я не бывший. И будь спокоен. Я все сделаю для тебя, создам все условия. Нужно тебе тысячу человек массовки – будет тебе тысяча, нужно тебе товарный состав сжечь на заднем плане – сожжем и потушим. Достанем, поможем, чем можем, хоть черта в ступе. Только творите, ребята, работайте. Мы все здесь, в кино, саперы. Да, в жизни мы люди как люди. Можем искать, мучиться, кувыркаться… Но на экране ошибаться нельзя. Сапер ошибается один раз. А мы создаем кино. Кино создаем, братцы! Ребята, не ошибайтесь! За вас, за нас, разреши я тебя поцелую! Ведь, товарищи, я его вот таким помню, мальчишкой знавал. Я ж его в кино-то взял на работу. Первый! Помощником реквизитора! Пришел на студию прямо со школы… А вот теперь – нате, пожалуйста – режиссер-постановщик… Гордость наша, талант, умница!.. И нет проблем.
– Константин Леопольдович, а можно я вас поцелую? – вдруг вызвалась, выпрямилась, поднялась Алина.
Все оборотились на нее. Подошла и поцеловала.
Эх, дороги, пыль да туман, Холода, тревоги да степной бурьян… –затянул, не выдержал дядя Ваня.
Сидевшие рядом смущенно попытались одернуть его, но сами не совладали, не выдержали и подхватили:
Знать не можешь доли своей, Может, крылья сложишь посреди степей…И грянули все:
Вьется пыль под сапогами – степями, полями, А кругом бушует пламя, да пули свистят…И тут вскочил молодой человек (я его плохо знал; кажется, из рабочих он был, декоратор) и объявил, перекрыл, заикаясь:
– Мо-мо-мой отец по-по-по-погиб на границе. Я п-п-пью за-за то, чтобы не было ни-никаких границ, к-к-кроме границ сердца!
Из дневника
Сегодня, когда после ухи пытались сымпровизировать танцы под кассетный магнитофон, Алина пригласила меня. Но кто-то позвал, приказал: «Купаться!» Женщины завизжали:
– Купаться, купаться!
Компания подчинилась, выкатилась на улицу. Было темно и пусто, только звенело, переливалось: «Купаться, купаться…»
Внезапно откуда-то, непонятно откуда, улицу оглушил бас. Чужой, властный, не далекий, не близкий. Умолял, настаивал, обещал:
– Купаться и спать!
И все затихло: и люди, и улица, особенно женщины – словно завороженные. А мне почему-то вспомнилось детство: мороз, городская окраина. И сверху, из настежь распахнутого окна облупившегося трехэтажного дома голый по пояс верзила орет, высунувшись: «Безобразить хочу!!!»
Алина и я затерялись, спустились к воде, на скамейку, в сад…
Кончился этот день. Теперь спать. Спать.
Оказывается, она испанка. Наполовину. По матери. Надо же! С виду обычная «герл»-суперменка и такая неоснащенная, молодая душа – никакой техники.
Она говорит, я смешной. Или чудной? Точно не помню.
«Испанский мотив» – сон
Метро. Тяжелые, разболтанные двери, которые могут бесцеремонно толкнуть, ударить, даже сбить с ног ни с того ни с сего, просто так, по инерции, встали как вкопанные. Толпа, возникавшая из эскалатора, росла, скучала, мучила себя духотой, но не искала выхода, не решалась. Так сильно бил дождь.
Я опять позвонил по автомату. Дома не отвечали, а на работе сказали: «ушла домой». Наконец вытянулись, истощились, порвались тучи, и, подхватив чемодан, я бросился через лужи скакать, толкаться вместе со всеми в трамвай, из трамвая – по тротуару, лишь бы успеть скорее, пока не расстроится опять дождем обиженное осенью небо. Открыл дверь – никого. Позвал – никто не ответил. Разделся, намылился, встал под горячий душ. Долго лил на спину меж лопаток – хотел успокоиться… Где же она? С кем? Потом устыдился: вдруг что стряслось? Какая-нибудь с ней трагедия? И разволновался еще более…
Щелкнул замок. Пришла.
– Ты знаешь, мы разминулись, я опоздала…
И прямо не вытершись, ринулся к ней… То ли от злости, то ли от любви, то ли от того и другого… Даже не дал ей снять сапоги…
– Ну, рассказывай!
– Фантастика! Узкие улицы, стены, увешанные цветами в горшках разнообразной керамики, герои, монархи, святые, воздвигнутые и оставленные на площадях. Угрюмое, запутавшееся в пальмах барокко, ввысь торчащая, закинувшаяся скелетом готика. Лепные, резные, литые, живописные, простые и непростые, каменные, металлические, стеклянные, деревянные работы, законченные и незаконченные маврами, иудеями, католиками и модернистами, выстоявшие в фашизм, войны, римскую инквизицию и лучшие времена. Торжествовавшие крещения, свадьбы, похороны, великие географические открытия. Работы известных и неизвестных рук, талантливых, не очень талантливых и гениальных, – сжались, притерлись, смешались, образовались в одно. Эклектика! Испанское откровение! Много крутых яиц, мяса, картофеля и вина. Сорок пять градусов в тени. Путешествие по второму классу на выживание – без кондиционера!..
– Бедненький! А корриду видел?
– Да.
– Ну что?
– Быка жалко!
– Правда, «над всей Испанией безоблачное небо»?
– Правда.
– Как я тебе завидую!
Ночной диалог
– Не спишь? Духота, да?
– А-а-а, входи, входи. Да, душно.
– Ой, извини, я тебя разбудил, наверное? А я смотрю – дверь открыта. Ты, наверное, ждал кого-то? Кофе растворимый не одолжишь?
– Да ради бога! О чем ты говоришь! Давай сейчас заварим кипятильником. Ты как любишь, с сахаром или без?
– Мне – без. Не подслащивай, не подслащивай. Ну вот, я тебе беспокойство причинил. А ты уж, небось, десятый сон видел. Сладкий?
– Испания снилась.
– Ты был в Испании?
– Был.
– А я не был.
– А я был.
– Нет, я не был, не был. А где вы были?
– В Мадриде были, в Толедо, по Ламанче проехали, где Дон-Кихот, потом Гранада, где Гарсия Лорка, где его расстреляли…
– Нет, я говорю сейчас, где вы были с Алиной? Я вас искал.
– Да так…. По парку прошлись и разбежались.
– Приятная девочка, да? Ну как? Все в порядке?
– То есть?
– Да ладно… Чего уж там… С вами все ясно. Все правильно. Девочка молодая, а тут известный артист, популярность… Встреча с интересными людьми, гастроль! Только один раз! Не упустите свое счастье! Не проходите мимо! Не то что мы, режиссеры. Шаги за сценой. Тень отца Гамлета. На улицах не узнают. За колбасой тоже – встаньте в общую очередь. В самый конец. Кто последний?
– Ну уж, что ты так? Брось прибедняться.
– Нет, серьезно. Мне уж теперь о лекарствах думать. Я уже старик.
– Да ты всего на три года старше меня.
– Ну и что? Я вот что пришел… Посоветоваться. Сейчас материал смотрел на монтажном столе. Я вот что думаю… Надо Алину с роли снимать. Ошибся я с ней, ничего не получится.
– Ну чего ты так горячишься? Мы же еще основные-то наши с ней сцены не сняли.
– И не снимем. Ничего не получится. Она не тянет. Не тянет она. Понимаешь, да? Понимаешь? Без-дар-на!
– Нет, я так не считаю. Она талантлива, безусловно талантлива. Только сама по себе, попросту, по-человечески, личностью, а не как актриса. И ты не зря ее выбрал, не зря. Я тебя понимаю.
– Да она вообще-то старается, очень старается. Вижу. Торопится, спотыкается, действует… Но по законам чужим, вычисленным, не своим. Ищет в области найденного. Понимаешь, да? Понимаешь?
– А ты не дави на нее. Не веди. Отступись. Дай ей пространство. Попробуй.
– Талантлива, говоришь? Я сейчас по парку бродил, вас искал. Ну и, как водится, посетил танцверанду. Оказывается, весь этот шум-гам извергает всего лишь инструментальное трио в составе двух школьников-гитаристов двенадцати лет, шестой класс, и пожилого ударника. Кружки ведет в клубе. Музыкальный и «Сделай сам». Я их снимать буду. Я уж решил. Один малый рыженький, чуть косит – ритм-гитара. Неистовый. Первый голос – солист. Другой – добродушный такой толстяк. Бас-гитара, вторым поет. И будь здоров! Чувырле-чувырля! Всю шлягер-продукцию выдают. Универсалы. От Пугачевой до «Бони Эм» – не плачь, девчонка! И знаешь, потрясающе артистичны, черти, музыкальны! Особенно рыжий, неистовый. Виртуоз! Има Сумак! Вокальный диапазон – от Высоцкого до фальцета. Я старшему их, ударнику, говорю, мол, рыженький ваш – талант, Челентано, снимать его надо. А он застеснялся, папаша, глазами моргает, красный как рак, соглашается. «Талант, – кивает, – талант, да сами знаете, как у нас: талант есть – способностей нету». Понимаешь, да? Понимаешь? Вот так и Алина: талант есть – способностей нету. Да из одной этой фразы наш находчивый сценарист повесть выведет, переделает в пьесу и для кино. Ни дня без строчки и потиражных в свободной валюте. Понимаешь, да? Понимаешь? И вот что еще. У нас брак большой. Тысяча метров. Пленка – целая партия. Лабораторный брак. Не по нашей вине. Будем переснимать. Тебе повезло. Ты не влип. Ты не в браке. Я распорядился тебя отправить. Билет уже взяли, на завтра. Можешь лететь. Сцены с Алиной пока отложим. Надо подумать, помозговать.
– А как я в материале?
– Нормально. Ты не волнуйся, я помню все, о чем мы с тобой договаривались, весь расклад, всю концепцию. Ведь мы с тобой, в сущности, играем в одну игру. Только я долблю, а ты размываешь. Понимаешь, да? Понимаешь? По разные стороны одной границы стоим. Ты – перед камерой, а я – за ней. Я еще подумал, когда ты читал свой рассказ… ну этот, «Праздное сочинительство»… Я подумал: тебя надо молча снимать. Больше пауз. Когда ты молчишь, ты интереснее. Понимаешь, да? Понимаешь? Тебя журналисты не спрашивали: «Как вам так удается в паузе передать процесс? Откройте секрет. В чем ваша тайна?» Что ты им отвечаешь?
– Не знаю… Если бы я знал, это уже не было бы тайной.
К свету
Больше всего я боялся крыс. И это меня всегда мучило. А вдруг там полным-полно их. И в подполе, и в хлеву, и за обоями между бревен. Поддену монтировкой, отковырну многослойную обойную корку, а там они… Что тогда? Я убеждал себя, уговаривал, искал индивидуальный подход: зачем их бояться? Ну в самом деле, от них даже польза, говорят, есть. Например, в некоторых странах специально выводят, воспитывают, продают крысиного короля. Такого суперагрессивного самца берут моряки с собой в море, в рейс, на танкеры-зерновозы, где, как известно, всегда крыс видимо-невидимо, и ничего с ними не сделаешь, трави – не трави. Они ко всему приспосабливаются. Но крысиный король всех их стравливает друг с другом и изничтожает до единого, поголовно. К приходу из рейса в порт один как перст остается. Сходит на берег, гуляет, присматривается, берет себе самку портовую, и опять на корабль, и опять все сначала – плодятся, множатся, пошла круговерть… Уж что только не придумывали, чтобы преградить им дорогу на судно, возврат. Железные раструбы на канаты вешали, они ведь по канатам идут. Так что выделывают, твари: одна крыса уцепится за канат перед раструбом, а две другие – гирляндой за хвост друг другу, раскачиваются маятником, перемахивают препятствие, хватаются за канат и дальше идут. Вперед! Выше! Да что корабли – целые континенты заселяют! И тонут, и гибнут, а дальше идут. Ну что ты поделаешь?.. Не знаю я, какая от них польза. Капитан, известно, последним покидает корабль, терпящий бедствие. На то он и капитан, еще бы! А крысы первыми бегут с тонущего корабля. Первыми! Подлые твари! Вот японцев это крысиное свойство и навело на мысль, что они, крысы, беду предчувствуют. Как бы и в настоящем, да как бы и в будущем отчасти живут. И стали японцы брать их в полет на реактивные самолеты в клетках. И ежели крыса мечется в клетке, ведет себя в воздухе беспокойно – ставят машину на профилактику. Досматривают и точно – находят изъян. Уж нескольких катастроф вроде бы избежали. Это мне один специалист рассказывал. Но я все-таки пока сомневаюсь. Во что тут верить?
Да нет, наверное, кое-какая в них польза и есть, в крысах. Взять хотя бы биологические эксперименты… Недавно смотрел репортаж научно-популярного направления: отгородили крысам замкнутое пространство, установили, припрятали кинокамеры, наблюдали и обнаружили в строгой крысиной иерархии несколько непохожих на остальных особей, возмутителей общественного спокойствия, этакую богему, баловней, шалунов, которых вожак стаи часто строго призывал к порядку. Но вот открыли экспериментаторы дверь, выход в соседнее неизведанное для тварей пространство. И первыми в это пространство вытолкнул, отправил вожак богему, быть может, как камикадзе, на верную гибель. И стая напряглась в ожидании. И только когда возвратились благополучно из неизведанного посланные исследователи, только тогда крысиный король дал знак остальным осваивать, заселять новую территорию. А если бы они не вернулись, исследователи, баловни, шалуны?.. Поразительно, да все равно страшно! Да еще страшнее, я бы сказал. И как это похоже на нас! Сколько необычайных умов поплатились жизнью ради того, чтобы сделать всего один шаг, один маленький сдвиг в неизведанное. Бросить взгляд туда, куда еще никто не заглядывал… Ну а уж об искусстве и нечего говорить – оно просто требует жертв.
В доме, где я родился, жил до войны музыкант. Собственно говоря, по профессии он был врач, детский врач в районной больнице. Лечил животы, головы и сердца. А в свободное время фантазировал на фисгармонии. Он фантазировал, играл музыку, от которой переставали ссориться люди коммунального общежития. И поэтому никто никогда не стучал ему в стену, в пол, в потолок и по стояку отопительной батареи. Никто не требовал прекратить. Все говорили друг другу, думали – пусть играет. Даже во сне слушали, не просыпаясь. Такая особенная была его музыка. А может быть, и не его вовсе, потому что казалось, где-то мы слышали, знали ее очень давно, когда-то тогда, раньше, может быть, еще до рождения, и сейчас вспоминаем ее, вот-вот вспомним… Но трубы гудели из-под его пальцев, тянулись эхом его души. И все почитали его за это, и называли врача музыкантом.
Так рассказывала моя мать. Я же тогда еще не родился. А когда появился на свет – музыка прекратилась. Война позвала, и он ушел и отпустил, выпустил альбиноску-крысу. Подопытную, настрадавшуюся, из биологической лаборатории. Которую пожалел в свое время, принес домой, сделал ручной. А больше у него никого не было. Он был еще молод и одинок. И он не вернулся. И кто-то сжег его фисгармонию в голодные холода. И белая крыса смешалась с серыми в пятнистое разномастное полчище. Они вылезли из подполья, теснили людей. Всем не хватало еды и тепла. И как-то однажды, в ночь, мать проснулась от страшного моего крика, вскочила, схватила, метнула швабру, но не забила, пугнула только грохотом вслед выпрыгнувшую из коляски крысу. Зажгла свет, увидела кровь на вязаной нитяной подушке. Мерзкая тварь надкусила мне руку. Пришлось ходить на прививки. Я не хотел, плакал, боялся уколов. Так рассказывала моя мать. А я ничего не помню. Рука зажила бесследно, «до свадьбы». Но страх остался: мерзлящий, панический, первородный. Потом было много страхов. Они приходили и уходили. Иные сами, иные пришлось выметать, бить шваброй вслед, высмеивать, агитировать, загонять в дальний угол. Но вот первородный, особенно липкий, скользкий, не поддается, сидит, затаился – и в суете, и в покое всегда сознаю его, хоть и в личинах является, – завистью или тщеславием – сознаю. Ведь это он мешает мне слышать музыку убитого музыканта. Но я узнаю ее, узнаю. Услышу трубы эхом души…
Мысли остановились. Из овала ореховой рамы затуманенного пылью и временем настенного зеркала все же просматривался человек. В ушанке, в валенках, в перепачканном краской макинтоше поверх пальто. В общем, вида довольно нелепого, но определенно настойчивого, даже с монтировкой в руках. Это я сорвал все слои, отодрал все обои, дошел до начала. И теперь отражаюсь, утомленный и радостный. И все сам, сам – ни дать ни взять мастер! Кому рассказать – никто не поверит. Вот тебе и артист! «Ну и артист!» Забитые, скрытые стены сруба, годами камуфлированные под городской интерьер, опять обнажились бревенчатой ладностью. «Ах вы сени, мои сени!..» Осталось вымести сор из избы. Умыть, распахнуть окна старого дома в новую жизнь и удивляться от зари до зари… Да только не сейчас, после, еще успеется. Теперь же пора на время оставить свой дом.
В путь, в путь, сквозь лающую черноту, брешущую сторожевыми псами зимнюю стынь. Как рано стемнело. Не успел оглянуться – вот уж и все, кончился день. Но в путь, в путь! Интуитивно, на ощупь. Я знаю, знаю дорогу, не заблужусь. Но где она? Все засыпано снегом. Я проваливаюсь…
Зачем это мне? Зачем этот дом, эти стены, эта земля? Ведь я кочую, я постоянно кочую. Из образа в образ, из пространства в пространство… И если на рассвете скользишь сквозь изморозь по звенящим трамваем булыжникам Безбожного переулка, удаляясь от стен московских, а к ночи теряешься на ступеньках Папского дворца среди бессонной толпы глаз и хаоса площадных эмоций драматического фестиваля в Авиньоне, в Провансе на юге Франции, где выжженная солнцем душа Ван Гога сошла в безумие, укрылась, схоронилась там от радужного потока космической палитры, не в силах совместить и осмыслить цветом открывшееся ей, – ты восхищен и подавлен. Нет, не физической возвышенностью полета, полета по билету, за деньги, теперь доступного многим. Но ведь не каждый может пересекать пространства бесплатно, пользуясь привилегией одиночек, вечной неистребимой привилегией художника… Так что же дом и земля? Для чего огород городить? И дом, и земля, и могила за огородом достались мне по наследству, по завещанию дальнего родственника.
«Какой ты счастливый! – завидовали знакомые. – Другие полжизни кладут в фундамент дачи своей, влезают в долги, всеми правдами и неправдами возводят камины и гаражи. Тебе же без труда досталась в подарок твоя деревенская вилла. Хочешь совет? Первым делом выкопай яму, обложи ее кирпичом, да сделай сантехнику по-человечески. Поверь: это нужно. Так надо. Это блаженство: за окнами свежесть, а в доме кафельный теплый сортир со сливом и ванной, как дома, как в городе, как всегда. Не жадничай, сделай – это окупится. Цены на дачи растут с каждым днем. Скажи, если надумаешь продавать. Мы задыхаемся, задыхаемся в городе! Теперь ты должен, обязан купить машину. Ты не один. Подумай о детях. В конце концов, о жене – каково с сумками в электричке?! Мы не пугаем тебя, но послушай, купи машину. Иначе сам, сам в руках и зубах потащишь продукты из города, и как-нибудь тебя растерзают тебе подобные, сотрут в порошок в воскресном автобусе. Мы не пугаем, но на природе, на воздухе очень хочется есть. Серьезно!»
Но я ничего такого не сделал. Отверг блаженный кафельный нужник и без машины – и в грязь, и в холод – мотаюсь, латаю ветхую пятистенку. Все же венцы у нее дубовые, навозной сыростью загодя притомленные, вечные – не разрубишь. Она еще выстоит, постоит.
Думал я, думал – не надумал, зачем завещал мне свой дом дальний родственник. Ведь у него есть прямые наследники. Они родились, болели и выросли в этой избе, ходили верстами в школу, выучились, разбежались, разъехались кто куда и не оспаривают у меня его завещания. А я лишь гостил здесь летом однажды. Давным-давно, целое лето без чисел, каникул и отпусков, без будничных, грязных, промозглых дождей, только с парными, грибными, прозрачными да решетчатыми. И с приманкой сбора ягодного, и медового, и орехового. Правда, с приказанным сном после обеда – «без разговоров». Зато день-деньской куролесь – твоя воля, и «рот до ушей, хоть завязочки пришей». И если сдвигались над нами тучи, гром бил, бил, царапал молнией небо, то тоже, казалось, для радуги, для торжества. И как хотелось пуститься вперегонки, скорее стать большим, но почему-то медлили времена года: весна, лето, осень, опять зима… Почему они медлили, что-то скрывали? Почему? Почему? Почему? «Ой, много будешь знать – скоро состаришься». Да разве скроешь что-нибудь от людей? Возьми ведро, пойди к колодцу – там все и узнаешь. Да можно и без ведра. Но лучше с ведром, а то прогонят: «Чего стоишь? Ишь, уши развесил!»
Вот история:
«Помнится, въехал немец-то на высоком коне, и давай первым делом гусям шеи крутить. Мы все за речкой попрятались. В банях, в лагере пионерском жили. А ваш дяденька, ну, хозяин-то ваш, старичок-то покойный, поставил, стало быть, на своем:
– Не уйду из избы, ядрен корень, и все тут. Куды мне, из дому-то, мол, из мово?
Очень дом-то свой обожал. До первой еще войны-то, до мировой, мороженщиком по вагонам ходил, сладостью промышлял. Собрал деньжонок-то, дом и поставил. Он грамотный дяденька был, хороший. Вина-то совсем не пил. Ни-ни-ни, ядрен корень. Так чтоб валяться-то – никогда! Видный такой, аккуратный мужчина, с фасоном, с походочкой – пинжачок! С девками приятный. Нравился, нравился… Я маленькая была – и то понимала. Ты палец-то вынь изо рта, сынок. Накося, оботри. Не слюнявь ты его, не надо. Ну, чего? Ах, да! Стало быть, вот: да против-то вас, по соседству немуха жила – «кусок дурака». Одинокая перезрелая девка, хоть телом смазливая, подходящая, ничего. Так, жила не жила – Богу молилася. Тоже из дому-то не пошла. Не спужалась немца-то по недомыслию. Он ее и смутил за гостинец. Ты еще маленький, не поймешь. Ганс-то ихний ее обошел. «Подружились» одним словом. Ну, и тут разное говорят. Не то она у него часы сперла, не то хлеб ему испекла, а он не пришел. Другой раз пришел вишь – она ни в какую, обиделась. Вот он ее на печке-то и пристрелил. Тут разное говорят. Так-то сказать, никто не видал, что уж там было промежду них. Кричать она не способна, но морду ему исцарапала – граблями по голове. Успела. А у дяденьки-то у вашего офицер на дому стоял. И так он рассерчал, офицер-то ихний, что, значит, Гансу-то от немухи личность подпорченная получилась, так рассерчал! Приказывает дяденьке вашему вырыть могилу, ядрен корень, вот эту самую – и все тут! И немуху туды, мол, и тебя, говорит, старичок, пух-пух будем делать. Ну, делать нечего, дяденька заступ-то взял, да могилку-то эту самую за огородом давай рыть. Роет, роет, слезами обливается, фрицам-то чертыхается туды-сюды. Земля-то промерзлая, заступ худо идет. «Эх, мороз, ты мороз, не морозь ты меня!» Вот так жизнь-то свою кончать легко ли? Ой, господи!.. Чего стоишь, уши развесил? Вишь ты, и я заплакала. А то?.. Давным-давно было-то, а все помнится, все жалко чего-то… Бабке-то старой, скажи, все плачется, дуре. Уж больно дяденька-то, старичок ваш, хороший был, грамотный, рассудительный! Да не убили они его в тот раз, не пужайся, сынок. Молодец, говорят, старичок, мы пошутили. И водочки ему поднесли за упокой, мол, немухин-то, да за труды. Только ноги он себе тогда отморозил. Стали гнить-болеть ноги его. Такой запах болезный от них пошел, воспалительный. Вот он дяденьку и погубил, запах-то им не понравился, немчуре. Они ведра-то сунули ему с коромыслом, да вытолкнули за водой к колодцу. Одно ведро и набрал он только, второе-то не успел. Они спину-то ему автоматом и прохудили. Упал он замертво, стукнулся головой об лед, и вода потекла кровавая. Чтоб им, гадам, ни дна, ни покрышки, антихристам! И зарыли дяденьку в ту могилку за огородом. Аккурат возле дома. Уж больно дом-то он свой обожал. Вот и все. Вся история-то. А уж подробностев я не знаю. Врать не хочу. Никто из нас не видал, из взрослых-то баб. Про то ребятишки малые болтали. Им больше всех нужно. Во все нос свой совали. Все знали, все ведали. А ты, сынок, знаешь что? Поди, цветочков-то набери на лугу, нарви, да дяденьке своему на могилку-то и снеси. Вот уж будет на ять! Правильно будет. Ему приятно…»
Ну вот, наконец, я и выбрался на проторенную дорогу. Не увязаю больше в снегу. Не проваливаюсь в воспоминания. Тьма позади, и мне незачем веселить душу. Странно, я так долго плутал, а не устал вовсе. Влекущий сиянием горизонт кажется совсем рядом. Но это искусственный свет. Туда ведет проторенная дорога, бегут светляками верстовые столбы. Этот свет в сумерках зажигают люди. Это мой город. Там меня ждут. Там я нужен. Быстрее, быстрее, надо успеть. Ведь скоро мы начинаем. Пейзажи смазались ластиком электрички, метро втолкнуло и вытолкнуло меня. Час пик. Смятение. Сутолока. Настала наша пора. Мы приступаем. Время работать.
– Привет.
– Привет. Добрый вечер. Я тебя жду. Раскошеливайся – взносы за профсоюз. Знаешь, тебе звонили из киностудии. Я сказал, чтоб позвонили домой, что тебя нет в театре.
– Меня не было дома. Я был на даче. Оттуда прямо сюда. Чудно, знаешь, там уже не видать ни зги, а тут только вое разворачивается. Самая жизнь! Сколько с меня?
– Сколько по ведомости, лишнего не возьму. Все дом свой клепаешь, домовладелец?
– Да надо, знаешь.
– Надо, надо, дело хорошее. У меня нет сдачи.
– Потом расквитаемся, в следующий раз.
– Хоп! Ну ладно, пока, у меня концерт. Ни пуха тебе ни пера! У вас же сегодня премьера.
– Хоп! Иди к черту!
В парикмахерских и дворцах, в загсах и туалетах, в банях, квартирах и особняках, в автомобилях, пудреницах и операционных, и в прочих, и в прочих: ручных, настенных, карманных, походных, мебельных зеркалах, наконец, в естественном отражении водной глади вряд ли увидишь такое проявленное преображение внешности и души, как в зеркале артистической, в трельяже на столе гримуборной перед началом спектакля, незадолго до выхода на подмостки волшебного зеркала сцены. Только надобно, чтоб смотрел талантливый человек. Все равно – артист или зритель. Лишь бы не критик, не рецензент. Тот ничего не поймет, не увидит процесса. Его лучше сразу ткнуть в результат, дать направленное интервью или заказать ему заранее согласованное суждение в устном, печатном или видеозвуковом воплощении. Ибо таковому критику надо чаще разламывать, расщеплять, а не синтезировать, не творить, кем бы он ни числился: искусствоведом, артистом ли, режиссером, лекарем, пекарем, вольнодумцем, главным или не главным. Он, как иной несмышленыш, разберет на винтики, на куски, а не сумеет собрать. Лишь бы поломать понапрасну. Нет, не творческое его любопытство. Впрочем, возможно, я субъективен. Были же великие критики? Думаю, были великие зрители, истолкователи, публицисты, учителя, если не ошибаюсь. Да Бог с ними. Скоро мой выход. Включаю трансляцию.
– Добрый вечер, товарищи. Впускаю зрителей. Даю первый звонок.
Ого! Уже первый звонок! Это предупреждение. Их всего три. Больше не будет.
Наверное, и в «веселых домах» особы легкого поведения столько не переодеваются за день, как порой приходится это делать артисту. Встал, умылся, оделся в «свое», пошел на работу, в театр на репетицию. Там облачил себя в репетиционное рубище. Закончил, разделся, оделся в «свое», поехал на кино– или телесъемку – опять надевай игровой костюм. Затем на спектакле опять все сызнова. И хорошо, если играешь пьесу в одном костюме, а то и по нескольку раз, бывает, переодеваешься за один вечер. Только успевай поворачиваться, случается, и на ходу меняешь одежды свои с помощью костюмеров. То же и с гримом: клеишься, мажешься, умываешься, опять мажешься, опять умываешься… И только на радио не надо ни мазаться, ни одеваться. «Внимание! Запись!» – встал к микрофону и вибрируешь, и играешь голосом, как котенок на солнце. Впрочем, хоть и радио, все равно театр. Радиотеатр. Телетеатр. Кинотеатр. Все – театр. Все раздеваешься и одеваешься без конца в разные мысли, в разные чувства, в разные ритмы и словеса.
Так что же, театр – «веселый дом»? «Священнодействуй или убирайся вон!» – категорически отвечал транспарант над лестницей театральной школы, которую нам пришлось посещать. Стало быть, театр – храм? Но отчего тогда югославы называют сцену «позорница»? Боже, какой позор! Выходить на позор. Корни-то одни, тоже славяне. А может быть, театр – «дом, где разбиваются сердца»? «Ярмарка тщеславия»? «Двенадцатая ночь, или Что вам угодно»? И то, и другое, и пятое, и десятое. Театр – жизнь. Моя, твоя, наша, ваша – ежели еще живой этот театр. А ежели уж скончался, театр – музей, архив: театральный, биологический, археологический, гносеологический, если хотите. «Кладбище слонов», одним словом.
– Товарищи, два звонка. Даю два звонка.
Ого, два звонка! Последнее предупреждение. Я уж почти готов, одет и загримирован. Что дальше? Еще раз, сызнова, всматриваюсь в себя через зеркало. Иридодиагностика – диагностика по глазам. Определение характеристик человека по радужной оболочке. Со всеми былыми, да и возможными его болями.
Алина и режиссер – чем это у нас кончится?
Впервые я увидел ее без звука в черновой кинопробе. Она стояла и улыбалась. Ни слова, ни слова… Тогда поразила, мелькнула и скрылась, осталась тайною красота. Не внешняя – к внешней красоте легко привыкаешь, даже скучаешь порой. И не дурманящая, что зажигает любовь раскаленною плазмой страсти, вспыхивает и угасает холодным бенгальским огнем. Да нет же, мелькнула та главная, бесконечно творящая красота, что дарит силу художникам, ищущим и влюбленным, высвобождает золушек из замарашек, преображает землю весной, исцеляет. Но то была не Алинина кинопроба. То была безответственная для нее проба пленки. Без звука. Когда же мы встретились наяву и я услышал голос Алины, тайна рассыпалась, не было красоты. Она говорила каким-то чужим, не своим голосом, как будто передразнивала себя, – очень похожим на остальные, многие голоса. Да ведь кто знает, не разбежалась бы прочь, не рассеялась многоязычная толпа всемирного любопытства, если бы заговорила вдруг Мона Лиза, загадочная Джоконда, непостижимо нам улыбающаяся через пуленепробиваемое стекло под сводами Лувра. «А мы ее переозвучим другой актрисой», – успокоил меня тогда режиссер.
Ну что же, он может переозвучить, а я не могу. Я буду искать, искать ту главную красоту в прошлом и настоящем, в вымыслах и реальности, в себе и во всем – в пространствах преображения.
– Даю третий звонок. Прошу всех к началу.
Ну вот и все. По давней доброй традиции артисту на выходе вопросов не задают. Не сообщают ни радостных, ни печальных новостей. Ведь помыслом он уже там – в зеркале сцены. Собрался. Идет на суд. Точка. Занавес. Увертюра – дивная музыка. Свет в глаза. Меня ждут. Я иду…
Странная это вещь – зрительская любовь…
В общей сложности количество кино– и телефильмов, в которых я снялся, равняется приблизительно пятидесяти. Не равнозначны они по художественным достоинствам, и судьбы их разные.
Популярность картины заранее определить невозможно. В Театре Моссовета с успехом шла пьеса В. Азерникова «Возможны варианты». Постановщиком был Павел Хомский. Ваш покорный слуга – режиссер-ассистент. И я же играл одного из главных персонажей, по имени Игорь. В спектакле участвовали Ия Саввина и Ростислав Янович Плятт. Затем на «Мосфильме» в телевизионном объединении запустили в производство двухсерийный фильм «По семейным обстоятельствам». В основе сценария лежала вышеупомянутая пьеса Азерникова. Режиссер-постановщик Алексей Коренев, с которым мы делали до того «Урок литературы» и «Вас вызывает Таймыр», пригласил меня сыграть ту же роль, что и в театре. Моими партнерами стали Галя Польских, Марина Дюжева, Евгения Ханаева, Евгений Евстигнеев, Владимир Басов.
Анатолий Папанов, Ролан Быков, Бухути Закариадзе блестяще сработали в локальных ролях, которые в театре все вместе делал один Ростислав Янович. Коренев, я и оператор Анатолий Мукасей говорили на одном языке. Поэтому первая серия получилась стилистически более выдержанной. Вторая серия сложилась пестрее по принципу концертных номеров и драматургически, и актерски, но некоторый жанровый разнобой в целом картине не помешал. Честно говоря, не ожидал, что эта работа станет столь популярной. Относился к ней, как к хорошему ширпотребу, не более. А взрослые люди говорят, что они выросли на этом фильме, цитируют фразы моего персонажа, которые сам-то я уж давно забыл. Сказал перед камерой и забыл. А зрители помнят, смотрят по нескольку раз, оттого что прониклись симпатией. Странная это вещь – зрительская любовь. Непредсказуемая. Подаренная и мне, и им кем-то свыше. И нет в том ни моей вины, ни заслуги. Я лишь делаю свое дело, как могу.
В фильме снималась грудная девочка. Как-то зимой уже после выхода «По семейным обстоятельствам» на телеэкраны мы встретились на улице с Мариной Дюжевой. Она только что родила и гуляла с коляской. Разговорились, заговорились и не заметили – вокруг собралась толпа. Люди увидели нас словно сошедших с экрана. Она, я и ребенок – в точности, как в кино.
Зрители живут мифами. Как-то за городом, на даче, к нам приехали родственники. Пошли гулять. Я шел впереди с молоденькой племянницей и тоже с коляской, в которой везли маленького Вовку, ее сына и нашего двоюродного внука. Жена с сестрой шли чуть поодаль. К ним подошла прохожая женщина:
– Видели, видели – вон Стеблов пошел. Он с женой развелся, женился на молоденькой, дочку родил.
– Надо же, как интересно! – ответила моя Таня.
В восьмидесятом году мы купили полдома в деревне. Жили себе, да жили. Когда началось кооперативное движение, в нашем селе построился кооператор. Большой дом в два этажа – не чета нам. Тогда еще водили туристические маршруты по Подмосковью. Объявляли по телевидению, что собираются там-то, во столько-то. Обычно у касс какого-нибудь вокзала. Один из таких маршрутов проходил через нашу деревню. Так вот я сам слышал, как туристический экскурсовод, показывая на виллу кооператора, объяснял походникам: «Это дача Стеблова». Они меня не видели. Я стоял с полными ведрами за колодцем – ходил за водой.
У нас была старенькая «шестерка». Поехали с дачи в районный центр. В магазин за продуктами. Жена, я и сын – за рулем. На обратном пути заклинило тормозные колодки. Горят, дымят. Останавливаемся время от времени, поливаем водой из бутылки. Охлаждаем, гасим. Лишь бы доехать. К колонке подъехали, когда вода кончилась. Рядом ларек. У ларька пьяная компания. Подходит высокий красавец. Крепко принявший, но держится стойко. Одет чисто. Рубашка. Костюм. Ко мне обращается:
– Какие люди!
Я улыбаюсь вежливо, но сам в сторону. Тогда он чеканит:
– Серега такой-то, третий отряд ГАИ!
Это меняет дело. С ГАИ лучше не ссориться. Оборачиваюсь к нему. Жму руку.
– Какие проблемы? – спрашивает.
– Да вот – колодки…
– Следуйте за мной! – командует. – Нет проблем!
Я жену высадил. Отправил на «Волге» с проезжавшим мимо односельчанином. Серега – третий отряд ГАИ вперед побежал меж заборов. Мы на «шестерке» – за ним. Переулками, закоулками. Выехали на задворки.
Машины ржавые, битые. Нетесаный столик сбитый, полторы лавки под вишней. Серега пронзительно свистнул в руку. Из-за забора две головы. Представились: Миша и Виктор. Обоим под сорок. Спросил сына по-тихому:
– Чем это кончится?
– Я не могу – за рулем. А тебе пить придется, – отвечает.
Выяснилось, что Миша – директор магазина «Автозапчасти». Оставили меня с Виктором Миша с Серегой, уехали на вылизанной, накрученной «девятке» с прибамбасами. Сказали, что за колодками. Еще сказали, чтобы Виктор накрыл на стол чин-чинарем. Виктор повел нас с сыном в сарай поросят показывать. Потом – в ларек за бутылкой. Я спрашиваю:
– Чем закусывать будем?
Виктор не ожидал вопроса. Задумался. Взяли шпроты. Вернулись к столику на задворки. Там бомж сидит с дешевой поллитрой неизвестного происхождения. В окна выглянули женские лица. Посмотрели, задернули занавески. Бомж вынул стакан и вилку. Спросил:
– Наливай?
– Может, ребят подождем, – усомнился я.
– Наливай! – настоятельно разрешил Виктор.
Бомж выпил первый, налил Виктору. Тот уступил мне. Сын смотрел на меня, понимая мое затруднение. Каково мне выпить после бомжа? Бывают минуты, когда думать не надо. Я подумал: «Не надо думать!» – и выпил. Потом повторяли по кругу.
Откуда ни возьмись налетели дети. Трое от шести до двенадцати. Расхватали шпроты, как воробьи зерно, передавая вилку друг другу. Мне не досталось. В окна выглянули женские лица. Посмотрели, задернули занавески. Видимо, надоели им пьянки – вот и не участвовали. Демонстративно. Но все же прислали сырые яйца через паузу. Через детей.
Подъехали Миша с Сережей. Колодки новые привезли. Подняли машину домкратом на козлы. Обломком полотна от ножовки стали растачивать тормозной барабан. Сын газует и тормозит, чтобы колодки слетели. Они прикипели, не отделяются. Полотно не одно загубили. Бесполезняк. Перекур. Из дома вышел пес-водолаз. Лохматый увалень, как теленок. Не меньше. Медленно обошел вокруг машины, оттолкнул телом сына, сел на его место, положил лапы на руль. Я сунул руку в карман, нащупал ключи от дачи и понял, что жена не войдет в наш дом без ключей. Поделился с Серегой – «что делать?»
– Нет проблем! – отвечает.
Сели на его накрученную «девятку», поехали. Он уже сильно пьяный. Развезло. Баранку ведет двумя пальцами.
– Работу, – говорит, – свою люблю! С утра иду на работу с песней. Вон на «КАМАЗе» три кубометра необрезной. Давай сюда. Баньку строю. Или еще чего – давай сюда! Люблю работу! Мотоциклистов не уважаю. Надоело их мозги в морг возить! Надоело!
Когда подъехали к нашей избе, жена встретила нас на крыльце. Односельчанин не только подвез ее, но и снял дверь с петель, впустил в дом. Ключи мои не понадобились. Жена быстро наладила закусь – спьяну требовалось подкрепиться.
– Дом у тебя дерьмо, – оценил Серега. – А участок хороший. Надо его весь распахать. Я тебе осенью пять тракторов пришлю.
– Зачем пять? – робко поинтересовалась жена.
– Чтобы не разворачиваться! – яростно утвердил Серега.
Мы поспешили обратно.
Мужики на задворках сидели в раздумье. Колодки новые не подошли, как выяснилось.
– У меня в гараже были колодки, только «бэу», – вспомнил Серега.
– Давай «бэу», – согласился я.
Пока Виктор с Серегой возились с машиной, Миша разъяснял мне себя в холодке под вишней:
– Я могу тебе новую тачку купить. Могу. Но пацаны взялись, короче, пусть чинят. Они друзья мои – Витек и Серега. Витек гребет все в округе, что плохо лежит. Третью ходку имел. Недавно освободился, короче. Серега хороший парень, очень хороший. Но все равно – мент. Чего ты, типа, артист известный, а тачка барахло у тебя, дача тоже. Серега сказал. А у меня вот дом двухэтажный. Жена у меня очень хорошая женщина. Один раз с бл… домой заехал. Она хоть бы что! Ни слова! Бл… заплатил, типа, не попользовавшись. Так их завез. Типа, жену проверить. Короче, люблю жену. Вот сколько тебе нужно денег для счастья?
– В месяц? – не понял я.
– Ну в месяц. Давай в месяц, – не унимался Миша.
Надо сказать, что это было до деноминации. Тогда еще вместо тысяч были миллионы.
– Ну, если в месяц… Миллиона три, – отвечаю.
– Я с тобой серьезно разговариваю! – обидевшись, вскричал Миша.
Во дворе появился абсолютно заросший дед. Борода, усы, волос шапка. Лица не видно. Глаза умные.
– Батяня мой, – представил Серега. – Батяня – тесть уважаемый. Сам дом спланировал и построил, как архитектор. Все рассчитал. По науке. Кино любит. Артистов всех знает. Голова. И выпить любит. Да, батяня, не дурак выпить?
– Не дурак, – улыбнулся батяня беззубым ртом. – Я наших артистов люблю. Ихние надоели, – признался дед.
– Отец, сколько лет-то вам? – спрашиваю.
– Сорок девять, – отвечает он.
А мне тогда пятьдесят было.
На прощание Серега напутствовал сына:
– Ты парень хороший. Аккуратнее езжай. А то, если что – жалко.
Но все-таки как-то доехали мы до дома к вечеру. На честном слове. Практически без тормозов.
Из театра – в кино, из кино – в театр
Невероятный Иннокентий Михайлович
Вот собрался писать о кино, а ушел куда-то в другую сторону, в поток обыденности. В сущности, я человек достаточно постоянный. В любви, в привычках, в укладе жизни. Да внутри этой постоянности всегда ищу разнообразия, иногда даже приключений на свою голову. Наверное, в силу этого из театра бегу в кино, а из кино – в театр. Когда работаешь долго в одном коллективе, живое восприятие партнеров притупляется. Настолько хорошо их знаешь, что заранее предвидишь их реакции на то или иное сценическое действие. Поэтому, когда в киногруппе собирается талантливая актерская компания с разных сторон объединенная ярким лидером, близкими мироощущениями и настроениями, большего праздника человеческого общения нельзя себе представить. Как на крыльях летаешь. Тем более, что фильм снимается несколько месяцев и надоесть друг другу, набить оскомину никто не успевает. Кино подарило мне драгоценные встречи.
Одна из них с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским – на картине «Русь изначальная». Он играл императора Юстиниана, я – его племянника, Рита Терехова – императрицу. По сюжету Юстиниан, призвав племянника, предложил ему заменить его у власти, мотивируя это пониманием необходимости социальных перемен и собственной усталостью от государственных забот. Племянник – человек по природе тихий – долго отказывался, но все же в конце концов уступил настойчивости Юстиниана.
После того как недовольные императором консолидировались вокруг преемника, Юстиниан разгромил оппозицию, а племянника заживо замуровал в крепостной стене. Смоктуновский когда-то в шестидесятых поразил меня совершенно невиданной до того интонацией, манерой существования в роли. Мы, молодые артисты, прилагали немалые усилия, чтобы не впасть в невольный грех подсознательного искушения подражать его необычному дарованию.
Когда на съемках фильма «Директор» погиб Евгений Урбанский, в старом Доме кино, на улице Воровского, состоялся вечер памяти. Народу собралось видимо-невидимо. Мы с Никитой Михалковым с трудом устроились где-то на балконе. Во время гибели Урбанского камера работала. Ее не выключили. Этот трагический миг я видел еще раньше на «Мосфильме» за монтажным столом. Теперь же на большом экране смерть Урбанского выглядела еще обнаженнее и страшнее, усиленная пафосом публичности. Выступали с воспоминаниями. Многое не запомнилось. Поразил Смоктуновский. Он работал с Урбанским в «Неотправленном письме». Поразил магнетической способностью превратить даже свое траурное слово в сценическое зрелище, демонстрацию дарования, вовлекал в какой-то внутренний процесс, от которого невозможно было оторваться даже в антракте. Ибо процесс продолжался и в жизни, в кулуарах, в фойе.
Иннокентий Михайлович находился в зените славы. Купался в ней. Женщины млели. Их восторг вдохновлял Смоктуновского. Он парил, он царил, но все видел, все замечал до мелочей. Тогда мы впервые столкнулись взглядами. Его мгновенное любопытство ко мне походило на обнюхивание зрелым псом подрастающего щенка. И вот через годы мы встречаемся с ним в работе. Еще во время павильонных съемок Смоктуновский пытался давать мне советы по поводу моей роли. Я выслушал, но мягко дал понять, что у меня есть свое собственное представление. Он поинтересовался и денежным содержанием моего контракта. Узнав, сделал вывод, что сам, очевидно, продешевил, посетовал. Натуру снимали в Крыму, в Судаке.
Я прилетел в экспедицию позже. И Смоктуновский и Терехова уже отработали несколько сцен. Идем с Иннокентием Михайловичем по набережной вдоль пляжа. Рита издали приветствует нас рукой. Я помахал ей в ответ.
– Да ну ее! – обиделся Смоктуновский.
– Что такое? – спрашиваю.
– Обложилась книгами про времена Юстиниана, а толку никакого. Одни теории…
Я понял, что отношения с Ритой у него не сложились.
На следующий день снимали в старой крепости. Пока шли технические приготовления, Смоктуновский, Рита и я ожидали в раскладных креслах. Рядом в таком же кресле сидел генерал – военный историк, консультант картины. Личность примечательная. Бритый наголо. Крепкого телосложения. Довольно простое лицо. Про Юстиниана, его личную жизнь, его эпоху знал все, буквально все. Складывалось такое впечатление, будто бы он жил с ним рядом, в соседнем покое, в прошлом воплощении, если такое можно представить. Генерал, влюбленный в персонажи своего научного исследования, сам, конечно, являл собою человека яркого и неординарного мышления. К собственному удивлению, мне не нравилось, как строил свою роль Смоктуновский. Он делал из Юстиниана явного злодея. Именно явного. Всячески подчеркивал это внешними приемами. И хотел, чтобы я играл с ним в поддавки.
– Иннокентий Михайлович, возьмите Сталина. Он не выдавал внешним видом агрессивности своих намерений, – возражал я. – «Вот попробуйте меня обмануть, каков я есть в реальности».
– Так. Ясно. Тут против меня заговор, – отвечал Смоктуновский, выразительно взглянув на Терехову.
Она молчала. Повисла пауза.
– А как вы считаете? – спросил Смоктуновский генерала.
– Сталин, Юстиниан – выдающиеся исторические личности… А вы выдающиеся артисты… Вот и играйте выдающихся людей, – с дипломатичной иронией парировал генерал.
Смоктуновского ответ генерала не устроил, и он замкнулся на некоторое время, пока не началась съемка.
«Русь изначальная». «Мотор! Казнь. Дубль номер…» Меня ведут на казнь. За мной идут стражники, придворные, зеваки. Еще несколько минут – и я буду замурован заживо. В голове ускоренно проматывается лента событий всей жизни…
– Стоп! – вдруг спасает меня голос Иннокентия Михайловича. – По-моему, массовки маловато… Может, прибавить массовки?
Режиссер прибавляет массовки. Я опять на исходной позиции. Мотор. Опять иду с общего плана на средний и приближаюсь до крупного. Прощаюсь с жизнью. В глазах слезы.
– Стоп! – снова останавливает Смоктуновский. – Может, мой сын Филипп на заднем плане пройдет?
Тут я уже начинаю понимать, что он мне мешает, выбивает из настроя. Специально или неосознанно? Снова начинаем с исходной. Снова прощаюсь с жизнью и снова слышу Смоктуновского:
– Стоп! Может, мы это завтра снимем?
– Мы снимем это или сейчас, или никогда! – ответил я вслух как бы безадресно, но определенно.
И мы сняли. Сняли, а потом Иннокентий Михайлович подошел ко мне:
– А вы, Женя, противный какой-то. Прямо вот взял бы сейчас да ударил! – он замахнулся на меня.
Я посмотрел на него вялым взглядом.
– Пошутил, пошутил, – захихикал он, опустив руку.
Обедали на турбазе, где жили.
– Да, Женя, трудно с вами, – продолжал Смоктуновский.
– Вы были нашим кумиром, когда мы учились, Иннокентий Михайлович… А трудно, может быть, потому, что мы оба схожи по психофизическому типу. Оба астеники. Так сказать, плюс на плюс. Я ведь тоже порой собой не владею, – стукнул я резко тарелкой об стол.
Красный борщ расплескался по белой скатерти. Я не психанул. Сыграл. Подействовало потрясающе. Пауза. Длинная пауза. Затем Смоктуновский обнял меня:
– Пойдем пивка попьем?
– Пойдем, – соглашаюсь.
И пошли. И больше не было проблем между нами.
– Женя, вы смотрели «Дочки-матери» Сергея Герасимова?
– Нет, к сожалению, – соврал я, так как картину не принял.
– Жаль, что не видели, – продолжал Смоктуновский. – Я там замечательную роль играю, замечательную!..
Расспрашивал его о Товстоногове. Считает ли Георгия Александровича своим учителем? Как репетировали «Идиота»? Он сказал, что Товстоногов ему не учитель, что только дал ему шанс и за это он ему, Товстоногову, благодарен. Благодарен Розе Сироте, которая работала с ним Мышкина. А учителем своим считает Михаила Ильича Ромма. И вот у него он действительно многое взял, работая на «Девяти днях одного года». И творчески, и человечески почитает его.
У меня осталось драматически-противоречивое ощущение от Смоктуновского. По-женски ревнивый и знающий себе цену, имеющий власть над людьми. Самовлюбленный и неуверенный. Выдающийся лицедейский аппарат и внутренняя растерянность, отсутствие стержня, какого-то камертона, что ли. Отсюда уход в бытовое юродство, метания, поиски режиссера себе под стать и полное одиночество за неимением себе равных. Эволюция от князя Мышкина до Иудушки Головлева. Художник способный к высоким прозрениям и человек, порой разменивающий себя на мелочь. Глупый и мудрый. Расчетливый и почти безумный в игре безумия. «Это даже не талант, – сказал о нем Михаил Ромм. – Это инстинкт». О да! Инстинкт потрясающий, безошибочный. Знал, когда отступить нужно и когда в атаку… Невероятный Иннокентий Михайлович!
После съемок на озвучании он заметил:
– А вы так и не сделали по-моему, не послушались…
Я улыбнулся:
– По-своему сделал, как мог, но по-своему…
Умный, а не верит…
Из всех людей не верящих в Бога, какие встречались мне в жизни, самый умный – Леонид Генрихович Зорин. Знаменитый драматург, автор целого ряда театральных бестселлеров, одним перечислением коих можно было бы наверстать необходимый объем заказанных мне страниц. И «Римская комедия», и «Покровские ворота», и «Царская охота», и «Варшавская мелодия»… И прочее, и прочее.
Вот написал, что Леонид Генрихович не верит, но ведь с его слов, с его слов. Вернее сказать: говорит, что не верит. Чтоб не погрешить напрасно на человека. Так как по образу мыслей, по пониманию взаимозависимостей, которые существуют в мире, во вселенной такая он умница, что никак невозможно допустить, что такой человек в Бога не верит. Никак невозможно. А если коснуться гражданского устройства, социальной жизни, то тут Зорин лет на 5–10 ощутимо предвидит почти буквально. Судите сами. В его стихотворной комедии «Цитата» я не без успеха играл на сцене Театра им. Моссовета роль Молочникова. Этакого провинциального комсомольца-карьериста, штурмующего столичные номенклатурные пьедесталы, будущего «нового русского». Подбадривает, звонит, пишет им письма. Попался и я на его ласку. Установились отношения взаимной симпатии и уважения.
Однажды в позднюю осень, в Ялте, в полдень солнце заволокло облаками. Съемку остановили. Перенесли на следующий день. Не разгримировываясь решил пройтись пешком по набережной до гостиницы. Нежданно-негаданно встретил Зорина.
– Женечка, дорогой, отдыхаете?
– Нет, работаю. Снимаюсь в белорусской картине. А вы?
– Я тоже работаю. Пишу. В Доме творчества. Заходите ко мне. Поболтаем.
– С удовольствием, Леонид Генрихович. Только вот разгримируюсь и приду. С удовольствием.
В тот вечер мы долго проговорили. Говорили о разном, а выяснилось, что многое видим если не одинаково, то очень схоже. Так начались наши, смею сказать, дружеские отношения.
– Женечка, вы когда-нибудь думали о режиссуре? – спросил на прощание Леонид Генрихович.
– Думал, даже две постановки отработал в качестве ассистента.
– Вы просто обязаны этим заняться. Если не согласитесь сейчас, то обязательно придете к этому после. Вам не уйти от режиссуры. Я убежден. У меня есть одна пьеса. Она не простая. Называется «Карнавал». Ее ставили за границей. У нас пытались, но не сложилось. Вот вы как раз тот человек, кто поставит ее и сыграет главную роль. Вы мой Богдан. Так зовут героя. Я вам дам почитать. Обязательно!
Жили-были два друга. Играли в шахматы, как сам Зорин. Правда, он еще в молодости играл и в футбол. Профессионально. Они, его персонажи, в футбол не играли. Они не умели выигрывать. Они считали себя неудачниками.
И вот Богдана осенила идея. Он открывает кооператив по трансформации имиджей. Неудачники начинают преуспевать. Несчастные становятся счастливыми, бедные богатыми и т. д. и т. п. Больше всех преуспевал сам Богдан, но в результате пришел к раскаянию, к осознанию того, что не имел права вторгаться в чужую жизнь, не имел права нарушать промысел Божий.
Пьеса, как и многие пьесы Зорина была написана несколько искусным, эстетизированным языком. Попытка сгладить, забытовать эту искусность делала текст фальшивым. И наоборот, некоторая приподнятость интонации, намеренная обнаженность этой искусности выявляла естество комедии, как высокой игры с философским оттенком. Я нащупал этот ключ и понял, что наиболее органичным пространством для постановки будет сцена в фойе. Этакий полуцирк-полусалон на 300 зрителей. Театр в фойе довольно успешно работал после спектаклей на основной сцене с десяти до двенадцати часов вечера. В репертуаре этого театра эксплуатировались пять-шесть названий.
Мне предстояло ставить спектакль и играть главную роль. Этакий репортаж с петлей на шее. Я не очень хотел играть. Более привлекала возможность постановочного дебюта. Но играть было некому. Вот и пришлось сидеть на двух стульях. Со страхом шел на репетиции поначалу. Мои коллеги, мои вчерашние партнеры ждали теперь от меня слов решающих. Надо сказать, что единственное обстоятельство, которое останавливало меня ранее от режиссерской практики, было нежелание нарушить чужую свободу. Диктаторская, агрессивная режиссура всегда отталкивала меня. Также неприемлемым считал использование откровенно провокационных способов, циничной эксплуатации актерской искренности по принципу «выкрасил и выбросил». Единственная власть, которую всегда признавал в искусстве, – власть таланта, власть любви. На мой взгляд режиссер не тот, кто может организовать сценические действия, подчинить себе актеров и производственный коллектив. А тот, кто может подарить свой мир другому, увлечь, влюбить, заразить художественной идеей, мироощущением, вызвать сочувствие. Иногда необходимо и надавить на актера или прибегнуть к хитрости, но только если любишь его, если испытываешь симпатию. Актеры, как дети, легко прощают строгости любящему родителю, но не прощают равнодушия и предательства. По себе знаю. Не прощают в том смысле, что душа артиста невольно закрывается.
В конечном счете работа артиста, а уж режиссера в особенности, – это некий род душевного, духовного целительства. Во всяком случае, для меня это так. Я как бы создаю мир, притягательный для других. Мир надежды и утешения или очищения. Иногда через стресс, через трагедию. Иногда через комедию. Иногда через трагикомедию. И комедия, и трагедия всего лишь различные выходы из одних и тех же ситуаций. Что для одного смешно, то для другого драма. В зависимости от мироощущения. Ощущение, атмосфера – мне важнее всего. «Создание атмосферы, порождающей мысли и действия заранее непредвиденные», – когда-то записал в дневнике еще в молодые годы свой идеал режиссуры. Воля к творению такой атмосферы, к ее поиску, по-моему, – главный смысл режиссуры. А уж затем организация сценического действия, моделирование характеров, композиция и т. д. и т. п. Сопряжение тончайших инвольтаций полевых структур душ и явлений суть главной работы, работы над атмосферой. «Я туда не пойду больше. Там неприятная атмосфера», – говорим мы порой. Или наоборот: «Там такая приятная атмосфера». Стоп. Спустимся с небес на землю.
Сегодня, 19 января 2000 года, умер Лев Федорович Лосев. Директор Театра им. Моссовета, с которым мы проработали тридцать лет. У нас сложились отношения не простые, но искренне уважительные. Он ушел из жизни в театре, в своем кабинете. Кроме театра не было у него другой жизни. Он был человек театра. Грешный, как и все мы, и любящий. Любящий театр. Царствие ему небесное!
«Карнавал» я поставил. И надо отдать должное Льву Федоровичу, который по-своему поддержал меня в этом. По признанию Зорина, спектакль стал одним из любимых его сценических воплощений. Но выпуск нашей работы все время сопровождался препятствиями, не зависящими от меня. То тяжело заболела героиня, то испугался, закомплексовал один из главных исполнителей. Потребовались замены. Пришлось начинать от печки, с нуля.
Возникали и чисто технические, производственные проблемы. Как-то в шутку я спросил Алину, мою знакомую, которая профессионально занималась астрологией:
– В чем дело?
Она спросила точную дату начала работы и через некоторое время дала ответ:
– Ты не выпустишь спектакль в этом году. Жди следующего.
Слова ее подтвердились – отчасти. Я все-таки выпустил его, но не на следующий год, а в самом конце текущего. Однако препятствия продолжались до самой премьеры, которую я играл больной, с высокой температурой. Алине спектакль понравился. И в благодарность она составила мне индивидуальный гороскоп на предстоящий 1989-й год. В том гороскопе был пункт – потеря друга. «Кто же это? Боже мой! Да ну, подумаешь, гороскоп! Ерунда!» – решил, отмахнувшись от мрачной мысли.
«Женечка! Я скоро умру!»
С Юрой Богатыревым мы жили рядом. Наши дома разделял Проспект Мира. У нас был общий участковый милиционер. Мы почти каждый день разговаривали по телефону, но не виделись годами.
Однажды встретились на похоронах Фаины Георгиевны Раневской, и я с удивлением заметил, что он очень изменился внешне. Как-то обмяк, пополнел.
Впервые о Богатыреве я услышал от Саши Адабашьяна. Что в Щукинском училище есть очень талантливый студент выпускного курса Юрия Васильевича Катина-Ярцева, и что Никита собирается снимать его в главной роли в «Свой среди чужих – чужой среди своих». Позже, когда Юра уже стал известен всей стране, он однажды позвонил мне и сказал комплименты по поводу какого-то моего фильма или телеспектакля. Уж точно не помню. Так началась наша телефонная дружба.
Юра вообще любил говорить добрые слова, если ему что-либо понравилось. Не стеснялся. Но вкус его был достаточно избирателен. Нас роднило с ним близкое чувство юмора и некой абсурдности. Мне так нравились его работы. И в «Свой среди чужих», и в «Механическом пианино», и в «Родне», и в «Мертвых душах»… Да везде. Даже в детских «Будильниках», которые он делал еще и как автор. Когда однажды на Новый год мы с женой пришли во МХАТ на эфросовского Мольера, я был просто потрясен. Его Клеонт в «Тартюфе» затмевал всех. А на сцене рядом с ним работали в этом спектакле и Слава Любшин, и Саша Калягин, и изумительная Настя Вертинская.
Он любил свои картины, делал им рамы из выброшенных старых стульев, дарил их друзьям по случаю, к праздникам и просто так. Друзей было много, но одиночества больше. Юра обладал острым, может быть, даже беспощадным взглядом на человеческие слабости. В его ролях, в его живописи это видно. Карикатура людских недостатков не лишала его любви. Любви к человеку. Скорее, наоборот, помогала любить. Любить не поверхностно, со всем грузом нажитых несовершенств. И сам он нуждался в любви, как никто другой. Этот огромный ребенок всегда ждал ласки, доброго слова. Его нельзя было не хвалить. Только восторг, восхищение его талантом утешал, утолял Юру. Он отторгал не только критические оценки, но и умеренные. Как бы терял интерес к вашему мнению. Замыкался. Пил коньяк и вызванивал по телефону другие дружеские поощрения. Потому что все недостатки и все плохое в себе и в своих работах знал сам, как никто другой. И казнил себя сам. Полной мерой. Я всегда это чувствовал и щадил его. Жалел. Обнадеживал. Но в гости не приглашал, хотя жили бок о бок. Через дорогу. Я боялся не выдержать этот груз. Груз его удивленной души. К тому же семья у меня. Сын растет. Забот – полный рот. Некогда. Написал о нем очерк-портрет в журнале «Советский фильм». На экспорт. Ему понравилось. Бюро пропаганды советского киноискусства тоже понравилось, и они заказали расширить очерк в новый буклет «Юрий Богатырев». Созвонились, договорились встретиться с Юрой у него дома для интервью. В назначенный час звоню, стучу – дверь вроде бы заперта. Не отвечает никто. Толкнул ее с силой. Она открылась. И Юра открылся передо мною в слезах, на полу сидя с бутылкой. Горько плакал:
– Женечка, я скоро умру!
– Да что ты говоришь?
– Да нет, я знаю, не успокаивай меня, чувствую приближение… Скоро умру. Жить не буду! Надпиши мне свой буклет, а я тебе – свой…
Я надписал, подарил ему мой буклет. И он мне свой. Вывел такие строки: «Женя! Ты очень дорогой мне – артист и человек! Твой Юра Богатырев. 83-й год. За год до смерти!» Ошибся. Ошибся на несколько лет. Но предчувствие было. И вот этот злосчастный гороскоп. В октябре 1988-го года ушла из жизни Наталья Петровна Кончаловская. И мы вместе с Юрой несли венок в траурной процессии. Потом Юра куда-то исчез. Не звонил. И на мои звонки никто не отвечал. От нашей общей знакомой киноведа Жени Бартеньевой я узнал, что Юра в больнице с гипертонией, но его возят оттуда играть спектакли во МХАТ. В самом начале февраля, днем, после обеда, я сел в кресло и набрал Юрин номер. Он снял трубку.
– Юрочка, как ты себя чувствуешь?
– Женечка, что они хотят от меня? Чтоб я на сцене умер?
– А ты помирился с ребятами?
Летом, во время концертной поездки по воинским частям в Восточной Германии Юра сильно повздорил с Сашей Калягиным и Настей Вертинской. Повздорил, выпив через меру, не знаю уж по какому случаю. Теперь же он был только чуть-чуть «под шофе».
– Ну с Настей я на сцене глазами помирился. А Саша сам ко мне в гримерку пришел извиняться. Он же хитрый. Знает, что это нехорошо, грех, если поссоришься с другом, а он потом…
Он не сказал «потом умрет», но подумал. Я понял. Подумал.
– Ну что ты, что ты! – запретил я ему. – Перестань, выкинь из головы!
– Женечка, у меня нет сил!..
Разговор состоялся в пятом часу. А заполночь Юры не стало…
Об этом узнал я поутру, выйдя во двор за хлебом. Участковый милиционер прогорланил издалека:
– Богатырев-то дуба дал, слышал?
И я опять вспомнил про тот гороскоп…
На смертном одре в Ваганьковском храме во время отпевания он будто бы улыбался, смеялся над нами, собравшимися в потрясении на его прощальный триумф. Когда ему что-то не нравилось, Юра говорил с мягкой иронией:
– Это все из жизни насекомых…
Однажды жаловался на жизнь, на неустроенность дома. Я ответил:
– Женись.
– Ты что?! – воскликнул он, растерявшись. – Чтобы кто-то жил рядом? Ты что?!
«Ктой-то тянет меня веревками на колокольню?» – вспомнил я Гоголя, «Ивана Федоровича Шпоньку и его тетушку». «Это я тяну тебя веревками на колокольню, потому что ты колокол, колокол!..» Еще долго, пожалуй в течение нескольких месяцев, я машинально, вовсе не думая, полуавтоматически набирал Юрин номер. В ответ – гудки длинные, словно собака воет. «Ах да!» – одергивал себя, спохватившись, и вешал трубку.
«Так хочу в Бога поверить – и не могу!»
– Ты слышал? Богатырев умер, – сказал я Леониду Васильевичу Маркову за кулисами во время спектакля «Цитата».
– Да? Ну, ладно, – отвечал он.
Ошеломленный скупостью его реакции, я забормотал в растерянности:
– Юра был потрясающий артист. Трагедия… Жалко… И мне очень близок своей абсурдностью был…
– Нет, у тебя ниток не видно, а у него видны, – возразил Марков.
– Нет! Потрясающий был артист Юра, и художник… Потрясающий, – возразил я.
Мы с Марковым во многом не совпадали, а стали дружны. Особенно в последние его годы. Может быть, потому, что оба «стрельцы». Леонид Васильевич Марков, Леня, Ленечка… Он был старше меня на восемнадцать лет. Он был пьющий, я – нет. Он любил работать как бы масляной краской – я пастелью. Меня восхищала его неуемная мощь, его – моя филигранность. Может, нескромно, неловко так писать о себе. Но мы с ним общались без ложной скромности. По существу. Когда присвоили ему звание народного артиста СССР, он наряду с радостью огорчился – мол, что теперь делать? Чего достигать? Про него существует масса устных рассказов. Про нетрезвые его приключения. Но мало кто знал, только близкие, про его почти неправдоподобную застенчивость.
Например, за границей во время гастролей Марков стеснялся один ходить в магазин.
– Дружочек, пойдем вместе. Языков я не знаю. Мне неловко. Пойдем, а?
Или:
– Дружочек, скажи, кто лучше артист: я или «икс»? – Называет фамилию коллеги вполне ординарного дарования.
– Ленечка, я даже вопроса не понимаю?
– А он-то думает, что он!.. – протяжно торжествует Леонид Васильевич, словно ребенок.
Еду с «Ленфильма» в Москву «Красной стрелой». Открываю свое «СВ» – передо мной Марков. На столе уже начатая бутылка коньяка. Он тоже в Москву и тоже с «Ленфильма».
– Дружочек, вот ты сейчас все мне про моего Феденьку и расскажешь…
Леонид Васильевич тогда репетировал Федю Протасова в «Живом трупе» Толстого. Невоодушевленный перспективой бессонной ночи предлагаю знакомому оператору из соседнего купе:
– Коньяк любите?
– Не откажусь.
– Местами давайте поменяемся?
– Согласен.
Утром в театре Марков и я движемся навстречу друг другу по длинному коридору. Поравнявшись, он замечает:
– Ну и что? Думаешь, ты лучше выглядишь?..
На гастролях в Уфе пьем чай в номере Маркова. Он гостеприимный хозяин. Сам заваривает, разливает. Мы втроем. Третий – Володя Шурупов, артист нашего театра и поэт.
– Леня, послушай, хочу тебе почитать из нового цикла!
– Да ну, не надо, Володя.
– Ну почему, Леня? Мне твое мнение очень важно!
– Да ну, Володя, не надо сейчас. Потом как-нибудь. Пусть лучше Женька Алейникова покажет. Он его точно показывает.
– Леня, послушай, я загадал!
– Ну читай, черт с тобой!
Володя читает свои стихи. Не откровение, но вполне прилично. На глазах Леонида Васильевича выступают слезы. Чтение окончено. Марков встает на колени перед поэтом:
– Спасибо тебе, спасибо! Прости.
Поэт растроган, бросается поднимать народного артиста. Тот утирает слезы и разражается озорным смехом:
– Поверил? Ага, поверил!..
Артист разыграл поэта. И я, и Володя искренне потрясены лицедейским талантом мастера. И я, и Володя начали тогда разговор, который в свою очередь произвел на Леню сущностное впечатление. Подвигали его принять святое крещение. Уговаривала его и жена Лена. Вскоре он окрестился.
Наша дружба с Ленечкой началась ночью в Праге, в гостиничном номере, с подобного разговора. Мы летели с гастролей из Братиславы в Москву через Прагу. Летели в маленьком самолете. И, как водится, часто в пути выпивали. Зная по опыту, что может «накуролесить» под хмелем Леонид Васильевич, я с ужасом предвкушал предстоящую совместную ночевку. Обычно «под градусом» Марков раздавал «всем сестрам по серьгам». Бил собеседников снайперски в слабое место. Жестко. Прямо в «ахиллесову пяту». Пригвождал гвоздями, будто бы кто-то дал ему право. Однако никто в театре не обижался. Прощали. Ему многое прощали за талант. И за то, что умел любить. Женщины обожали его. Когда он ненадолго ушел в Малый театр, через год возвратившись, не найдя того, что искал, одна наша обворожительная актриса «без возраста» призналась ему:
– Ленечка, я так рада, что ты вернулся. Тебе ведь там надо было всех наново перелюбить, а ты уж не тот, а здесь мы тебя по памяти помним!
Так вот, тогда ночью в Праге я обманулся в своем «предвкушении». Не было никакого буйства. Была обнаженная деликатность тихой души.
– Как же ты, Женя, партийный и в Бога веришь?
И начался между нами один из типично русских разговоров, которые не переговорить никогда и которые заканчиваются только от недостатка сил. О Боге, о смысле жизни. О высшем и низшем. О покаянии и возмездии. О любви. В наших отношениях с Леней он тянулся к Богу, а не ко мне. Мне же он просто-напросто доверял. И я понимал и любил его. Этого Митеньку Карамазова, который знавал обе бездны. «Бездну под нами – бездну самого низкого, самого подлого падения. И бездну над нами – бездну высших идеалов». Анатолий Адоскин рассказывал, как взял Маркова в Ригу попутчиком на машине по его настоятельной просьбе. Вся труппа отправилась на гастроли поездом, а Толя решил обновить только что приобретенное авто. Договорились встретиться на Пушкинской площади. Кроме небольшой сумки и стопки книг у Лени с собой ничего не было. Надо заметить, что Леонид Васильевич много читал и живописью увлекался. Признавался, что стал бы художником, если бы не театр. В общем, поначалу ничто не предвещало Адоскину предстоящей страшной минуты. Случилось это на одном из привалов. Ни с того ни с сего Марков вытащил пистолет:
– Ну, Адоскин, прощайся с жизнью!
Тогда, в конце шестидесятых оружие в руках штатского человека было невероятной редкостью. Милиционеры-то в кобуре часто носили муляж. Можно представить себе шок, который пережил Анатолий Михайлович, видя наставленный на него ствол в руках не совсем трезвого Маркова, пока не разглядел как следует. То был пугач – игрушка. Но страх пробил Толю нешуточный. Розыгрыш Леонида Васильевича удался к его явному удовольствию.
Марков рассказывал мне о своем визите к гипнотизеру:
– Пришел к нему. Где-то в районе Тверской улицы. Встретил меня субтильный человек в очках, небольшого роста, с вкрадчивым голосом. Вежливо предложил пройти в кабинет, прилечь на диван. Сам удалился за ширму. Вышел оттуда в белом халате и неожиданно резко вскричал басом: «Водка гадость! Фу, какая гадость! Бросьте, бросьте ее, немедленно бросьте!» Я не выдержал, рассмеялся, до слез рассмеялся. Он тоже не вытерпел – раскололся, и тоже до слез. Гипнотизер-то. Так что не действует на меня гипноз. Проверял.
Случилась с Марковым такая история. Где-то в провинции, выпивши, он нагрубил даме – устроительнице концерта. Дама оказалась злопамятной. И не просто злопамятной, а злопамятной женой второго секретаря местного обкома КПСС. В центральной газете «Известия» вскоре появилась разгромная статья об этих гастролях народного артиста СССР Леонида Васильевича Маркова. Дело дошло до ЦК КПСС. Чуть звания не лишили. Руководитель Малого театра Михаил Иванович Царев заступился, прикрыл Маркова своим авторитетом. Уже много позже Леня показал мне шрам на шее:
– Видишь, дружочек, из петли сорвался. Не вышло. Покончить хотел от стыда.
И это была не единственная попытка выдающегося артиста расстаться с жизнью… За несколько месяцев до его кончины гастролировали в Клайпеде с «Цитатой». Ему все время хотелось сладкого.
– Давай, дружочек, пирожных накупим. Хорошие тут пирожные.
Купили. Пошли отдыхать каждый в свой номер перед спектаклем. Телефонный звонок.
– Ты что, дружочек, не спишь?
– Нет, не сплю.
– Сейчас загляну к тебе. Чайку попьем вместе.
Пришел с пирожными через пять минут. Я чай наладил. Ему было хотел налить, а он:
– Мне не надо, дружочек, ты сам кушай.
Вот я и сидел и ел эти пирожные, а он смотрел на меня, как я ем. Наблюдал. Мне тогда и в голову не приходила страшная мысль – догадка. Ему очень хотелось, но он не мог есть. Непроходимость.
– Вот ты, дружочек, говоришь, холецистит у тебя, а как у тебя боли-то, где? – интересовался он будто бы невзначай.
И уже в аэропорту, во время задержки с вылетом, вдруг ни с того ни с сего:
– Знаешь, дружочек, я так хочу в Бога поверить и не могу, не могу!
Перед последним спектаклем «Цитата» собрались на полчаса раньше. Вводили исполнительницу на одну из эпизодических ролей. Он в этой сцене делал кульбит. И на репетиции сделал. Это с метастазами-то! Но он не знал еще. И никто не знал. Закончив спектакль, он быстро разгримировался, как всегда, очень быстро:
– Привет, дружочек, я пошел.
Потом я позвонил ему уже в больницу, в Кремлевку. Голос его был возвышенный, робкий. Все интонации удивленные – вверх:
– Да, дружочек, да, до свиданья!
Он умер от рака желудка, как сыграл в своем Булычове. Сначала на сцене сыграл смерть свою подробно и подлинно, и, можно сказать, казнил себя этой ролью, предсказал. Во сне он явился ко мне уже после… В какой-то больнице идет на меня, руки расставив к объятьям. Я струсил, вывернулся, уклонился. И он мимо меня рыбкой в открытые ставни окна. Полетел. Я понял – сон. И проснулся.
Мне не хватает его в театре. Не хватает в кино. Нет, нет его, нет!.. Ушел туда, куда мы не знаем. Куда все уйдем. А куда? Вопрос такой встает перед каждым. Кто он, наш неведомый Бог? Наш Сущий?
Бах и Гендель
Моя жена одно время работала в благотворительном фонде им. К. С. Станиславского. В помещении библиотеки гостиницы «Балчуг» фонд ежемесячно проводил встречи людей бизнеса и культуры. В тот день я был хозяином вечера. Гвоздем программы был Михаил Козаков. Он не так давно вернулся из эмиграции в Израиль и теперь как бы заново осваивался в московской среде. Надо сказать, мы не пересекались с ним ранее. Знали, конечно, друг друга по театру и экрану, но ни в работе, ни в жизни не пересекались. Михаил Михайлович был вместе со своей молодой женой Аней (матерью его младших детей Мишки и Зойки, созданий совершенно очаровательных). Я представил гостям Козакова, который предложил собравшимся стихи своего любимого Иосифа Бродского. Здорово читал. Я обомлел. Совершенно очевидно, что пережитое в эмиграции придавало его чтению большую глубину, большой объем, нежели раньше. Раньше от Козакова у меня возникало ощущение некого легкомыслия. Во всяком случае, так показалось при случайной, единственной встрече в коридоре «Ленфильма» в свое время, когда я снимался в «Собаке Баскервилей», а он снимался в роли Железного Феликса – Дзержинского. Теперь иной Козаков читал Бродского.
Полифония увлекала его. Увлекала меня. Многоголосье. Об этом и о многом другом проговорили весь вечер. Зрители давно разошлись, а мы все сидели и говорили. Жены намекали нам: пора домой! А метрдотель не намекал. Оказался искренним любителем поэзии. Засиделся заполночь вместе с нами. С Козаковым договорились мы не теряться. Созвонились. Я прочитал его новую книгу. Он прочитал мою старую повесть. Не разочаровались. Остались довольны. И предложение сыграть Баха в его спектакле «Возможная встреча» возникло как-то естественно, само собой. Спектакль, поставленный еще в Израиле. С Валентином Никулиным в роли Баха. Я просмотрел фрагменты видеозаписи. Может быть, то была лучшая роль Никулина. Но Валя на тот момент еще не вернулся из эмиграции и в предстоящей московской премьере «Русской антрепризы Михаила Козакова» принять участие никак не мог. Московская премьера. Новый продюсер. Новые костюмы и декорации. Новый Бах. Пьеса немецкого автора Пауля Барца, сыгранная ранее на сцене МХАТа Олегом Ефремовым и Иннокентием Смоктуновским особого успеха не имела. По двум причинам. Из-за излишней затянутости, и по причине того, что Смоктуновский с Ефремовым играли в великих композиторов.
Мы играли проблему. Проблему выбора между Богом и властью. На самом деле, Бах и Гендель никогда не встречались. Иоганн Себастьян Бах – скромный кантор церкви Святого Фомы в Лейпциге – умер в безвестности. На могиле его не было даже надгробного камня. Георг Фридрих Гендель – триумфатор. Жил при английском дворе. Похоронен в Вестминстерском аббатстве. Бах – отец двадцати детей. Гендель – холостяк. Более ста лет после его смерти о музыке Баха мало кто знал. Половина его партитур потеряна его детьми. Гендель вкусил славу при жизни. Драматург Пауль Барц попытался представить «Возможную встречу» двух столь полярных личностей и дарований. Поначалу пьеса называлась «Невозможная встреча». Единственное, что их объединяло – старческая слепота. В последнее время внутреннее религиозное становление для меня стало важнее узко актерских задач. Именно это и привлекало в роли Баха. Бах – гений! В музыке – пятый евангелист. Никто не знает доподлинно, каким был Бах. Известно только, что он никогда не изменял своим творческим принципам. Хотя над ним смеялись, упрекали в консерватизме. Мировая слава пришла к нему более чем через сто лет после смерти. Какой же верой должен он был обладать! Нечеловеческой верой! Хотя, думаю, ничто человеческое ему не было чуждо, но, когда наступал момент выбора, Бах не себя слушал. Слушал Бога в себе! Гендель заигрывал с властью. Пытался сочетать небесные звуки души с земными желаниями и страстями.
Мои отношения с Козаковым в чем-то перекликались с противоречиями между нашими персонажами. Как режиссер Миша был явно доволен моей работой, но как артист ревновал. Сознательно или бессознательно. Один или два раза в месяц мы играли в Москве. И иногда выезжали с гастролями. Как-то в поездке, кажется, по пути в Самару, выпив по обыкновению коньячка, Миша заявил:
– Жень, ко мне подошел человек интеллигентного вида из зрителей на открытии «Новой оперы» и говорит: «Михаил Михайлович, хотите я вам гадость скажу?» – «Зачем же?» – спрашиваю. А он: «Нет, я все же скажу. Стеблов-то переиграл вас в „Возможной встрече“!» – «Так я очень рад, – отвечаю ему, – когда мои артисты хорошо работают».
Далее Миша осыпал меня комплиментами, которые мне здесь приводить неудобно, неловко. Свидетель тому замечательный артист и человек Толя Грачев, игравший в спектакле слугу и товарища Генделя Иоганна Кристофа Шмидта. Я перевел нетрезвый разговор в шутку, и Миша, как обычно, перешел на стихи Бродского. Стихи он может читать всю ночь напролет. Знает, помнит их километрами. Не только Бродского, а и Давида Самойлова, Пастернака, Пушкина… Кого из поэтов он только не знает и не читает. Как правило, после спектакля в каком-либо городе устраивалась пресс-конференция местными средствами массовой информации. Как правило, обязательно задавался вопрос, почему он (Козаков) эмигрировал и почему вернулся. Как правило Миша отвечал: «Не Израиль мне не понравился – я себе в Израиле не понравился». На самом деле, по его собственному признанию, уехал Миша от страха. От черного страха. Не скажу какого. Не имею права. Это его страх. Не мой. Вернулся же потому, что стал задыхаться в духовном смысле. Человеку русской культуры, ему было душно в Израиле – стране довольно провинциальной в культурном аспекте. С Россией не идет ни в какое сравнение.
Я прилетел в Ростов из Москвы. Все остальные участники антрепризы приехали ранее поездом с Украины, отыграв там другой спектакль. Встречавший администратор завез сначала меня в маленький уютный ресторанчик. Отужинав вместе со всеми, мы отправились в пригородный санаторий на ночлег. Наутро чувствовал я себя неважно. Сердце шалило. Тахикардия. Около пяти вечера подали нам машины. Поехали в театр. Работать. У служебного входа нас повстречали крепкие молодые парни. Охрана из местного СОБРа.
– Я ваш телохранитель, – представился офицер в штатском. – Какие пожелания будут или особенности?
– А это так нужно? – поинтересовался я.
– Нужно, – отвечает. – За вами по театру, на сцену следовать?
– Нет, – говорю. – Не надо. У гримуборной отсорбируйте любителей автографов после спектакля, а больше ничего и не надо.
Отыграли. «Опять потерпели триумф», как говорят на театре. Охранники все пришли с девушками, просили сфотографироваться вместе. Сфотографировался. Они проводили нас до машины и распрощались. Их функция кончилась. Мы поехали ужинать с местным продюсером и его гостями опять во вчерашний ресторанчик. Стол был накрыт щедрый. Продюсер не скупился. Кроме нас, в заведении заняты были еще два стола. Очень скоро мы поняли – заняты они были людьми криминальными.
Одного из них звали Сережа. Сидел в окружении женщин вполне приличного вида и вел себя достаточно деликатно. Другой – Леня, изрядно принявший, впал в нежные чувства. Нежные чувства по отношению к нам, к нашему творчеству. От комплиментов он перешел к дарам. Подносил дорогие блюда и вина. Затем настойчиво увел Козакова в другое помещение. Мишина жена Аня, да и все мы встревожились. Через некоторое время Леня и Миша вернулись. Миша несколько обескуражен. Затем Леня твердо взял меня под руку и тоже повел. Хватка у Лени железная. Признаться, я вспомнил о телохранителях. Но они уже отработали свое и распрощались. В соседнем кабинете Леня вынул из кармана брюк пачку денег:
– Вот, возьмите. Возьмите, говорю, пригодится!
– За что?
– За то, что вы есть!
Я понял – сопротивление бесполезно. Леня обладал недюжинной силой. Когда мы вернулись, в зале играл человек-оркестр. Музыкант с синтезатором пел на заказ блатные песни. Вид у меня, очевидно, тоже был довольно неловкий. Мы как-то притихли. Замерли. Тогда Леня, желая нас приободрить, стал швырять нам на стол деньги веером, россыпью. Человек-оркестр воодушевился, взволнованно затянул с душой:
На меня надвигается По реке битый лед, На реке навигация, На реке пароход… Пароход белый-беленький, Дым над красной трубой. Мы по палубе бегали – Целовались с тобой…Но это так у автора, у Гены Шпаликова – «целовались с тобой». А человек-оркестр пел:
Мы по палубе бегали – Срок мотали с тобой…Господи, знал бы Гена, что с нами со всеми будет! И с нами, и с его песнями…
Я сказался больным. Попросил меня отвезти. В пять утра вышел с вещами из своего номера. Самолет вылетал в полседьмого. В коридоре я встретил Мишу и Аню. Они только что возвращались из ресторана. Пели блатные песни всю ночь с братвой – Серегой и Леней…
По мотивам «Возможной встречи» Миша снял телефильм «Ужин в четыре руки». Мы сработали его на «Мосфильме» за шесть смен по двенадцать часов ударным трудом. Миша не боится труда. Он большой труженик, гордый человек, большой прагматик и человек-ребенок. Человек, как теперь говорят, снявший «культовый» фильм «Покровские ворота». Фильм по пьесе моего любимого Леонида Генриховича Зорина.
Пришельцы
Наша хорошая знакомая Оля Максимова пригласила в гости на Пасху. В ее хлебосольном, традиционном доме и встретили мы Владимира Павловича Кучеренко. Поначалу я принял его за сантехника. Простоватая его внешность на самом деле скрывала кандидата технических наук, доцента Института инженеров транспорта. Застолье обнаружило к тому же изящный артистизм личности и очевидное вокальное дарование. Он не окончил Гнесинский институт. Ушел с третьего курса. Впечатление от Володи было столь сильным, что мне показалось досадным нереализованность этого художественного самородка.
– На него надо пьесу писать, – сказал я сыну, когда мы вернулись домой.
– О чем?
– Надо подумать. Какой-либо сложный характер вряд ли осилит. Но себя в предлагаемых обстоятельствах сыграет. Не сомневаюсь.
Условились писать вместе. Да все руки не доходили. Наконец собрался я с духом:
– Ну давай, сынок, завтра приступим.
– А я уже написал, – отвечает.
Не поверил. Но, прочитав, поразился. Сережка до того в сочинительстве не был замечен – и вдруг сразу пьеса, довольно приличная. Трогательная, смешная. Я конечно могу ошибаться. Не чужой все-таки. Могу быть пристрастен. Показал коллегам – одобрили. Судьба привела в театр «Вернисаж» на Беговой улице. Руководители Юра Непомнящий и Вика Лепко приняли пьесу к постановке. Так приступили мы к этой безумной затее. В спектакле были заняты четыре человека. Две одноактовки, объединенные общим смыслом. Первую часть играл Сережа со своим другом и однокурсником по Щукинскому училищу Володей Жарковым. Еще на втором курсе они вместе снимались в фильме «Глаза». Сережа в главной роли – героя-любовника, можно сказать. Володька лихо сработал острохарактерный персонаж. В пьесе друзья играли как бы две ипостаси одной души. Теневую и светлую. Я ставил спектакль, и вместе с Владимиром Павловичем Кучеренко играл во второй части. Как известно, работа начинается с застольного периода, с разбора по смыслу, по действию, по сверхзадаче. Текст актер осваивает в течение всего репетиционного периода в совокупности с моделированием поступков и мотиваций. Кучеренко на первую же репетицию пришел с абсолютным знанием текста. Сказал, что привык читать лекции студентам и не может прийти на занятие неподготовленным. Я же не знал текст еще несколько месяцев. Всякий талант несет в себе обязательно некий наив, простодушие наряду с изощренностью. Володя Кучеренко не просто ребенок, а совершенное, абсолютное дитя. Например, ему до слез может быть жалко зайца, или волка, или еще какой-нибудь персонаж из мультфильма. И это ведь речь идет о взрослом, шестидесятилетнем человеке. Уникум. В то же время ему совершенно не нужно что-либо объяснять долго и подробно. Человеку, который никогда ничего до того не играл на профессиональной сцене, не имеет за плечами актерской школы, достаточно сказать, что этот кусок надо трактовать многомернее, и он тут же именно так и делает. Не всякий опытный мастер на такое способен. Персонаж Кучеренко внезапно появлялся в гостиничном номере, где остановился известный артист, которого играл я. В нашем диалоге его герой как бы менял разные обличия, оставаясь в позиции вопрошающего ученика, а в результате странный пришелец оказывался учителем моего героя, и исчезал он так же таинственно и внезапно, как появился. Владимир Павлович блистательно справился с ролью, продемонстрировав не только свои драматические, но и вокальные, и пианистические возможности. В финале мы – участники представления – все вместе пели:
Каждый вечер, вернувшись с работы, Трое смелых, веселых парней, Разложив в своем садике ноты, Развлекали родных и друзей. Позабыв все земные заботы, И усевшись на травку под вяз, Целый вечер играли, играли для нас Мандолина, гитара и бас…Когда спектакль заканчивался, и за кулисы приходили с поздравлениями коллеги, гости и журналисты, Владимир Павлович продолжал себя вести совершенно так же, как на сцене во время действия. Продолжал «играть себя», существовать «от себя», чем приводил в недоумение посетителей. Настолько он был непосредствен. Тогда я рекомендовал ему принять за кулисами специальную позу. Многозначительно молчать, к примеру, что он и сделал. Все встало на свои места.
В моей роли я специально оставил пространство для смысловой, текстовой импровизации, основанной на фактах и впечатлениях личной жизни. Представлялось интересным, как режиссеру, исследовать пересечение сценического образа с судьбой самого артиста в буквальном смысле. Хотелось драматического джаза. Актер – автор, а не актер – исполнитель интересовал меня. Пожалуй, жанр этой постановки можно было бы назвать «ироничной мистикой». Сознательно или бессознательно меня всегда интересовало столкновение двух взглядов. Взгляда сверху из сфер божественных, и взгляда снизу из недр земного бытия. И сын Сережка оказался моим естественным соратником по художественному поиску. Мы разные с ним, но идем одной, общей дорогой. И в искусстве, и в вере.
Преображение
Рядом с нашим домом у Рижского вокзала, в церкви Трифона Великомученика регентом была подруга моей бабушки, высокая полная дама строгого вида.
– Марусенька, что же мальчик-то все некрещеный? – спрашивала она всегда при встрече.
– Ах, оставьте! – с легкостью отмахивалась бабушка.
Выпускница духовной гимназии при Страстном монастыре, она вовсе не была набожной. Была ли она атеисткой? Не знаю. Трудно сказать. А только к духовным вопросам явно относилась легкомысленно. Рос я под перезвон церковных колоколов. Но и по радио, и в школе, и в доме чаще слышалось – Бога нет. Душа же тянулась к старым усадьбам, заброшенным храмам, бесхозным погостам. Туда отправлялся на велосипеде за многие километры летом на даче неведомо почему. Похоронных процессий боялся до ужаса. Позже стал перебарывать страх. Специально ходили гулять на кладбище с другом. Даже песню на гитаре сложил:
Вечером на кладбище закрыта церкви дверь, Стоят кресты пугающе, не зная про апрель. На памятнике мраморном могильный жирный кот Какую-то мертвячину безрадостно жует. У обелиска старого, похожего на трон, Верхушка перепачкана принцессой из ворон. Старухи здесь печалятся, малину дети рвут, Влюбленные встречаются, могильщики живут. Могильщик – вечный пьяница, он смерти акушер. Ему так полагается, он мастер этих дел. Такое это место – совсем без суеты. Король без королевства – такой же раб, как ты. У кладбищенских ворот, там, где свален хлам, Дни и ночи напролет выл кобель Полкан. Он покойников встречал, как встречал прохожих. И он привык ко всем чертям, и черти к нему тоже. Такое это место – совсем без суеты. Король без королевства – такой же раб, как ты.Слышал, слышал, как все советские люди, и об НЛО, и о полтергейсте, и о черных дырах, и о Бермудском треугольнике, и об экстрасенсах… Один режиссер на «Мосфильме» мыслью предметы двигал.
С сыном друзей моих родителей Колей Романовым, обладающим даром ясновидения, мы часто философствовали о мироздании, о связи с ним человека, и о том, что есть подлинный человек, созданный по божескому образу и подобию. Поначалу пришло сознание: Бог – свет. Коля ощущал человеческие души светящимися сферическими образованиями. Примерно в это же время, работая над ролью Алеши Карамазова, имея привилегию, как говорится, за зарплату заниматься творчеством Достоевского, пожалуй, особенно как-то услышал, почувствовал православие. Может, родись я поляком в Варшаве – стал бы католиком. Да ведь зачем-то родился здесь, в России, в Москве, у церкви Трифона Великомученика? Вскоре мы с женой приняли святое крещение. Было нам уже за тридцать. Крестились в Сокольниках у знакомого батюшки без паспортов. Стало быть, нелегально. Обычно же паспортные данные из храмов попадали в райком партии, в райисполком, в конце концов в КГБ. Однажды, от Хамовников возвращаясь, из Дома-музея Толстого, зашли по дороге в церковь на Комсомольском проспекте. У входа, на паперти, накинулась с кулаками на нас нищенка озорная:
– Зачем под ручку? В храм – не на танцы!
От неожиданности с Таней моей случилась истерика, и я посадил ее в сквере напротив прийти в себя. Спустя минут пять, подходит человек в свитерочке, лет сорока:
– Можно вас на два слова? – И увлекает меня за собой в кабинет дьякона, где у него свое постоянное место за рабочим столом. Дает мне бумагу, ручку. – Пишите. Пишите заявление на нее. Мы эту пьянь, хулиганку давно знаем. У нас приказ очистить Москву от нежелательных элементов. Вышлем ее «за можай», за сто километров. Административно, в рамках подготовки к всемирным Олимпийским играм. Смотрите на какой бумаге-то пишете. Посмотрите на свет.
Посмотрел. Бумага ведомственная оказалась, с водяными знаками МВД (Министерства внутренних дел).
– Может, не стоит высылать-то? – спрашиваю.
– Нет, эта особа нам хорошо известна, мы ее все равно отправим, на нее материала хоть отбавляй.
После автомобильной аварии и трех операций правой руки для восстановления травмированного нерва кто-то посоветовал упражнения по системе йоги. Попробовал. Сначала не очень пошло. Бросил. Затем постепенно отобрал для себя несколько асан, и этот комплекс делаю до сих пор. Делаю с православной молитвой. Еще до крещения интересовался индийской религиозной традицией, дзэн-буддизмом, но победило христианство. Один из моих друзей, Толя Белошин, директор завода и экстрасенс, удачно занимающийся целительством, как-то вполне зримо продемонстрировал мне так называемое биополе. Под его воздействием впервые зафиксировал в себе ощущение психической энергии. В один прекрасный день по весне стоял я задумчиво у окна. Смотрел в это самое окно. Смотрел, смотрел, и вдруг меня молнией мысль пронзила. Мысль не новая, можно сказать, даже банальная – все в мире взаимосвязано и благодать во вселенной океаном разлита. Бери ее сколько хочешь. И отдавай сколько хочешь. Бери и отдавай. Отдавай и бери. Собственно говоря, я это и раньше знал, но тут словно открытие сделал. Велосипед изобрел. Родился заново. Йогой после стал заниматься – чувствую: энергией-то психической управляю. Получается! Управляю с помощью мысли. Загорелся глазами и телом – в зеркале на меня смотрел другой человек. Другой я. И я стал играть психической энергией. Стал «промываться» – пропускать через себя «поток», снимая эмоциональную усталость. Даже на сцене. Работа теперь не так «выжимала» меня, как прежде. Улицы, деревья, дом, в котором живу, увидел другими глазами. Ярче, красочнее и светлее. Ожесточенные, конфликтные пассажиры в вечернем автобусе уже не казались злыми – скорее не очень здоровыми и очень несчастными, жалость вызывали, сочувствие, а не раздражение, как раньше. Из радостной эйфории вывел случай – не пришел на спектакль в Театр Вахтангова. Просмотрел расписание, ушел гулять в парк. С дубом, с березой общался энергетически. Едет сосед по лестничной клетке на велосипеде «турист». Он не слезал с него ни зимой, ни летом. Запыхался:
– Вам срочно нужно в театр сейчас. Спектакль играть вас ждут!
«Вот она, – думаю, – профессия наша – ни днем, ни ночью покоя нет! Кто-нибудь заболел. Заменять надо». Мне даже в голову не пришло, что я сам прозевал спектакль. А когда «дошло» до меня, ударило в голову, схватил машину попутку – вперед! Переступил порог служебного входа, а мой дублер в этот момент вышел на сцену. Его администратор на красный свет через пол-Москвы примчал, вытащив из другого спектакля, где он играл эпизод в филиале театра. Коллеги не осудили меня. Одни транквилизаторы предлагали, другие коньяк:
– Один раз в жизни со всяким артистом бывает. Один раз в жизни бывает!
Так закончилась моя «энергетическая» эйфория. Спустился с небес на землю.
Режиссер Сергей Микаэлян в свое время несколько раз предлагал мне главную роль в фильме «Гроссмейстер». Из-за плотной занятости в театре я вынужден был отказаться. Он сожалел:
– Вы похожи на прототипа нашего героя Василия Васильевича Смыслова.
Через несколько лет на даче родственников жены мы встретились – я и Василий Васильевич. Шахматный король – экс-чемпион мира – жил по соседству. С первого взгляда мы как будто уткнулись друг в друга. Проговорили весь вечер об экстрасенсорике, об НЛО, о мистике, о шахматах, об искусстве… Уже поздно торопясь к электричке в Москву, Василий Васильевич крикнул мне вслед:
– Осторожнее, Женя! Будьте осторожнее!
С проблемами психоэнергетики Смыслов знаком не понаслышке. Во время высоких шахматных баталий довольно часто практикуются экстрасенсорные атаки, создающие помехи спортсменам и на ментальном, и на физическом уровне. Мобилизуются и защитные команды, блокирующие подобные инвольтации. Сам Василий Васильевич такими методиками не пользуется, если не считать обязательного присутствия на соревновании его жены – обаятельной, хлебосольной Надежды Андреевны.
– Женечка, вы так похожи на молодого Васеньку, – подтвердила она при первом же нашем знакомстве.
И я вспомнил предложение Микаэляна. То ли действительно из-за некоторой схожести, то ли еще Бог знает из-за чего – мы подружились с Василием Васильевичем. Шахматы в наших отношениях играли не самую главную роль. В основном, религиозные проблемы и вокал. Смыслов – профессиональный певец. Баритон. Постановка голоса, которой он пользуется, открылась ему во сне. Когда записывал большой диск с голландским хором на фирме «Филипс», дирижер спросил:
– Откуда у вас эта постановка? Так пели в шестнадцатом веке.
Пение Смыслова производит необычное впечатление. Голосовая волна удерживает ваше внимание. А по ней Василий Васильевич словно вышивает мыслью узор. Он не интонирует, не делает никаких эмоциональных эффектаций, но вокальный образ возникает абсолютно зримо:
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила…И видишь и деву, и утес, и урну… Настолько ясна и энергоемка сама мысль выдающегося шахматиста. Смыслов – шахматист-художник. Аналитику считает делом достаточно элементарным для обитателей шахматного Олимпа. Состязания же – борьбой сознаний, а не умов. Побеждает тот, у кого более свободное, более раскрепощенное сознание. Высшая свобода – в Боге. Отсюда религиозность Василия Васильевича. Ортодоксальная. Православная. Он поразительно гармоничный человек, постоянно устремленный ввысь. Такое ощущение, что стоит в луже и смотрит на звезды. Лужа – это обыденность земной жизни с ее изощренными хитросплетениями. Мы все стоим в такой луже. Иных лужа затягивает. Они тонут, захлебываются. Они как бы говорят ему:
– Вы тоже в луже! Вы тоже!
А он отмахивается от них и смотрит, смотрит на звезды.
– А как же хитросплетения? – кричат они.
– А вот как, – отвечает, и одной левой, шутя, распутывает все узлы, как на сеансе одновременной игры с клубом любителей, и опять устремляется в небо.
Когда Смыслов встречался с Каспаровым в четвертьфинале на чемпионате мира, я спросил, на что он рассчитывает.
– Возрастное преимущество на его стороне, – отвечал Василий Васильевич, – но Гарик только входит в политику, я уже все прошел. Меня это не интересует. Я свободнее…
В постсоветские времена, времена материально трудные и для чемпионов мира, лишившихся государственных стипендий, один предприимчивый менеджер увлек Смыслова в показательные шахматные гастроли, посулив миллион неденоминированных рублей. Василий Васильевич выехал в указанный город, выступил и вместо обещанных денег получил эмалированные кастрюльки на целый миллион.
– Зачем мне кастрюльки? – смеялся Смыслов.
Он не обращает внимания ни на обман, ни на обиды. Он только смеется. Он свободен.
Одно время «пошли» на меня кришнаиты. Почти каждый день встречались. Предлагали купить книгу свою – «Бхагавад-Гиту». Ну просто проходу от них нет. Да и денег нет. Фолиант дорогой. Не по карману ради праздного любопытства. Пригласили меня на кинопробу. Киностудия «Беларусьфильм». Город Минск. Приехал, отснялся и в кассу – получил за работу. До поезда на Москву еще целый день впереди. Выхожу из студийной машины недалеко от гостиницы у продовольственного магазина. Поесть купить. И вдруг, как из-под земли – передо мною девушка-кришнаитка в розовом сари. Протягивает «Бхагавад-Гиту»: «Купи!» И цена ровно такая, как за пробу я получил. До копейки. «Стало быть, надо купить», – решил. Вошел в номер. Хотел включить телевизор – не работает, сломан. «Стало быть, надо читать», – думаю. И весь день до самого поезда просидел в номере. Читал неотрывно. И в Москву вернулся – читал. Целый месяц. Зачем? Когда прочитал – понял. Уже не шли на меня кришнаиты. Не встречал. Встречал христиан миссионеров. Один за другим они попадались мне на пути. Предлагали Евангелие. Чаще – от Иоанна. Кришнаиты почти беспрерывно творят маха-мантру: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари!..» Мантра – иначе сказать молитва. Кришнаиты указали на беспрерывность молитвы. Христианской молитвы – указали христиане. Должен мысленно постоянно молиться – вот что понял, вот что мне открылось. В сердце молитва поселилась Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, грешного!..» Теперь старался не допускать мрачных, грешных, бессмысленных мыслей. Придут невзначай – прогоняю молитвой. Она течет, как ручей. Переходит в реку. Из реки – в море. Море божественной благодати. «Житие Серафима Саровского» помогло очень. Укрепило в молитвенном делании. «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!» Душе моей близок этот святой. Иной раз и на сцене молюсь. Играю – работаю, текст говорю, а где-то внутри молитва живет.
Летом, на даче, поутру, у пруда занимался йогой. В конце на молитву встал. «Отче наш…» Стою на коленях. Руки к небу возвел. И вдруг стал расти. Стал огромным. Как вселенная стал. Совершенно реально. Не галлюцинация. Не иллюзия. Совершенно реально, явственно сознаю: одной рукой облако достаю, другой цветок у земли. Сценическая практика приучила к повышенному самоконтролю. Реальность происходящего была очевидной. В этот момент для меня, далекого от точных наук, прояснились понятия: сворачивание пространства, разворачивание пространства. Выворачивание пространства, когда внутреннее становится внешним, а внешнее – внутренним. Пространственная трансформация… Я не могу объяснить, но сам понимаю. И еще понимаю: человек не то, что мы видим физическим глазом, а нечто большее, связанное со всем миром, с мирами, с Богом связанное. То, что произошло со мной тогда, у пруда, никогда более не повторилось. Никогда.
Года два назад заведующая литературной частью рыбинского драмтеатра Лариса Львова обратилась ко мне с просьбой прислать поздравление к юбилейной дате театра, которое опубликуют в местной газете. Что я и сделал, упомянув в заметке о Павле Павловиче Стеблове, моем прадеде, действительном статском советнике, депутате городской думы, директоре Рыбинской мужской гимназии, потому что воспринял весть из Рыбинска как своеобразный зов предков и дал себе слово побывать на могиле прадеда. Не сразу обстоятельства способствовали тому, но наконец свершилось стараниями все той же Львовой. Четыре с половиной часа езды на машине – и я в Рыбинске. В гостинице на берегу Волги. На другом берегу виднеется старинная каменная ротонда. Главная улица – маленький Петербург. Театр полон. Вечер благотворительный, для местной интеллигенции. Учителя, врачи. Около трех часов с одним антрактом стою на сцене в нетопленом зале. Но атмосфера теплая, праздничная, доброжелательная. Вопросы, вопросы, вопросы… Ответы, ответы, ответы… Потом товарищеский ужин в кабинете директора с искренними гитарными перепевами. Пели артисты, пел директор. Я тоже пел: «Летя на тройке, полупьяный, я буду вспоминать о вас, и по щеке моей румяной слеза скатится с пьяных глаз…» На следующий день я стоял под окнами квартиры прадеда при мужской гимназии. В квартире какое-то учреждение. Однако сохранился купол домовой церкви, которую отстроил прадед. Там же его и отпевали (по завещанию). Могилу не удалось найти. Только примерное место у церкви на кладбище. Дьякон отворил храм. Я свечки поставил. Прадеду – за упокой. Папе – за здравие.
Заехали удивиться морю Рыбинскому. Водохранилище затопило прежнюю жизнь. Скрыло под водой и бренные кости сталинских заключенных, возводивших плотину. Только церковь с порушенной колокольней посреди моря на острове. Упоминание о былом. Завет. Обратно, по пути в город остановились у той самой ротонды, что видна из окон гостиницы через Волгу. Ротонда в парке барской усадьбы. Оказалось – усадьбы Михалковых. Основной дом и два флигеля сохранились в запущенном виде. Интернат там какой-то, или еще что-то. Оказалось, двоюродный прадед Никиты – полный тезка его отца. Сергей Владимирович Михалков был предводителем рыбинского дворянства. В местном музее, в бывшем здании хлебной биржи экспонируется дворянский зал. Картины, мебель, фамильный складень семьи Михалковых. В архиве сотрудники показали новое поступление – фотографию посещения великим князем Владимиром Александровичем Ярославской губернии. Великий князь в парадном мундире. Вокруг несколько человек из первых лиц региона. И среди них Павел Павлович Стеблов и Сергей Владимирович Михалков. Значит, наши с Никитой предки – люди одного круга. Знали друг друга, сотрудничали. И мы, потомки, через сто лет пересеклись судьбами. Поразительно. Вот уж поистине: тот, кто верит в случайность, не верит в Бога.
Отец мой тяжело болен. Почти не встает. Возвратившись в Москву, навестил его. Рассказал подробно про посещения Рыбинска. Он очень интересовался этим моим «поклоном» прадеду. Рассказал ему и про фото с великим князем.
– А ты знаешь, – ответил, – как дядя Витя помог брату Сергея Владимировича. Взял его на работу после освобождения из заключения и прописку помог получить. И это в те времена, когда его самого посадить могли за такое в два счета.
Виктор Викторович Стеблов, родной брат по отцу моего папы, был директором Сотого книжного магазина на улице Горького (на Тверской). Главного книжного магазина – Кремль снабжал. В советские времена, времена дефицита, к нему за редкими книгами пол-Москвы ходило. Он всех знал и его все знали. Михалков жил тогда рядом. Заходил часто. И однажды попросил дядю Витю за младшего брата, которого Сергей Владимирович только что выхлопотал из тюрьмы. Освободившись, брат не мог без прописки устроиться на работу, а без работы не мог прописаться. Замкнутый круг. Он воевал. Попал к немцам в плен. Бежал. Попал в сталинские застенки. И именно по мотивам его истории писали мы с Никитой сценарий «Барьер» в конце шестидесятых, понятия не имея, как связаны наши судьбы с судьбами наших родных. Именно ощущение взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего и не дает нам права осуждать, судить друг друга. Ибо, что мы знаем о первопричинах событий, явлений? Действительно, в большинстве своем – не ведаем, что творим. А туда же… Характеристики пишем, черту подводим… Обидами руководствуемся, самолюбиями, гордыней. И я, как в бездну, заглянул однажды в гордыню души моей… Ужаснулся. Артист, художник, всяк норовит быть первым, выделиться, прославиться. И я норовил. В дневнике юношеском записал: «Подняться над всеми, чтобы встать с ними вровень…» Все это от неуверенности, от внутренней несвободы. Сублимация. Восполнение комплексов. Комплексов неполноценности. Причина – опора на самого себя. На свои силы. Отсюда повышенная критическая самооценка, пристальная критическая оценка других, желание выдвинуться, выскочить вверх, возвыситься. «Что же тут дурного? – спросите. – Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом». А то и плохо, что силы в нас никакой нет. Все от Бога. И сила вся в Боге. Нам только усилие надо – почувствовать промысел Божий, поверить, сделать своим. Ну и с Богом… Как говорится, когда с Ним, тогда ничего не страшно. Когда с Ним, тогда польза во всем. И в радости, и в печали. Предположим: был кто-нибудь знаменит, а теперь позабыт, позаброшен. Можно в уныние, в тоску впасть, спиться, сбиться с пути. Мол: «Кем я был? И кем стал? Она – виновата… Он – виноват… Они…» Искать причины в других – удел слабых. Причины в себе, у каждого недостатков – хоть отбавляй. Не ленись, исправляйся, займись собой. Подумай: ведь ты был знаменит, а уборщица Мария Ивановна – нет. И вовсе не унывает. Вот и ты не печалься, но благодари Бога за то, что было в жизни твоей. Бог дал – Бог взял. Один дар Божий – способность, талант к чему-либо. Другой дар Божий – признание. И не всегда они совпадают в одном лице. Бывает талантливый человек, да неизвестный. Почти бездарный – везунчик, кумир. Талантлив и знаменит – тоже бывает. Бывает по-всякому. Поэтому и завидовать никому не имеет смысла. Пустое занятие. Самоедское. Сила, свобода, истина только в Боге. Бог и внутри нас, и вокруг. Бог говорит с нами, дает нам знать. Но мы порой так глухи, так слепы. Не умеем Его понять. Бог предупреждает, указывает, ведет нас. Через встречи с людьми, с книгой, с природой, со словом случайным, вырвавшимся из толпы, из экрана компьютера, телевизора…
Когда сын мой был маленький, довелось с ним на даче сидеть в плохую погоду. Моросящий дождь лил без пауз и днем, и ночью. Жена работала. Приезжала на выходные и в среду посередине недели. Помню: управился я с обедом. Накормил его. Уложил.
– Писать хочешь?
– Нет, не хочу.
Ушел на террасу. Вымыл посуду. Возвращаюсь сына проверить. А он напрудонил, налив в постель, стоит, улыбается, за сетку держась. И так я врезал ему по заду!.. Отпечаток руки остался.
– Тебя папа спрашивал? Зачем обманул?!
Слезы хлынули у него, и улыбку сдержал. Осталась улыбка. Схватил я в охапку его, целовал, извинялся. До сих пор перед ним стыдно. Он взрослый уже. А мне стыдно. Урок. Мы у Бога ученики. Учимся по Его образу и подобию. Потому и врагов даже надо любить. Испытания через них – урок. Через всех героев этого повествования получил я урок. От каждого в свое время. И благодарен «учителям» моим. Благодарен. И, если кто-то из них обидится на меня за несовершенные мои строки, простите меня. Простите, герои сюжета души моей!
Бывает, встанешь поутру. Рано-рано. Как будто кто-то вызвонил тебя – разбудил. Войдешь в храм. Исполнишь службу свою вместе со всеми, исповедуешься, причастишься и ощутишь «единство по вертикали» – единство в Боге! Единственно объединяющее. Ибо все другие единства – «единства по горизонтали» скорее разъединяют. На театре про такие «единства» шутят: «Против кого дружите?»
Фильмобиография народного артиста России Евгения Стеблова
1963
«Первый троллейбус»
«Я шагаю по Москве»
1964
«До свидания, мальчики!»
1966
«Перекличка»
1968
«Когда играет клавесин»
«Урок литературы»
1970
«Вас вызывает Таймыр»
1971
«Егор Булычов и другие»
«Укрощение огня»
1972
«Топаз»
«Василий Теркин»
«Провинциальная история»
«Дачная жизнь»
1973
«Я, Шаповалов Т. П.»
«Высокое звание»
1974
«Рождение»
1975
«Раба любви»
1976
«Принцесса на горошине»
1977
«По семейным обстоятельствам»
1978
«Пока безумствует мечта»
«Расписание на послезавтра»
1979
«Несколько дней из жизни Обломова»
«Пена»
«Родное дело»
1980
«Ты должен жить»
1981
«Безобразная Эльза»
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей»
1982
«Не хочу быть взрослым»
«Культпоход в театр»
1984
«Осенний подарок фей»
1985
«Не ходите, девки, замуж»
1986
«Не забудьте выключить телевизор»
«Русь изначальная»
1989
«СВ. Спальный вагон»
1990
«Комедия о Лисистрате»
«Каталажка»
«Наш человек в Сан-Ремо»
1991
«Двадцать первый»
«Аномалия»
1994
«Макаров»
«Налетъ»
1998
«Черный клоун»
«Сибирский цирюльник»
1999
«Фома Опискин»
«Ужин в четыре руки»







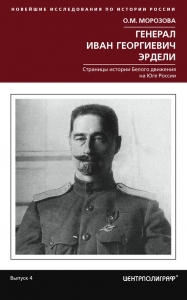
Комментарии к книге «Против кого дружите?», Евгений Стеблов
Всего 0 комментариев