Леопольд Треппер Большая игра
Любе, отважной спутнице моей жизни, посвящаю
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мысль написать свои воспоминания пришла мне в голову во время ожидания разрешения на выезд из Польши. Ожидание это длилось три года, которые я провел в Варшаве в полном одиночестве. В этом состоянии «вольного арестанта», очень тяжело переносимом в чисто нравственном смысле, Мною владела лишь одна забота: воскресить в памяти минувшее.
Каждый человек, подойдя к концу своего пути, думает о каком-то особом периоде, наложившем на него более заметный отпечаток, чем остальные. Так и я, оглядываясь на семьдесят прожитых лет, полагаю, что все случившееся сомной между моими тридцатью и сорока годами, а именноэпоха «Красного оркестра», и есть самое важное из всего пережитого. Верно, что гибель подстерегала меня на каждом углу, что опасность стала самым постоянным из всех моих спутников, но, доводисьмне начать все сначала, я бы повторил все с радостью!
Сегодня— наконец-то! — мне больше нечего скрывать; сегодня я хочу только одного: рассказать правду о всех пятидесяти годах моей боевой жизни.
Вот она,эта правда…
I. ГОДЫ УЧЕНИЯ
1. ДВА ОБРАЗА
Сегодня в моей памяти встают два образа, которые достаточно четко отмечают два этапа моей жизни. Первый возвращает меня в раннее детство, в июль 1914 года, в маленький польский городок Новы-Тарг, где я родился. В моих ушах все еще звенит чей-то крик: «Русского шпиона поймали!»
Этот слух в мгновение ока облетел весь наш городишко… Тогда, в последние июльские дни 1914 года, слухов было хоть отбавляй. Из окна в окно, с одной улицы на другую передавалась новость:
«В деревне Поронино арестовали русского шпиона, сейчас его привезут сюда!»
Вместе со сверстниками я во весь дух помчался на станцию железной дороги — очень хотелось увидеть арестованного. Поезд подкатил и остановился… Из вагона в сопровождении двух жандармов вышел невысокого роста коренастый мужчина. Рыжеватая бородка. Большая кепка, надвинутая на лоб. Вместе с оравой мальчишек я последовал за этим странным трио, которое пересекло центральную площадь и затем скрылось в здании ратуши. Здесь была единственная камера, куда сажали пьяных горлопанов. Теперь сюда поместили «шпиона». На другой день жандармы отвели его в тюрьму, расположенную прямо напротив синагоги.
Было это в субботу. Синагога мгновенно опустела. Евреи стояли мелкими группками перед тюрьмой и без конца разглагольствовали про войну и про «русского шпиона». Несколько дней спустя его перевели в Краков, и обитатели Новы-Тарга, в особенности евреи, подтрунивали над каким-то лавочником из Поронина, который несколько месяцев подряд отпускал «шпиону» и его жене товары в кредит. Доверчивость лавочника-еврея оставалась предметом язвительных насмешек вплоть до одного прекрасного дня 1918 года, когда на его имя пришло письмо из Швейцарии. Вскоре весь городок знал содержание письма, которое было подписано В. И. Лениным. В нем он извинялся за то, что в 1914 году, находясь в трудных обстоятельствах, уехал, не расплатившись, и просил принять прилагаемую сумму.
Ленин не забыл…1
Таково было мое первое знакомство со словом «шпионаж» и со словом «коммунизм». Можно усмотреть в этом «знак судьбы», но было мне тогда всего десять лет, и я не знал даже значения этих двух слов, которые потом сопровождали меня на протяжении всей моей жизни.
И все же… Годы мои прошли в борьбе, и борьба эта была не столь обычной. Ну а с возрастом ко мне пришло одиночество… Второй образ. Дата: 23 февраля 1972 года — день моего рождения. Мне шестьдесят восемь, и я в своей квартире. Видения праздничного стола, за которым в былые годы собиралась моя семья, всплывают в памяти и оживляют мою печаль. Тогда нас была целая дюжина: моя жена, мои сыновья с женами, внуки. Сегодня я одинок: вот уже три года как я не могу уехать из Польши, не могу воссоединиться с моими родными, покинувшими страну в ходе антисемитской кампании.
Нескончаемой вереницей тянутся дни, а телефон все молчит и молчит. И вдруг звонок, я вздрагиваю всем телом: моя жена поздравляет меня с днем рождения! И весь день напролет — из Франции, Дании, Швейцарии, Канады, Бельгии, Соединенных Штатов — мои сыновья, мои друзья и родственники и даже какие-то незнакомые люди под влиянием начавшейся в Европе кампании в мою поддержку обращаются ко мне со словами солидарности. Больше я не одинок.
23-го и в последующие дни почтальон приносит мне по утрам десятки писем и телеграмм со всех концов света. В двух пакетах, присланных из Голландии, сотни писем школьников; меня до слез трогают их рисунки, детские слова дружбы и утешения. Нет, больше я не одинок. Перед моим мысленным взором оживают картинки моего собственного детства: Новы-Тарг…
2. НОВЫ-ТАРГ
Я родился 23 февраля 1904 года в небольшом галицийском городке Новы-Тарг, который в ту эпоху было не так-то легко отыскать на карте. Семья Трепперов жила на улице Собеского в скромном домике под номером 5. Отец сам выстроил наше жилище, постепенно добывая необходимый кирпич, и в конечном счете задолжал всей округе. В нижнем этаже размещалась лавчонка или, если угодно, миниатюрный базар, где крестьяне могли приобрести различные товары и посевной материал. Пол был уставлен большими мешками с зерном. Наши покупатели редко расплачивались наличными, чаще всего в обмен на товар они предлагали что-нибудь из собственной продукции. Над лавкой располагались три кое-как обставленные комнаты. В них мы и жили.
Детские годы сохранились в моей памяти как пора некоего безмятежного счастья, и это невзирая на крайнюю бедность родителей. Но так уж устроен человек — всякие мрачные воспоминания о повседневной нужде вытесняются какими-то прямо-таки чудесными видениями, четко запомнившимися буквально на всю жизнь, вроде того, например, как отец, отправляясь чуть свет на работу, осторожно положит тебе под подушку конфетку…
Семья моя была «типично» еврейской, но замечу, что эта «типичность» была характерна и для всех остальных еврейских семейств. Моя фамилия — Треппер — ничего не говорит о моем происхождении. У моих друзей — Трауэнштейнов, Хаммершлагов, Зингеров и Зольманов — тоже были германизированные фамилии. Не понимая, в чем тут дело, я как-то попросил нашего учителя, который раз в неделю собирал нас и в течение часа рассказывал нам про разные события из истории еврейского народа, объяснить, откуда берутся все эти фамилии. Он мне ответил, что в конце XIX века евреям, жившим в Австро-Венгерской империи, разрешили сменить свои фамилии на новые. В Вене, видимо, полагали, что немецкие фамилии помогут евреям полней и быстрей адаптироваться среди австрийского населения. Даже имена и те подверглись изменениям. Вот почему в моем свидетельстве о рождении написано Леопольд Треппер…
Еврейская община Новы-Тарга численностью около трех тысяч человек обосновалась здесь еще в средневековье, вскоре после основания этого города. На тощих окрестных землях бедствовали крестьяне, пытавшиеся хоть как-то прокормиться.
В деревнях хлеб считался за лакомство, им угощались не чаще раза в неделю. В будние дни люди питались картофельными оладьями, капустой. По воскресеньям сотни крестьян съезжались в Новы-Тарг на ярмарку. Сапоги все несли через плечо и надевали их только на паперти, перед тем, как войти в храм. Евреям, возделывавшим земельные участки, жилось не лучше. И у них долговечность пары сапог измерялась целой жизнью. В близлежащих деревнях не было богатых крестьян, и специалистам по коллективизации было бы наверняка трудно обнаружить здесь кулаков! Да и в самом городке Новы-Тарг настоящих богатеев было очень мало.
В центре города — единственной его части, сохранившей свой первозданный облик, — проживало небольшое количество зажиточных евреев и поляков: коммерсантов, врачей, адвокатов. Но стоило забрести на одну из второстепенных улиц, как сразу же бросалась в глаза гнетущая картина жалких сарайчиков и навесов ремесленников.
Этим и объясняется, почему из года в год нарастал поток эмигрантов в Соединенные Штаты и Канаду. Те, кто рассчитывали найти там рай земной, радостно готовились в долгий путь. Они все еще словно бы стоят передо мной. На них жалкое подобие костюма, рубашка с открытым воротом, в одной руке деревянный чемодан, в другой — специально купленная для поездки шикарная шляпа-котелок, которой они горделиво размахивали…
Спешу добавить: антисемитизма в Новы-Тарге не знали. Обе общины — еврейская и католическая — поддерживали между собой самые что ни на есть дружественные отношения. Объясняется это, возможно, тем, что в ту пору городок входил в состав Австро-Венгрии, чья политика в отношении национальных меньшинств была довольно либеральной. В этой связи вспоминается один прямо-таки анекдотичный эпизод. В Новы-Тарге однажды ожидали прибытия архиепископа Краковского, магистра Сапеги. Католики готовили ему торжественную встречу, что вполне естественно. Удивительно другое: еврейская община тоже занялась деятельной подготовкой к визиту. И, представьте, приехав со свитой в Новы-Тарг, монсеньор в присутствии тысяч католиков благословляет местного раввина, вышедшего к нему из синагоги в парадном облачении!..
Хотя мои родители и были верующими, но не сказать, чтобы они так уж усердствовали по части отправления религиозных обрядов. В пятницу вечером мать зажигала свечи и обязательно подавала на ужин рыбу, из-за чего в обед нам иной раз приходилось попоститься, дабы компенсировать столь расточительные траты. По субботам мы ходили в синагогу, но в нашем детском представлении религиозная практика сводилась главным образом к соблюдению традиционных праздников, когда вся семья рассаживалась вокруг стола, чтобы отведать различных яств, таких непохожих на нашу каждодневную пищу. Как правило, мы питались кошерной2 едой, но все же время от времени этот обычай нарушался. Иногда мать посылала меня за ветчиной и наставляла: «Смотри, чтоб никто не заметил, как ты войдешь к мяснику!»
Но эта спокойная жизнь, пронизанная теплом семейных отношений, быстро и резко изменилась. Началась первая мировая война. Уже в самые первые ее дни солдат, составлявших маленький гарнизон Новы-Тарга, отправили на фронт. Получилось нечто вроде праздника: впереди шли горнисты, а за ними — солдаты. На каждой винтовке красовался цветок. Народ ликовал. Я глядел на тех, кого посылали драться за императора. Начались тревожные, молчаливые месяцы. А потом я видел, как в обратном направлении потекли толпы искалеченных, как стали заполняться госпитали, и хотя я еще был малым ребенком, но очень скоро уразумел — невеселое это дело, война…
Однажды пополз слушок, сперва смутный, но вскоре овладевший всем городком: «Казаки идут!» Следует отметить, что само слово «казаки» ассоциировалось с еврейскими погромами. В крайней спешке организовали эвакуацию евреев в направлении Вены. Вместе с остальными уехала и моя семья.
Принято считать, что дети не занимаются политикой. Чаще всего так оно и есть. Но при этом нельзя забывать, что сама политика, в свою очередь, очень даже занимается детьми. Что касается меня, то тогда, в Вене, я впервые за мою маленькую жизнь начал читать газеты. Я внимательно следил за всем, что происходило на фронте. Кроме того, я поступил в еврейскую гимназию, где меня начал волновать вопрос о моей религиозной принадлежности. Я толком не понимал, что, собственно говоря, значит быть евреем. Как-то в субботний день это мое непонимание еще более усилилось.
В тот день вместе с отцом я зашел в церковь, где услышал великолепный девичий хор. У выхода две хористки прошли рядом со мной. И каково же было мое удивление, когда одна из них вдруг воскликнула: «Господи Иисусе! А ведь сегодня мы совсем неважно спели „Услышь, Израиль!“ Эта реплика буквально ошеломила меня. Как же это так, спросил я себя, не еврейки — и вдруг запросто распевают торжественную еврейскую молитву, и главное где — в своем же храме? Да, подумал я, непростая это штука — религия!
Но меня ждали еще и другие сюрпризы. Завелся у меня обычай по пути из гимназии домой покупать у итальянского торговца, стоявшего на углу, вафельный рожок с мороженым. В Вене именно итальянцы славились умением изготовлять особенно вкусное мороженое. И вот в какой-то день шагаю я после полудня домой, а моего итальянца на углу нет. Я давай его искать — иду от одной итальянской лавки к другой, а они все закрыты. Оказывается, Италия вступила в войну против обоих кайзеров!3 И с этого дня венцы к традиционному возгласу: «Да покарает бог Англию!» — стали добавлять: «И уничтожит Италию!» Реплика насчет Англии употреблялась вместо приветствия. Но как поступит добрый бог? Послушается ли австрияков? Заставит ли франко-британских союзников проиграть войну? А вдруг он сделает все наоборот? Как ему определиться? К какому лагерю примкнуть? Все эти вопросы ставили меня в тупик.
В один из дней всенародного ликования моя растерянность достигла кульминации. Австрийские войска взяли Перемышльскую крепость, и Вена откликнулась на эту победу большими патриотическими манифестациями. По улицам, расцвеченным флагами, толпы горожан шли к императорскому дворцу. Везде чувствовалась радостная приподнятость. Люди обнимались, смеялись, кричали. Все быстро двигались вперед. Рядом со мной какая-то пожилая еврейка силилась не отставать от толпы. Она волокла за руку маленькую девочку и во все горло выкрикивала: «Да здравствует кайзер! Да здравствует кайзер!» И вдруг, задыхаясь, выпалила на идиш: «Чтоб он сдох, я больше не могу!» Понятно, что такое неслыханное богохульство, да еще в такой день, не могло не взволновать меня, юного мальчишку! Снова и снова меня одолевали жгучие вопросы: в чем же добро, в чем же зло?
В мире куда больше не понятного, нежели понятного. Это было очевидно. Наряду с религией война тоже оказалась частью этой непонятной вселенной. Конечно, я видел знамена, слышал фанфары, читал победные реляции, наблюдал ликующие толпы. Но разве мог мальчишка, каким я был тогда, не видеть изнанку всего этого? Война нанесла удар и по нашему семейному очагу: двоих моих братьев не только призвали в армию, но один из них пропал без вести на итальянском фронте, а другого ранило. Не мешкая ни дня, мой бедный отец, невзирая на огромные трудности, отправился на поиски своего сына. Он добрался буквально до самого переднего края. Брата он разыскал в маленьком сельском госпитале. Там ему сообщили, что во время артиллерийского обстрела, когда брат перебегал от одной воронки к другой, его контузило разорвавшимся снарядом. Он онемел и оглох. Отец перевез его в тыловой госпиталь, где благодаря хорошему и терпеливому уходу ему был частично возвращен слух. Читатель легко поймет, какая печаль царила тогда в нашем доме. Коротко говоря, в Вене мне довелось увидеть и пережить полную противоположность тому, что мне твердили в гимназии.
Да, горестный урок, ничего не скажешь! Через два года после нашего приезда в Вену мы вернулись в Новы-Тарг.
Уж и не помню, каким было это возвращение. Зато знаю, что приблизительно тогда мои сомнения относительно религии переросли в какое-то мятежное чувство. Когда, говоря о всепрощении, раввин с дотошной точностью перечислял все виды и формы подстерегающей нас смерти, я внимательно разглядывал лица верующих — хотел узнать, какое впечатление производят на них его слова. В конце концов все лица оказывались искаженными страхом. Это было просто чудовищно. Что-то восстало во мне против такой массовой рабской подчиненности, поддерживаемой религиозным ритуалом и имеющей одну-единственную цель: заставить злополучных бедняков забыть про свою нищету.
Вместо того чтобы накормить людей, их пичкали опиумом. Эту истину я, разумеется, не вычитал у Маркса, тогда неизвестного мне даже по имени. Но для того, кто жаждет все новых и новых постижений, польская сельская жизнь сама по себе была хорошим учебником.
В 1917 году отец, достигший сорока семи лет, скончался от сердечного приступа. Из-за непосильного труда его организм преждевременно и полностью износился. В соответствии с еврейской традицией все, что тогда окружало меня, замерло на семь суток в полной неподвижности. Все ставни в доме закрыли, зеркала занавесили. Семь суток мы сидели в полумраке на низких стульях. На похороны отца пришло много людей. В своем надгробном слове раввин потребовал от всех смириться с волей «всеблагого» господа бога. И снова эта подчиненность «роковой неизбежности» показалась мне недопустимой, несправедливой. Вот когда я отошел от религии. Я отрекся от слепого бога и связал свою судьбу с теми, кого познал в беде, с добрыми людьми-братьями. Утратив веру в бога, я начал верить в Человечество, чьи страдания и муки открылись мне. И я понял: тот, кто сознает свое положение и желает — пусть даже и не так сильно — изменить его, может рассчитывать только на себя самого и не должен ожидать избавления от каких-то гипотетических, потусторонних сил. В этом я был твердо убежден. Помогай себе сам, небо не поможет тебе. Образным выражением этой идеи, ставшей для меня непреложной аксиомой, был смертельно опасный трюк отважного акробата-канатоходца из цирка Кронэ, куда в дни его гастролей в Вене меня сводил отец. Артист работал под куполом цирка без сетки, раскачиваясь над зияющей пустотой…
Вот какой представлялась мне жизнь в пору моего расставания с детством. Она казалась очень опасным упражнением на равновесие, каким-то вечным риском.
Когда после нескольких лет варварской войны мир начал приходить в себя, я был уже относительно взрослым юношей. В новой Польше, образовавшейся после войны, национальные меньшинства, некогда существовавшие под немецким, австрийским или русским господством, составляли одну треть населения. Для ассимиляции трех миллионов польских евреев не было решительно никаких предпосылок. Напротив, все благоприятствовало возрождению антисемитизма. Несколько буржуазных политических партий, не лишенных определенного влияния в правительстве, открыто провозгласили свою антисемитскую направленность. То и дело слышалось: «Евреев в Палестину!» В университетах был введен Numerus clausus — официально разрешенная «процентная норма» для евреев. Кроме того, правительство издало закон, запрещающий евреям поступать на государственную службу. Для конкуренции с еврейскими мелкими торговцами создавались особые магазины потребительской кооперации. Был провозглашен девиз. «Поляки покупают у поляков!»
Убежденный в том, что иудаизм выражается не столько в религиозной принадлежности, сколько — и это главное — в самом существовании национального меньшинства, тесно сплоченного столетиями преследований и страданий, имеющего собственный язык, культуру и традиции, я примкнул к еврейскому молодежному движению «Хашомер хацаир». Вдохновленная идеями сионизма, организация «Хашомер хацаир», созданная в 1916 году, во время войны, группой молодых еврейских интеллигентов, быстро распространилась по всей Восточной Европе. В одной лишь Палестине видели ее приверженцы будущую страну еврейского народа. К тому же в декларации лорда Бальфура от 2 ноября 1917 года говорилось, что англичане полны решимости создать в Палестине еврейский национальный очаг. Организация «Хашомер хацаир» считала, что она формирует людей нового типа, которые, отрешившись от мелкобуржуазного образа жизни, заживут друг с другом по-братски. Все мы испытывали сильное влияние марксизма, чувствовали великую притягательную силу Октябрьской революции. 22 июля 1918 года в галицийском городе Тарнове состоялся наш первый съезд. На повестке дня стоял основополагающий вопрос: как решить еврейскую национальную проблему? Столкнулись три мнения. Одни призывали нас примкнуть к компартии Польши, утверждая, что только социальная революция, вдохновляемая большевистским примером, обеспечит решение всех проблем национальных меньшинств. Другие настаивали на выезде в Палестину для создания там государства, свободного от капитализма. Для этого всем активистам надлежало покинуть университеты и заводы и вернуться на землю, дабы установить на ней жизнь полного равенства всех. Наконец, третья группа, к которой принадлежал и я, считала, что мы должны, полностью сохраняя свою принадлежность к «Хашомер хацаир», сотрудничать с коммунистическим движением. Никаких решений съезд не принял, если не считать того, что меня назначили руководителем городской организации в Новы-Тарге. На втором съезде, состоявшемся во Львове4 в 1920 году, меня избрали в состав национального руководства. В том же году, имея от роду шестнадцать лет, я ушел из гимназии и пошел в подмастерья к одному часовщику, хотя эта деятельность нисколько не прельщала меня. Главная моя обязанность заключалась в том, чтобы каждый день забираться на церковную колокольню и устанавливать на башенных часах точное время.
В 1921 году произошло важное событие: мы покинули Новы-Тарг и переехали в город Домброва (ныне Домброва-Гурнича), что в Верхней Силезии. Это район шахт и доменных печей, весь черный от угольной пыли. Местные рабочие жили в ужасающих условиях. Вот где во мне постепенно и по-настоящему оформилось ощущение моей принадлежности к рабочему классу. Я понял и осознал, что помимо национальной борьбы есть еще и борьба классовая. Я руководил организацией «Хашомер хацаир» и одновременно подпольно боролся на стороне комсомольцев. Именно в этот период я взял себе для моей политической работы псевдоним «Домб» (первые четыре буквы слова «Домброва»). Этот псевдоним я сохранил на всю мою дальнейшую жизнь коммуниста и борца…
Моя семья буквально помирала с голоду, а мне все не удавалось найти постоянную работу. Сначала я нанялся на металлургическое предприятие, потом перешел на мыловаренный завод. Чтобы заработать несколько лишних грошей, впервые в жизни занялся противозаконными делами. Ввиду разных налогов на спиртные напитки водка в Домброве стоила дешевле, чем в Кракове. Таким образом, ее закупка здесь и перепродажа там приносила неплохой доход. Но полиция часто проводила облавы, и, чтобы оставаться вне подозрений, я завел специальный пояс, на котором укреплял плоские фляжки. Под просторной рубашкой навыпуск они были незаметны. Часто приезжая в Краков, я при малейшей возможности посещал лекции в тамошнем университете. Моя духовная жажда, разнообразная и неутолимая, влекла меня прежде всего к гуманитарным наукам, особенно к психологии и социологии. Я взахлеб читал Фрейда, пытаясь проникнуть в сокровенный смысл таинственных импульсов, побуждающих нас к тем или иным действиям. Вместе с друзьями из «Хашомер хацаир» я до хрипоты спорил насчет облика нового человека, который свободен от предрассудков и не прячется от действительности. В подобных дискуссиях метод психоанализа представлялся мне крайне важным.
Но за всем этим я, конечно, не пренебрегал и политической жизнью и с каждым днем все больше вовлекался в нее. Немалую часть моего времени я посвящал собраниям, манифестациям, написанию и распространению листовок. К этому времени рабочее движение достигло большого размаха и стало подлинно боевым. В 1923 году трудящиеся Кракова восстали против нищенских условий своего существования, объявили всеобщую забастовку и заняли город. Правительство бросило против восставших подразделения конной полиции. Кровавые стычки продолжались несколько дней. Будучи одним из самых активных участников этих событий, я впервые, как говорится, на собственной шкуре в полной мере испытал жестокость полиции. И теперь, оказавшись в «черных списках», я уж и вовсе не мог рассчитывать на получение работы. Я стоял перед выбором: либо уйти в подполье, либо уехать в Палестину в надежде построить там социалистическое общество, в котором уже не будет никакого «еврейского вопроса».
3. ПАЛЕСТИНА
В апреле 1924 года, имея на руках вполне приличный паспорт, в составе группы из пятнадцати человек, которым, как и мне, было примерно по двадцать лет, я отправился в Палестину. У нас не было ни гроша за душой, и все наше убогое барахлишко мы везли в узлах, переброшенных через плечо. Нашей первой остановкой была Вена. Не без волнения вспоминал эпизоды моей жизни в этом городе, связанные с отцом. Но с тех пор прошло много времени… Разместившись бесплатно в какой-то бывшей казарме, мы каждый день пересекали город из конца в конец, осматривали его достопримечательности и музеи с исступленностью провинциалов, «открывающих» для себя неведомый им большой город. Нашлась организация помощи эмигрантам, снабдившая нас суммой, необходимой для продолжения путешествия, и через восемь дней жизни в австрийской столице мы вновь сели в поезд, доехали до Триеста, там сделали пересадку на Бриндизи, где очутились на борту видавшего виды турецкого грузового судна, которое за десять суток добралось до Бейрута.
Наш пароход причалил к борту другого корабля, принимавшего уголь для своих топок. Сотни арабов, оголенных по пояс, черные от пыли, цепочкой медленно двигались по мосткам, сгибаясь под тяжестью мешков с топливом. Это медленное и методическое движение, чем-то напоминающее муравьиную тропу, казалось, берет свое начало где-то далеко, в недрах Истории. Примерно так я представлял себе сооружение египетских пирамид…
— Сколько им платят за этот рабский труд? — спросил я у какого-то моряка.
— Запомните, уважаемый, вы вступаете в мир, ничуть не похожий на знакомый вам. Здесь люда заменяют скот. Сколько им платят? Сейчас сами увидите — в полдень они съедят весь свой заработок!
Через несколько минут раздался резкий свисток. Цепочка остановилась и распалась. Грузчики собирались мелкими группками и, присев на корточки, жадно уплетали ломоть хлеба и помидоры…
В Польше я видел бедность. При первом же соприкосновении с Ближним Востоком я увидел настоящую нищету… Наш пароход вновь вышел в море, и в конце концов мы прибыли в Яффу.
Сойдя по трапу на причал, я застыл в полной неподвижности, захваченный зрелищем порта, словно расплющенного солнечным сиянием. Мне, молодому европейцу, привыкшему к низкому и серому небу, пришлось зажмуриться от этого ярчайшего, слепящего света. Из-под полуприкрытых век я наблюдал за шнырявшей во все стороны и крайне возбужденной толпой, которая, казалось, подхвачена каким-то вихревым, иррациональным и, я бы даже сказал, бредовым движением.
Мужчины, облаченные в просторные и многоцветные джеллабы, с хеффи на голове, деловито толкались. Быстрые, порывистые, нервные, они обращались друг к другу так громко, так резко, что я уже было подумал, а не начнется ли всеобщая потасовка. Во всяком случае, казалось, что вся жизнь порта — это одна сплошная громогласная перебранка.
— А ведь они того же корня, что и мы, — шепнул я другу, стоявшему рядом.
— В каком смысле?
— Да вот — тоже жестикулируют при разговоре!..
Мы отправились в город, и там почувствовали себя окончательно потерянными: извилистые улочки, лавчонки и мастерские, кишащие шумливой и пестрой, преимущественно арабской, толпой, женщины под вуалями, шагающие, опустив очи долу, непрерывный шум, пронзительные выкрики, пряные ароматы фруктов, созревающих под лучами здешнего свирепого солнца, удущающая жара, нестерпимая для нас, бледнолицых «северян», какими мы еще были… Я сразу же проникся восхищением к этой столь необычной и многоликой жизни.
Следующим этапом был Тель-Авив, тогда еще не более чем скромное местечко. Дом иммигрантов, где, как предполагалось, мы проведем первые несколько дней, высился в стороне. По ночам я по многу раз и мгновенно просыпался от завывания шнырявших поблизости шакалов.
Мне предстояло сделать еще немало открытий, причем «арабское меню» было отнюдь не наименьшим из ожидавших меня сюрпризов. Сюрпризом, удвоенным истинным наслаждением: от картошки и капусты, главных компонентов моего питания в Польше, я перешел к каким-то незнакомым растениям, которые вкушал впервые. То были маслины, фиги, плоды кактуса, которые я научился взрезать, не укалываясь.
Нам нужно было немедленно начать работать. Организация, ведавшая трудоустройством иммигрантов, предложила нам отправиться в Хедэру, маленькую деревушку, где несколько богатых евреев владели апельсиновыми плантациями. В те годы иммигранты-новички привлекались преимущественно к крупным земляным работам и на строительство дорог, и мы с радостью приняли предложение сразу же заняться садоводством. Наш юношеский энтузиазм стал еще большим, когда, прибыв на место, мы увидели прекрасную усадьбу, построенную в центре поместья. Но восторги оказались преждевременными. Хозяин подвел нас к краю обширного заболоченного участка:
— Подыщите себе место для палаток, — сказал он нам и, обведя рукой расстилавшееся перед нами малярийное болото, добавил, — все это придется осушить!
У нас было четыре палатки. Одна служила кухней и столовой, в трех остальных мы спали. Нам подарили ослика, на котором мы привозили питьевую воду из колодца, находившегося на расстоянии нескольких километров. Но животное не желало повиноваться нам. Сколько мы ни старались, сколько ни умоляли его, ни подталкивали, он упрямо отказывался сдвинуться с места хоть на два вершка… Наконец какой-то араб, забавлявшийся этой сценкой, дернул осла за хвост, и тот пошел себе как ни в чем не бывало.
Едва ли можно назвать большим удовольствием работу по осушению болота. Когда от зари до зари стоишь по колено в тине. Да и ночью какой же это отдых, если мириады москитов так и норовят сожрать тебя. Что ни день — трое или четверо из нас заболевали малярией. Но ни бескрайняя пустыня, ни тяжкий климат, ни болезнетворные испарения почвы не обескураживали нас. Молодость и энтузиазм помогали преодолевать все трудности. Все мы прибыли в эту страну, чтобы строить, и были готовы работать не покладая рук.
По вечерам, после трудов праведных, изможденные, но счастливые, мы собирались, чтобы поговорить про нашу жизнь, которую добровольно выбрали и полюбили. Мы были убеждены, что в нашей пронизанной духом коллективизма и полнейшего равенства коммуне, далекой от любых принуждений буржуазного толка, возникает новая, подлинно братская этика, своего рода фермент более справедливого общественного устройства. Нас занимали главным образом нравственные и идеалистические соображения.
Над проблемами социального порядка, как это ни странно, мы не задумывались.
Однако последние все же возникли, и даже очень скоро. Я заметил, что богатые еврейские землевладельцы, жившие весьма комфортабельно, нанимают для работы на своих плантациях одних лишь арабских батраков, которых нещадно эксплуатируют.
Однажды, когда мы сумерничали, я спросил своих друзей:
— А почему собственно наши боссы, называющие себя «добрыми сионистами», используют только арабскую рабочую силу?
— Потому что арабам можно платить меньше!
— Почему же?
— Очень просто. Гистадрут5 принимает в свои ряды только евреев и обязывает хозяев выплачивать им какое-то минимальное жалованье. Но хозяева предпочитают нанимать арабов, которые не защищены никаким профсоюзом.
Это сообщение глубоко встревожило меня, мой безмятежный идеализм начал испаряться. Молодой иммигрант, я прибыл в Палестину для строительства нового мира, но скоро понял, что сионистская буржуазия, дорожа своими привилегиями, хочет увековечить как раз те социальные отношения, которые мы страстно желали ликвидировать. Под прикрытием разглагольствований о национальном единстве евреев я обнаружил все ту же классовую борьбу…
Через несколько месяцев после моего прибытия, где-то в конце 1924 года, я предпринял пеший поход через всю страну. В то время в Палестине жили полмиллиона арабов и приблизительно сто пятьдесят тысяч евреев. Я посетил Иерусалим и Хайфу, уже ставшую промышленным городом, прошел через Эмек-Израиль и Галилею, где в ряде киббуцев работали мои друзья по «Хашомер хацаир».
Как и я, они эмигрировали в Палестину, мечтая создать там новое общество, в котором не будет места несправедливости. Они полагали, что, вернувшись на лоно природы и возделывая землю, обретут такие моральные ценности, как отвага, самоотверженность и преданность общине. Но иные уже стали утрачивать веру в возможность закладки основ социализма в стране, существующей как мандатная территория Великобритании. Чтобы убедиться в этом, достаточно было поглядеть на здоровенных парней из английской жандармерии, в большом количестве расхаживающих по улицам. Мечты о создании каких-то островков социализма в стране, над которой простер свою когтистую лапу британский лев, были конечно же не только иллюзорны, но и опасны.
— Лишь при совместной антиимпериалистической борьбе наши действия имеют смысл, — сказал мне мой друг во время одной из наших нескончаемых бесед. — Пока здесь остаются англичане, ничего мы сделать не сможем.
— Но ведь в этой борьбе нам абсолютно необходима поддержка арабов, — возразил я.
— Это верно, урегулировать национальный вопрос можно только в ходе социальной революции.
— Но если довести твои рассуждения до логического конца, то мы должны вступить в коммунистическую партию.
— Вот именно, меня только что приняли в нее!
Почти все ребята последовали его примеру. Не отстал от них и я, примкнув к коммунистам в начале 1925 года.
Начиная с 1917 года мои взоры были прикованы к этому грандиозному и ослеплявшему меня сиянию на Востоке. Октябрьская революция, резко изменив ход истории, открыла новую эру — эру всемирной революции. Будучи уже давно всем сердцем большевиком из-за еврейского вопроса, в партию я вступил не сразу. Но теперь, убежденный, что только социализм избавит евреев от их тысячелетнего угнетения, я буквально ринулся в бой. И мне думалось, что в результате всех этих бурных перемен, которые я считал неминуемыми, возникнет давно уже манившее меня общество всеобщего равенства и братства. Я должен был помочь его рождению, а это было и трудно и захватывающе. Я отринул идеалистическую и наивную мораль, решив всецело включиться в подлинную историю. Какая может быть у человека личная свобода, если он не изменит весь мир?!
Коммунистическая партия Палестины, основанная в 19206 году Иосифом Бергером, в 1924 году была официально признана Исполнительным комитетом Коммунистического Интернационала. Большая часть членов этой новой партии эволюционировала от сионизма к коммунизму. Один из ее самых выдающихся руководителей, Даниэль Авербух, долгое время стоял во главе левой партии «Поалей-Цион»7. Уже в 1922 году, на втором съезде Гистадрута, полемизируя с Бен Гурионом, Авербух отстаивал коммунистические взгляды. Замечательный оратор, он показал всю абсурдность намерения создать бесклассовое общество, сохраняя при этом законы капиталистического рынка. Его речь, выдержанная в духе неумолимой логики, произвела большое впечатление на съезд, однако в том, что сионизм заводит людей в тупик, убедила лишь некоторую часть делегатов. Ну а я в описываемый период не считал ни возможным, ни желательным создание еврейского государства.
Я не понимал, ради чего пять миллионов американских евреев, три миллиона евреев из Советского Союза и миллионы других евреев, разбросанных по всему свету, вдруг покинут свои страны и поедут в Палестину в поисках какой-то гипотетической родины. Тогда я полагал, что всякому еврею надлежит так или иначе определиться. Те, кто сознает свою принадлежность к еврейскому народу, рассуждал я, в любой стране должны пользоваться всеми правами национального меньшинства. С другой стороны, я не мог оправдать возведение препятствий на пути тех, кто желал уехать в Палестину. И наконец, я не понимал, почему евреев, стремящихся к полной ассимиляции, лишают такой возможности? Впрочем, подобный вариант представлялся мне реальным только в отношении части интеллигенции и крупных буржуа. Я верил, что еврейские культурные традиции будут продолжаться еще долго и, если не помешать их расцвету, они обогатят коллективное культурное наследие всего человечества.
С первых же дней существования коммунистической партии перед ней встал вопрос: как вырвать массы трудящихся из плена сионистской идеологии? Я со своей стороны был сторонником принятия какой-нибудь программы-минимум, содержащей такие реальные требования, которые именно в силу их осуществимости найдут отклик в сердцах еврейских рабочих. Но перед партией вскоре встал еще один немаловажный вопрос: англичане решительно не желали, чтобы у них под носом развивалась Коммунистическая партия Палестины. Сионистские и реакционные арабские организации в свою очередь помогали полиции выслеживать таких, как я. Нас было несколько сотен активистов и несколько тысяч сочувствующих. Мы были преданы своему делу, полны отваги и не боялись ни подполья, ни лишений. Со всех сторон мы чувствовали противодействие, враждебность. Как раз в этот момент коммунистическое меньшинство Гистадрута, так называемая «рабочая фракция» была исключена из этого профсоюза и вступила в Профинтерн8. Партия пыталась привлечь на свою сторону арабское население, однако ее усилия наталкивались на противодействие поддерживаемого англичанами Великого муфтия в Иерусалиме.
Я предложил руководителям партии — Авербуху, Бергеру и Бирману — создать движение под названием «Ишуд» («Единство»), по-арабски «Иттихад», которое объединяло бы евреев и арабов.
Вот какой мне виделась его элементарная программа:
1. Бороться за предоставление арабам доступа в Гистадрут и создать объединенный профсоюзный интернационал.
2. Содействовать проведению совместных еврейско-арабских культурных мероприятий.
Организация «Ишуд» сразу же обрела большую популярность. Уже к концу 1925 года ее клубы работали в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве и в ряде деревень, где на полях евреи трудились бок о бок с арабами. Все чаще устраивались собрания для всех желающих. Постепенно это движение стало оказывать все большее влияние в киббуцах, что очень тревожило руководителей Гистадрута. Они все никак не могли взять в толк, как это евреи и арабы могут бороться совместно. В конце 1926 года состоялась первая генеральная конференция нашего движения. В числе ста с лишним делегатов было сорок арабов. К исходу первого дня присутствующие были изумлены — на конференцию приехали Бен Гурион, национальный лидер профобъединения Гистадрут, и Чарток, слывший специалистом по арабскому вопросу. Они с любопытством разглядывали смешанную еврейско-арабскую аудиторию, собравшуюся в зале.
Наше материальное положение оставляло желать лучшего. Нелегким это было делом — найти работу, когда тебя подозревают в принадлежности к компартии… В течение всего 1925 года мы жили в Тель-Авиве, занимая вдесятером один барак. Нас было девять парней и одна девушка. Для нее мы оборудовали отдельный угол. Те из нас, кто работали, сдавали свой заработок в общую кассу, однако этих денег было недостаточно для содержания всей нашей десятки. Живя для революции, каждый из нас ежедневно подкреплялся всего несколькими помидорами. Иногда мы заходили в небольшие йеменские ресторанчики, где кормились в кредит. Мы являлись туда только в спецовках, что служило «неопровержимым» доказательством того, что мы не безработные.
Не без труда мы постепенно приспособились к новым для нас климатическим условиям, к резким перепадам температуры, к иссушающей летней жаре, сменявшейся зимними холодами. Помню, как один из моих друзей, уроженец Кракова9, разрешил проблему обогрева в холодный сезон… Ему посчастливилось найти работу — важнейшее событие для профессионального каменщика, который поневоле и довольно долго был на положении безработного. Как-то он пригласил меня к себе «домой», то есть в скромный барак.
«Посмотри, как я устроился, чтобы не мерзнуть по ночам, я ложусь на стол, а другим столом накрываюсь. Лучшего одеяла и не придумаешь!» — шутливо сказал он.
К небольшой группе, состоявшей из Софи Познанской, Гилеля Каца и меня, присоединились Лео Гроссфогель и Шрайбер (всех их мы еще встретим в годы войны и оккупации). Чаще всего мы собирались в семье Каца, жившей в полуразвалившейся хибаре из досок. И вот мы решили снести ее и на том же месте построить прочный дом. Архитектором был Гилель, который смыслил кое-что в строительном деле. Мы собственноручно построили новое и довольно приличное жилище, ставшее нашим общим домом. В 1926 году я наконец снял комнату в Тель-Авиве, прямо над помещением «Ишуда». Хотелось жить поближе к своей организации, чтобы лучше руководить ею. Именно здесь, при совершенно непредвиденных обстоятельствах, мне было суждено познакомиться с Любой Бройде — будущей женой, спутницей моей жизни.
Однажды ночью я услышал шум, доносившийся снизу. Я пошел вниз поглядеть, что там происходит, рассчитывая столкнуться нос к носу с каким-нибудь воришкой или праздношатающимся полицейским… Но я увидел красивую девушку, уютно устроившуюся за столом с газетой в руках. Я спросил ее:
— Как вы сюда вошли?
— Через окно… И это не в первый раз. Видите ли, по вечерам, когда у вас идут собрания, все так шумят, что невозможно спокойно почитать…
Люба приехала из Польши, точнее из Львова, где работала на заводе и с энтузиазмом занималась комсомольской работой. В ряды комсомольцев сумел проникнуть провокатор, который выдал полиции многих ребят. Провокатора разоблачили, и местное партийное руководство приняло решение ликвидировать его. С этой целью Нафтали Ботвин, молодой еврей-комсомолец, организовал спецгруппу, в которую вошла и Люба. Ей поручили хранить револьвер. После ряда перипетий полицейского осведомителя прикончили, но Ботвина арестовали, а затем казнили. Началась охота и за остальными. Любе пришлось покинуть Польшу. По прибытии в Палестину она поначалу трудилась в киббуце, затем стала малярничать в Иерусалиме. Она примкнула к организации «Ишуд» и к «рабочей фракции», помогала в работе МОПР (Международная организация помощи борцам революции), однако отказывалась вступить в Компартию Палестины, упрекая ее в непонимании исторической необходимости создания самостоятельного еврейского государства.
Деятельность «Ишуд» все сильнее тревожила английскую администрацию. Она издала особый декрет, запрещавший собрания этой организации. Секретаря «рабочей фракции» посадили за решетку. Я заменил его. В 1927 году еврейская полиция, контролируемая англичанами, арестовала меня во время одного из наших совещаний. Несколько месяцев я отсидел в тюрьме в Яффе. Здесь я впервые понял, что тюремные решетки не всегда непреодолимы. Прямо из неволи мне удалось устроить Анну Клейнман10, одного из наших самых преданных товарищей, в качестве служанки к самому комиссару еврейской полиции, а он как раз-то и занимался слежкой за ребятами и их арестами. Регулярно обыскивая карманы своего нового хозяина, Анна обнаружила список активистов, взятых под подозрение, и заблаговременно — до арестов — предупредила их. Не забыли и о самом полицейском комиссаре: несколько позже, в ходе одной манифестации, он случайно сломал ногу…
С большой душой и огоньком Люба делала все, что могла, и для нашей организации: в 1926 — 1927 гг. ее дважды арестовывали — один раз в Хайфе, другой в Иерусалиме.
Коммунистическая партия назначила меня секретарем своей секции в Хайфе, одной из самых многочисленных в Палестине. Мы пустили прочные корни на заводах, среди железнодорожников. Так я стал освобожденным партийным работником. Я боролся с неукротимой энергией неофита, все могущество моего идеала толкало меня вперед. Теперь, живя в полумраке подпольной жизни, я мог выходить на улицы лишь по вечерам и при любых своих перемещениях прибегал к тысяче предосторожностей, дабы не попасться в лапы преследовавшей нас полиции. Будучи неплохим оратором я часто выступал перед трудящимися, занимался организацией политической работы, писал листовки и прокламации, председательствовал на собраниях, которые мы проводили вопреки всем запретам. На одном из таких собраний, в самом конце 1928 года, меня вновь арестовали (вместе с двадцатью тремя товарищами) и заточили в хайфскую тюрьму. К счастью, мы успели вовремя уничтожить все компрометирующие нас бумаги, благодаря чему у полиции не было формальных зацепок, чтобы выдвинуть против нас обвинение.
И все же всех нас заточили в средневековую крепость Сен-Жан д'Акр, где царил строжайший режим. Нас обрядили в одежды каторжников. Английские, власти, не располагая никакими доказательствами нашей партийной принадлежности, не признавали за нами статуса политзаключенных и содержали нас как уголовных преступников. По всей Палестине разнеслась весть о пекаре-коммунисте, который несколько недель подряд оставался в камере совершенно голым, не желая позорить себя одеждой каторжника… Наше заключение продолжалось. Никаких признаков близкого судебного процесса. Власти не знали, как нас классифицировать, к какой юрисдикции отнести. Через связного Центральный Комитет сообщил нам, что губернатор Палестины, сэр Герберт Сэмюэль, намерен подписать декрет о депортации на Кипр любых лиц, подозреваемых в прокоммунистической деятельности. Мы решили объявить голодовку, требуя либо освобождения, либо судебного процесса. На пятые суткимы объявили, что не только продолжаем голодовку, но и не будем пить ни капли чего бы то ни было. Наше упорство одержало верх над несправедливостью. Вся Палестина узнала про нашу голодовку. В английской палате общин ряд депутатов-лейбористов обратились к правительству с запросами относительно его политики в Палестине и резко осудили принимаемые там крайние меры. На тринадцатый день нас предупредили о близком начале судебного процесса. Мои товарищи поручили мне выступить на нем от их имени.
В первый день кое-кого из ребят пришлось доставить в зал судебных заседаний на носилках — настолько они были истощены. Но этот день оказался первым и последним днем процесса. Едва заседание было открыто, как судья, взглянув на сидевших по обе стороны от него присяжных заседателей, встал и с подчеркнутой иронией произнес:
«Неужто вы думаете всерьез, что раздражаете британского льва? Так нет же, вы ошибаетесь! Никакого процесса не будет! Вы свободны!»
Жестом он приказал полицейским выпроводить нас из зала. Мы выиграли!..
В 1928 году в стране начались серьезные трудности, население Палестины в полной мере ощутило тяготы экономического кризиса и порождаемойим безработицы, которая затронула примерно одну треть еврейских рабочих. Начался массовый выезд из страны. В том году Палестину покинули пять тысяч человек, а приехали только две тысячи семьсот. Но очень скоро, уже в 1929 году, в стране начались антиеврейские акции и преследования, в ходе которых дело доходило даже до судов Линча. Это стало причиной драматического недоразумения, возникшего между Компартией Палестины и Коминтерном. Понятно, что в глазах Коминтерна сложившаяся обстановка рассматривалась как начало мятежа арабского пролетариата, причем этот мятеж, безусловно, следовало использовать надлежащим образом. Коммунистическая партия Палестины получила указание поддерживать антиимпериалистические выступления в арабских деревнях. Мотивировалось это тем, что ей так и не удалось внедриться в среду местного арабского населения. Был провозглашен лозунг «арабизации и большевизации», словно замена в руководящих органах партии евреев на арабов автоматически обеспечивала более широкое ее проникновение в гущу мусульманского населения! Такой подход к вопросу встретил в Компартии Палестины резкое сопротивление. Группа активистов сочла решение Коминтерна авантюристическим. Я присоединился к этому мнению… Одного из наших товарищей, пытавшегося следовать указаниям сверху в их самом буквальном смысле, линчевали близ Хайфы. Для обеспечения безопасности чеха Шмераля, представителя Коминтерна, нелегально находившегося в одном из предместий Иерусалима, пришлось принять чрезвычайные меры…
Эта абсурдная политика привела к снижению влияния партии и среди еврейских рабочих. А с другой стороны. Компартия Палестины, я бы сказал, роковым образом способствовала советским мероприятиям по решению «еврейского вопроса»в СССР.
Как это произошло?
После Октябрьской революции первоначально предусматривалось, что национальная жизнь евреев в Советском Союзе расцветет в тех регионах, где они были широко представлены, а именно в Крыму, на Украине и в Белоруссии. Но в 30-х годах сталинское руководство поспешно создало Еврейскую автономную область с центром в Биробиджане, на границе с Маньчжурией. Благодаря этому бюрократическому решению в дальнем сибирском районе с очень суровыми климатическими условиями совершенно искусственным образом возникла административная территория, где евреев никогда не было и в помине. Так что многим тысячам мужчин и женщин пришлось покинуть насиженные места на Украине и в Крыму, где они пользовались правами национального меньшинства. Москва призвала Компартию Палестины, а вместе с ней ряд братских партий в других странах использовать этот пример справедливой коммунистической политики в отношении национальных меньшинств и поощрять переселение евреев в Биробиджан. Сто пятьдесят членов «Гдул авода» (рабочая бригада) вняли этому призыву и по прибытии на место основали общину «Воя нова». Лишь немногие из них уцелели в ходе сталинских репрессий. Что же до палестинских руководителей, то их очень плохо вознаградили за верность. В Москве полагали, будто их необходимо «переобучить». Члены нашего ЦК поехали в Советский Союз на учебу в Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ). Видимо, их «переобучение» не дало желаемых результатов, ибо уже в 1935 году всех их арестовали.
Я остался в Палестине и продолжал там борьбу. Полиция непрестанно преследовала меня. Скрываться становилось все труднее и труднее. Ни Тель-Авив, ни Иерусалим не могли считаться безопасными. Подпольная жизнь в такой маленькой стране стала невозможной для коммунистов, которых знали все. Высланный из Палестины по распоряжению английского губернатора, я сел на пароход, следовавший во Францию11. При мне был более чем скромный багаж, но вместе с ним еще и два документа, которые я ценил на вес золота: рекомендация Центрального Комитета Коммунистической партии Палестины, одобрявшая мой отъезд, и транзитная виза.
4. ФРАНЦИЯ
В конце 1929 года мой пароход вошел в марсельский порт, и я ступил на французскую землю. Плавание длилось около недели. Растянувшись под тентом на палубе грузового судна, положив голову на свернутый канат, слушая мерное пыхтение паровой машины, я мог спокойно поразмыслить о многом. Едва успев прожить четверть века, я уже вторично направлялся в изгнание. Не скажу, что мне это не нравилось. С профессиональными революционерами такое в порядке вещей — репрессии обрушиваются на них смолоду. Если судьба вырывает тебя откуда-то с корнем, то больно тебе лишь тогда, когда корень этот глубок и прочно врос. Но каменистая почва Палестины не столь уж плодородна, чтобы именно на ней возделывать свой сад.
Когда на горизонте сквозь дымку обозначился французский берег, мною овладело чувство огромной радости, вытеснившее все горестные мысли. Увидеть Францию было моей давней мечтой.
Трудно вообразить, какое огромное эмоциональное напряжение вызывало само слово «Франция» во мне, молодом человеке, лишенном родины. В двадцатых годах молодой эмигрант из Восточной Европы, как правило, покидал родной край ради того, чтобы стать «богатым американским дядюшкой» в глазах своей родни, оставшейся дома, где-то, скажем, в районе Варшавы или Бухареста. Байка о пресловутом мальчишке-чистильщике на Бродвее, который благодаря упорству и труду в конце концов якобы становится бизнесменом-миллионером, возбудила немало радужных мечтаний. Но совсем другое дело молодой коммунист, кому в 1930 году исполнилось 26 лет, кого безжалостная и мстительная полиция заставила покинуть родину, кто в силу обстоятельств и превратностей классовой борьбы превратился, если так можно выразиться, в «коммивояжера Революции». И так понятно, что перед его мысленным взором конечно же представала либо Красная площадь в Москве, либо площадь Бастилии в Париже.
Поездка в Советский Союз, где трудом миллионов воплощается в жизнь тысячелетняя мечта человечества, — это особая награда. Но молодой Домб стоит еще только в начале своего трудного пути, и его продвижение вперед возможно только ценой большой выдержки, терпения и самоотверженности. Франция же в глазах политэмигранта почти что синоним Революции. В стране, где коммунары двинулись штурмовать небеса, где шло братание солдат правительственных войск с крестьянами-виноделами, знамя мятежа всегда держали высоко. Оно было видно издалека и объединяло вокруг себя всех, кого преследования вынуждали покидать родную страну. Замечу, однако, что Франция эпохи Третьей республики, в которой иностранные революционеры видели некую временную замену родины, на самом деле была отнюдь не столь уж надежным и безопасным пристанищем. Полиция, как оно и бывает в демократическом государстве, изощрялась в мелочных придирках, а что касается труда, то эта бюрократическая республика нотаблей великодушно позволяла иностранцам выполнять самую грязную и тяжелую работу. И все-таки в этой стране соблюдение законов всегда осуществлялось в каких-то довольно зыбких или даже подвижных границах, и тот, кто это понимал, мог их легко нарушать. А если говорить конкретнее, то во Франции коммунист знает, что может твердо рассчитывать на помощь товарищей по партии. Еврей не сомневается, что в массовых организациях еврейской общины он, несомненно, найдет друзей. Поэтому я и старался быть активистом в среде еврейских рабочих, где компартия только начинала утверждать свое влияние и нуждалась в деятельных кадрах. И еще одна, едва ли не самая важная подробность: у меня была транзитная виза, открывавшая мне любые ворота Франции. Теперь же было важно как-то закрепиться в этой стране. Не имея достаточно денег, чтобы продолжить путешествие, я провел две недели в Марселе, где, к сожалению, мне так и не довелось вдоволь надышаться свежим морским воздухом, овевающим Каннебьер — главную магистраль города. Почти все это время я проторчал на кухне небольшого ресторана, куда нанялся на работу. Меня бесплатно кормили, и почти все мое жалованье ушло на покупку костюма.
Может, это и покажется смешным, но должен честно признаться — за все мои двадцать пять лет у меня никогда не было настоящего костюма, то есть пиджака с брюками. В Палестине весь наш гардероб состоял из шортов и рубашки, а приехать в Париж этаким полуоборвышем я ни за что не хотел. Примеряя первый в моей жизни костюм, я вертелся перед зеркалом, удивленно разглядывал в нем «нового человека» и невольно вспоминал, как евреи из Новы-Тарга, эмигрировавшие в Соединенные Штаты, перед отъездом всячески старались приодеться получше.
В Париже я не без некоторой гордости сошел с поезда и зашагал по незнакомым улицам. В руке я нес небольшой чемодан;
правда, он был наполовину пуст, но какое это имело значение! Я знал заранее, куда пойду. Мой друг детства Альтер Штром покинул Палестину за год до меня и обосновался в Париже. Опытный укладчик паркета, он легко нашел себе работу. На меня почему-то произвело сильное впечатление само звучание адреса, который он мне сообщил: «Отель де Франс», улица Арраса № 9, Париж, Пятый городской округ! Да ведь здесь располагался Латинский квартал — студенческий район! «Отель де Франс»! Такое роскошное название, безусловно, мог носить только какой-нибудь дворец. Неужто мой товарищ Альтер Штром заделался «капиталистом»? В письме он приглашал меня пожить первые дни у него. Наконец я добрался до узкой и мрачной улочки, где под номером 9 стояло небольшое здание. Ветры и дожди наполовину стерли надпись «Отель де Франс». Я спросил, как пройти в номер господина Штрома. Он был на самом верху, прямо под крышей. Я толкнул дверь и сразу же увидел главное: почти всю площадь комнаты занимала огромная кровать. В углу стоял небольшой умывальник, у окна — колченогий столик. Несколько гвоздей, забитых в дверь, заменяли вешалку. Вот и вся обстановка.
Вскоре я понял, почему Альтер Штром поселился именно здесь: «Отель де Франс» был одним из самых дешевых в Париже. Вдобавок полиция почти никогда не заглядывала сюда. Номер Альтера был постоянно открыт для его друзей. Ширина кровати позволяла нам удобно размещаться на ней даже поперек. Нередко мы ночевали здесь вчетвером-впятером. Часто ребята не имели вообще никакого пристанища, и достаточно было сунуть ночному портье несколько су, чтобы он смотрел сквозь пальцы на коллективный ночлег в номере Альтера Штрома.
Но вот неприятность — вся гостиница кишмя кишела клопами. Однажды мы купили две бутылки вина и перекрестили «Отель де Франс», назвав его «Отель де Ванц» (на идиш «ванц» означает «клоп»)…
Я решил записаться вольнослушателем в Парижский университет. Правда, для этого надо было обзавестись своего рода видом на жительство, но получить его было нетрудно, если ты мог доказать полиции, что располагаешь средствами к существованию. Мои друзья давно и довольно просто разрешили эту проблему. Они отправляли в родной город сумму, которую полиция считала месячным прожиточным минимумом. Их родители или друзья, не мешкая, отправляли эти деньги обратно в Париж, которые сразу же и тем же способом использовал кто-нибудь другой. Так что все мы по очереди могли предъявлять полиции квитанции о почтовых переводах, подтверждающих, что из Польши нам регулярно высылают деньги.
Через несколько дней после моего приезда я получил свой первый вид на жительство сроком на полгода, после чего немедленно вошел в контакт с Французской коммунистической партией. Из Палестины я привез рекомендацию тамошнего ЦК, написанную на лоскуте ткани, зашитом под подкладку. Я ее вручил товарищу, ответственному за деятельность среди ИPC12. Мы договорились, что я включусь в партийную работу, как только решится вопрос о моем трудоустройстве. Но о получении какого-нибудь постоянного места нельзя было и мечтать. Иммигранты вынуждены были довольствоваться эпизодической вспомогательной работой. Скорее всего тебя могли взять в подручные куда-нибудь на стройку. При этом десятники, получавшие некоторый процент от зарплаты нанятых ими рабочих, не слишком придирались к оформлению трудовых карточек — то есть письменных разрешений работать. Несколько недель я трудился на строительстве дома издательства «Ашетт», затем в Пантэне, где в течение всей рабочей смены перетаскивал рельсы. Это длилось до того дня, когда упавшим рельсом мне размозжило большой палец ноги. След от этой травмы сохранился по сей день.
В те годы крупные универмаги ежевечерне нанимали чернорабочих для уборки полов. Вместе с несколькими десятками студентов, привязав щетку к одной ступне и мягкую тряпку к другой, я «плясал» с вечера до утра, надраивая паркетные долы универмагов «Самаритен» или «Бон марше». То был нелегкий труд, но он хорошо оплачивался. На один такой ночной заработок я мог прожить двое или трое суток. Еще более изматывающей была обработка грузов на товарных станциях. Ночами напролет приходилось грузить вагоны на станции де ля Шапель. Наутро с ноющими конечностями, с болью в каждой мышце, я с трудом добирался до постели.
Все эти работы были случайными и кратковременными, но партийной работой я занимался в полную меру своих сил. Всем своим существом я был нацелен на завоевание симпатий в кругах еврейских иммигрантов. В этой среде ФКП как раз и стремилась упрочить и расширить свое влияние.
Что касается французских евреев (в то время в Париже их было около двухсот тысяч), то правильнее говорить не об одной, а о нескольких «общинах». На самые древние этнические слои (выходцев из Эльзаса, Лотарингии, Франш-Конте, Бордо), которые ценой упорной борьбы добились определенных прав и, постепенно поднимаясь по социальной лестнице, нажили состояния, одна за другой накладывались волны недавних иммигрантов. Эти евреи из Центральной Европы, чей поток на Запад начался еще на заре XX века и особенно усилился в связи со страшными царскими погромами, были преимущественно пролетарского происхождения. Некоторые из них уже поднабрались опыта политической борьбы в левых партиях своих стран. Они остались верны своим убеждениям. При таких обстоятельствах неудивительно, что, прибыв во Францию, они продолжали бороться, а некоторые политические партии пополнялись за их счет, например коммунистическая партия. Бунд, коалиционная партия, сионистские группировки, движение «Хашомер хацаир», о котором я уже рассказывал.
Я активно работал в еврейской секции ИРС вместе с товарищами, которые из-за репрессий покинули родные страны. Наши ежевечерние совещания всегда затягивались допоздна. В ту пору среди евреев-коммунистов был широко распространен троцкизм. Поэтому перед нами была поставлена задача «очистить еврейскую среду» от активных представителей наших противников. Проводимые нами дискуссии зачастую принимали весьма бурный характер. Понемногу нам удалось в очень значительной степени снизить роль троцкистов среди евреев-иммигрантов, но все же отдельные небольшие группки продолжали весьма энергично проявлять себя.
Являясь евреями и коммунистами, мы не только участвовали в жизни партии, но и в политической борьбе в целом. Неразрывные нити связывали нас с борьбой рабочего класса. Участие в так называемых «жестких» манифестациях всегда было сопряжено с немалым риском, ибо в случае задержания иммигрантов, не получивших натурализации, их частенько выдворяли за пределы Франции. Но как бы то ни было, вопреки многим опасностям, мы участвовали во всех крупных народных демонстрациях, как, например, в праздновании годовщины Парижской коммуны и в первомайских шествиях.
Но дело не ограничивалось чисто политическими событиями: немало иммигрантов-евреев состояло в культурных ассоциациях, таких, как Лига культуры, которая зародилась и развилась под эгидой компартии. Собрания этой лиги устраивались по воскресным дням в зале Ланкри, вмещающем несколько сот человек. Руководители ФКП Пьер Семар или всегда улыбающийся Жак Дюкло регулярно выступали здесь с лекциями. Мне приходилось время от времени выезжать в Страсбург и в Антверпен для участия в собраниях местных еврейских общин.
Наконец, мы вели большую работу в профсоюзах, причем еврейские активисты были особенно многочисленны среди меховщиков и работников промышленности готового платья. В частности, Лозовский, который в 1912 году был секретарем профсоюза шляпников, впоследствии стал одним из ведущих руководителей Профинтерна.
И еще одно небольшое замечание относительно общеполитической позиции евреев-коммунистов. Хочу подчеркнуть, что в их политическом поведении не было почти никаких признаков сектантства. В отличие от «классических» коммунистов, читавших одну лишь «Юманите», мы черпали информацию из множества источников — от социалистической «Попюлер» до весьма консервативной «Тан», не пропускали ни одного номера сатирического еженедельника «Канар аншэнэ» («Утенок на цепи»), к которому и поныне я питаю симпатию, восходящую к моей далекой молодости.
Наряду со всем этим наладилась и моя личная жизнь. Я имел счастье вновь встретиться с Любой, которая в 1930 году приехала ко мне. Разыскиваемая английской полицией, она воспользовалась документами своей сестры Сары и вступила в фиктивный брак с одним моим приятелем палестинцем. Этот формальный супружеский союз давал ей гражданство страны, уравнивал ее в правах с англичанами и позволял получить визу для поездки во Францию. Теперь, живя в Париже на положении иммигрантов, мы опять столкнулись с полицией.
Через несколько недель после приезда Любы как-то на рассвете раздался стук в дверь нашего номера в «Отель де Франс». Я открыл. Передо мной стоял человек, чей внешний вид не оставлял никаких сомнений.
— Я из полицейского участка. Месяц назад ваша жена прибыла в Париж и до сих пор не оформила своего пребывания здесь…
— Простите, — сказал я, наклонился вперед и, словно не желая, чтобы кто-то другой меня услышал, шепнул ему на ухо: — Это не моя жена, а любовница! Через сорок восемь часов она исчезнет.
— Ну, раз так… — тихо проговорил чиновник и не без игривости подмигнул мне.
В стране Куртелина13 галантные истории всегда пользуются успехом, в особенности у полиции.
Мы с Любой жили очень бедно. Вдобавок наше положение осложнилось еще больше — мы ждали рождения первенца. И тут нам повезло: нашелся еврей, маляр по профессии, который, желая мне помочь, взял меня в помощники. Но держать в руках кисть еще не значит быть маляром. Что-то не давалось мне это дело, и я так и остался всего лишь мазилой. А мой хозяин, напротив, преуспел по этой части и со временем выбился в крупные предприниматели.
Люба работала на дому, сшивала меховые шкурки. Дважды в неделю она приносила от скорняка огромные тюки и, не разгибая спины, работала по десять — двенадцать часов в день. Вместе с тем она выполняла партийные поручения и в 1931 году даже была делегирована от еврейской секции компартии на первую антифашистскую конференцию в Париже. Я со своей стороны был назначен представителем еврейской секции И PC при Центральном Комитете ФКП.
Однажды вместе с другим работником И PC я был приглашен в штаб-квартиру ЦК на встречу с Марселем Кашеном. Директор «Юманите» встретил меня с большой сердечностью:
— Здравствуй, — сказал он. — Как идет работа среди евреев? И, не дав мне ответить, продолжил:
— Нацистская угроза растет. Надо усилить пропаганду в еврейских кругах. Необходимо издавать для Франции и Бельгии газету на идиш. Ради этого я вас и пригласил.
— Прекрасно, но кто будет ее финансировать?
— То есть как кто? Ты что же не читал Ленина? Ты не знаешь, как финансируется коммунистическая газета? Надо вербовать подписчиков среди рабочих…
— Мы готовы начать большую кампанию по подписке, но вы-то сами, вы, товарищ Кашен, будете участвовать в наших митингах?
— Конечно, и даже с удовольствием! Всякий раз, когда будет возможность…
Вскоре после этого разговора в Монтре, где жила большая еврейская колония, состоялось многолюдное собрание в синагоге — единственно свободном помещении, которое удалось найти. Местный раввин любезно согласился предоставить ее в наше распоряжение. В назначенный день толпа мелких еврейских ремесленников и торговцев заполнила синагогу. Я сел близ трибуны, рядом с Кашеном. Этот уже немолодой тогда партийный руководитель поднялся с места и громким, уверенным голосом начал свою речь:
— Для меня большая честь, дорогие друзья, находиться здесь, бок о бок с представителями народа, давшего миру великих революционеров. Я имею в виду Иисуса Христа, Спинозу, Маркса!
Гром аплодисментов прервал оратора. Удивленный и смущенный этими словами, от которых, как мне казалось, несло мелкобуржуазным национализмом, я опустил голову, не решаясь разглядывать сидящих в зале. Но Марсель Кашен продолжал в том же духе:
— Вам, друзья, конечно, известно, что дед Карла Маркса был раввином.
Да плевать нам на это сто раз, подумал я. Однако, словно гальванизированная, аудитория, видимо, сочла эту подробность куда более важной, нежели тот факт, что внук этого раввина написал «Капитал».
Кашен закончил свое короткое выступление еще какими-то лирическими подробностями, которые зал встретил с полным энтузиазмом. Организованный у выхода сбор денег на газету прошел с большим успехом. Лицо Кашена расплылось в счастливой улыбке. На прощание он мне сказал:
— Вот видишь, Домб, все-таки мы добиваемся своего. Газета будет выходить!
Прошло еще несколько недель, и первый номер «Дер морген» («Утро») увидел свет. Газета выходила раз в неделю на четырех полосах, но, несмотря на довольно быстро растущий тираж, ее финансовая обеспеченность оставалась ненадежной. Кто-то из членов редколлегии предложил отвести одну полосу под рекламу, которую, вообще говоря, коммунистическая пресса отвергала по моральным соображениям. Мы колебались — можно или нельзя предоставить целую газетную полосу капиталистическим рекламодателям? Вопрос был рассмотрен Центральным Комитетом, который согласился предпринять подобный эксперимент именно на страницах нашей газеты, но при условии публикации объявлений, поступающих только от мелких торговцев, рестораторов и ремесленников. Товарищ, взявшийся вести эту полосу, поставил дело настолько удачно, что впоследствии ему предложили ту же работу в «Юманите»…
Наш сын родился 3 апреля 1931 года. В этот день Андре Марти вышел из тюрьмы и уже вечером должен был выступить перед еврейскими рабочими в Гранж-о-Бель. В честь столь знаменательного совпадения Люба и я решили назвать своего мальчика Анмарти. Я понимаю — сегодня это может вызвать улыбку удивления, но в ту эпоху наше решение лишь подчеркивало авторитет, которым пользовались коммунистические руководители. Понятие о пресловутом культе личности тогда еще не было в ходу.
Я и сейчас живо вспоминаю мэрию XIX городского округа, неподалеку от небольшой квартирки, где мы устроились. Я представился чиновнику загса, чтобы зарегистрировать рождение сына. Когда я назвал выдуманное нами имя, чиновник привскочил от удивления (хотя этот район считался «красным»).
— Анмарти, Анмарти… Такого имени нет.
— Но мы хотим отметить освобождение Андре Марти.
— Это я понял сразу, но если в дальнейшем вы не хотите иметь неприятностей, то послушайте меня: я дал бы на вашем месте ему другое имя.
Тогда я отправился домой — обсудить с Любой создавшееся положение. И мы передумали: назвали мальчишку Мишель в честь городского округа Парижа, где мы жили в самом начале.
Люба занималась партийной работой не меньше, чем я, и мы самым бесстыдным образом использовали наших друзей в роли нянек, которые, сменяя друг друга, ухаживали за маленьким Мишелем.
— Не стоит благодарить нас, — говорили они. — Ведь это вполне естественно. Кроме того, мы видим в этом еще один способ быть полезными партии!
Правда, возникло одно неудобство: некоторые из наших друзей, увлекшись уходом за малышом, перестали посещать собрания»
Так что в конечном итоге худо ли, хорошо ли, но мы приспособились к своей новой жизни, достаточно зарабатывали, чтобы прокормиться, и отдавали сколько могли сил и времени партийным делам, дабы поддерживать свой боевой дух… Революционер вынужден исходить из сиюминутных ситуаций, это несомненно. Путь революционера изобилует ловушками и засадами, и всякий, кто пожелает встать на этот путь, должен быть готовым ко всему, и прежде всего к неожиданностям! Эта истина убедительно подтверждается треволнениями Альтера Штрома, который однажды, июньским утром 1932 года, явился ко мне хмурый и озабоченный. Он спросил, не пришло ли ко мне письмо на его имя.
— Личное письмо? — спросил я.
— Нет, нет! Нечто поважнее.
Его слова изумили меня:
— Не больно осторожно и совсем неумно с твоей стороны давать кому-то адрес ответственного работника ИРС для получения писем о подпольной работе.
Штром работал вместе со мной в Лиге культуры. В 1931 году родители прислали ему немного денег, и он поступил в Институт искусств и ремесел, чтобы выучиться на чертежника, Затем он перестал показываться на людях. Я его ни о чем не расспрашивал, но про себя решил, что, по-видимому, он выполняет какие-то негласные задания компартии Польши.
Через два дня Альтер Штром снова — и опять-таки с весьма озабоченным видом — пришел ко мне насчет письма. Не прибыло ли оно?
Прощаясь, он сказал:
— Во всяком случае, будь начеку!
Мне и в голову не приходило, откуда в действительности грозила опасность. Но через несколько дней я узнал все из газет. Альтер Штром был арестован за «шпионаж в пользу Советского Союза». Видимо, руководитель этой сети, его звали Исайя Бир, был в этом отношении способным человеком, ибо полиция дала ему кличку «Фантомас». Один из журналистов «Юманите», некто Рикье, был также замешан в этой истории, которая стала известна под названием «дело Фантомаса».
Для множества парижских газет все это было желанной сенсацией, которую раздули как только могли. Очень уж велик был соблазн начать кампанию дискредитации Французской компартии, обвинив ее в том, что она «живет на заграничное жалованье». Ну и, как это водится во Франции, тут же был придуман каламбур: какой-то журналист съехидничал про заговор «Фанто-Маркса». Единственная моя связь с группой Фантомаса заключалась в моей дружбе с Штромом, но, будучи боевым активистом коммунистической партии, я счел своим долгом доложить об этом руководству, после чего мне посоветовали покинуть Париж. Полиция, конечно, могла — и этого следовало опасаться — сыграть на моей дружбе с Альтером Штромом и организовать кампанию против еврейских иммигрантов. Подобное опасение отнюдь не было лишено оснований в эпоху, когда реакционная печать уже твердила про «дикую иммиграцию» и все больше раздувала настроения самого вульгарного антисемитизма. Я был совершенно чист и вне каких бы то ни было подозрений. Поэтому я вполне мог бы поехать, скажем, в Брюссель и переждать там какое-то время, покуда в Париже все уляжется. Но я считал, что открывшаяся мне возможность поехать в Советский Союз — чего я добивался с 1931 года — обязательно должна быть использована. Почему? Потому что с момента моего отъезда из Польши я не имел никакой, даже мало-мальской передышки. И если я накопил известный практический опыт, важность которого была просто неоценима, то теоретических знаний у меня было маловато. Настало время восполнить этот пробел.
Мое личное дело было, очевидно, сразу же отправлено. Моя кандидатура, поддержанная руководством ФКП, была одобрена Москвой, точнее, отделом кадров Коминтерна, где товарищами из Франции занималась Лебедева, жена Мануильского. Любе предстояло несколько позже приехать ко мне. Итак, я отправился в столицу СССР. Это было в начале лета 1932 года.
5. НАКОНЕЦ В МОСКВЕ!
По пути в Москву я остановился на несколько дней в Берлине. Представители левого крыла, с которыми я встретился в столице Германии, явно недооценивали нацистскую опасность. Коммунисты и социалисты, подходя ко всему только с точки зрения предстоящих выборов и возможного состава парламента, утверждали: «Гитлеровская партия никогда не получит большинства мандатов в рейхстаге!» Когда же я замечал, что нацисты могут пойти на риск захвата власти силой и что к этому они подготовлены куда лучше, чем все рабочие партии, мои собеседники и слушать меня не хотели.
Однако отряды СА все более четко, все с большим грохотом отбивали шаг на мостовых города. Уличные стычки стали повседневными, гитлеровские ударные группы уже без всяких колебаний нападали на левых активистов.
И вот в такое-то время социалистическая и коммунистическая партии, совместно располагавшие голосами четырнадцати миллионов избирателей, не согласились объединиться в единый фронт. «Нельзя допустить, чтобы за нацистскими деревьями мы не видели социал-демократического леса!» Эта фраза Эрнста Тельмана, генерального секретаря Коммунистической партии Германии, стала крылатой14. Полгода спустя тень нацистского дерева накрыла всю Германию…
И только в 1935 году Коммунистический Интернационал на своем VII конгрессе дал надлежащую оценку этому страшному поражению и выступил за единый фронт, который, впрочем, за колючей проволокой концентрационных лагерей уже давно успели создать томившиеся в них коммунисты и социал-демократы.
Я покинул Берлин, твердо убежденный в неминуемой катастрофе. В поезде, увозившем меня в Москву, было очень мало пассажиров. Подъехав к русской границе, я оказался совсем один не только в купе, но и во всем вагоне. Советский Союз продолжал оставаться в глазах остального мира загадкой. Мне же эта «страна кошмаров», какой ее считали состоятельные слои всего мира, представлялась истинной родиной всех трудящихся.
Когда у самого въезда на советскую территорию перед моим взором возник огромный шар, на котором был начертан знаменитый призыв Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», меня охватило сильнейшее волнение. Сердце мое переполнялось гордостью за возможность принимать участие в строительстве этого нового мира, где люди, сбрасывая с себя оковы и цепи, подводили черту под прошлым. Сколько я мечтал о родине социализма! И вот я здесь!
На пограничной станции меня встретили. Отсюда я продолжил свое путешествие в вагоне с двухместными купе. Через два или три часа ко мне вошел офицер Красной Армии. Он был очень счастлив встрече с иностранным коммунистом. Мешая русские, польские и немецкие слова и выражения, мы разговорились. Подъезжая к Москве, он стал приводить свой багаж в порядок, и каково же было мое изумление, когда я увидел, что два его огромных чемодана набиты сухарями. Закрыв чемоданы, он мне сказал:
— Вот видите, везу подарки моей семье… Они живут в сельской местности…
В Москве меня ожидало удивительное зрелище: весь вокзал и прилегающие к нему площадь и улицы кишели тысячами крестьян, их женами и детьми. Изможденные, прижимая к груди свои мешки, они ожидали прибытия нужного им поезда.
«Но куда же они едут?» — мысленно спросил я себя.
Изгнанные из своих деревень, они направились далеко-далеко на восток, в Сибирь, где не было недостатка в целинных землях.
При выходе из вокзала я увидел милиционера и решил спросить его, как мне добраться до места. Поставив чемодан на пол, я подошел к нему.
— Вы кто? Вы — иностранец? — спросил он. Я кивнул.
— Тогда вот вам мой совет. Всегда держите чемодан в руке. А то здесь, знаете ли, вор на воре!
Воры в Москве? Через пятнадцать лет после Октябрьской революции?! Это просто ошеломило меня. Я взял такси и попросил отвезти меня по адресу, где жил мой старый друг Эленбоген, знакомый мне еще по Палестине. Человек ясного ума, хороший организатор, он активно действовал в группе «Ишуд», но в 1927 году, будучи больным, почти парализованный, он получил разрешение вернуться в Советский Союз. Я предупредил его из Берлина о моем предстоящем приезде, и он ожидал меня. На столе были расставлены хлеб, колбаса, масло, водка. Зрелище двух чемоданов с сухарями, принадлежавших красному командиру, еще не стерлось из моей памяти. Эленбоген, видимо, заметил удивление на моем лице:
— Тебе, наверное, невдомек, откуда у меня такое угощение, — сказал он. — Все это куплено на черном рынке. Хорошо зарабатывающий человек (он был инженером и читал курс лекций в двух институтах) может купить все, что пожелает.
Мы проговорили всю ночь. Хотя и беспартийный, Эленбоген был далек от неприятия советского строя, но то, что он мне рассказал о коллективизации, о жизни в Москве, о судебных процессах, в корне отличалось от всего, что я читал или слышал. С первых же часов мне открылась пропасть между пропагандой и реальной жизнью. Огромная пропасть.
Назавтра я отправился на Воронцово Поле15, где жили политические эмигранты. Большое здание располагалось совсем недалеко от центра. В нем всегда царило оживление. Здесь собрались старые коммунисты из всех стран мира — поляки, венгры, литовцы, югославы, даже японцы, — и каждый из них был вынужден по тем или иным причинам покинуть родину. И поскольку им приходилось ожидать по нескольку недель, а то и месяцев, покуда им подыскивали подходящую работу, то большая часть дневного времени проходила в нескончаемых дискуссиях. Одни одобряли коллективизацию, другие были против нее, ибо она вызвала голод на Украине — здесь я впервые узнал, что в этом регионе люди умирали голодной смертью. Резкость и вольный тон этих споров напоминали мне собрания в Париже, где мы до хрипоты и в общем-то довольно бесплодно спорили с представителями социалистов и троцкистов. Меня поселили вместе с двумя другими товарищами.
Мое открытие Москвы продолжалось… На Манежной площади, в самом центре города, возвышался дом Коминтерна, огромное ихорошо охраняемое здание. Прежде чем вас пропускали внутрь, надо было связаться по телефону с лицом, к которому вы пришли. Секции Коминтерна распределялись по этажам. В этом доме был представлен весь земной шар. Меня принял секретарь французской секции, которого заранее проинформировали о моем предстоящем прибытии. Он сделал все необходимое, чтобы обеспечить мое поступление в коммунистический университет. В то время в Москве существовали четыре комвуза. Первый из них, Ленинская школа, предназначался для товарищей, уже накопивших большой практический опыт, но лишенных возможности по-настоящему учиться. Через этот университет проходили будущие руководители коммунистических партий. В описываемое время там, в частности, учился Тито. Второй комвуз, куда направили меня на учебу, назывался Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского, который был в свое время первым его ректором. Он был создан специально для национальных меньшинств Запада, но фактически там было около двух десятков секций — польская, немецкая, венгерская, болгарская и т. д. В каждую из них включалась особая группа коммунистов — выходцев из того или иного национального меньшинства данной страны. Так, например, в югославскую секцию входили сербская и хорватская группы. Что касается еврейской секции, то она охватывала коммунистов-евреев из всех стран, да еще вдобавок советских евреев — членов партии. Во время летних каникул часть из них разъезжалась по родным местам, и через них мы знали обо всем, что происходило в Советском Союзе. Третий университет назывался КУТВ16. В нем обучались студенты из стран Ближнего Востока. Наконец, Университет имени Сунь Ятсена был создан специально для китайцев. Во всех четырех университетах насчитывалось от двух до трех тысяч тщательно отобранных людей.
Нашу студенческую жизнь в 1932 году никак не назовешь легкой. Большинство из нас поселили далеко от места учебы, и на поездку в один конец мы затрачивали час с лишним. Только в 1934 году рядом с нашим университетом приступили к строительству большого общежития на тысячу двести студентов. Кормили нас чрезвычайно однообразно. Часто случалось, что целую неделю нас держали на одной капусте, а следующую — только на рисе. Такие «недельные меню» дали повод к шутке, которая повторялась так же часто, как и блюда, которыми нас потчевали. А шутка была такая:
вот, мол, кого-то из нас придется оперировать, и хирург обнаружит в его животе нашу еду в форме напластований — слой риса, слой капусты, слой картофеля и т. д.
Университет заботился также и об одежде студентов. Хозяйственник, ведавший этим делом, закупал сразу семьсот пар одинаковых брюк, и, когда москвичи встречали нас на улице, нередко можно было услышать:
— Глянь-ка, вот студент из университета Мархлевского!
А ведь мы считались «засекреченными»…
До сих пор у меня хранится последняя зачетная книжка, связанная с моей учебой в университете имени Мархлевского. Внутри — уже тогда — напечатаны фотографии Ленина и Сталина, а на следующей страничке — ректора Мархлевского. Под снимками помещены цитаты. Под фото Ленина: «Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием». Цитата из Сталина: «Теория может превратиться в величайшую силу рабочего движения, если она складывается в неразрывной связи с революционной практикой». В какую-то минуту рассеянности Сталин, по-видимому, забыл этот прекрасный девиз.
Программа охватывала три учебных цикла. Социально-экономические науки увязывались с историей народов Советского Союза, историей большевистской партии, Коминтерна, с изучением ленинизма. Второй цикл был посвящен изучению родных стран студентов, в частности истории национального рабочего движения, национальной коммунистической партии, различных национальных особенностей данной страны. Третий цикл предусматривал изучение языков. Те, кому прежде не довелось учиться, могли овладеть основными сведениями по математике, физике, химии, биологии. Работать приходилось с крайним напряжением, в среднем по двенадцать — четырнадцать часов в сутки.
В своей секции я проявлял особый интерес к различным аспектам еврейского вопроса. Наш профессор Дименштейн был первым евреем, вступившим в большевистскую партию еще в начале века. После революции он работал под началом Сталина заместителем наркомнаца. Он хорошо знал Ленина и нередко повторял его мысль о том, что антисемитизм — это контрреволюция. Из своих многочисленных бесед с Лениным Дименштейн заключил, что тот был сторонником создания в Советском Союзе еврейской автономии, которая пользовалась бы такими же правами, что и все остальные.
Студентов коммунистического университета обучали также и военному делу, а именно: обращению с оружием, стрельбе, элементам гражданской обороны, основам ведения химической войны. В стрелковом тире я ничуть не блистал, наоборот, систематически «мазал», то есть вообще не попадал в мишень. Руководители ВКП(б) и Коминтерна часто приезжали к нам и читали лекции. Со временем эти лекции стали очень редкими. Кроме того, мы участвовали в вечерах, организуемых Обществом старых большевиков, которое после мая 1935 года перестало существовать.
Выдающиеся деятели, уже принадлежавшие истории или продолжавшие ее творить, как, например, Радек, Зиновьев, Каменев, оживляли наши дискуссии. Зиновьев производил на меня странное впечатление, и это, несомненно, потому, что его неизменно пламенные и вдохновенные речи никак не соответствовали резкому и высокому голосу, который ему так и не удалось поставить. Никогда не забуду, как однажды, подчеркивая слова соответствующей жестикуляцией, он визгливо воскликнул: «Я приникаю ухом к земле и слышу приближение революции, но боюсь, как бы социал-демократия не оказалась самой главной контрреволюционной силой!»
Бухарин очаровал меня. Отличный оратор, умный, блестяще образованный, он отошел от большой политики, чтобы всецело посвятить себя литературе. Всякий раз, когда он заканчивал свое выступление, аудитория разражалась громовой овацией, которую он принимал с невозмутимо спокойным лицом. Как-то раз, грустно вглядываясь в разбушевавшийся от восторга зал, он словно ненароком проговорил:
— Каждая такая овация приближает меня к смерти! Карл Радек был тоже человеком светлого ума, но всегда как бы прятался за барьером язвительной и циничной иронии. Он одобрял любые перемены политического курса, писал пространные статьи, разъясняя читателям официальную линию, хотя сам ни одному слову из этих своих статей не верил. Но все отлично понимали что к чему.
Раздраженный остротами Радека, передававшимися из уст в уста по всей Москве, Сталин призвал его к ответу.
— Неверно, будто я сочиняю антисоветские анекдоты, — возразил Радек. — Другие еще не то рассказывают!..
Иностранные коммунисты, учившиеся в Москве, жили своим, очень замкнутым мирком. Нам нечасто представлялась возможность попутешествовать и пообщаться с русским населением. Отрезанные от социальной жизни советских людей в период 1932 — 1935 гг., мы все-таки еще не попали под влияние бюрократической махины, непрерывно расширявшей свою власть над страной. Наши политические дискуссии сплошь и рядом касались тем, которые в самой партии уже никто не обсуждал. От представителя нашей национальной секции в Коминтерне мы больше, чем советские люди, узнавали обо всем, что творилось в их стране, а если были с чем-либо несогласны, то без колебаний высказывали свое мнение.
Через несколько месяцев после моего приезда в Москву нам рассказали о «самоубийстве» жены Сталина. Студенты коммунистических университетов, участвующие в похоронах, шепотом спрашивали друг друга:
— Так что же все-таки — она покончила с собой или ее убил Сталин?
В начале 1933 года в Москву приехала Люба с нашим сыном, полуторагодовалым Мишелем. Французская секция Коминтерна помогла ей поступить в университет имени Мархлевского, где она проучилась до 1936 года. Одновременно она вела партийную работу в Бауманском районе. В то время вторым секретарем МГК партии был Никита Хрущев. Летом ее направили в качестве политкомиссара в колхозы, возложив ответственность за уборку урожая и выполнение плана. Впрочем, в 1936 году иностранным коммунистам запретили заниматься какой бы то ни было ответственной работой в ВКП(б). Эти поездки на места быстро раскрыли Любе глаза на многое и обострили ее критический подход к событиям, происходящим в стране.
6. ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
Небо над открывшимися мне горизонтами было далеко не безоблачным.
Так, к моменту моего приезда в Советский Союз партия рассматривала коллективизацию как решенную проблему, но старые коммунисты не переставали говорить о ней, ибо были травмированы ее практическим осуществлением. Поначалу Сталин решил уничтожить кулака как класс. Но очень скоро эта установка видоизменилась. В марте 1930 года, когда кампания по коллективизации была в самом разгаре, появилась статья Сталина «Головокружение от успехов», в которой он осуждал принцип добровольного объединения в колхозы. Теперь крестьяне подлежали принудительной коллективизации хоть под артиллерийским огнем, коли это понадобится17. Мы, молодые студенты, начитавшись Ленина, знали, что коллективизация может быть успешной только при соответствующем воспитании и переубеждении крестьянских масс. Кроме того, она мыслилась только при определенном уровне промышленного развития, которое обеспечивало бы деревне необходимую материальную инфраструктуру.
В кругах зарубежных коммунистов циркулировал слух, будто коллективизация повлекла за собой гибель пяти миллионов людей. Рассказывали также, что крестьян высылали целыми деревнями, а многих уничтожали. 1 мая 1934 года я был в Казахстане во главе делегации иностранных коммунистов. В Караганде нас принял местный партийный руководитель, поехавший с нами на осмотр города.
На его окраине, в низине был расположен большой барачный лагерь.
— Вон там внизу — лагерь для бывших кулаков, — сказал он. — Их привезли сюда вместе с семьями для работы в шахтах.
И с каким-то удивительно естественным цинизмом он добавил:
— Товарищи, ответственные за создание этого лагеря, подумали обо всем, кроме одного — водоснабжения. Поэтому здесь вспыхнула эпидемия тифа и несколько тысяч человек умерло. А то, что вы видите сейчас, — это уже вторая волна.
В нашу честь был организован большой вечер дружбы. Вместе с нами сидели партийный секретарь и какой-то полковник НКВД. Он указал нам на четырех хорошо одетых мужчин, явно принадлежавших к дореволюционному поколению.
— Вот наши инженеры, — сказал полковник. — Они руководят эксплуатацией шахт. Со временем Караганда станет вторым угледобывающим районом Советского Союза.
Когда эти четыре инженера представились и я узнал их имена, то чуть не свалился со стула: в 1928 году одиннадцать инженеров были обвинены во вредительстве и казнены после судебного процесса, наделавшего в Советском Союзе много шуму. И вдруг четверо из них стоят передо мной! Я поворачиваюсь к полковнику НКВД и говорю ему:
— Послушайте, по-моему, это главные обвиняемые по шахтинскому процессу!
— Вы правы, это именно они…
— Но ведь их приговорили к смертной казни, и мы думали, что приговор приведен в исполнение…
Выдержав небольшую паузу, мой собеседник сказал:
— Видите ли, расстрелять кого-нибудь стоит не так уж дорого, но поскольку все они исключительно компетентные в своем деле люди и возможность их использования мы считали вполне реальной, то привезли их сюда и сказали им: «Под вашими ногами залегают огромные запасы угля… Наш Карагандинский бассейн может и должен стать, после Донбасса, вторым угольным центром Советского Союза. Все зависит от того, как вы возьметесь за дело. В общем, выбирайте одно из двух: либо вы добиваетесь успеха — и ваши жизни спасены, либо…» Эти четверо приехали сразу после процесса, — добавил человек из НКВД. — Они свободны и выписали к себе свои семьи…
Его откровение ошеломило нас: ведь если одиннадцать привлеченных к суду инженеров действительно совершили преступления, в которых их обвинили, то они сто раз заслужили смертную казнь. А с ними вдруг начали торговаться. Это казалось просто непостижимым. Но кто-то из присутствующих разъяснил нам суть дела:
— Конечно, нельзя сказать, что эти господа были так уж фанатично преданы советскому строю. В Донбассе, где все они работали на руководящих постах, добыча угля снижалась. Правда, затопление некоторых шахт произошло по совершенно естественным причинам. Возможно, какую-то роль сыграли и отдельные попытки вредительства. Однако было ли вредительство или нет, но все это раздули до предела (особенно в дни процесса), чтобы показать всей стране, почему, мол, снижается угледобыча. Ну а в Казахстане мы ничего не опасаемся и на все сто процентов уверены, что никто здесь не наладит угледобычу лучше, чем эта четверка.
Значит, инженерам, приговоренным к смерти за «вредительство», доверяли эксплуатацию второго по своему значению угольного бассейна Советского Союза! Бывших кулаков превратили в шахтеров, умирающих от тифа в лагерях, лишенных самых элементарных санитарно-гигиенических условий! И тут мы, студенты-коммунисты, вдруг поняли, что между теорией, которую нам вдалбливали в университете, и действительностью пролегла пропасть, о которой мы и не подозревали.
В 1930 году прошел еще один процесс — так называемый «процесс Промпартии». Главный подсудимый, Рамзин, обвиненный в сотрудничестве с французской разведкой с целью реставрации капитализма в России, был приговорен к расстрелу. Через пять лет он вышел из тюрьмы и получил назначение на пост директора крупного научно-исследовательского института в Москве. Впоследствии его наградили орденом Ленина. Он умер в собственной постели в… 1948 году.
Вот такие факты, свидетелем которых я был, начали расшатывать мое прекраснодушие, мою до тех пор непоколебимую уверенность. Молодой пламенный коммунист, я приехал в Советский Союз, полный мечтами неофита о светлом будущем. Мне так хотелось активно участвовать в изменении облика мира, хотя даже и по собственному опыту я знал, что непосредственные, лобовые столкновения с реальной действительностью иной раз заставляют человека пересмотреть какие-то не в меру восторженные представления о жизни.
Счастливы те, кто, оглядываясь назад, способны анализировать события, сопоставлять их, понимать. Теперь и я принадлежу к «привилегированным», которым возраст дал эту возможность. Говорю об этом с полным основанием, ибо в свое время я был в числе активных коммунистов, с юных лет посвятивших себя делу освобождения трудящихся. Но вот тогда, находясь в СССР, мы проживали день за днем, не задумываясь над неизбежной взаимозависимостью фактов бытия. Конечно, все вышесказанное задевало мою революционную совесть. Но я без остатка растворился в борьбе, и для меня было просто немыслимо поддаться искушению пересмотра единожды сделанного мною выбора. Я объяснял все это человеческими слабостями и случайным стечением обстоятельств.
Именно в эту пору я ознакомился с «Ленинским завещанием»18, один машинописный экземпляр которого циркулировал в нашем университете, но попадал только в руки студентов, пользующихся особым доверием дирекции. «Сталин, — писал Владимир Ильич, — слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого поста…»
И напротив, Ленин подчеркивал выдающиеся качества Троцкого, правда всецело признавая его недостатки. Так что, по крайней мере в этом вопросе, коммунисты не учли пожелания Ленина, проявив тем самым некоторую неверность покойному: Троцкий был предан анафеме, а Сталин пришел к власти.
Очень взволнованный, даже обеспокоенный этими выводами, я принялся за изучение самой недавней истории партии, долго листал советскую прессу последних лет в надежде разобраться во всем. Помню, мне удалось установить следующее: зарождение культа личности Сталина относится к 1929 году — году его пятидесятилетия.
Как раз тогда и стали появляться в газетах эпитеты вроде «гениальный», «великий вождь», «продолжатель дела Ленина», «непогрешимый кормчий». Те же, кто без конца прибегал к этим эпитетам в своих статьях, публикуемых в «Правде» и в «Известиях», еще в недавнем прошлом были руководителями оппозиции. Зиновьев, Каменев, Радек, Пятаков прямо-таки соперничали друг с другом, восхваляя Сталина, дабы поскорее позабылась дерзость, с которой они осмеливались противиться ему. В 1929 году в партии уже не существовало фракций. Оппозиция потерпела поражение, однако ее руководители все еще занимали ответственные посты. Бухарин был главным редактором «Известий»; Радек стал одним из ведущих публицистов и советником Сталина по вопросам внешней политики.
В партии вспыхнула тяжелая эпидемия двуличия. При Ленине политическая жизнь в большевистской партии всегда была оживленной, бурной. На съездах, на пленумах и различных совещаниях в Центральном Комитете все выступавшие откровенно высказывали все, что думали. Такие демократические столкновения мнений, подчас довольно резкие, только сплачивали партию и укрепляли ее жизнеспособность. С момента утверждения Сталиным своей власти над партийным аппаратом даже старые большевики уже больше не осмеливались возражать против его решений или просто обсуждать их. Одни молчали, и сердце их обливалось кровью, другие отходили от активной политической жизни. Хуже того, многие товарищи публично поддерживали Сталина, хотя в глубине души не соглашались с ним. Это отвратительное двуличие нарастало в партии, как снежный ком, и ускоряло процесс «внутренней деморализации».
Вот и приходилось выбирать между официальным положением или даже личной безопасностью, с одной стороны, и революционной совестью — с другой. Многие попросту молчали, гнули спины и смирялись. Высказать свое мнение на какую-нибудь злободневную тему подчас было равнозначно проявлению личной смелости. Говорить с открытым сердцем можно было только с надежными друзьями, да и то не всегда! А при других собеседниках приходилось снова и снова повторять официальные славословия, публикуемые в «Правде».
Начиная с 1930 года в партийном руководстве остались лишь те, кто неизменно и безоговорочно соглашался со Сталиным по любому вопросу, даже в случаях, когда казалось вполне нормальным или даже желательным сопоставить различные точки зрения. Исключения бывали весьма редкими: некоторые руководители из когорты старых большевиков, которым было невмоготу видеть, как партия Ленина превращается в какой-то религиозный орден19, порой набирались смелости сказать «нет». К ним относятся Ломинадзе и Луначарский…
Ломинадзе покончил с собой в 1935 году. Так же поступил и Орджоникидзе, старый друг Сталина, который в 1937 году, после обыска, проведенного НКВД в его кабинете, добровольно ушел из жизни. Он было попытался заявить Сталину протест и позвонил ему по телефону, но тот круто оборвал его:
— Они имеют право! Они имеют все права, и у тебя, и где угодно!
До 1930 года Луначарский еще заступался за репрессированных интеллигентов. В 1929 году И. Э. Якир без колебаний выступил в защиту группы ни в чем не повинных офицеров, арестованных ОГПУ. То есть тогда еще можно было в какой-то степени противостоять аппарату насилия. Знаю об этом по собственному опыту.
Однажды, в ноябре 1934 года, мою жену вызвали на Лубянку для дачи свидетельских показаний. Назавтра настала моя очередь. Полковник, руководивший следствием, сообщил нам, что некто Каневский, которого мы хорошо знали по Палестине, арестован. Это был прекрасный коммунист, беззаветно смелый и преданный человек, всегда добровольно вызывавшийся выполнять самые опасные задания. Несколько раз арестованный англичанами, он достойно и мужественно вел себя в тюрьме. В 1930 году его насильно выслали в Советский Союз.
— Каневский подозревается в сотрудничестве с Интеллидженс сервис, — заявил полковник.
— Послушайте, — ответил я, — конечно, противника не следует недооценивать. Интеллидженс сервис, несомненно, старается вербовать для себя новых агентов. Но эта разведка наверняка сядет в лужу, если будет пользоваться услугами людей вроде Каневского, который абсолютно не годится для такой работы.
— И все-таки, — заметил полковник. — Я поинтересовался мнением двух бывших руководителей Компартии Палестины. Один из них совсем не знает Каневского, а другой сказал, что, вообще говоря, все может быть!..
Прошло несколько месяцев, и однажды в университете мне и Любе сказали, что нас кто-то ждет в вестибюле. Мы спустились вниз — это был Каневский, пришедший поблагодарить нас. Со слезами на глазах он рассказал, что только что вышел из тюрьмы, что все свидетельские показания были против него и своей жизнью он обязан только тем сведениям о нем, которые сообщили мы. Однако, к великому сожалению, в последующие годы показания такого рода стали невозможны.
В 1937 году я узнал об аресте моего друга Альтера Штрома, работавшего в ТАСС. Считая это недоразумением, я попросил позволить мне дать показания в его пользу. Мне стоило огромных усилий пробиться к полковнику, руководившему следствием. В частности, я обратился за поддержкой к одному работнику военной разведки. Тот решил, что я рехнулся. Как это — взяться защищать арестованного! Разве можно быть настолько недальновидным?!
Полковник-следователь, не зная о цели моего визита, принял меня в высшей степени предупредительно. Предложил мне кофе, папиросы и наконец сказал:
— Итак, товарищ, вы пришли, чтобы дать свидетельские показания по делу Штрома?
— Именно так.
— Тогда слушаю вас.
— Я просто хочу сказать вам, что Альтер Штром невиновен… Самописка выскользнула из его пальцев, улыбка сменилась недоброй гримасой, лицо выражало недоверие и словно замкнулось.
— Значит, только ради этого вы пришли?
— Да, ради этого. Я знаю Альтера Штрома с его юных лет. Знаю, что он не враг. И вполне естественно, что я явился сюда и говорю вам это.
Полковник посмотрел на меня долгим взглядом.
— Будем говорить откровенно, — сказал он. — Октябрьская революция в опасности. Если на сто человек, которых мы арестуем, хотя бы один-единственный окажется врагом, то этим оправдывается арест всех остальных. Выживание революции стоит этой цены.
Словом, он кратко изложил философию репрессивной политики власти.
— Не знаю, в чем заключается опасность, угрожающая Октябрьской революции, — ответил я. — Но я удивляюсь тому, что после двадцати лет существования Советской власти наркомат, подобный вашему, не умеет отличить друга от врага.
7. СТРАХ
Вместе с культом Сталина развивался и культ партии20. Партия не может ошибаться, она непогрешима… В споре с партией невозможно быть правым. Партия священна. То, что изрекает партия устами своего генерального секретаря, это слова Евангелия. Не одобрить их, оспорить — значит пойти на святотатство. Вне партии спасения нет. Если ты не с партией, значит, ты против нее… Таковы были непреложные истины, которые вдалбливались в головы сомневающихся. Что же до еретиков, то они не заслуживали даже и намека на отпущение грехов. Они были обречены на отлучение от церкви.
Божественная партия и ее пророк Сталин являются предметом беспредельного культа, но не обойдены и его, Сталина, соратники. Уже сразу после смерти Ленина вошло в моду переименовывать города: Ленинград, Сталинград, Зиновьевск, даже Троцк. Одному трамвайному депо оказана особая честь носить имя Бухарина. Так же как при религиозных процессах, когда за распятием несут эмблемы святых, так и при официальных манифестациях за портретом Сталина следовали портреты других главных руководителей. Чтобы определить, какова в данный момент иерархия, достаточно было во время больших торжественных собраний понаблюдать за последовательностью появления на сцене членов Политбюро.
В марте 1934 года на XVII съезде партии делегатам впервые не предложили вообще никакой резолюции для голосования. Поднятием рук присутствующие одобрили предложение «руководствоваться в своей работе положениями и задачами, выдвинутыми в докладе товарища Сталина». Это было как бы освящением притязания генерального секретаря на абсолютную полноту своей власти над партией. Но у каждой медали есть обратная сторона. Эта абсолютная, деспотическая и даже уже тираническая власть, которая постепенно утверждалась в течение предшествующего десятилетия, напугала часть делегатов. Избрание тайным голосованием членов Центрального Комитета послужило поводом для последней попытки сопротивления. Согласно официальным результатам, провозглашенным с высокой трибуны съезда, за Сталина и Кирова проголосовали все делегаты, за исключением трех. Но на самом деле все было совсем по-другому: около трехсот делегатов, то есть более одной четверти, вычеркнули имя Сталина. Насмерть перепуганный Каганович, отвечавший за организацию съезда, решил сжечь бюллетени и объявить, что при тайном голосовании Сталин якобы получил точно такое же число голосов, какое действительно получил Киров. Сталин, конечно, узнал об этой закулисной махинации, и, строго говоря, именно это голосование и дало толчок тому кровавому процессу, который не мог не привести к массовым репрессиям. Началась «смена кадров». Живые силы революции стали исчезать, проваливаясь в некий зияющий люк, под которым словно разверзлась бездна. Во главе списка стояли делегаты XVII съезда. Из ста тридцати девяти делегатов, избранных в состав Центрального Комитета, в последующие годы сто десять были арестованы. Для начала репрессий нужен был повод, а если повода нет, его всегда можно найти. 1 декабря 1934 года был убит Киров.
Многолетний секретарь Ленинградского обкома партии, Киров еще в 1925 году был направлен Сталиным в «Северную Пальмиру» с поручением искоренить там остатки влияния зиновьевцев. Простой, обходительный и доступный человек, Сергей Миронович быстро завоевал широкую популярность. Вокруг его имени стала кристаллизоваться оппозиция Сталину, и это убедительно подтвердилось на XVII съезде ВКП (б). Нет сомнений, что в условиях истинно демократичных выборов Киров оказался бы во главе партии, но тогда никто не сознавал, что как раз в этом-то и заключалась главная причина организации его убийства. Сталин избавлялся от соперника и вместе с тем создавал атмосферу, оправдывающую волну репрессий. Смерть Кирова, возведенного в ранг великомученика, могла послужить предлогом для уничтожения его сторонников. По инициативе самого Сталина начался кровавый шквал репрессий. Обвиненные в подстрекательстве Николаева — убийцы Кирова — сто заключенных были немедленно расстреляны. Очень скоро после этого, 15 и 16 января 1935 года, состоялся судебный процесс. Зиновьев и Каменев, посаженные на скамью подсудимых, признали, что как бывшие руководители оппозиции они несут моральную ответственность за это убийство. Их приговорили, соответственно, к десяти и пяти годам тюремного заключения. Должен откровенно сказать, что в те дни в нашем университете не верили, будто убийство Кирова подготовила какая-то организованная группа. Считалось, что это дело рук исступленного фанатика. Но, во всяком случае, никто не мог даже в отдаленной степени вообразить, какие дни ожидали нас. Убийство Кирова оказалось своеобразным сталинским «поджогом рейхстага».
18 января 1935 года руководство Коммунистической партии разослало всем местным руководителям директиву «мобилизовать все силы на уничтожение вражеских элементов». Эта расплывчатая формулировка — «вражеские элементы» — давала НКВД неограниченную свободу действий. С целью выявления этих элементов началось повсеместное поощрение подозрительности и доносительства; послушная приказаниям пресса требовала изобличать виновных, в сотнях статей призывала советских граждан говорить языком «правды», а это означало, что соседа по лестничной площадке, товарища по работе, пассажира автобуса, торопящегося куда-то прохожего — всех их надо считать подозрительными. Наблюдать, быть начеку, разоблачать! По всей стране распространилось «стукачество».
Затронутыми оказались буквально все слои населения. Мой сын Мишель, воспитанник пансионата для детей коминтерновцев, рассказал мне следующую поучительную историю, показывающую, до какой степени разросся психоз шпиономании.
В один прекрасный день кто-то из «миссионеров большевизма», вернувшись после длительной загранкомандировки в Москву, пришел в этот пансионат повидать своего сынишку Мишу. Как и при всяком родительском посещении, был организован небольшой праздник. Перед уходом отец говорит Мише:
— Я приеду за тобой через две недели.
На другой день его арестовали.
Время идет. Мальчик спрашивает, где же его папа. Директор пансионата сначала уклонялся от ответа, но потом собрал ребят и заявил им:
— Помните празднество, которое мы с вами устроили недавно в честь Мишиного отца? Так вот, это был вовсе не Мишин отец, а шпион, выдавший себя за него. А отца Миши убили капиталисты! Так что, дети мои, как говорит наш товарищ Сталин, нам нужно удвоить бдительность, чтобы разоблачать врагов народа.
Вдохновленные этим советом, ребята решают устроить в окрестностях пансионата облаву на шпионов. Однажды на улице им попадается довольно странный тип. Высокий и с виду сильный, он одет в длинный габардиновый плащ с поднятым воротником. На нем надвинутая на лоб шляпа, глаза замаскированы темными очками. В руке у него черный портфель. Какие же тут могут быть сомнения! Шпион — ясное дело! Ребята идут за ним по пятам и видят, как он скрывается за большими воротами завода. Сыщики в коротких штанишках подбегают к вахтеру…
— Да вы с ума сошли! — кричат они. — Только что вы пропустили на завод шпиона!
Вахтер изумляется, но тут же хохочет:
— Ваш шпион — директор нашего завода!
Затем пошли показательные судебные процессы. Старых большевиков, соратников Ленина, обвиняют в каких-то совершенно немыслимых делах. Будто они стали шпионами — английскими, французскими, польскими — неважно какой страны. Доказательства? Их фабриковали грубейшим образом. На каждом процессе перечисляются члены Политбюро, которые якобы просто чудом не стали жертвами покушений. Списки обвиняемых варьировались. Иной раз — уже на следующем процессе — на скамье подсудимых оказывались люди, которые всего несколько месяцев назад якобы едва не пали от пули заговорщиков. А теперь уже их самих уличали в терроризме…
Эти трагические спектакли, неуклюжая режиссура которых, казалось бы, должна была раскрыть глаза всем, преследовали одну цель — поселить страх и ужас в сознании и душах советских людей. Страной овладел какой-то неправдоподобный коллективный психоз, поддерживаемый всеми средствами государственного аппарата. Исчезла соразмерность вещей, все стало каким-то иррациональным. Чем, например, объяснить, что коммунисты вроде Каменева, Зиновьева и Бухарина признались в предъявленных им обвинениях? Этот вопрос, волновавший миллионы людей во всем мире, очень долго оставался без ответа. Даже в Советском Союзе плотная завеса лжи и фальсификаций была приподнята с большим опозданием, да и то лишь частично. В 1964 году, в короткий период оттепели, в одной из книг можно было прочитать, что после убийства Кирова имели место четыре процесса бывших членов оппозиционных групп, в январе 1935 г., в августе 1936 г., в январе 1937 г. и в марте 1938 г. Три из них проводились публично. Всех подсудимых обвиняли в измене родине, шпионаже, в подготовке террористических актов против Сталина и Молотова, в убийстве Горького и других лиц. Анализ источников показывает, что следствие по этим делам велось при явном нарушении норм законности, и это даже при открытых процессах. Обвинения основываются на признаниях обвиняемых, что прямо противоречит принципу презумпции их невиновности. Карл Радек в ходе своего процесса заявил, что последний всецело основывается всего лишь на показаниях двух лиц — его самого и Пятакова. Он иронически спросил у Вышинского, как можно рассматривать их показания как доказательства, коль скоро они «бандиты и шпионы»? «На чем вы основываете ваше предположение, — спросил он Вышинского, — что то, что мы сказали, есть правда, чистая правда?» Сегодня можно считать совершенно несомненно установленным: большинство показаний троцкистов и уклонистов на этих процессах лишены всякого основания, что, конечно, ставит под сомнение правдивость всей совокупности этих показаний.
Генеральный прокурор Вышинский провел все эти процессы в полное нарушение правил процедуры. Так, когда Крестинский отказался признать себя виновным в том, что ему инкриминировал Вышинский, последний потребовал прекращения заседания и возобновил свой допрос только на следующий день. А назавтра Крестинский вдруг заявил, что ответил «не виновен» машинально вместо того, чтобы ответить «виновен». Бухарин утверждал, что никогда не участвовал ни в подготовке убийств или каких-либо диверсионных актов и что суд не располагает никакими доказательствами, чтобы обвинять его в этом. «Какие у вас доказательства? — спросил он, — кроме показаний Шаранговича, о существовании которого я до моего ареста никогда ничего не знал?» По этому поводу Вышинский, анализируя доказательства, цинично заявил, что для выдвижения обвинения вовсе не обязательно, чтобы все преступления были доказаны. Таким образом, в свете обстоятельств, о которых мы напомнили, в ходе этих процессов законность грубо нарушалась.
Такой была в 1964 году официальная точка зрения. Однако от правды нас все еще отделяет немалая дистанция. Следовало бы вдобавок рассказать о физических и нравственных пытках, о систематическом шантаже семей обвиняемых. Кроме того, за ущемленными, несправедливо исковерканными судьбами нескольких десятков жертв упомянутых процессов мы не должны забывать, что ведь репрессии затронули миллионы советских граждан, от которых вообще не требовали каких-либо признаний!
Сталинское руководство потерпело неудачу во всех своих начинаниях — будь то экономическое развитие, коллективизация, индустриализация. И напротив, план истребления кадров был перевыполнен сверх всяких предвидений. «Смена кадров», провозглашенная Сталиным, практически предполагала ликвидацию всех, кто занимал какую бы то ни было должность. Чистки были организованы «по-научному» — по категориям, по наркоматам, по единицам административного деления, по отраслям. Погибая, каждая жертва увлекала за собой своих сослуживцев, друзей и знакомых. Так, например, Пятаков работал в Наркомате тяжелой промышленности. По своим служебным обязанностям он, естественно, встречался с сотнями людей. После его ареста все они оказались под подозрением…
Дело Пятницкого наглядно показывает суть этой репрессивной политики, чем-то напоминающей игру на кегельбане: если пущенный шар заденет одну фигуру, то свалятся и все остальные. Старый большевик, Пятницкий был близким соратником Ленина. После создания Коминтерна он стал одним из его главных руководителей. Обладая большими организаторскими способностями, он оказался во главе управления кадров. Он подбирал, формировал и рассылал кадры Коминтерна по всем странам. В начале 1937 года Пятницкого арестовали и предали суду как «германского шпиона». Правду об этом деле я узнал значительно позже, в 1942 году, когда, находясь в гестапо, я попал на допрос к человеку, в свое время организовавшему эту провокацию. Все документы, доказывающие «виновность» Пятницкого, были фальшивками, сфабрикованными германской контрразведкой. Нацисты задумали использовать царящую в Советском Союзе шпиономанию для того, чтобы сотворить «германского агента», будто бы пробравшегося в руководящую партийную верхушку. Но почему их выбор остановился именно на Пятницком? По очень простой причине: немцы знали, что через Пятницкого они нанесут удар по всему управлению кадров Коминтерна, которое будет уничтожено.
В Германии Пятницкого хорошо знали: после Октябрьской революции вместе с Радеком он ездил туда нелегально. Гестапо арестовало двух активистов Компартии Германии, командированных Коминтерном. Этот арест остался тайным. Обоих агентов удалось перевербовать, но они продолжали работать в немецкой компартии. Один из них по заданию гестапо сообщил в НКВД, что имеет доказательства предательской деятельности некоторых руководителей Коминтерна. Затем при его участии в Москву было переправлено досье на Пятницкого, «доказывающее», будто после первой мировой войны тот вошел в контакт с одной из германских разведслужб. В атмосфере, господствовавшей тогда в Москве, этого было вполне достаточно, чтобы осудить старого революционера. Машина была пущена в ход, а ее маховик завертелся как бы уже сам по себе. Вместе с Пятницким исчезли сотни ответственных работников Коминтерна. То была одна из лучших услуг, которую Сталин оказал Гитлеру!
По всем этим делам никакого настоящего следствия не велось. Коли человек арестован, значит, уже в силу этого одного он виновен. А раз виновен, значит, должен признаться. Ну а если отрицает свою вину, значит, предатель вдвойне. При первом же подозрении механизм запускался и действовал вплоть до осуждения арестованного. За ним не признавалось даже самое элементарное право на защиту. Вся страна превратилась в единое огромное поле деятельности НКВД. Начиная с 1935 года в каждом городе, в каждой деревне тюрьмы стали заполняться невинными людьми. И когда они переполнились, встал вопрос об их расширении или о строительстве новых. В развитие «индустрии концентрационных лагерей» вкладывалась поистине громадная энергия.
Иностранные коммунисты, будучи привилегированными наблюдателями, следили за волной репрессий, захлестывающей страну. Руководители коммунистических партий, возглавлявшие Коминтерн, не только не противились всему этому, но, напротив, попустительствовали подобным делам или даже поощряли эту практику, ничего общего с социализмом не имеющую.
Компартии всего мира безоговорочно солидаризировались со сталинской политикой. Когда позже я вновь оказался в Париже, мне довелось побывать на массовой манифестации в зале Ваграм, где выступали Марсель Кашен и Поль Вайян-Кутюрье, вернувшиеся из Москвы. Там они во главе делегации ФКП присутствовали на втором московском процессе. И как же эти два руководителя Французской компартии отнеслись к этому процессу? Очень просто — они воздали должное прозорливости Сталина, «разоблачившего и обезвредившего» еще одну «террористическую группу».
— Мы собственными ушами слышали, как Зиновьев и Каменев признавались в совершении тягчайших преступлений, — воскликнул Вайян-Кутюрье. — Как вы думаете, стали бы эти люди признаваться, будь они невиновными?
Кашен, Вайян-Кутюрье, как и остальное руководство ФКП, строили свои убеждения исключительно на информации из советских источников, но могли ли они знать, что три больших процесса были всего лишь эффектным спектаклем, разыгранным на авансцене, и что за кулисами, уже без всяких процессов, без суда, без признаний, тысячами исчезали люди, преданные делу коммунизма?
Руководители коммунистических партий, ответственные иностранные работники Коминтерна видели, что репрессии ширятся с каждым днем все больше и больше. Да и как они могли бы не замечать этого, если в это же самое время исчезали находившиеся в Москве представители иностранных коммунистических партий? В тот период в советской столице жило несколько тысяч коммунистов из других стран. Они работали в Коминтерне, в Профинтерне, в Крестьянском интернационале, в Коммунистическом интернационале молодежи, в организации женщин. Восемьдесят процентов из них были уничтожены! Кроме того, тысячи политических беженцев со всего света нашли в Советском Союзе пытки и смерть, от которых бежали из собственных стран. Так по какому же праву осуждали на смерть всех этих людей, которые даже не состояли в ВКП(б)? Все дело в том, что Сталин и его приближенные не только стремились направлять идеологически международное коммунистическое движение, но и присвоили себе привилегию давать директивы «братским партиям», назначать их ведущие кадры и… посылать их на смерть!
В доме Коминтерна у нас было одно преимущество: именно до нас в первую очередь доходили тревожные слухи, как правило, увы, обоснованные. Благодаря этому мы были почти полностью информированы о происходящем в стране. Так я узнал о деле Бела Куна. Руководитель венгерской революции 1919 года, член Исполкома Коминтерна (ИККИ), Бела Кун курировал Балканские страны.
В один весенний день 1937 года он прибывает на совещание ИККИ, где вместе с ним заседают товарищи, знакомые ему уже много лет. Вокруг стола сидят Димитров, Мануильский, Варга, Пик, Тольятти и один из руководителей ФКП. Мануильский берет слово и говорит, что должен сделать важное заявление. Из документов, поступивших из НКВД, продолжает он, явствует, что Бела Кун с 1921 года является румынским шпионом. Все присутствующие прекрасно знают, кто такой Бела Кун, знают о его безграничной преданности делу социализма. Еще час назад они горячо пожимали ему руку. Но сейчас никто не протестует, даже не просит никаких разъяснений. Заседание прекращается. У выхода Бела Куна ожидает машина НКВД. Больше его никогда не видели..
Прошло несколько месяцев… Внешне все осталось без перемен. Все те же актеры в роли обвинителей. Два стула за столом пустуют. Это место представителей компартии Польши. Все тот же Мануильский с очень озабоченным лицом объявляет, что все руководители польской партии с 1919 года являются агентами диктатора Пилсудского… Поскольку, мол, Версальский договор не определил точную демаркацию границы нового польского государства на востоке, Пилсудский решил воспользоваться этой ситуацией и, рассчитывая на внутренние трудности Советской России, перешел в наступление на фронте шириной в пятьсот с лишним километров, оккупировал обширные территории. Но вскоре Красная Армия перешла в контрнаступление и в июне поляки начали отход. Киев и вся Украина были освобождены. В конце июля конники Тухачевского оказались в двухстах километрах от Варшавы… И вот, дескать, как раз в этот момент, «разоблачительным тоном» продолжает Мануильский, целый полк польских солдат попадает в плен. В действительности он преднамеренно сдался противнику. Укомплектованный полностью наемными провокаторами, оплачиваемыми Францией и Англией, которые изо всех сил стараются свергнуть советский строй, этот полк предназначен для шпионажа в пользу капиталистических держав. Среди предателей якобы фигурируют руководящие польские коммунисты… И вот вся эта грандиозная ложь принимается без всяких возражений.
Членов ЦК компартии Польши, командированных в Париж или сражающихся в Испании, вызывают в Москву. Пламенные поборники идеи создания антифашистского фронта для сдерживания роста нацизма, они полагают, чтоих вызывают в столицу СССР именно в связи с этим же замыслом, который они и обсудят со своими советскими друзьями. Поэтому они приезжают без тени настороженности. Единый антифашистский фронт завершается для них в подвалах НКВД, в которых исчезают старые деятели партии, такие, как Адольф Барский или Ленский, которого прозвали «польский Ленин»21.
В 1938 году Коминтерн официально распустил польскую компартию под тем предлогом, что она-де превратилась в излюбленное прибежище реваншистских националистов и вдобавок стала очагом вражеской контрразведки. Какая грубая ложь! Сталин, готовивший сближение с нацистской Германией, твердо знал, что коммунисты Польши никогда не согласятся с этим противоестественным пактом, ибо он мог быть осуществлен только ценой ликвидации их страны. Тогда же были распущены западноукраинская и западнобелорусская партии.
Эти решения принимались на официальных форумах Коммунистического Интернационала. Как же могло случиться, что ни один из руководителей крупных компартий Европы не потребовал создания комиссии для расследований всех этих дел? Как могли они смириться с тем, что на их глазах без всяких доказательств осуждали их боевых товарищей? После XX съезда КПСС в 1956 году они разыграли полнейшее недоумение. Их послушать, так выходит, будто доклад Хрущева был для них форменным откровением. А в действительности они были сознательными соучастниками ликвидации верных коммунистов, даже когда речь шла об их же товарищах по партии!
Этот мрачный период оставил в моей памяти неизгладимые воспоминания… По ночам в нашем университете, где жили товарищи из всех стран, мы бодрствовали до трех часов утра, ибо именно в это время автомобильные фары, пронзая тьму, шарили по фасадам домов…
— Вот они! Вот они!
Когда раздавались эти возгласы, по всем комнатам пробегала волна тревоги. Ошалевшие от дикого страха, мы украдкой подглядывали — где остановятся машины НКВД.
— Это не за нами, они проехали к другому концу здания! С трусливым чувством облегчения на одну эту ночь мы погружались в беспокойный полусон, и нам мерещились высокие стены и решетки. В других случаях, едва дыша, мы прислушивались к стуку шагов в коридоре, неспособные пошевельнуться и словно загипнотизированные нависшей над нами угрозой.
— Идут!
Мы слышали нарастающий шум — глухие удары о стены, крики, хлопанье дверьми…
— Прошли мимо!
Но что будет завтра?!
Наши поступки определялись страхом перед завтрашним днем. Боязнью того, что на свободе нам, быть может, осталось прожить считанные часы. И вообще страх стал нашей второй натурой, он побуждал нас к осторожности, к подчинению. Я знал, что мои друзья арестованы, и молчал. Почему они? Почему не я? Я ожидал своей очереди и внутренне готовился к худшему.
Что мы могли сделать? Отказаться от борьбы? Разве это было мыслимо для борцов, отдавших социализму свои молодые силы, связавших с ним все свои надежды? Протестовать, попробовать вмешаться? Вспоминается эпизод с болгарскими представителями. Они потребовали встречи с Димитровым и решительно заявили ему:
— Если ты не сделаешь все необходимое для прекращения репрессий, — сказали они ему, — то мы убьем Ежова, этого контрреволюционера…22
Председатель Коминтерна не оставил им никаких иллюзий:
— Я не имею возможности сделать что бы то ни было, все это находится исключительно в компетенции НКВД.
Болгарам не удалось убрать Ежова. Он же их перестрелял, как кроликов.
Югославы, поляки, литовцы, чехи — все исчезли. В 1937 году кроме Вильгельма Пика и Вальтера Ульбрихта не осталось ни одного из главных руководителей Коммунистической партии Германии. Репрессивное безумие не знало границ. Истребили корейскую секцию; погибли делегаты Индии; представителей Компартии Китая арестовали.
На VII конгрессе Коминтерна в 1935 году я находился в зале заседаний, когда сюда с большой помпой явилась делегация ВКП(б). Во главе ее шествовал Сталин, за ним шли Молотов, Жданов и Ежов. Делегаты знали в лицо только первых двух. Жданов и Ежов играли второстепенные роли. Димитрову пришлось представить кандидатов в Президиум Коминтерна. Указывая на Ежова, он воскликнул:
— Вот товарищ Ежов, хорошо известный своими большими заслугами перед международным коммунистическим движением!
Димитров несколько опередил события. Ежов тогда еще не имел "больших заслуг» перед международным коммунистическим движением. Лишь в 1938 году Москва была окончательно «очищена» от верных коммунистов. Яркие отблески Октября все больше угасали в сумеречных тюремных камерах. Выродившаяся революция породила систему террора и страха. Идеалы социализма были осквернены во имя какой-то окаменевшей догмы, которую палачи осмеливались называть марксизмом.
И тем не менее все мы, отчаявшиеся, но послушные, были тише воды, ниже травы. Нас затянуло в машину, которую мы же сами собственноручно пустили в ход. Крохотные детали огромного аппарата, доведенные террором почти до полного умопомешательства, мы сами создали инструменты для нашего порабощения. Все, кто не восстал против зловещей сталинской машины, ответственны за все, коллективно ответственны. Этот приговор распространяется и на меня.
Но кто протестовал в то время? Кто встал во весь рост, чтобы громко выразить свое отвращение?
На эту роль могут претендовать только троцкисты. По примеру их лидера, получившего за свою несгибаемость роковой удар ледорубом, они, как только могли, боролись против сталинизма, причем были одинокими в этой борьбе. Правда, в годы великих чисток эти крики мятежного протеста слышались только над бескрайними морозными просторами, куда их загнали, чтобы поскорее расправиться с ними. В лагерях они вели себя достойно, даже образцово.
Но их голоса терялись в тундре.
Сегодня троцкисты вправе обвинять тех, кто некогда, живя с волками, выли по-волчьи и поощряли палачей. Однако пусть они не забывают, что перед нами у них было огромное преимущество, а именно целостная политическая система, по их мнению, способная заменить сталинизм. В обстановке предательства революции, охваченные глубоким отчаянием, они могли как бы цепляться за эту систему. Они не «признавались», ибо хорошо понимали, что их «признания» не сослужат службы ни партии, ни социализму.
8. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЕВРЕЕВ
Бьшшие руководители Компартии Палестины, которых я знал всех без исключения, тоже погибли в ходе чисток. Для меня это явилось очень горестным испытанием.
Читатель помнит, что в 1929 году руководство Коминтерна дало Компартии Палестины лозунг «большевизация плюс арабизация». Все ее руководители были евреями, и всех их вызвали в Москву. Одного за другим ликвидировали моих старых друзей — Бирмана, Лещинского, Бен-Иегуду, Мейера-Купермана. Мне хочется сказать особо, про Даниэля Авербуха, уроженца Москвы, посланного на Ближний Восток для содействия развитию коммунистического движения. Со временем он стал в Компартии Палестины одной из главных фигур.
Отозванный, как и остальные, Авербух по возвращении сперва был командирован в Румынию, потом вновь вернулся в Советский Союз, и тогда ему запретили покидать пределы страны. В последний раз, когда я его видел, в середине 1937 года, он был… начальником политотдела совхоза под Пятигорском. Это назначение было просто смехотворным, ибо он никогда не занимался сельскохозяйственными проблемами и, к несчастью, представлял собой прямо-таки образец некомпетентности в этой области. Правда, с точки зрения руководителей, которые намеревались «убрать» его (а заодно и его товарищей), вопрос о профессиональных способностях был, конечно, второстепенным. Стоявший передо мной старый революционер был просто неузнаваем: разбитый, но полностью отдающий себе отчет в происходящем, он жил точно условно осужденный.
— В один прекрасный день, — доверительно сказал он мне, — меня вызовут по телефону в Москву…
Он не ошибся. Вскоре после этого за ним закрылись двери слишком хорошо известной Лубянки.
Меня навестил сын Авербуха. Он был полон гнева и возмущения, но сохранял ясную голову:
— Моего отца, — сказал он, — обвиняют в контрреволюции, а я утверждаю, что истинными контрреволюционерами являются руководители страны, начиная со Сталина…
В свою очередь он тоже был арестован по обвинению в причастности к заговорщической группе, стремившейся убить Сталина. От него потребовали признать, что его отец был шпионом. Он отказался. Его сослали в один из самых тяжелых лагерей, где он и умер. Брата Даниэля Авербуха, работавшего со мной в одной газетной редакции, тоже арестовали.
Мария, супруга Авербуха, переселилась к своему брату Эпштей-ну, тогда заместителю наркома просвещения. Они жили с предчувствием неминуемого ареста, не ложились спать до двух-трех часов утра. Брат Марии первым не выдержал напряжения, его нервы сдали, он совсем лишился сна, бегал по квартире и кричал:
— Господи боже мой, узнаем ли мы когда-нибудь, за что же все-таки нас хотят арестовать?
Этого он никогда не узнал. Его забрали на рассвете, увели, и ночь сомкнулась над ним.
Прошло немало времени после окончания войны, и я встретился с Марией Авербух. Она превратилась в совсем старую даму. Пережившая столько страданий, она с какой-то ставшей уже привычной настороженностью, словно обороняясь от кого-то, прижимала к себе видавшую виды дамскую сумку. В ней хранились сокровища, которые ей удалось спасти, несмотря ни на что. То были образы ее прошлого — семейные фотографии…
— Мой муж, мои сыновья, мой брат, брат моего мужа, — все они были арестованы и убиты, — сказала мне она. И вот я осталась одна-одинешенька на всю оставшуюся жизнь… Но, знаете, невзирая на все, что произошло, я не перестала верить в коммунизм…
До меня дошли и другие сведения о крестном пути палестинских коммунистов. В тюрьме лишилась рассудка Соня Рагинска — высокоинтеллигентная женщина, одна из лучших и деятельных членов нашей партии. Или взять судьбу Лещинского, члена Центрального Комитета Компартии Палестины, годами самоотверженно и очень умело приобщавшего молодых коммунистов к марксизму. Всякий раз, перед тем как отвести его к следователю, в его камеру вталкивали избитого, окровавленного и почти бездыханного заключенного, возвращавшегося с допроса. Это был один из способов запугивания перед допросом…
— Итак, ты видел его, — орал следователь, — ты видел, в каком он состоянии? Хочешь, чтобы и с тобой позанимались таким манером?
Эфраим Лещинский не выдержал этих страшных угроз. Он тоже сошел с ума. Он метался по камере, бился головой о стены и непрерывно повторял:
— Так какое же еще имя я забыл! Какое еще имя я забыл! Все члены Центрального Комитета Компартии Палестины были ликвидированы, кроме Листа и Кноссова, которые не поехали в СССР. Впрочем, один выжил — Иосиф Бергер (Барсилай). Он выжил после двадцати одного года кочевья по ГУЛАГу. Из 200 — 300 членов палестинского партийного актива спаслось лишь около двух десятков. Только в 1968 году, через двенадцать лет послеxx съезда КПСС, Компартия Израиля воздала должное партийным руководителям, убитым во время сталинских чисток.
Репрессии обрушились и на еврейскую общину в целом, которая, как, впрочем, и все другие национальные меньшинства, подверглась истреблению. А ведь Октябрьская революция внесла глубокие изменения в жизнь евреев. В своей антисионистской пропаганде мы, коммунисты еврейского происхождения, подчеркивали уважение к национальным и культурным правам нашей общины в Советском Союзе. Мы просто гордились этим. Помню, что в 1932 году, когда я приехал в СССР, еврейское и другие национальные меньшинства еще пользовались некоторыми правами. В больших регионах, где обитало какое-то еврейское меньшинство, обязательно расцветала его культурная жизнь. В ряде районов Украины и Крыма, которые я посетил, еврейский язык был на официальном положении. В Советском Союзе широко издавалась еврейская пресса:
пять или шесть ежедневных газет, несколько еженедельников. Десятки еврейских писателей публиковали свои произведения в миллионах экземпляров, а во множестве университетов существовали кафедры еврейской литературы.
Столь же ободряющими были мои наблюдения и в экономической сфере. В Крыму, например, отлично работали колхозы в районах с преобладающим еврейским населением. Учитывая близость курортов они наладили выращивание и продажу цитрусовых. Вместе с тем перед евреями широко открывались пути к ассимиляции, если, конечно, они к ней стремились. В таких крупных городах, как Москва, Ленинград, Минск, ничто не ограничивало деятельность евреев, развитие их жизни в соответствии с их чаяниями и желаниями. В социальной сфере они не знали никакой дискриминации, в университетах не было никакой «процентной нормы». В сравнении с обскурантистской политикой русских царей прогресс в этом смысле был весьма значителен и поражал наблюдателей. С 1935 года на евреев обрушились массовые репрессии. Начавшись в регионах с большой плотностью еврейского населения, они вскоре охватили всю страну…
После окончания университета имени Мархлевского, где я учился на факультете журналистики, по решению ЦК ВКП (б) меня направили на работу в редакцию ежедневной еврейской газеты «Дер Эмес» («Правда»), бывшей по сути изданием «Правды» на языке идиш. В редакции сотрудничали известные еврейские писатели. Газетой руководил великолепный журналист — Моше Литваков.
Ответственный за рубрику «Партийная жизнь», я часто писал статьи, в том числе и передовые. Как-то раз в коридоре меня остановил бухгалтер:
— Вы еще долго будете мариновать свои деньги у меня? — спросил он.
— Какие деньги? Я регулярно получаю жалованье.
— Не о том речь. Я говорю о гонораре за ваши статьи! На другой день он вручил мне сумму, превосходящую мой оклад. Так получали все сотрудники. Мы были далеки от «заработка рабочего», за который ратовал Ленин.
Раз в неделю в Центральном Комитете происходило совещание, на котором присутствовало по представителю от каждой московской газеты. Несколько раз мой главный редактор посылал туда меня. В 1935 году в ходе одного из таких совещаний Стецкий, руководивший Отделом печати ЦК партии, объявил, что должен ознакомить нас с важным сообщением.
— Я должен доложить вам об одном личном заявлении товарища Сталина, — начал он. — Товарищ Сталин очень недоволен культом, который поддерживается вокруг его личности. Каждая статья начинается и оканчивается цитатой из него. Однако товарищ Сталин не любит этого. Больше того, он распорядился проверить полные славословий коллективные письма, подписанные десятками тысяч граждан и попадающие в редакции газет, и выяснил, что эти материалы пишутся по инициативе партийных органов, которые устанавливают для каждого предприятия, для каждого района своего рода норму. Я уполномочен вам сказать, продолжал Стецкйй, что товарищ Сталин не одобряет подобных методов и просит покончить с этим.
Сообщение Стецкого произвело на меня большое впечатление, и, вернувшись в редакцию, я доложил о нем своему «главному». Тот улыбнулся и ответил:
— Это на несколько недель — и не больше.
— То есть как! Вы что же — не верите?..
— Подождите, сами увидите…
Спустя три недели я вновь представлял свою газету на очередном совещании у Стецкого, который доложил нам о новом решении руководства партии:
— Политбюро хорошо понимает искреннее желание товарища Сталина не поддерживать культ вокруг его личности, но оно не одобряет подобную сдержанность. В трудные минуты, которые мы переживаем, товарищ Сталин прочно удерживает в своих руках кормило; его следует поблагодарить и поздравить за то, как он преодолевает трудности на своем посту. Печать должна делать все возможное, чтобы регулярно подчеркивать роль товарища Сталина…
Литваков, которому я доложил об этом, ничуть не удивился.
— Ведь три недели назад, — сказал он, — я вам говорил, что эти инструкции ненадолго. Сталин, конечно, предвидел, что Политбюро займет именно такую позицию. Но он очень хотел, чтобы журналисты узнали, насколько он скромен!
Литваков ясно понимал, в какой именно процесс вовлекалась революция. Работа, которую ему доверили и которую он безукоризненно выполнял, весь его внутренний настрой, или, лучше сказать, его профессиональная совесть, — все это не мешало ему смотреть правде в глаза и без обиняков выражать свое мнение. Помню, как в 1935 году он попросил Радека, всегда охотно откликавшегося на просьбы редакций, написать статью для юбилейного октябрьского номера газеты.
Радек, конечно, согласился и вскоре прислал нам свое «произведение»… Я и сейчас как бы воочию вижу Литвакова и слышу его голос. Прочитав статью, он холодно заметил:
— Никогда мы не опубликуем в нашей газете подобное дерьмо! Оказывается, вся статья сводилась к сплошным восхвалениям Сталина… Через несколько дней я случайно оказался в кабинете моего главного редактора, когда ему позвонил Радек и с удивлением спросил, почему же, мол, его праздничный материал не пошел в номер…
— Послушайте, Радек, — сказал ему Литваков, — я в последний раз заказал вам статью. Вы сильно ошибаетесь, полагая, будто ради вашей подписи я готов печатать что попало. Ваша статья не стоит гроша ломаного, любой новичок справился бы с этой задачей лучше вас!
Мой редактор ущемил тщеславие одного из ведущих публицистов страны, бросил вызов всемогуществу партии, и поэтому не мог остаться безнаказанным. Он был одним из первых репрессированных. С этого момента месяц за месяцем арестовывали одного за другим наших работников. Так исчез Хашин, брат Авербуха. Его обвинили в том, что он жил в Германии. Так исчез Шпрах, преемник Литвакова на посту главного редактора, которого конкретно вообще ни в чем не обвинили. Редакционная атмосфера, некогда непринужденная, способствующая спорам, теперь была пронизана тревогой и недоверием. В течение 1937 года в кабинетах редакции прочно угнездился страх. Журналисты приходили утром и замыкались в своих рабочих комнатах на все время рабочего дня. Точно в положенное время они уходили, не обменявшись за день ни единым словом. В начале 1938 года забрали Штрелитца — старого журналиста, сражавшегося в годы гражданской войны в рядах Красной Армии. Этот арест еще больше усилил страх и отчаяние.
Исчезновение кого-либо из наших всякий раз давало повод для безобразного ритуала, чем-то напоминавшего мне погребение. Весь персонал газеты собирался на самокритическую летучку. По очереди мы били себя в грудь и каждый раз произносили одни и те же слова:
— Товарищи, наша бдительность ослабла, в течение нескольких лет среди нас работал шпион, а мы не сумели разоблачить его…
И в этот раз тоже, чтобы не нарушать сложившегося обычая, нас созвали на «погребение» Штрелитца. Началось самобичевание… Кто-то вспомнил какую-то подозрительную фразу, которую услышал из уст «виновного», но не доложил о ней, кто-то другой однажды обратил внимание на «странное поведение» арестованного, но ничего никому не сказал… Так один за другим мы стали предаваться этим бесславным упражнениям, и в самый разгар наших покаянных «молитв» вдруг мы заметили нашего товарища Штрелитца. Он молча стоял в дверях. Он стоял там уже несколько минут, слушал, как мы выплескиваем свои обвинения, отрекаемся от него, изобличаем его как «шпиона». Эта неожиданная провокация, судя по всему, намеренно организованная НКВД, это внезапное появление «врага народа» прямо-таки сковало нас каким-то ледяным ужасом. Все умолкли. Мы пришли в полное замешательство.
Штрелитц продолжал молчать. Мы по очереди, не произнося ни слова, покинули зал с низко опущенной головой, глубоко пристыженные и не осмеливаясь посмотреть в глаза нашему товарищу. В этот момент я понял, до чего же мы опустились, до какой степени превратились в роботов, в пособников сталинских репрессий. Страх глубоко засел в нас, он парализовал наш дух, и мы перестали мыслить самостоятельно. НКВД мог торжествовать, ему уже не нужно было воздействовать на нас физически. Он уже, так сказать, засел в нас, завладел нашими мозгами, нашими рефлексами, нашим поведением.
Больше, чем остальных, репрессии коснулись евреев как по стране в целом, так и в нашем ближайшем окружении, в университете. Я уже упоминал, в каких условиях партия призывала (главным образом в 1931 — 1932 гг.) евреев переселяться в Биробиджан. Особенно поощрялся выезд туда партийных работников, интеллигенции. Множество выпускников нашего университета последовало этому призыву. Главным ответственным лицом за проведение всей кампании был широко известный советский ученый профессор Либерберг. Репрессии разразились внезапно и осуществлялись специальной группой НКВД. От двух свидетелей этой ошеломляющей и безжалостной чистки я узнал, как проводились аресты и казни. С логикой скорых на расправу механизированных инквизиторов, настоящих роботов беззакония, возведенного в догму, НКВД утверждал, что все евреи — уроженцы Польши являются шпионами на жаловании у польского правительства, а все евреи, прибывшие из Палестины, — наемники англичан. Основываясь на подобных критериях, они выносили смертные приговоры, не подлежавшие обжалованию и неизменно завершавшиеся приведением их в исполнение. Так, наш старый товарищ из польской партии, Шварцбарт, тоже предстал перед судом (в нашем университете он занимал пост партийного секретаря, а затем играл важную роль в Биробиджане). Его бросили в тюрьму. Там он почти ослеп. Вскоре его вывели на рассвете в тюремный двор и привязали к столбу. Стрелковое отделение стояло наготове. Прежде чем умереть, он в последний раз выкрикнул слова глубокой веры в революцию, когда же раздался залп и старый боец-коммунист рухнул на землю, из камер стало доноситься могучее пение «Интернационала».
Подобно Шварцбарту, одному из секретарей Еврейской автономной области, были еще тысячи коммунистов с гордо поднятой головой, смотревшие смерти в лицо. Эсфирь Фрумкина, самоотверженная и пламенная коммунистка, долгие годы была ректором нашего университета. В 1937 году, несмотря на тяжелую болезнь, ее арестовали и посадили в камеру на Лубянке. Во время следствия ей устроили очную ставку с одним «подготовленным» свидетелем обвинения. Вне себя от гнева, игнорируя следователей и охранников, Эсфирь рванулась к доносчику-клеветнику и плюнула ему в лицо. Ей вынесли приговор без права обжалования, и она умерла в стенах Лубянки.
В том же 1937 году Университет национальных меньшинств был расформирован и заменен каким-то «институтом иностранных языков», в котором была установлена железная дисциплина. А двери университета закрылись. Сколько наших товарищей, входивших и выходивших через них, были умерщвлены!
9. ИСТРЕБЛЕНИЕ КОМАНДНЫХ КАДРОВ КРАСНОЙ АРМИИ
Теперь хотелось бы высказать все, что знаю о ликвидации Тухачевского и его товарищей. 11 июня 1937 года московские газеты сообщили об аресте маршала Тухачевского и семи высших военачальников Красной Армии23. Герои гражданской войны, старые коммунисты обвинялись в преднамеренной подготовке поражения Советского Союза и восстановления в стране капитализма. Уже на другой день весь мир узнал, что Тухачевский, Якир, Уборевич, Примаков, Эйдеман, Фельдман, Корк и Путна были приговорены к расстрелу и казнены. Девятый высший офицер, начальник Политического управления РККА Гамарник, покончил жизнь самоубийством. Красная Армия оказалась обезглавленной.
Как же это случилось? В свое время возникли и с годами усугубились глубокие разногласия между Тухачевским и его генеральным штабом, с одной стороны, и руководством партии — с другой. Официальной теории Сталина — ведение боевых действий на чужой территории — Тухачевский, с беспокойством следивший за военными приготовлениями третьего рейха, противопоставлял концепцию неизбежности мирового конфликта, к которому следует готовиться. На одной из сессий Верховного Совета в 1936 году он заявил, что полностью убежден в возможности развертывания войны на советской земле.
Впоследствии история укажет на ошибку Тухачевского: она заключалась в том, что он слишком рано оказался прав… В момент, когда против него выдвинули указанные обвинения, оппозиции всех видов уже были ликвидированы и Сталин железной рукой правил государством. Красная Армия была последним, еще не взятым им бастионом, только она одна еще не подпала под его безраздельное влияние. Сталинское руководство считало уничтожение командных кадров армии экстренной задачей. Правда, военачальники, о которых шла речь, прославились как испытанные старые большевики, отличившиеся в ходе Октябрьской революции и гражданской войны, и объявить, скажем, того же Тухачевского «троцкистом» или «зиновьевцем» значило выстрелить вхолостую. Нужно было действовать очень резко, очень жестоко. Чтобы нанести по армии смертельный удар, Сталин воспользовался услугами Гитлера.
В 1943 году гестаповец Гиринг — начальник зондеркоманды «Красный оркестр» — сообщил мне помимо подробностей о деле Пятницкого также и информацию о заговоре против Тухачевского…
В 1936 году Гейдрих, начальник службы безопасности, полиции Германии и СД, принимает в Берлине бывшего офицера царской армии генерала Скоблина. Этот генерал без армии утешается в своей бездеятельности тем, что играет роль двойного агента высокого уровня: в течение долгих лет он по заданию советской разведки вращался среди белогвардейцев в Париже и одновременно заигрывал с германскими секретными службами. В общем, весьма сомнительная фигура. Однако новость, которую он принес Гейдриху, была очень существенна: из вполне надежных источников ему стало известно, что маршал Тухачевский замышляет вооруженное восстание против Сталина. Гейдрих докладывает об этом в самую высокую нацистскую инстанцию, и там прикидывают, как лучше поступить. Возможны только два варианта: либо не вмешиваться в дела первого заместителя наркома обороны, либо, напротив, насторожить Сталина, подбросив ему компрометирующие Тухачевского документы о его сговоре с вермахтом.
Гитлеровцы останавливаются на втором варианте. Из фальшивых документов за трое суток спешно составляется досье «разоблачительного» характера. Показать, что Тухачевский был в контакте с германским генштабом, нетрудно, поскольку еще до прихода нацистов к власти представители обеих армий регулярно встречались, а Советское правительство даже создало военные училища для подготовки кадров немецких офицеров. Все «доказательства» собираются в непосредственном окружении Гитлера, и секретным службам рейха ничего не стоит подсунуть их руководителям СССР. Если верить мемуарам Шелленберга, ведавшего в то время германской контрразведкой, то дом, где находились указанные документы, был намеренно подожжен, а какой-то специально предупрежденный об этом чешский агент вытащил их из пепла. По другой версии, немцы при посредничестве чехов продали эту документацию русским. Но как бы ни расходились различные версии, остается фактом, что вся эта акция против Тухачевского отвечала интересам и Сталина и Гитлера.
Так или иначе, но в мае 1937 года досье на Тухачевского попало туда, где оно должно было быть, — на рабочий стол Сталина, который имел все основания быть довольным: он получил инспирированные гестапо материалы, необходимые для уничтожения человека, покончить с которым он поклялся. В самом деле, из упомянутого донесения Гиринга видно, что генерал Скоблин нанес визит Гейдриху отнюдь не по своей инициативе. Произошло разделение ролей в осуществлении этой задачи между Сталиным и Гитлером:
первый, по сути дела, задумал всю эту махинацию, второй выполнил ее. Сталин стремился сломить последнюю организованную силу, противодействующую его политике. Гитлер же воспользовался непредвиденным случаем обезглавить Красную Армию. Дело Пятницкого показало фюреру, что операция не ограничится небольшим числом высших офицеров. Он был уверен, что волна репрессий сотрясет Красную Армию сверху донизу и что потребуются несколько лет для замены разгромленных кадров новыми. Таким образом, Гитлер имел основания полагать, что на Востоке его руки не будут связаны и это даст ему время и возможность выиграть войну на Западе. Уже в 1937 году он задумал сближение с СССР, окончательно оформившееся при подписании советско-германского пакта.
В августе 1937 года, через два месяца после ликвидации маршала Тухачевского, Сталин созвал совещание армейских политработников, чтобы подготовить «очищение» военных кругов от «врагов народа». Охота началась. Армия стала поистине красной от крови ее солдат: были казнены тринадцать из девятнадцати командующих корпусами, сто десять из ста тридцати пяти командиров дивизий и бригад, половина командиров полков, большая часть политкомиссаров24. Обескровленная Красная Армия на годы утратила свою боеспособность.
Немцы до конца использовали эту ситуацию, поручив своим разведслужбам распространить в Париже и Лондоне сенсационную — иначе не скажешь — информацию о состоянии Красной Армии после чисток. Я склонен думать, что французский и английский генеральные штабы как раз потому и не стремились заключить военный союз с Советским Союзом, что слабость Красной Армии стала для них вполне очевидной. Вот тогда-то и открылся путь для подписания пакта между Сталиным и Гитлером.
10. ШОКОЛАДНЫЙ ДОМИК
Коммунистом я стал потому, что это учение отвечало моим чаяниям.
Еще в Домброве, наблюдая жизнь рабочих, я мог составить себе представление о масштабах капиталистической эксплуатации. С другой стороны, в марксизме я нашел ответ на вопрос, как окончательно решить еврейский вопрос, занимавший меня с детских лет. Я считал, что только социалистическое общество может раз и навсегда покончить с расизмом и антисемитизмом и обеспечить полноценное развитие еврейской общины. Я изучал антисемитизм, его генезис, механизмы — от погромов в России до дела Дрейфуса. С моей точки зрения, наиболее очевидным проявлением антисемитизма вxx веке был нацизм. Я видел, как поднимает голову это поганое чудовище, и меня беспокоило безмятежное спокойствие остального мира. Германские рабочие партии затеяли ожесточенную междоусобную борьбу, вместо того чтобы совместно наносить удары по общему врагу. Многие полагали, что, придя к власти, Гитлер станет забавляться игрушечными солдатиками, позабудет свою книгу «Майи кампф» («Моя борьба»), а штурмовиков из отряда СА переучит на инструкторов и воспитателей для детских оздоровительных лагерей. Международная и немецкая буржуазия считала, что в стране, где наблюдалась такая активность красных, небольшое «наведение порядка» никому не повредит.
30 января 1933 года первые страницы газет всего мира возвестили, что Гитлер назначен рейхсканцлером. Я, боевой коммунист, воспринял это событие как сигнал тревоги. Широко распахнулись ворота в царство разнузданного варварства. Демократическая маска, кое-как прилепленная к физиономии маленького австрийского ефрейтора, упала. Теперь Германии, а вскоре и Европе предстояло научиться жить под нацистским сапогом.
27 февраля 1933 года запылал рейхстаг. Через несколько минут после начала пожара Геббельс и Геринг прибыли на место происшествия. В следующую ночь были арестованы десять тысяч активистов компартии и соцпартии. Выборы состоялись 5 марта. Геринг предупреждал: «В своих будущих действиях я не стану считаться с разного рода юридическими предрассудками. Незачем заниматься фиктивной юстицией. Я приказываю уничтожить все, что необходимо уничтожить, и точка!» И сразу же голоса, поданные за коммунистов, были аннулированы. А ведь вопреки этой гнетущей атмосфере террора коммунисты и социалисты получили двенадцать миллионов голосов. Остальные партии — десять миллионов, нацисты — семнадцать миллионов. По распоряжению Гитлера мандаты коммунистов были объявлены недействительными. Генерального секретаря Коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана посадили за решетку, а вскоре арестовали и Георгия Димитрова.
И вот неотвратимое свершилось — 24 марта Веймарская конституция приказала долго жить.
До этого события Германия некоторое время еще колебалась между красным и коричневым. Теперь же поток грязи затопил все. Гитлер принялся уничтожать германское рабочее движение. По его указанию на трудящихся обрушились карательные акции. Кое-кто полагал, что общегерманская забастовка еще может остановить Гитлера, но 2 мая 1933 года отряды СА захватили здание штаб-квартиры профсоюзов. За колючей проволокой концлагерей к коммунистам и социалистам присоединились тысячи профсоюзных активистов. Но для повсеместного распространения террора нужен был еще один рычаг, и он появился: в апреле 1933 года было создано гестапо — тайная государственная полиция.
Еще задолго до прихода Гитлера к власти я прочитал его книгу «Майн кампф», вызвав тем самым немало насмешек со стороны друзей. Но впоследствии мне пришлось констатировать, что книга эта со скрупулезной точностью предвосхитила этапы развития нацизма. В ней без конца вновь и вновь повторялись две главные гитлеровские темы: «Раздавить международное еврейство» и «Уничтожить коммунизм».
Будучи и евреем и коммунистом, я был встревожен вдвойне. С одной стороны, в 1935 году вышел закон о чистоте расы и начались жестокие преследования наших немецких товарищей. С другой стороны, я хорошо понимал, что нацизм ненадолго удержится в пределах третьего рейха, что он понесет войну и смерть и в остальной мир. Буря надвигалась, о чем свидетельствовало множество признаков. Нацистское правительство ввело всеобщую воинскую повинность. Гитлер выбросил Версальский договор в мусорную корзину. 13 января 1935 года девяносто процентов жителей Саара одобрили включение своей области в состав рейха.
Западные демократии не желали смотреть опасности в лицо. Они заняли выжидательную позицию, словно надеясь на какое-то чудо. Они ни во что не вмешивались, полагая, будто общественного осуждения нацизма достаточно, чтобы заставить его отступить. И чем явственнее проявлялась их нерешительность, тем большей становилась активность Гитлера. 7 марта 1936 года немецкие войска вторглись в Прирейнскую демилитаризованную зону. И опять никакой реакции со стороны Англии и Франции. В июле 1936 года в Испании вспыхнула гражданская война, а фактически это было началом и второй мировой войны. Французское и английское правительства, руководствуясь принципом невмешательства, позволили германским и итальянским легионам задушить испанскую революцию. Наконец, в том же 1936 году Германия и Япония заключили антикоминтерновский пакт.
Мир не решился удушить коричневую чуму в зародыше, он позволил этой заразной болезни развиться, и она стала распространяться. 1 мая 1937 года, во время моей первой командировки во Францию, я проезжал через Берлин. Сколько неприятного я там увидел! Зрелище улиц было мне невыносимо: тысячи рабочих в фуражках, тысячи молодых людей несли какие-то нацистские хоругви, громкими голосами распевали гитлеровские гимны. Ошарашенный всем этим, стоя на бордюре тротуара, я не понимал смысла происходящего на моих глазах. Что за коллективное безумие овладело массами немецкого народа? И в эти минуты, когда вокруг полнозвучно звенели песни, которые вскоре было суждено услышать почти всей Европе, я проникся твердым убеждением, что нацизм погибнет только в результате страшного шока, только в огне всемирного пожара. И я решил, что в этой безжалостной борьбе, когда на карту будет поставлено будущее человечества, я займу свое место. И займу его в первых рядах сражающихся.
Возможность включиться в эту борьбу я получил благодаря разведывательной службе Красной Армии, командование которой размещалось неподалеку от Красной площади, на Знаменской улице, № 19. Это было небольшое строение, которое из-за его окраски было принято называть «шоколадный домик». В этот период советские разведывательные службы не функционировали так, как аналогичные учреждения на Западе. Они опирались главным образом на интернационалистов всех стран. Созданная в годы гражданской войны, советская разведывательная служба попросту не имела времени для подготовки настоящих агентов.
Она, естественно, не могла игнорировать элементарное правило, согласно которому всякая секретная служба, занятая сбором информации, пытается вербовать агентов по возможности в той самой стране, где намечается работать. Красная Армия — и это совершенно понятно — располагала поддержкой миллионов коммунистов, которые считали себя не шпионами, но бойцами авангарда мировой революции. Структура советской военной разведки сохраняла этот интернационалистский характер вплоть до 1935 года, и нельзя понять энтузиазм и заинтересованность людей, действующих в ее рядах, если не рассматривать всю проблему в общем контексте мировой революции. Эти люди отличались абсолютным бескорыстием. Могу с уверенностью свидетельствовать об этом, ибо хорошо знал их. Никогда они не заговаривали о гонорарах, о деньгах. Гражданские по своей сути, они всецело отдавались этому делу точно так же, как при других обстоятельствах столь же безраздельно посвящали бы себя, скажем, профсоюзной работе.
Разведывательной службой Красной Армии руководил корпусной комиссар Я. К. Берзин25. Старый большевик, он до революции дважды приговаривался к смертной казни, дважды бежал из-под стражи. В гражданскую войну командовал полком латышских и эстонских стрелков, на которых была возложена охрана Ленина и правительства. Свой подлинный интернационализм большевистское руководство доказало, в частности, тем, что доверилоим эту охрану.
Параллельно этому Коминтерн располагал своей собственной разведкой, имевшей по одной радиостанции в каждой стране. Национальные секции сводили воедино поступавшую политическую и экономическую информацию. Главный смысл такой организации состоял в том, что в течение долгого времениСССР не поддерживал дипломатических отношений с другими странами. И поскольку хорошо известно, что разного рода информация чаще всего идет по дипломатическим каналам, то легко понять, что в условиях Советского Союза местные секции Коминтерна .в какой-то мере восполняли этот недостаток.
НКВД — третья составная часть советской разведки — первоначально отвечал за внутреннюю безопасность, т. е. выявлял иностранных агентов на советской территории. С течением времени власть и прерогативы НКВД расширились. Этой организации поручили заботиться о безопасности советских граждан за рубежом, затем следить за белогвардейцами, которые почти повсюду замышляли заговор. В конце концов перед НКВД стояло столько же внешних, сколько и внутренних задач. Зачастую он вступал в соперничество со службой военной разведки, в которой НКВД насаждал своих агентов.
С окончанием революции иностранные посольства в Москве, по сути дела, превратились в очаги контрреволюции. В частности, в посольстве Великобритании весьма бурно действовало отделение английской Интеллидженс-сервис, которым руководил некто Локкарт, ставивший перед собой лишь одну задачу: свергнуть Советское правительство — ни больше, не меньше! (Что ж, никому не запретишь лелеять даже самые бредовые идеи.) Этот Локкарт связался с экстремистскими элементами, мечтавшими любой ценой «разделаться» с большевиками. До Берзина дошло, что британский резидент пытался вербовать солдат и офицеров, согласных участвовать в заговоре. Берзин пришел к нему и заявил, что командует полком, чей личный состав желает лишь одного — перейти на сторону противника. Берзин уверял Локкарта, будто его люди недовольны новым режимом, говорил, что разочарование масс, «обманутых» революционерами, достигло предела, что Россия «катится к катастрофе», что необходимы срочные меры по оздоровлению общественной атмосферы… И Берзин в присутствии своего собеседника начал вслух размышлять о средствах и действиях, способных остановить пагубный курс событий.
Локкарт, несколько недоверчивый поначалу, все же попался на удочку. Мало-помалу они договорились о плане «свержения группы, стоящей у власти». Но предприятие такого масштаба требует финансового обеспечения. Для одного только денежного вознаграждения солдат, которые приняли бы участие в этой операции, потребуется очень солидная сумма. Поэтому Берзин предложил немедленное ассигнование «задатка» в десять миллионов рублей. Не моргнув глазом, Локкарт выплатил их ему.
Затем началось обсуждение подробностей намеченной контрреволюционной акции. Она представлялась довольно простой, и выполнять ее надлежало самым решительным образом. Конкретно речь шла об окружении здания, в котором работало правительство, и об аресте его членов. Они предусмотрели все, вплоть до участи, уготованной Ленину. Даже нашелся один довольно известный православный священник, согласившийся предоставить церковь для отпевания тела вождя коммунистов!
Полученные деньги Берзин спрятал в надежном месте. В назначенный день все произошло, как было задумано, с одной лишь поправкой — арестован, а затем и выслан был Локкарт.
Таким был первый мощный удар Берзина26. В дальнейшем он полностью посвятил себя организации советской разведывательной службы. В декабре 1936 года, когда я с ним познакомился, он уже был ее бесспорным начальником.
Берзин пользовался всеобщим уважением. Всем своим обликом он совершенно не походил на этакого специалиста-робота от разведки. Большое значение он придавал нравственным человеческим категориям. Берзин, подбирая людей для своей службы, охотно повторял: «Советский разведчик должен быть наделен тремя качествами: холодным рассудком, горячим сердцем, железными нервами». Вопреки обычаю, принятому в разведывательных службах, он никогда не оставлял своих людей в беде. Никогда он не пожертвовал бы ни одним из них, так как для него это были настоящие люди и коммунисты.
Между Берзиным и его резидентами за рубежом всегда устанавливались близкие личные отношения. Так, в частности, его связывали узы глубокой дружбы с одним из самых великих советских разведчиков — Рихардом Зорге.
Когда в 1938 году, во время моего пребывания в Бельгии, я увиделся с Зорге в Брюсселе, он рассказал мне о своей первой встрече с Берзиным27.
Зорге был человеком подлинно высоких достоинств. Наделенный замечательным умом, он активно работал в Коммунистической партии Германии и был автором ряда работ по экономике. В 1933 году, когда он выполнял какое-то задание в Китае, его вызвали в Москву. Берзин назначил ему встречу в шахматном клубе, часто посещаемом немцами.
По словам Рихарда Зорге, Берзин сразу же заговорил о главном:
— Какова, по-твоему, в настоящий момент главная опасность
для Советского Союза?
— Не отметая гипотезы о возможном столкновении с
Японией, — ответил ему Зорге, — думаю, что самая реальная угроза будет исходить от нацистской Германии. (Этот разговор имел место через несколько дней после прихода Гитлера к власти.)
Берзин продолжил:
— Вот именно поэтому мы тебя и вызвали сюда… Мы хотели бы, чтобы ты обосновался в Японии…
— Почему в Японии?
— Потому что в связи со сближением, наметившимся между Германией и Японией, в Токио ты сможешь узнавать многое о военных приготовлениях…
Зорге, который начал понимать, на какую работу его посылают, прервал Берзина:
— То есть как? Поехать в Японию и стать шпионом? Но я ведь журналист28!
— Ты не желаешь быть шпионом. А знаешь ли ты, что такое
шпион? Так ты называешь человека, который добывает различные сведения, чтобы дать своему правительству возможность наносить удары по уязвимым местам противника. Мы, советские, решительно против войны, однако хотим знать, как готовится к ней враг, выявить его слабые места, дабы в случае нападения не быть застигнутым врасплох…
После небольшой паузы Берзин продолжал:
— Цель наша в том, чтобы в Японии ты сколотил группу, готовую бороться за мир. Ты займешься там вербовкой лиц, занимающих высокое положение в обществе, и вы сделаете все, даже невозможное, чтобы их страна не дала себя вовлечь в войну против Советского Союза…
— Под каким именем я поеду туда?
— Под своим собственным…
Зорге был ошеломлен. Подчиненные Берзина, присутствующие при этой встрече, тоже не могли скрыть своего изумления:
— Так он же активно боролся в рядах партии и взят на заметку германской полицией! Правда, дело это давнее (Зорге активно работал в КПГ в 1918 — 1919 годах), но можете не сомневаться — они наверняка не выпустили его из поля зрения…
— Все это я знаю, — ответил Берзин, — и хорошо понимаю, что мы идем на риск. Но все-таки думаю, что лучше всего действовать через своего, проверенного человека. Конечно, гестапо унаследовало картотеку полиции. Но пока суд да дело, пока досье Зорге будет извлечено на свет божий, в Москве-реке утечет много-много воды. И потом, если гестапо и в самом деле обратит на Зорге внимание, то, как ни говорите, он был коммунистом целых пятнадцать лет тому назад и с тех пор вполне мог переменить свои политические убеждения?!
Затем Берзин повернулся к тому из своих сотрудников, который «курировал» Германию, и сказал ему:
— Устрой так, чтобы его послали в Токио специальным корреспондентом «Франкфуртер цайтунг». Это широко известная газета29.
Затем он обратился к Зорге:
— Понимаешь? В этом случае ты почувствуешь себя именно в своей тарелке и тебе не будет казаться, будто ты разыгрываешь роль шпиона!
Берзин установил золотое правило: фиктивный фасад не может служить надежным прикрытием агента. В данном случае все получилось точно так, как он и предвидел: Зорге предложили пост специального корреспондента «Франкфуртер цайтунг». Его статьи, неизменно получавшие высокую оценку в официальных японских кругах, широко распахивали перед ним самые, казалось бы, недоступные двери: он познакомился с послом третьего рейха в Токио, а затем и с военным атташе германского посольства, где его вскоре стали принимать как «друга дома». Самые доверительные сообщения, посылаемые Берлином в зарубежные нацистские представительства, проходили через его руки.
За два или за три года до начала войны гестапо послало своего работника в Токио для слежки за персоналом посольства. С этим гестаповцем Зорге довольно быстро «подружился». Но однажды произошло то, чего опасались сотрудники Берзина: гестаповец получил из Берлина «досье Зорге», содержавшее сведения о его коммунистическом прошлом…
— Оказывается, в свое время ты занимался веселенькими делами, — сказал он Зорге.
Вспомнив совет своего начальника, Зорге ответил:
— Что ж, это верно. Ошибка молодости. Теперь все это так далеко!
Эту маскировочную игру он довел до того, что через некоторое время вступил в национал-социалистскую партию. Этот поступок произвел такое впечатление на его немецкое окружение, что, когда японцы «раскрыли» Зорге, германский посол в Токио заявил официальный протест против ареста одного из «лучших сотрудников».
11. В ПОИСКАХ «ФАНТОМАСА»
Дело «Фантомаса» кончилось тем, что Бира и Штрома приговорили к трем годам тюрьмы. В конце 1936 года их освободили и они приехали в Москву. До этого момента официальная версия французской «Сюртэ женераль»30, принятая руководством советской разведки, объясняла провал группы Бира присутствием в ней агента-провокатора, некоего Рикье — журналиста газеты «Юманите». Штром и его друзья, убежденные в невиновности Рикье, выступили против такого тяжкого обвинения, к тому же задевающего престиж Французской компартии, и предложили провести новое расследование в Париже. Руководство Коминтерна, считая необходимым вскрыть этот гнойник, попросило Штрома назвать кандидата для выполнения этого задания. Штром предложил меня.
— Домб, — сказал он, — подходит во всех отношениях: он был в Париже в дни процесса, но сам не замешан в нем.Он говорит по-французски, он старый коммунист и сумеет пролить свет на эту темную историю.
Коминтерн дал свое согласие и представил это предложение Берзину, который принял его без каких бы то ни было возражений. Таким образом для подготовки моей миссии во Францию я впервые вошел в контакт с советской разведкой. Два или три раза я беседовал с начальником отдела стран Западной Европы полковником Стигга (Оскар)31, чтобы разработать подробности предстоящих мне действий.
— Вам надо только лишь связаться с адвокатами Ферручи и Андре Филиппом, — сказал мне Стигга. — Вы должны просмотреть всю документацию процесса и попытаться установить правду.
В конце нашей последней встречи Стигга вручил мне паспорт, оформленный на имя какого-то люксембургского коммерсанта, и спросил:
— Ас одеждой у вас все в порядке?
— Нет.
— Это крайне важно. Несколько наших агентов провалились из-за несчастной складки, которую один варшавский портной почему-то всегда делал в середине воротника пиджака.
— У меня есть друзья в Антверпене. Остановлюсь там на два дня и у хорошего портного сошью себе костюм по последней французской моде.
— Отлично, а теперь наш главный хочет повидаться с вами.
Меня ввели в просторный кабинет. В углу стоял длинный рабочий стол.Во всю длину стены висела карта мира. Берзин предложил мне сесть, и мы завели разговор о Париже, затем он перешел к основной теме беседы:
— В архивах Дворца правосудия вы найдете не меньше тонны документов, — сказал он. — Надо постараться отыскать в них правду. Не стану вам давать советы — это в любом случае довольно легко. Скажу лишь одно: не удивляйтесь, если в парижских отелях вы увидите знакомые вам лица. Вы ведь знаете — в сторону Испании идет большое движение…
Полагая разговор законченным, я уже было собрался откланяться и привстал, но Берзин жестом снова усадил меня:
— Если у вас есть еще несколько свободных минут, — сказал он, — то мне хотелось продолжить нашу беседу… И сразу же заговорил о главном:
— Сколько, по-вашему, времени остается у нас до начала войны?
Я несколько опешил: давно волновавший меня вопрос был мне задан с полной откровенностью и доверием. Справившись со смущением, я ответил столь же откровенно:
— Наша судьба в руках дипломатов, и хотелось бы знать, будут ли они и дальше гнуть спины перед Гитлером. По выражению лица Берзина я понял, что дело тут, к сожалению, не в дипломатах. Войны так или иначе не избежать.
— Как вы считаете, где будет театр предстоящих военных действий? — спросил он меня.
Берзин и впрямь оказывал мне полное доверие. Это меня удивляло, ибо разговор протекал в атмосфере, совершенно необычной для Москвы 1936 года32. После недолгих колебаний я решил высказать то, что думал:
— Видите ли, товарищ Берзин, по-моему, проблема не в том, чтобы знать заранее, начнется ли война на Западе или на Востоке. Конфликт будет мировым, и даже если допустить, что он начнется на Западе, то это ничего не меняет. Дело коснется всех стран, так как ничто не сможет остановить германскую армию… Гитлер поставил перед собой две цели, и ничто не заставит его отступиться от них. Я говорю об агрессии против Советского Союза ради аннексии Украины и об уничтожении евреев…
— Как мне хотелось, чтобы все наши политические деятели рассуждали так, как вы, — твердо проговорил Берзин, хотя в голосе его слышалась и нотка сожаления. — Здесь все время рассуждают о нацистской угрозе, но представляют ее себе как нечто весьма отдаленное. Как бы эта слепота не обошлась нам очень дорого.
Полусерьезно-полушутя я заметил:
— Но ведь в конце концов у вас есть служба разведки, и я не поверю, что ваши агенты не информируют вас о военных приготовлениях Германии. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предсказать, чем все это кончится!
— Наши агенты, говорите вы… А знаете ли вы, как они действуют? Что ж, скажу вам — сначала они читают «Правду», а затем составляют свои телеграммы, не включая в них ничего, что могло бы не понравиться руководству партии33. Мы страшно скованы решением партии, запрещающим нам засылать агентов в Германию. Вам как раз предстоит проехать через Германию. Смотрите в оба, постарайтесь увидеть побольше из того, что там творится. Когда выполните свое задание и приедете обратно, зайдете ко мне и мы вернемся к этому разговору… Между прочим, чем вы занимаетесь сейчас?
— Я журналист, работаю в газете «Дер эмес».
— Понимаю, но не беспокойтесь: если понадобится, вам найдут замену…
Наша беседа закончилась. Выходя из кабинета Берзина, чей ясный и холодный ум произвел на меня большое впечатление, я смутно сознавал, что сделал первый шаг в направлении самого главного дела всей моей жизни.
День моего отъезда приближался, но был ненадолго отсрочен из-за одного обстоятельства, которое мы, впрочем, предвидели: на свет родился Эдгар, наш второй сын…
26 декабря 1936 года я сел на поезд, шедший в Финляндию. Через Швецию попал в Антверпен, где с головы до ног оделся и обулся во все новое. Наконец 1 января 1937 года я прибыл в Париж и назавтра же отправился к адвокату Ферручи.
Он весьма любезно принял меня и в мою честь поставил пластинку ансамбля песни и пляски Красной Армии…
— Я пришел, чтобы разобраться в деле «Фантомаса», — сказал я ему.
— Ах, знаете, эта история довольно запутанна, но в одном я твердо уверен: Рикье не виновен. Это классический случай юридической подтасовки: обвинить невинного, чтобы обелить виновного.
— Могу ли я получить доступ к архивам этого процесса?
— Да, но только через месяц. Тогда мне дадут это досье — да и то не более чем на сутки.
Не имея никаких дел, я ненадолго съездил в Швейцарию, где наслаждался зрелищем зимних Альп и… на редкость вкусными пирожными. В жизни коммуниста-активиста такого рода периоды крайне редки, и не использовать их просто грешно. Я вернулся в отличной форме, и адвокаты Ферручи и Андре Филипп вручили мне досье «Фантомаса». Я с головой ушел в эти документы и обнаружил среди них двадцать три письма, ни разу не упоминавшихся на процессе. Это была корреспонденция между одним двойным агентом, голландцем по имени Свитц, и американским военным атташе в Париже. Из писем становилось абсолютно ясно, что Свитц выдал всю группу французской полиции и только благодаря вмешательству своего влиятельного покровителя был выпущен на свободу. Я внимательнейшим образом прочитал от начала и до конца все двадцать три письма. В них содержались неоспоримые доказательства провокации.
Поведение Свитца объяснялось его прошлым. Прежде он работал на советскую разведку. Его послали с заданием в Соединенные Штаты, где Свитца быстро разоблачили и «повернули обратно»: еще в Панаме американская контрразведка обнаружила, что у него фальшивый паспорт. Поскольку в те годы попытка незаконного въезда в Соединенные Штаты каралась десятью годами тюрьмы, Свитц не стал долго колебаться и согласился сотрудничать с американцами, однако… не порывая своих связей и с советской разведкой. Даже отправил донесение в Москву с нахальным утверждением, будто без затруднений проник в США. Двумя годами позже Москва, вполне довольная услугами этого мастера двойной игры, решила послать его с женой в Париж, где он стал бы главным резидентом34 во Франции. Так возникла его связь с Биром.
Когда же дело «Фантомаса» оказалось в центре всеобщего внимания, Свитц известил Москву, что ему удалось выйти сухим из воды и теперь, мол, необходимо исчезнуть на какое-то время. Он спрятался так хорошо, что его никогда уже больше не видели.
Французская полиция, озабоченная поисками хоть одного виновного, разумеется, была рада убить одним выстрелом двух зайцев, а именно — обвинить Рикье и через него скомпрометировать всю Французскую компартию. Почему же выбор пал именно на Рикье? Только потому, что в «Юманите» он редактировал корреспонденции рабочих35.
Когда весной 1937 года я вернулся в Москву, сотрудники Берзина отнеслись к моему сообщению скептически, поскольку отсутствовали формальные доказательства невиновности Рикье. Тогда меня снова направили в Париж. На сей раз мне удалось (за некоторую мзду!) убедить архивариуса Дворца правосудия предоставить мне нужные документы для снятия с них фотокопий. Архивариус согласился услужить мне с большой охотой, тем более что через месяц-другой ему предстояло выйти на пенсию, и он ничем не рисковал.
Пересечь границу с такими документами было слишком опасно. Поэтому я передал их одному сотруднику советского посольства, с тем чтобы тот переправил их дальше дипломатической почтой. Встреча с представителем посольства была назначена в кафе близ парка Монсо.
В назначенный день и час вхожу в это кафе и вижу сидящего за столиком мужчину, чья наружность соответствует полученному мной описанию: ему лет под сорок, он в очках и читает газету «Тан». Приближаюсь к нему, но в момент, когда я уже готов заговорить с ним, замечаю, что вопреки договоренности на его пальце нет перевязки. Но ведь именно эта деталь и позволила бы мне идентифицировать его без всякого риска ошибиться. Я произношу какие-то бессвязные слова и в сильном смятении исчезаю. Через восемь дней иду на заранее обусловленную «запасную» явку. На сей раз передо мной мужчина с перевязанным пальцем. Я передаю ему документы, вложенные в газету. Мы вступаем в разговор. Он спрашивает, останусь ли я еще на несколько дней в Париже. Я отвечаю утвердительно, ибо так оно и предусмотрено.
— Тогда, — говорит он мне, — дай мне номер твоего телефона, чтобы я мог тебя вызвать, если понадобишься.
Я ему называю номер телефона, которым можно воспользоваться только в случае опасности. И замечаю, что мой «дипломат» записывает цифры в свой блокнот, не прибегая к зашифровке, то есть забыв об элементарной предосторожности…
Этот маленький эпизод открыл мне глаза на эффективность советской разведывательной службы. Мыслимо ли, чтобы агент, присылаемый посольством, вел себя так наивно? Правда, тогда я и не подозревал, какие могут повлечь за собой последствия подобные промахи. Это я понял в самый разгар второй мировой войны…
Я вернулся в Москву в июне 1937 года. Берзин находился в Испании, где исполнял обязанности военного советника при республиканском правительстве. Меня принял Стигга, и я ему доложил о выполнении задания. Он заявил мне, что теперь в деле «Фантомаса» никаких неясностей больше нет36. В дальнейшем Стигга часто беседовал со мной. Этими контактами и определилось мое принципиальное согласие целиком и полностью перейти на работу в разведку. Вообще говоря, «шпионаж» не привлекал меня по моим личным наклонностям. Не было у меня к нему никакого призвания. Вдобавок я никогда не служил в армии. Моим единственным устремлением было бороться с фашизмом. Кроме того, Стигга убедил меня еще и таким аргументом: Красной Армии нужны люди, твердо убежденные в неизбежности войны, а не роботы или льстивые вельможи37.
Жребий был брошен…
12. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ
Я должен объяснить, при каких обстоятельствах возникла легенда о «советском агенте Треппере». По утверждениям моих клеветников, начиная с 1930 года или чуть ли не еще раньше я будто бы непрерывно работал на советскую разведку…
Как и любая другая легенда, эта тоже восходит к каким-то реальным фактам. Но их всячески исказили, вульгаризировали и уже в таком виде выдали за доказательства. В архивах французской «Сюртэ женераль» и германского гестапо действительно хранятся «доказательства» моей причастности к «сети „Фантомас“.
Так что же это за документы?
Когда в 1942 году я был арестован гестапо, немцы знали только мой псевдоним военных лет — Жан Жильбер, но в ходе следствия, проведенного ими в Бельгии, они нашли мой настоящий паспорт, выданный на имя Леопольда Треппера. Однако с самого начала моей жизни коммуниста я везде фигурировал под именем Домб. Именно под этой партийной кличкой я был известен не только товарищам по общему делу, но и полиции. А вот гестапо о Домбе пе имело никакого понятия, и я, естественно, ни за что не мог допустить, чтобы оно каким-то образом связало имена Домб и Треппер. Это поставило бы под прямую угрозу судьбы коммунистов, связанных с Домбом в 1930, а их было несколько десятков.
К счастью, в 1932 году французская Сюртэ работала плохо, из ее досье также нельзя было заключить о какой-либо связи между Треппером и Домбом. С одной стороны, она следила за коммунистическим агитатором по имени Домб, который действовал в еврейских кругах; с другой — захватила два письма, адресованных некоему Трепперу и предназначавшихся для Штрома.
Гестапо, порывшись в архивах французской полиции, установило лишь то, что арестованный ею главарь «Красного оркестра» по имени Треппер в 1932 году был замешан в одной советской шпионской истории. Более того, из паспорта, попавшего в руки гестапо, явствовало, что тот же Треппер находился в Палестине с 1924 по 1929 год. И чтобы лишний раз выслужиться у своего берлинского начальства, гестапо постаралось посильнее раздуть значение моей персоны и сфабриковало на меня довольно удивительную «родословную», что я будто уже смолоду был советским агентом — сначала в Палестине, потом во Франции. На допросах я сознательно влезал в эту шкуру, ибо, чем большее значение гестапо придавало мне, тем большим оказывался простор для моего маневра. В частности, гестаповцы считали бесспорным, что в Москве я прошел специальную шпионскую подготовку. Я это как бы признавал косвенно, указывая на факт моего обучения в университете имени Продровского.
И поныне в некоторых книгах можно прочитать, будто я был слушателем «военной академии» имени Продровского на факультете шпионажа. Между тем университета имени Продровского вообще никогда не существовало!
Чтобы облегчить себе борьбу с гестапо, я решил не опровергать легенду о советском агенте, действующем чуть ли не с детских лет. Легенда эта все еще имеет хождение…
II. «КРАСНЫЙ ОРКЕСТР»
1. РОЖДЕНИЕ «ОРКЕСТРА»
С Берзиным я встретился вновь после его возвращения из Испании. Он мне показался совершенно другим человеком. В Испании Берзин узнал, что Тухачевский и весь его генеральный штаб арестованы, а затем расстреляны. Он не сомневался, что «доказательства» противних могли быть только фальшивыми. Все это очень взволновало его. Берзин был слишком умен, чтобы питать какие-либо иллюзии насчет своей личной судьбы. Волна, смывшая товарищей Берзина, накатывалась и на него. Вопреки грозившей опасности, он вернулся в Москву по собственной инициативе, чтобы заявить Сталину протест против избиения коммунистов, совершаемого в Испании сотрудниками НКВД.
Берзин знал, что, действуя таким образом, сам себе подписывает смертный приговор. Глубоко принципиальный коммунист, сознающий всю меру своей ответственности, он не мог молча наблюдать, как вследствие безоговорочно осуждаемых им действий исчезают лучшие кадры, которые он сам отбирал и пестовал.
И хотя время было против него, он все же хотел во что бы то ни стало использовать оставшийся ему срок, чтобы хоть как-то быть полезным людям.
Берзин принял меня для беседы, хорошо сохранившейся в моей памяти. Да и могло ли быть иначе, если этот день оказался решающим для всей моей дальнейшей судьбы как человека и коммуниста?
— Я вам предлагаю перейти на работу к нам, потому что вы нам нужны, — сказал он мне. — И не сюда — в аппарат. Тут вам не место. Нет, вы должны создать в Западной Европе базу для наших действий.
После моего первого разговора с Берзиным мысль о переходе в разведку и борьбе в ее рядах прочно засела в моем сознании. Я не сомневался — близится момент, когда гитлеровские орды хлынут в страны Европы.
Мне было ясно, что в грядущих сражениях роль Советского Союза будет решающей. Сердце мое разрывалось на части при виде революции, становящейся все меньше похожей на тот идеал, о котором мы все мечтали, ради которого миллионы других коммунистов отдавали все, что могли. Мы, двадцатилетние, были готовы пожертвовать собой ради будущей жизни, прекрасной и молодой. Революция и была нашей жизнью, а партия — нашей семьей, в которой любое наше действие было пронизано духом братства.
Мы страстно желали стать подлинно новыми людьми. Мы готовы были себя заковать в цепи ради освобождения пролетариата. Разве мы задумывались над своим собственным счастьем? Мы мечтали, чтобы история наконец перестала двигаться от одной формы угнетения к другой. И кто же лучше нас знал, что путь в рай не усыпан розами? Мы стремились к коммунизму именно потому, что наша юность пришлась на пору империалистического варварства.
Но если путь оказывается усеянным трупами рабочих, то он не ведет, он никак не может вести к социализму. Наши товарищи исчезали, лучшие из нас умирали в подвалах НКВД, сталинский режим извратил социализм до полной неузнаваемости. Сталин, этот великий могильщик, ликвидировал в десять, в сто раз больше коммунистов, нежели Гитлер.
Между гитлеровским молотом и сталинской наковальней вилась узехонькая тропка для нас, все еще верящих в революцию. И все-таки вопреки всей нашей растерянности и тревоге, вопреки тому, что Советский Союз перестал быть той страной социализма, о которой мы грезили, его обязательно следовало защищать. Эта очевидность и определила мой выбор. С другой стороны, предложение Берзина позволяло мне с чистой совестью обеспечить свою безопасность. Польский гражданин, еврей, проживший несколько лет в Палестине, человек, лишившийся родины, журналист, сотрудничавший в ежедневной еврейской газете… Для НКВД я не мог не быть стократ подозрительным.
С этой точки зрения, останься я в СССР, дальнейшая моя судьба была необратимо предопределена. Она завершилась бы в тюремной камере, в лагере, в лучшем случае меня бы сразу поставили к стенке. И напротив, борясь далеко от Москвы, находясь в первых рядах антифашистов, я мог продолжать быть тем, кем был всегда, — коммунистом, верящим в свои идеалы.
Придя к такому выводу (не без внутренних сомнений и множества вопросов, задаваемых самому себе), я мысленно набросал во время моих поездок на Запад примерный план развертывания разведывательной сети в масштабах Европы. Своими соображениями на этот счет я поделился с Берзииым, предложив ему вариант внедрения как непосредственно в Германию, так и в соседние с нею страны. Созданные там небольшие антифашистские группы должны были вступить в действие в момент, когда Германия развяжет войну в Европе, не имея никаких других задач, кроме непосредственной борьбы против нацизма. На первых порах надо организовать базы для разведывательной работы, обеспечив их взаимодействие, маскировку и финансирование.
В этот переходно-подготовительный период, на мой взгляд, было важно попрочней обосноваться главным образом в скандинавских странах для надежной защиты системы связи с Центром разведывательной службы Красной Армии. В военное время агентурные сети намечалось укомплектовывать исключительно антифашистами, которые, впрочем, могли принадлежать к различным политическим течениям или религиозным верованиям. Но эти люди должны обладать идейной стойкостью, выдерживающей любые испытания, иметь (или быть способными установить) связи с представителями кругов, решающим образом влияющих на ход военных операций. Под этим подразумевалось германское военное командование, политические или экономические правительственные учреждения.
Об использовании платных агентов не могло быть и речи. Главная цель сводилась к тому, чтобы своевременно представлять руководству разведывательного управления генерального штаба всеобъемлющую, достоверную и проверенную информацию о планах и осуществляемых замыслах нацистской Германии.
Я сказал Берзину, что в каждой из стран, о которых шла речь, мне потребуются три сотрудника. Первый (не обязательно русский) должен обладать качествами, необходимыми для руководства группой. Второй должен быть техником-связистом, умеющим наладить и задействовать сеть радиопередатчиков, а также обслуживать их. Наконец, третий человек представлялся мне достаточно подкованным в военном отношении и способным обеспечить на месте предварительный отсев собираемой информации.
Берзин одобрил этот проект в целом, однако заметил:
— В Германии у нас уже есть великолепная группа, но мы связаны по рукам указаниями руководства партии, которое, опасаясь провокаций, возражает против создания агентурной сети на территории третьего рейха. С другой стороны, вы полагаете, что при наличии коммерческой «крыши» можно будет обеспечить материальное снабжение групп и их финансирование. Тут я настроен скептически. Если исходить из нашего двадцатилетнего опыта, это никогда и ничего нам не давало. А деньги, которые мы вкладываем в эти «крыши», всегда пропадают впустую.
— Видите ли, — возразил я, — дело не в том, чтобы сэкономить или не сэкономить Советскому правительству какие-то расходы, а в том, что в военное время будет крайне трудно получать деньги из Москвы. Люди, которые в прошлом создавали подобные фирмы для камуфляжа, вероятно, были не слишком сведущими в коммерческих делах. Думаю, что в капиталистической стране при наличии известной сметки не так уж трудно зарабатывать деньги. Я мыслю себе создание экспортно-импортной фирмы с базой в Бельгии и филиалами в нескольких странах.
— Сколько вам понадобится для учреждения такой фирмы?
— Что ж, мы начнем с малого. Я заделаюсь участником какой-нибудь компании и внесу свой долевой капитал в размере десяти тысяч долларов.
— То есть как! Вы всерьез полагаете, что десять тысяч долларов дадут вам прибыль, способную покрывать наши издержки в течение всей войны?
— Очень надеюсь, что это будет именно так!
— Во всяком случае, если через несколько месяцев вы снова обратитесь к нам за деньгами, то вашу просьбу мы удовлетворим. До сих пор самым трудным был не сбор военной информации, но обеспечение надежной связи с нашими резидентами.
Разговор близился к концу. Берзин казался совершенно спокойным, почти счастливым.
— До начала войны остаются примерно два года, — сказал он мне. — Рассчитывайте прежде всего на себя самого. Ваша задача — бороться против третьего рейха. Ничего другого делать не надо. До начала военных действий ваша разведывательная организация пребывает, так сказать, в состоянии спячки. Не вовлекайте ее ни в какие другие мероприятия. Разбить нацизм — вот наша единственная цель. Остальное — не ваша забота. У меня есть агенты во всех этих странах, но ваша группа сохранит полную независимость. Мы попытаемся посылать вам отсюда рации и радистов. Но и в этом отношении не ожидайте слишком многого. Постарайтесь сами завербовать и подготовить соответствующих людей. Что касается руководителей групп в отдельных странах, то заранее предупреждаю: их надо искать и находить только на месте.
В его голосе угадывалась какая-то взволнованность, смысл которой я понял намного позже: значительная часть квалифицированных кадров, которые могли бы выполнять эту работу, уже была арестована и отдана в руки следователей НКВД. В заключение мы договорились, что моя семья как можно скорее присоединится ко мне (мужчина, живущий в одиночестве, всегда подозрителен). Мне действительно захотелось надеть на себя личину спокойного и деятельного промышленника.
— Знаю, что могу положиться на вас, — сказал Берзин, — и уверен, что вы добьетесь успеха… При отправке добытых вами сведений никогда не задавайтесь вопросом: как их примет руководство? Никогда не стремитесь угождать ему. Иначе вы будете просто плохо работать…
Затем он добавил:
— Тухачевский был прав: война неизбежна и вестись она будет на нашей территории…
Эта фраза была окончательным доказательством его полного доверия ко мне. В Москве той поры, где царил сталинский террор, я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то похвалил человека, расстрелянного за «измену»…
Он проводил меня до дверей своего кабинета.
— Прислушивайтесь только к голосу вашей совести, — сказал он на прощание. — Для революционера только она верховный судья…
Думаю, что в этих нескольких словах и заключается все политическое завещание Берзина, ибо на протяжении всей своей жизни он всегда и во всем следовал одним лишь велениям совести.
В то время Берзин уже знал, что обречен, но он ни о чем не сожалел. Пусть сталинский трибунал приговорил его к смерти, но перед судом истории он выиграл процесс. А для коммуниста важно только это.
Наш разговор состоялся осенью 1937 года, и мы условились, что я уеду сразу после завершения необходимых приготовлений. Прошел месяц, за ним другой, но меня никуда не вызывали, и я оставался в полном неведении относительно осуществления нашего плана. Я вернулся на работу в газете. В последние дни года из нескольких источников узнал о каких-то крутых мерах, принятых в отношении разведки. Их значение и последствия представлялись мне вполне очевидными: весь наш проект, видимо, был забракован. Идея создания разведывательных баз, направленных против гитлеровской Германии, с энтузиазмом разработанная Берзиным и Стиггой, противоречила взглядам и целям партийного руководства.
Я уже было потерял всякую надежду, когда вдруг, в марте 1938 года, мне позвонил по телефону какой-то капитан, заместитель Стигги. Он попросил меня явиться к руководству…
Побывав четыре раза в «шоколадном домике», я достаточно хорошо запомнил лица людей, которых там видел, и теперь, в пятое мое посещение, сразу понял, что здесь произошли весьма существенные перемены. Объяснить их только случайностью я не мог!
Меня проводили в кабинет капитана. Он предложил мне сесть и тут же сказал:
— Будем браться за дело, время не терпит! Мы потеряли шесть месяцев, и теперь каждая минута дорога! Так что надо засучить рукава и действовать вовсю!..
— Я думал, что по такому важному вопросу полковник Стигга примет меня лично!
Его искоса брошенный взгляд и явное смущение были красноречивее слов. Но он все-таки решился как-то объяснить мне ситуацию.
— Видите ли, дело в том, что пришлось реорганизовать нашу службу. Некоторые из нас перемещены. На них возложено исполнение других обязанностей… Теперь же нам необходимо подготовить для вас паспорт, наметить маршрут вашей поездки и поработать с вами примерно полдня, чтобывы ознакомились с шифрами…
— Я всегда готов, — ответил я.
Да, я действительно был постоянно готов. Что еще мне оставалось?
Я вернулся к себе в довольно удрученном состоянии. Почему они меня пощадили? Почему вновь обратились ко мне? Берзина сместили, в чем я уже ничуть не сомневался и о чем искренне сожалел. Но все-таки я ответил согласием, и это только потому, что, по моему глубокому убеждению, Я. К. Берзин посоветовал бы мне поступить именно так. Ибо поручаемая мне миссия была одобрена и подготовлена им самым. Поэтому я оставался, так сказать, в его фарватере, оставался верен моей с ним договоренности. Только это и было важно для меня. Более чем когда-либо борьба против нацизма обрела теперь решающее, исключительное значение. Группы, которые мне предстояло подобрать, подпольная борьба, механизм которой я должен был создать, — все это было под моей ответственностью. А уж если машина будет пущена в ход, думал я, то ничто не сможет ее остановить!
В следующую встречу с капитаном эта моя убежденность еще больше окрепла. Я поставил только одно условие:
— Не знаю, каково положение людей, которым вы даете подобные поручения, но пусть будет ясно: я берусь за эту работу как убежденный коммунист. И еще: я не военный и не стремлюсь быть кадровым офицером…
— Это как вам угодно, — ответил он, — но зачислены вы в кадры или нет, для нас вы — сотрудник в звании полковника.
— Какое бы звание вы мне ни присвоили, мне это безразлично и не интересует меня…
Капитан представил меня специалисту-шифровальщику. Наш шифр был разработан на основе романа Бальзака «Тридцатилетняя женщина». В течение нескольких часов он обучал меня, как зашифровывать донесения.
Мне сообщили о приготовленном для меня за рубежом паспорте на имя канадца из Квебека (это избавляло меня от обязательного знания английского) и сказали, что в Брюсселе связь со мной будет поддерживать один из служащих советского торгпредства.
Меня предупредили, что перед отъездом я должен встретиться с новым начальником разведки. Он принял меня в кабинете Берзина. Там ничто не изменилось… К новому начальнику я не мог отнестись с чувством той же симпатии и уважения, какое испытывал к его предшественнику. На вид ему было лет сорок пять. Он любезно принял меня и сразу же попытался успокоить:
— Мы полностью, без каких бы то ни было изменений принимаем прежний план.
Он встал, подошел к все еще висевшей на стене большой карте мира и продолжил:
— Я знаю, что в настоящий момент в Германии мы почти ничего не делаем (тут мне вспомнились слова Берзина о том, что, опасаясь провокаций, Сталин лично распорядился о такой бездеятельности), но мы могли бы создать группу в каком-нибудь немецком городе, расположенном вплотную к границе…
Он говорил и пальцем искал какую-то точку на карте. Эта подробность пришла мне на память много лет спустя, когда в докладе Хрущева на XX съезде партии я прочитал, что у Сталина была привычка беседовать с его генералами на стратегические темы и водить при этом указательным пальцем по глобусу.
— Да, в каком-нибудь немецком городе, им мог бы быть, например, Страсбург…
Ну и ну, сказал я себе, уж коли начальник разведки относит Страсбург к Германии!.. Тут я впервые понял, на каком уровне находятся результаты «замен», производимых Сталиным. В дальнейшем мне еще не раз предстояло с грустью вспоминать погибшего Берзина… Значит, НКВД поставило одного из своих во главе секретной службы, подумал я. Если он разбирается в делах разведки так же хорошо, как в географии, то мне, вероятно, придется столкнуться с известными трудностями. К сожалению, это мое предчувствие подтвердилось.
Разговор между нами ненадолго прервался. По резкому изменению цвета лица находившегося в кабинете капитана — из бледного оно стало багровым — начальник разведки понял, что оплошал. Мне не оставалось ничего другого, как протянуть ему спасительную соломинку и помочь выйти из замешательства.
— Вы совершенно правы! — воскликнул я. — Страсбург, в сущности говоря, обладает всеми признаками истинно немецкого города, хотя и расположен на французской территории. Мы попробуем создать там новую группу…
— Вот именно! — произнес он с явным облегчением. — Как раз это я и хотел сказать: французский город, совсем близко от германской границы…
— Молодец, — шепнул мне капитан. — Вы хорошо вышли из положения, а то ведь он такое ляпнул…
— Ах, знаете ли, — ответил я с абсолютно серьезным выражением лица, — ошибиться может любой человек…
Но я окончательно осознал, что с таким «компетентным» руководством мне придется хлебнуть немало горя.
Прежде чем покинуть Советский Союз, я пошел проститься с моим сыном Мишелем. С болью в сердце я оставлял его в интернате, который с точки зрения возможных перемен в моей судьбе казался мне скорее приютом для сирот.
— Мишель, — сказал я ему, — я должен выполнить одно партийное задание, и в течение некоторого времени меня здесь не будет…
Он ничего не ответил. Получалось так, будто я бросаю сына на произвол судьбы. Поцеловав мальчика, я пошел… Когда я прибыл на железнодорожную станцию, находящуюся в двух километрах от интерната, увидел быстро приближавшуюся ко мне маленькую фигурку. Это был Мишель, мой сын. Сквозь рыдания он громко произнес слова, которые никогда не забуду:
— Не оставляй меня!.. Не оставляй!.. Не хочу оставаться здесь один!..
Нам было суждено свидеться лишь через шестнадцать лет… Я отправился в Бельгию через Ленинград и Стокгольм. В Антверпене, в назначенном месте, мне вручили мой новый паспорт, оформленный на имя Адама Миклера, канадского промышленника, желающего обосноваться в Бельгии.
2. THE FOREIGN EXCELLENT TRENCH-COAT
«Канадский промышленник» Адам Миклер не случайно решил начать свою деловую жизнь именно в Бельгии. Законы этой небольшой страны, принципиально придерживающейся нейтралитета, дают такие возможности для «разведывательной деятельности» (если, конечно, она не направлена против самой Бельгии), каких больше нигде — или почти нигде — не найти. Ее географическое положение позволяет быстро переместиться в Германию, во Францию или в Скандинавию. Кроме того, — и это также весьма важно — Адам Миклер мог рассчитывать здесь на своего рода трамплин для своих дальнейших деловых начинаний.
Предлагая Я. К. Берзину создать маскировочные фирмы, я имел в виду совершенно конкретный проект. В 1937 году, перед возвращением в Москву после моей второй поездки в Париж, я на несколько часов задержался в Брюсселе для встречи с моим старым знакомым Лео Гроссфогелем38. Сойдя с поезда, я помчался к нему.
После нескольких лет, проведенных в Палестине, в период между 1929 — 1932 гг. я несколько раз виделся с Лео, когда приезжал в Брюссель для пропагандистских выступлений. Страсбург — родина еврейского семейства Гроссфогелей, Лео было начал учиться в Берлине, но в 1925 году бросил все и отправился в Палестину, где вступил в коммунистическую партию и оказался одним из самых способных и активных ее деятелей. В 1928 году он переселился в Бельгию, присоединившись к двум членам своей семьи, ставшим владельцами фирмы «Au roi du Caouchouc» («Король каучука»). Вскоре он стал ее коммерческим директором.
Но несмотря на все это, Лео Гроссфогель отнюдь не изменил своим убеждениям. Почтенный фабрикант, известный всему промышленному и торговому Брюсселю, обеспечивал связь между Брюсселем и компартиями Ближнего Востока. Со временем он перестал заниматься этим весьма важным делом и всецело посвятил себя работе на советскую разведку.
Но сначала несколько слов о нашей «крыше»… Мы создали собственное предприятие.
Фирма «Король каучука» изготовляла непромокаемые плащи, и Лео предложил учредить экспортную компанию для сбыта ее продукции через многочисленные филиалы за рубежом. И вот осенью 1938 года возникла фирма «The Foreign Excellent Trench-Coat» («Отличный заграничный плащ»), чьи дела под умелым руководством Лео быстро пошли в гору.
На пост директора назначается известный делец Жюль Жаспар — выходец из семьи политических деятелей. Брат его был премьер-министром, а он сам — бельгийским консулом в различных странах, где его связи в правящих кругах прямо-таки чудодейственным образом помогают нам работать. Он быстро основывает филиалы в Швеции, Дании, Норвегии39. В своей родной Бельгии заручается поддержкой официальных инстанций, которые в этот период стремятся оживить сильно сократившийся экспорт.
Жюль Жаспар, давний знакомый Лео Гроссфогеля, а также Назарен Драйи, наш главный бухгалтер, опытный и энергичный работник, убежденный антинацист, знают, что прибыли фирмы идут на финансирование организаций, борющихся против фашизма.
Лео Гроссфогель входит в состав правления фирмы «The Foreign Excellent Trench-Coat», и поэтому Адам Миклер становится одним из его акционеров. Предприятие быстро развивается. К маю 1940 года в скандинавских странах работают его вполне преуспевающие филиалы, установлены связи с Италией, Германией, Францией, Голландией и — представьте себе — даже с Японией, где мы закупаем искусственный шелк. Во всех этих представительствах действуют почтенные коммерсанты, бесконечно далекие от малейших подозрений относительно истинных целей головной фирмы в Брюсселе.
В начале лета 1938 года моя жена Люба прибыла в Бельгию с нашим вторым сыном Эдгаром, которому тогда было полтора года.
В окружении семьи я по всем статьям похожу на благополучного бизнесмена, серьезного и внушающего полное доверие. Люба, естественно, очень заботливая хозяйка и мать семейства. Выполнив свои обязанности домашней хозяйки и светской женщины, она обеспечивает связь с представителем Центра — служащим советского торгового представительства в Брюсселе.
Мы снимаем скромную квартиру на авеню Ришар-Нейберг. Гроссфогели — наши соседи, они проживают в доме номер 117 на авеню Прюдан-Боль. Семьи Гроссфогель, Драйи и Миклер связаны тесной дружбой и охотно ходят друг к другу в гости.
Понятно, что на выбранном нами пути время от времени неизбежно возникали непредвиденные обстоятельства. Любе пришлось убедиться в этом уже при поездке из Москвы в Брюссель. Чтобы по возможности уберечь ее от тех или иных осложнений, ей вручили паспорт на имя французской учительницы, не предусмотрев, однако, всех связанных с этим подробностей. В Хельсинки таксист, белогвардеец-эмигрант, удивился:
— Вы сказали, что вы француженка, тогда почему же ваш малыш говорит по-русски?
А Люба пропустила мимо ушей, что Эдгар пролепетал несколько русских слов…
— Это вы верно заметили, — ответила она. — У него сызмальства открылись способности к языкам, и за время нашего пребывания в СССР мальчик усвоил какие-то обрывки…
Никогда не удается предвидеть все!
Это я уразумел несколько позже…
Я жил нормально, то есть в полном соответствии с моим статусом брюссельского промышленника. Открыл личный текущий счет в крупном банке, но время шло, а мне все не присылали чековой книжки на мое имя. Вместе с Лео я отправился в банк для выяснения причин такой задержки.
Полученный нами ответ оказался крайне неприятным: выяснилось, что незадолго до того правление банка приняло решение посылать на своих иностранных вкладчиков запросы в страны, откуда они прибыли… Нетрудно вообразить, каким оказался бы результат подобного запроса об Адаме Миклере — «гражданине Квебека».
Посоветовавшись, мы с Лео решили пригласить директора банка на обед. В разгар трапезы я рассказал ему свою маленькую историю: я еврей и наряду с моей коммерческой деятельностью стараюсь помогать своим соплеменникам, желающим изымать свои вклады из немецких банков. Все необходимые для этого операции должны осуществляться в полной тайне. Вот почему я попросил его коллегу в Квебеке на любой запрос обо мне отвечать, будто там, в Квебеке, я «неизвестен».
Брюссельский банкир поверил мне и, выразив сожаление, что я не предупредил его об этом заранее, послал в Канаду телеграмму, в которой аннулировал свой запрос.
Несколько дней спустя я получил чековую книжку и, чтобы доказать директору банка, что я ему не солгал, депонировал на свой счет крупную сумму, «полученную от семейств немецких евреев»…
Как только наша коммерческая «крыша» была признана достаточно надежной. Центр начал посылать нам подкрепление. Весной 1939 года приехал Карлос Аламо, «уругвайский гражданин» — офицер Красной Армии, известный в Советском Союзе под именем Михаила Макарова.
Овеянный славой героя, он прибыл к нам из Испании, где сражался в подразделении республиканских военно-воздушных сил. Как человек и солдат, он отличался безрассудной отвагой. Однажды, когда франкистские части угрожающе потеснили республиканцев, его эскадрилья получила приказ поддержать пехоту. Самолеты были в полной боевой готовности, но по какой-то необъяснимой причине летчиков на месте не оказалось. Тогда Аламо добровольно вскочил в самолет, взлетел, вышел на цель, поразил ее, затем повернул на обратный курс, приземлился на аэродроме и гордо встал около своей машины. Вроде ничего особенного, если бы не один штрих: Аламо никогда не был пилотом, а служил механиком в составе подразделения наземного обслуживания!40
Наша первая встреча с ним назначается на восемь с половиной часов утра в антверпенском зоопарке. В указанное время Аламо появляется и проходит мимо, притворяясь, будто не заметил меня.
Через трое суток новая встреча на том же месте. Аламо пришел, но не приближается ко мне и вдруг поспешно удаляется. От Большакова — моего связного в советском торгпредстве — узнаю, что Аламо не мог заговорить со мной — за ним был хвост. Я же ничего не заметил. Заинтригованный, прошу Большакова рассказать об этом поподробнее. Тогда он мне говорит:
— Оба раза здесь были какие-то типы, которые бегали взад и вперед.
— Тогда твой парень форменный идиот! Эти люди бегают здесь уже десять лет! Они спортсмены. Каждое утро приходят в зоопарк на тренировку.
Я уже было подумал, что зря мы превозносим этого Аламо до небес. Однако очень скоро у меня сложилось самое благоприятное впечатление о нем.
Правда, многое, несомненно, свидетельствовало о его неподготовленности. Герои на полях сражений не всегда становятся хорошими разведчиками. Его обучение на радиста в Центре длилось всего три месяца, что было явно недостаточно для подготовки виртуоза в этом деле. Но его чисто человеческие качества с лихвой компенсировали эти недостатки.
Все преимущества, которые давала наша коммерческая «крыша», разумеется, распространились и на Аламо. Его мы сделали директором филиала «Короля каучука» в Остенде. Конечно, он не обнаружил энтузиазма в деле сбыта водонепроницаемых плащей и полупальто… Это я вполне мог понять. Спуститься с небес Астурии в какую-то бельгийскую лавочку — вот уж и впрямь головокружительное падение! Но мы вышли из положения, придав ему в помощь замечательную управляющую, госпожу Хоорикс, взявшую на себя всю полноту материальной ответственности.
Летом 1939 года, под именем Винсента Сиерра, к нам присоединился другой советский офицер, тоже «уругвайский гражданин», Виктор Сукулов. В ходе дальнейшего повествования мы еще не раз встретимся с ним, но он будет фигурировать под псевдонимом Кент41. Его пребывание в Бельгии намечалось на срок в один год, после чего ему предстояло возглавить наш филиал в Дании. Но если Аламо никак не мог избавиться от дилетантизма, то Кент с усердием, даже горячностью принялся за учебу, став студентом Свободного Брюссельского университета, где изучал бухгалтерское дело и торговое право. Люба, также поступившая в этот университет на литературный факультет, выполняла функции связной между нами и Кентом.
Так же как и Аламо, Кент отличился в Испании, хорошо показал себя при выполнении секретных заданий, но мне он внушал меньше доверия, нежели его товарищ. Почему-то я заподозрил, что он работает как на НКВД, так и на армейскую разведку. В этом не было ничего необычного. У работников НКВД выработалась скверная привычка внедрять своих агентов в ГРУ — Главное разведуправление Генштаба Красной Армии. В этом смысле «Красный оркестр» не оказался исключением, в чем я неоднократно имел случай убедиться. В начале 1940 года сотрудник брюссельского торгпредства, через которого мы держали связь с Центром, заявил, что больше не сможет выполнять эту функцию, поскольку НКВД непрерывно следит за ним. Я сразу же известил об этом своего Директора в Москве, после чего слежка прекратилась.
В 1941 году я заметил, что один из курьеров советского военного атташе в Виши с излишним усердием занимается делами, нисколько его не касающимися.
Такие дела нельзя оправдать ничем, и, поскольку ответственность за деятельность всех групп «Красного оркестра» лежала на мне, я, естественно, считал ненормальным и даже опасным, чтобы обмен информацией между Центром и нашей сетью осуществлялся при посредничестве официальных советских инстанций. Понять это нетрудно: ведь за сотрудниками этих организаций ведется пристальное наблюдение со стороны контрразведки, которая, в частности, может перехватывать телеграммы посольств…
Было страшной ошибкой не воспользоваться оставшимися нам считанными мирными месяцами для установления в нейтральных странах прямых контактов при помощи радиопередатчиков, надежных курьеров и «почтовых ящиков». За эту ошибку нам пришлось расплачиваться очень дорогой ценой.
Начиная с лета 1938 года и до начала войны мы, строго говоря, избегали какой бы то ни было разведывательной деятельности. Наша цель сводилась к одному: со всех сторон обезопасить «крышу», под которой мы маскировались, и быть во всеоружии с первых же пушечных выстрелов.
Нельзя было терять ни минуты — роковой час приближался.
3. ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ
1 октября 1938 года газета «Пари-Суар» во всю ширину первой полосы возвещает «благую весть»: накануне ночью в Мюнхене Даладье и Чемберлен уступили требованиям Гитлера относительно Судетов. Они капитулировали перед фюрером. Дома, в Париже и Лондоне, им устроили триумфальную встречу. Как же — ведь их стараниями удалось избежать войны! И для того чтобы еще лучше предохранить «мир», французское и британское правительства, ослепленные собственной трусостью, заключают с нацистской Германией пакты о ненападении.
Гитлер подписывается под ними обеими руками и вторгается в Чехословакию. Обе «демократии» возмущены, но ненадолго, Уронив скупую слезу, они быстро утирают ее складками белого флага капитуляции и тут же вновь становятся на путь компромиссов. Однако в этом странном спортивном соревновании самым быстрым оказывается Сталин.
23 августа 1939 года гитлеровская Германия и Советский Союз подписывают в Кремле пакт о ненападении. Мой будущий «ангел-хранитель» гестаповец Берг, бывший тогда телохранителем Риббентропа, позже расскажет мне, в какой атмосфере ликования развертывалась эта церемония. Чтобы отметить такое событие, подали шампанское, и Сталин, подняв свой бокал, произнес незабываемый тост:
— Я знаю, как сильно немецкий народ любит своего фюрера, и поэтому с удовольствием выпью за его здоровье.
Это чувство удовольствия наверняка не разделяли тысячи немецких коммунистов, томившихся в концентрационных лагерях по милости «любимого» фюрера.
Для меня этот пакт не был неожиданностью.
После «чисток», после уничтожения лучших партийных и военных кадров компромисс, к которому Сталин стремился годами, стал неизбежным. Во всяком случае, внимательный наблюдатель не мог не заметить ускорение этого процесса. В апреле 1939 года Максим Литвинов, нарком иностранных дел Советского Союза, предлагает британскому послу заключить англо-франко-советский пакт о взаимопомощи. Две недели спустя Литвинова заменяет Молотов. 5 мая, через два дня после смещения Литвинова, советский поверенный в делах в Берлине Астахов встречается с германским дипломатом Юлиусом Шнурре. Астахов недвусмысленно объясняет своему собеседнику, что «отставка» Литвинова, вызванная его политикой альянса с Францией и Англией, может привести к возникновению новой ситуации между Германией и Советским Союзом.
— Отныне вам уже не придется иметь дело с Литвиновым…
Чтобы потрафить Гитлеру, Сталин заботился о «расовой чистоте» в дипломатической сфере.
А «твердокаменным» коммунистам, по-прежнему предававшимся иллюзии, будто подписание советско-германского пакта завершает еще один маневр «гениального» товарища Сталина, пришлось испытать чувство полного разочарования. 31 октября 1939 года Молотов, выступая на сессии Верховного СоветаСССР, произнес речь, рассеявшую все сомнения:
«…За последние несколько месяцев такие понятия, как „агрессия“, „агрессор“, получили новое конкретное содержание… Германия находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окончанию войны и к миру, а Англия и Франция, вчера еще ратовавшие против агрессии, стоят за продолжение войны и против заключения мира. Роли, как видите, меняются».
Да, люди это видели! С полным недоумением они протирали себе глаза, но продолжали видеть и слышать!
«Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать это — дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой… Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за „уничтожение гитлеризма“, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за „демократию“.
И, наконец, для тех, кто еще не понял всего, Молотов добавил:
«Мы всегда были того мнения, что сильная Германия является необходимым условием прочного мира в Европе».
Читая эту речь, я невольно спрашивал себя, зачем, собственно, я приехал в Европу и что мне здесь делать? Впрочем, у меня не было свободного времени, чтобы слишком долго размышлять над этим вопросом.
В конце 1939 года я получил несколько приказаний, из которых явствовало, что новое руководство Центра уже не заинтересовано в создании крупной разведсети. Центр не только перестал засылать обещанных нам эмиссаров для работы в филиалах фирмы «Король каучука», но вдобавок в нескольких телеграммах, каждое слово которых было тщательно взвешено, настоятельно просил меня вернуть в Москву Аламо и Кента, а Лео Гроссфогеля отправить в Соединенные Штаты.
Что же до меня, то меня пригласили… возвратиться в Москву.
Мой ответ был ясен и четок: война между Германией и Советским Союзом неизбежна. Если Центр этого требует, то Аламо и Кент поедут в Москву. Но не следует рассчитывать на то, что я и Лео Гроссфогель разрушим созданное нами. Эта попытка не была единственной. Центр также решил отозвать Рихарда Зорге в Москву, а на его место послать какого-то безвестного полковника. Но наше руководство все-таки поняло, что такого, как Зорге, заменять нельзя, и в конце концов оставило его в Токио. Но с этого момента в Центре почему-то зародилось подозрение, будто Зорге — двойной агент, а может, даже хуже того — троцкист. В течение нескольких недель его донесения оставались нерасшифрованными…42
Мануильский разослал по всем секциям Коминтерна указание относительно одобрения и проведения в жизнь политики Сталина. Соответствующую директиву можно резюмировать следующим образом: война между нацистской Германией и англо-французскими союзниками есть война между двумя центрами империализма. Следовательно, рабочих она не касается.
Годами руководство Коминтерна твердило, что борьба против Гитлера — это демократическая борьба против варварства. А в свете советско-германского пакта эта война вдруг стала империалистической. Коммунистам предписывалось начать широковещательную кампанию против войны и разоблачать империалистические цели Англии. Г. Димитров писал в то время, что «легенда о якобы справедливом характере антифашистской войны должна быть разрушена».
Я не мог не видеть, до какой степени такая политика дезориентировала активистов бельгийской компартии… Иные с тяжелым сердцем подчинялись ей. Другие, отчаявшись, покидали партийные ряды.
1 сентября 1939 года на рассвете дивизии вермахта вторглись в Польшу.
Наша система связи информировала нас о продвижении гитлеровских орд и совершаемых ими зверствах. Особые подразделения эсэсовцев убивали тысячи евреев и поляков. По дошедшим до нас сведениям, 8 октября, в день пребывания Геббельса в Лодзи, эти головорезы учинили погром, выбрасывали еврейских детей из окон домов.
В те же дни Красная Армия, в которой я должен был бы служить, не окажись я за границей, ввела свои войска в другую часть разделенной Польши, а Молотов направил Риббентропу поздравление по поводу великолепных успехов германской армии, позволивших низвергнуть это уродливое детище Версальского договора.
Причины, побудившие Сталина годом раньше ликвидировать польскую компартию, теперь представлялись совершенно очевидными, ибо коммунисты этой страны ни за что бы не потерпели такого позора!
Они доказали это в первые же дни войны, когда заключенные в тюрьмы члены партии просили освободить их и отправить на фронт, чтобы сражаться против вермахта.
Через месяц после подписания пакта замысел Сталина стал еще яснее: 28 сентября 1939 года Советский Союз и Германия заключили договор о дружбе. Переговоры между третьим рейхом и Советским Союзом по поводу раздела сфер влияния после победы вермахта над Англией продолжались в течение последних трех месяцев 1939 года.
И в разгар всех этих бурных событий, когда сама история опровергала различные воззрения и идеалы, мы, составлявшие изначальное ядро «Красного оркестра», словно бы цеплялись за одну-единственную мысль: какими бы ни были замыслы Сталина, войны с Германией ему не избежать. Эта мысль служила нам своеобразным компасом. Он указывал нам курс и не давал пойти ко дну. Надо было выстоять вопреки всему и вся! Конечно, нами овладевали противоречивые настроения, наше душевное состояние бывало порой крайне тягостным, но мы никогда не забывали, в чем наша миссия, какие цели мы сами поставили перед собой, и все время ясно понимали, что не имеем никакого права дезертировать. И разве Москва не желала, чтобы мы были именно такими?
Попытка Центра заставить меня отказаться от моей работы не возобновлялась43. В конце 1940 года моя жена, вернувшаяся в Москву, получила из Центра сообщение о предстоящем вскоре моем возвращении. С этого момента я стал получать директивы, не имевшие никакого отношения к делу формирования «Красного оркестра», больше того — ставившие под удар само его существование и цели.
Одна из первых поставленных передо мной задач заключалась в пересылке денежных средств Рихарду Зорге в Токио. Используя наши связи с голландскими банкирами, я с удовольствием выполнил это поручение. Зорге я знал, высоко ценил его ум и проницательность…
Потом, в конце 1939 года, к нам прибыли командированные Центром четыре агента с уругвайскими паспортами. Меня просили переправить их в Америку. Подданным южноамериканских государств, желавшим поехать в Соединенные Штаты, надлежало обращаться за разрешением на это в свои национальные консульства. Об этой маленькой подробности Центр не знал. Из четырех «уругвайских граждан» только один говорил по-испански и знал кое-что про жизнь в Уругвае. Он рискнул попытаться испросить себе визу. Но что можно было сделать для трех остальных молодых офицеров, которые, если не считать Испанию, никогда не бывали за границей? В конце концов Центр принял решение вернуть их на родину.
Эти оплошности утвердили меня в мнении, что руководство разведывательной службой, мягко говоря, не могло решать стоящие перед ней задачи. Молодые люди, которых оно посылало выполнять задания, несомненно, были умны, способны, храбры, но нисколько не подготовлены для работы разведчиками.
Наконец пришла совершенно ошеломившая меня директива. Центр просил создать «обувную фабрику». На разведжаргоне слово «обувь» означает фальшивые документы, а человека, изготовляющего их, соответственно называют «сапожником».
Подобное занятие крайне опасно по самой своей сути. Остаются следы. Какой-нибудь паспорт, к которому подбили новые «подметки», раньше или позже, но обязательно попадает в руки полиции. Кроме того, я опасался, как бы фабрикация липовых документов не привлекла внимание бельгийской контрразведки к моей группе. Но в секретной службе, точно так же как и в армии, приказ есть приказ, и нам не оставалось ничего иного, как приступить к его выполнению.
Гроссфогель, у которого были связи буквально везде (напомню, что в Бельгии он жил с 1928 года), сумел разыскать одного совершенно редкостного человека, некоего Абрахама Райхмана, безусловно самого талантливого «сапожника» во всей Бельгии. Своему ремеслу он обучился, кажется, в Берлине, в аппарате… Коминтерна, где производство фальшивых документов было поставлено на высшем уровне. Затем он стал работать самостоятельно и, обладая в этом деле большим опытом, снабжал паспортами изгнанных из Германии еврейских иммигрантов. И хотя незадолго до описываемых событий он обязался прекратить эту «частную деятельность», я из предосторожности все же держал его на достаточном расстоянии от моей группы. Нам удалось достоверно установить, что, подкупив служащих ряда консульств латиноамериканских стран, он получал от них не только подлинные паспорта, но и удостоверения на натурализацию. Наконец, самой хитроумной его махинацией явилось получение из Соединенных Штатов уже использованных паспортов, по которым туда эмигрировали европейцы. И вот его «коронный номер»: он приобрел целую партию «девственных», то есть незаполненных, паспортных бланков прямо в одной люксембургской типографии, где эти книжечки изготовлялись.
И все же Райхман попался из-за того, что, образно говоря, вколачивал гвозди слишком глубоко в каблук и подошву. Проще говоря, какой-то завистливый конкурент не простил ему столь блестящих успехов и донес на него. При обыске полиция нашла у него совершенно чистые, ни разу не обработанные паспортные бланки-книжечки.
Представ перед судом, Райхман, ничуть не смущаясь, заявил, что коллекционирует паспорта так же, как другие, например, охотятся за бабочками или увлекаются собирательством почтовых марок. Его оправдали за отсутствием состава преступления. Но покуда он находился под следствием и сидел в тюрьме, мы поддерживали его семью, оставшуюся без кормильца, и помогли жене нанять лучших адвокатов. Эта заботливость глубоко тронула его, и он ее не забыл. Тщательно избегая непосредственного включения Райхмана в нашу группу, мы все же достаточно высоко ценили его сообразительность и умение, как говорится, «железно» хранить тайну и сочли возможным использовать его в своих интересах.
Во всяком случае, благодаря ему, был положен конец «изготовлению обуви», к чему я всегда относился весьма скептически. Центр получил такое количество этой продукции, что ее хватило на несколько лет, вплоть до момента, когда она повсеместно стала дефицитной.
4. В БОЮ
Весной 1940 года всем стало абсолютно ясно, что так называемая «странная война» не продлится до лета.
Мы получали различные сведения о предстоящем немецком наступлении и не сомневались, что оно окажется весьма эффективным. Бельгийцы хорошо понимали, какая страшная угроза нависла над ними. Нейтралитет Бельгии можно уподобить тонкой дымовой завесе, никак не способной задержать танковую лавину вермахта. После того как Франция и Великобритания оставили несчастную Польшу в беде, никто больше уже не строил себе иллюзий, что эти две страны окажут помощь. Когда немецкие войска ринулись на Польшу, французская армия даже не попыталась атаковать пресловутую «линию Зигфрида», на которой противник не оставил ни одной дивизии. Между тем только такая операция могла бы облегчить положение польской армии, смятой гитлеровской армией. Да и в тактическом отношении от нее можно было ожидать очень важные последствия. Трудно отделаться от мысли о том, что, столкнись Гитлер с сопротивлением на двух фронтах, он был бы вынужден отступить.
Здесь хочу подчеркнуть весьма существенное обстоятельство, чтобы опровергнуть обвинение, выдвинутое некоторыми «специалистами» против «Красного оркестра». По словам этих «хорошо информированных» людей, мы будто бы выдали Москве французские военные планы, в частности план Вейгана атаковать Баку. Решительно протестую против подобных обвинений. Впрочем, для доказательства их полной несостоятельности достаточно вспомнить, что газеты той поры были полны сообщениями об этих проектах, и никакой разведке не было нужды дублировать эту информацию.
Впрочем, те, кто идут на такую заведомую ложь, видимо, втайне надеются, что от нее хоть что-нибудь да останется… И вообще скажу раз и навсегда: нет, нет и еще раз нет! Центр никогда не требовал от нас никаких сведений о Франции вплоть до мая 1940 года! Полагаю, что он имел какие-то другие источники информации.
Даже наименее объективные историки должны признать, что после Мюнхена французское правительство стало готовиться к новой капитуляции. Под защитой линии Мажино (оборонительного рубежа, который обрывался у бельгийской границы, ибо Бельгия была нейтральной) французский генштаб чувствовал себя неуязвимым. Но разве его разведка оставалась в неведении насчет приготовлений вермахта? Разве не было многочисленных донесений, разоблачавших германские планы? Однако правительство просто не желало принимать их в расчет. Это напоминает мне притчу о хозяине, чей дом загорелся, но при появлении пожарных он выставляет их за ворота и говорит, что они здесь лишние!.. В ходе второй мировой войны нам пришлось столкнуться и с другими не менее драматичными эпизодами. Так, несмотря на предупреждения Рихарда Зорге и его сотрудника, югославского журналиста, о предстоящем нападении японцев на Пёрл-Харбор44, американское правительство не приняло никаких оборонительных мер45.
На рассвете 10 мая вермахт начал наступление на Западе. В это утро самолеты нацистских ВВС бомбили Брюссель. Я пошел к Кенту, чтобы составить свое первое шифрованное донесение о военных действиях. Покуда я отсутствовал, в мою квартиру на улице Ришар-Нейберг, где мы с Любой жили с 1938 года, явились трое полицейских и объявили ей, что имеют приказ увезти нас в лагерь для интернированных. Предложили взять по смене белья и продовольствие на день или два. Причина? Несмотря на наше канадское подданство, мы, по их мнению, принадлежали к числу лиц немецкого происхождения, а Бельгия решила взять под стражу всех находящихся на ее территории выходцев из третьего рейха и их родственников…
Для меня с Любой создалась, мягко говоря, весьма критическая ситуация…
Моя жена, сохраняя хладнокровие, пригласила пришельцев в гостиную, усадила их и объяснила, что город Самбор, откуда мы.родом, расположен на польской территории. Она достала том энциклопедии «Лярусс», в котором три агента полиции могли найти подтверждение ее слов. Поколебавшись, они решили удалиться «за получением инструкций».
Хорошо, что это произошло именно так… Я вернулся домой сразу после их ухода, выслушал информацию супруги, поздравил ее с замечательной находчивостью и тутже решил, не теряя времени, сматывать удочки: шпики, бесспорно, придут вторично и тогда уже не выпустят нас из рук. Мы поспешно упаковались и покинули этот дом.
В первую очередь надо было поместить Любу и сына в безопасном месте. Посоветовавшись с Лео Гроссфогелем, мы остановили свой выбор на торговом представительстве Советского Союза. Поэтому я вошел в контакт с нашим связным, который и организовал переезд. Советские посольство и торгпредство еще с утра были оцеплены бельгийской полицией. Люба и малыш проехали через полицейское заграждение в автомобиле с номером дипломатического корпуса. В торгпредстве они оставались две недели, прежде чем их поселили на нелегальной квартире. Впоследствии обоих переправили в Советский Союз. Что же до меня, то я отправился к Лео, жившему близко от нас. Я ушел от него, имея на руках новые документы на имя Жана Жильбера, промышленника, уроженца Антверпена. Лео в свою очередь превратился в коммерсанта Анри Пипера, тоже родом из Антверпена. Началась нелегальная жизнь…
Назавтра, как мы и предвидели, чины бельгийской полиции снова пришли на нашу квартиру с официальным ордером на арест. К счастью, они опоздали, но все же моя карьера тайного агента едва не оборвалась в первый же день войны.
В течение следующих нескольких дней меня продолжали разыскивать. В частности, полицейские наведались к одной моей американской приятельнице, Джорджи де Винтер, с которой я незадолго до того познакомился и часто встречался.
— Вы не видели в последние дни господина Миклера? — спросили они ее. — Он — немец.
— Вы ошибаетесь, он канадец!
— Это он-то канадец! Он такой же канадец, как вы бельгийка!..
Тем временем обстановка на фронте ухудшилась. Даже самые пессимистические наблюдатели не ожидали такого стремительного продвижения немцев. 13 мая передовые части вермахта форсировали реку Маас в Бельгии и во Франции. В брешь под Седаном хлынули танки генерала Гудериана. Деморализованное население, крайне восприимчивое к любым слухам и провокациям, оказалось во власти самой настоящей шпиономании: германские «агенты из колонны», «парашютисты», сбрасываемые с каких-то таинственных самолетов, падали с неба, как листья осенью. Уж и не скажу, чем были вызваны такие ассоциации (в этом, быть может, могли бы разобраться специалисты по массовым психозам), но бельгийцы почему-то решили, что все шпионы Гитлера маскируются под священников. 11 мая на площади Брукер в Брюсселе я был свидетелем невероятного зрелища: разъяренная до истерики толпа набросилась на какого-то молодого кюре и задрала его сутану, чтобы проверить, не упрятано ли под ней оружие. Я не присутствовал при аналогичных сценах с монахинями, но знаю о распространенных подозрениях, будто под их одеяниями тоже скрываются агенты «пятой колонны».
Паника заразительна. Подобные настроения, передаваясь от одного к другому, охватили десятки тысяч бельгийцев, и очень многие из них устремились во Францию. Официальные коммюнике выходили с опозданием на одно сражение — иными словами, об уже захваченных городах говорилось как об еще свободных. Английские солдаты, которых я видел еще десять дней назад, ухитрились взорвать несколько мостов, переброшенных через малые каналы Брюсселя, полагая, будто таким образом можно задержать наступление вермахта. Но вместе с мостами взлетали на воздух близлежащие дома, что еще больше усиливало деморализованность населения: все уже поняли бессилие союзных армий, их неспособность спасти хоть что-нибудь.
Пристальное наблюдение всего этого блицкрига позволяло мне сделать много ценных выводов, и я решил послать своему Директору точный и подробный отчет об увиденном. Для этого прежде всего надо было задействовать нашу рацию.
Мы ее спрятали в Кнокке, на вилле, снятой нами специально с этой целью. Переброска рации в Брюссель в период, когда уже вовсю шли военные действия, представлялась крайне сложным делом. Однако поскольку город Кнокке еще не был оккупирован, то при условии известной расторопности мы еще имели шанс вывезти оттуда всю аппаратуру. Выполнение этой задачи я возложил на Аламо. Он же, не считаясь с потерей двух суток, прежде чем попасть в Кнокке, дал, как говорится, кругаля, точнее говоря, заехал в Остенде, где повидался со своей подружкой, госпожой Хоорикс, возглавлявшей наш тамошний филиал. Когда Аламо решил продолжить свой путь на Кнокке, было уже поздно.
Поэтому Лео Гроссфогелю и мне пришлось начать эту операцию заново, с нуля. Мое и его воображение, наши общие способности что-то задумать и выполнить должны были слиться воедино, дабы избежать еще какой-нибудь ловушки, расставленной судьбой-злодейкой. Прежде всего мы обратились к одному из работников болгарского консульства в Брюсселе, с которым поддерживали прекрасные отношения, хотя, разумеется, не посвящали его в свои тайны. Дипломат располагал автомобилем, а Болгария была союзницей Германии. Следовательно, он мог беспрепятственно разъезжать везде, где ему вздумается. Мы попросили его помочь нам забрать ценные вещи на вилле, так как боялись, что она будет ограблена. Он любезно согласился, и мы стартовали на Кнокке…
Кнокке оказался совершенно безлюдным, а его дома подверглись пристрастной «инспекции». В частности, из нашей виллы вывезли всю мебель. По существу, она была разграблена. На месте — из-за необычных габаритов — остался лишь громоздкий шкаф, в двойной крышке которого и находился тайник с рацией. Шкаф оказался опустошенным, но тайника никто так и не обнаружил, и драгоценный чемодан остался нетронутым.
Мы погрузили его в машину дипломата. На обратном пути нам встречались только немецкие автомашины. Мы лихо ехали через шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты, солдаты вермахта при нашем приближении замирали по стойке «смирно» и отдавали честь дипломатическому номеру нашей машины. И вдруг, на полдороге от Брюсселя, невольная остановка. Мотор заглох и ни за что не хочет завестись. Мы выходим, ставим свой чемодан рядом на шоссе, решив попытать счастья с помощью «автостопа», то есть «голосуем».
Какое зрелище! Два советских разведчика, чей багаж состоит всего лишь из одного радиопередатчика, вкупе с болгарским дипломатом машут проходящим мимо немецким автомашинам, окликают их водителей. Наконец перед нами останавливается роскошный лимузин. В нем сидят два старших офицера СС. Выслушав болгарина, они любезно предлагают довести нас до города. Кто-то просит шофера поставить наш чемодан в багажник. Остаток пути до Брюсселя проходит в дружеской беседе. Все очень мило. Разве можно не удружить болгарскому союзнику?.. Убедив наших «конвоиров» не завозить нас прямо на квартиру, мы заходим с ними в кафе, где отмечаем нашу встречу (а заодно и расставание) обильными возлияниями. Коньяк льется рекой… В конце концов мы остаемся, слава богу, одни и на такси едем по адресу, где нам предстоит прятаться. Когда же Аламо делает попытку выйти в эфир, мы, к нашему величайшему сожалению, обнаруживаем, что ни приемник, ни передатчик не работают. И чтобы все-таки передать донесение о военной обстановке, снова приходится прибегнуть к помощи торгового атташе…
В результате нашей экспедиции в Кнокке у меня возникла новая идея: раз мы так легко и беспрепятственно можем передвигаться в автомобиле нашего болгарского друга, то почему бы нам не совершить турне по театру военных действий? Я поговорил об этом с болгарским дипломатом, пояснив ему, что в интересах наших дел нам крайне важно посетить в ряде городов Северной Франции филиалы фирмы «Король каучука». Любитель дальних поездок — пусть даже несколько рискованных, — имея много свободного времени, добрый от природы и всегда готовый помогать людям, болгарин с большой охотой согласился поехать с нами, добавив, что воспользуется этой поездкой для встреч с некоторыми своими соотечественниками, находящимися в этих краях.
18 мая мы выехали из Брюсселя, снабженные пропуском, который открывал перед нами все дороги и города.
Поездка длилась десять суток. То были дни прорыва вермахта под Седаном, и мы могли наблюдать бои вокруг Абвиля, штурм Дюнкерка. Вернувшись в бельгийскую столицу, я составил донесение в восемьдесят страниц, в котором резюмировал все, что увидел и услышал в ходе этого «блицкрига», — глубокие танковые прорывы в тылы противника, бомбардировки с воздуха важных стратегических пунктов, обеспечение коммуникаций между фронтом и тылом и т. д.
Эти десять суток, проведенные в частых общениях с тевтонскими воинами, показали мне, что с ними очень легко входить в контакт. И солдаты и офицеры охотно и много пили, быстро хмелели и становились болтливыми. Чувствуя себя победителями, они хвастались почем зря, надеялись, что к концу года война против Франции и Великобритании окончится, после чего можно будет свести счеты с Советским Союзом. В общем, это была целая программа действий.
Мнение офицеров СС, которые повстречались нам несколько позже, было иным: им постепенно начало казаться, что войны с СССР вообще не будет. Это было явным результатом нацистской пропаганды, находившей отклик и в советской прессе. Тогда в России было модным радоваться дружбе с Германией46. Тот же феномен наблюдался и в Германии: сам Геббельс вычеркивал из своих бредовых речей любые слова и фразы антисоветского свойства. В течение этих горестных месяцев мы частенько слышали из уст немецких офицеров невыносимое для нас сравнение режимов Гитлера и Сталина. Дескать между национал-социализмом и «национальным социализмом» нет никакой разницы. Они нам говорили, что и тот и другой наметили себе одну и ту же цель, но идут к ней разными путями. Но мы предпочитали не знать, какие ужасы и кошмары они прикрывали словом «социализм». Я и сейчас отчетливо вижу и слышу немецкого офицера, который, хлопнув ладонью по капоту двигателя, громко проговорил:
— Если удачи нашего наступления превзошли все ожидания, то это благодаря помощи Советского Союза, который дал нам бензин для наших танков, кожу для наших сапог и заполнил зерном наши закрома!
5. ПЕРВЫЕ ТАКТЫ
Фронт сдвинулся на юг, и нам нужно было следовать за ним, чтобы провести еще одну «инспекционную поездку». На сей раз мы направились в Париж. Петров, наш верный болгарский друг, снова сидел за рулем…
Мы прибыли во французскую столицу через несколько дней после вступления в нее немцев. Душераздирающее зрелище: над городом реяло нацистское знамя со свастикой, на улицах — одна лишь гитлеровская военщина в серо-зеленой форме. А парижане? Казалось, они покинули город, чтобы не присутствовать при вторжении в него вражеских орд.
Мы решили разместить штаб-квартиру «Красного оркестра» в Париже, после чего последовало установление первых контактов. В конце июня Лео Гроссфогель и я приняли предложение одного из наших знакомых — сотрудника шведского посольства в Бельгии — доставить в вишистское отделение Красного Креста несколько сотен писем-открыток французских военнопленных их семьям.
Путешествие было совершено в машине шведского Красного Креста. В Виши мы целую ночь напролет читали эти письма, полные гнева и возмущения действиями французского правительства и генштаба. Некоторые солдаты откровенно обвиняли руководство Франции в предательстве.
Виши стал ареной абсолютной неразберихи и бестолковщины. Политические деятели приходили в себя после стольких треволнений и старались набраться новых сил из местных термальных источников. Но, увы, этот курс лечения не принес Франции никакой пользы!
В Париже мы не теряли времени. Здесь завязывались наши первые контакты. На протяжении всего лета 1940 года я, не покладая рук, работал над организацией парижской группы. Большую помощь в этом оказал мне Гилель Кац. Как и Лео Гроссфогеля, я знал его еще по Палестине. Потом мы часто встречались во время моего первого пребывания во Франции с 1929 по 1932 год, но в дальнейшем я потерял его из виду.
Среднего роста, с умными и живыми глазами за толстыми стеклами очков, с высоким лбом и пышной шевелюрой, Гилель Кац как-то незаметно и легко передавал другим свою жизнерадостность. Унаследовав от отца профессию музыканта, он, кроме того, умел орудовать мастерком и построить дом. Смолоду он примкнул к нашему движению, и его уверенность в окончательном торжестве коммунистических идей не ослабевала никогда, даже во времена самых тяжелых испытаний. Очень любил детей и вносил какую-то особенную живость в деятельность комсомольских организаций. Своей прямой и искренней манерой поведения он внушал людям симпатию. Друзья у него были повсюду, что, естественно, заметно помогало ему в работе. Будучи иностранцем, он в 1940 году добровольно пошел в армию и после демобилизации получил военный билет на имя Андре Дюбуа.
Гилель Кац сразу же начинает сотрудничать со мной. Верные своим привычкам, мы создаем коммерческие предприятия, призванные служить нам «крышей». 13 января 1941 года рождаются «Симэкско» в Брюсселе и «Симэкс» в Париже. Альфред Корбен берет на себя общее руководство делами «Симэкс».
Кац и Корбен познакомились и сдружились в дни войны. Оба попали в плен и бежали из него, преодолев Сомму вплавь. Подобная совместно пережитая эпопея, конечно, остается в памяти навсегда.
Демобилизовавшись, Корбен развернул на базе мельницы, которую приобрел в Живерни, фабрику по изготовлению корма для домашней птицы. Моя первая же встреча с ним показалась мне многообещающей. Я почувствовал, что мы можем рассчитывать на него, и спросил:
— Как вы думаете — стоит продолжать борьбу? Едва заметно улыбнувшись, он мне ответил:
— Стоит-то стоит, только спрашивается — как?
— Формы и методы борьбы должны измениться, — сказал я. — Отныне борьба будет вестись внутри страны. Вы готовы?
Вопрос этот был излишним. Корбен сразу же предложил мне смонтировать в его владении в Живерни наш первый радиопередатчик. После назначения Корбена генеральным директором фирмы «Симэкс» мы забрали у него свою «музыкальную табакерку», считая, что коммерческая «крыша» должна быть абсолютно безупречной.
Итак, наша «команда» помаленьку укомплектовывается.
Хирург-дантист Робер Брейер, друг Корбена — наш главный акционер. Но он пребывает в полном неведении относительно нашей подпольной работы.
Сюзанна Куант, возглавлявшая бюро фирмы, боевая коммунистка с порядочным стажем. С Кацем она знакома со времени, когда, будучи учительницей игры на фортепиано, руководила комсомольским хором — «Кораль мюзикаль де Пари».
Кац завербовал еще Эммануэля Миньона, рабочего-полиграфиста. Нам пока было неизвестно, что он связан с группой сопротивления «Семья Мартэн», цель которой — наблюдать за предприятиями, работающими на немцев. Миньон информирует некоего Шарбонье, который после войны будет расстрелян как агент гестапо, о том, что фирма «Симэкс» якобы сотрудничает с оккупантами. Таким образом мы оказываемся вне всяких подозрений.
Главным партнером «Симэкс» становится пресловутая «организация Тодта»47, управление которой находится на Елисейских полях и которая ведает выполнением всех строительных и фортификационных работ по заданиям вермахта. Ее рабочие помещения расположены прямо напротив наших. Немцы из «организации Тодта» — спекулянты в военной форме — заинтересовались фирмой «Симэкс», поскольку она через черный рынок снабжает их нужными дефицитными материалами.
Мадам Лихонина обратилась к фирме «Симэкс», как только узнала о ее существовании. В период, когда у нас завязались с ней отношения, она занималась различными исследованиями для «организации Тодта». Однако несколько позже она стала там представлять нашу фирму «Симэкс». Жена последнего царского военного атташе во Франции, исступленная антикоммунистка, после Октябрьской революции Лихонина не вернулась на родину. Умная, смелая и инициативная, она сразу же смекнула, какие выгоды может извлечь для себя в обстановке немецкой оккупации, и с места в карьер с большим удовольствием занялась всевозможными махинациями.
В поисках хорошего переводчика для переписки с германскими ведомствами я вошел в контакт с Владимиром Келлером. Уроженец России, он долгие годы прожил в Швейцарии, где приучился к дисциплине и очень серьезному отношению к труду. Владимир уверен, что работает на высокопочтенную фирму и, сняв трубку телефона, громко говорит в нее: «Хайль Гитлер!»
Лично я не занимаю никакого официального поста в «Симэксе», но немцы знают, что «месье Жильбер» финансирует все сделки.
Осенью 1941 года стараниями Жюля Жаспара и Лео Гроссфоге-ля мы открываем контору в Марселе на улице Драгон. В Брюсселе делами «Симэкско» руководит Кент. Кроме него и Назарена Драйи остальные акционеры (Шарль Драйи, Анри Сегерс, Вилли Тевенэ), а также Жан Паслек, Робер Кристен, Анри де Рик убеждены, что работают в экспортно-импортной фирме, каких существует немало. Лео Гроссфогель осуществляет общее руководство обоими предприятиями — парижского и брюссельского.
Если первоначально цель этих двух акционерных обществ заключается в том, чтобы служить нам «крышей» и финансировать нашу сеть, то теперь мы довольно быстро убеждаемся в том, что они помогают нам проникнуть в официальные немецкие инстанции, причем совершенно неожиданным для нас образом. Вскоре, благодаря своим деловым связям с «организацией Тодта», ведущие сотрудники «Симэкс» и «Симэкско» получают от немцев «аусвайсы», которые позволяют им свободно перемещаться и открывают перед ними все двери. Развиваются наши деловые отношения и с немецкими офицерами.
За хорошей трапезой с обильной выпивкой нацистские бонзы становятся весьма разговорчивыми, даже слишком… С поднятым бокалом в руке, с одобрительной улыбкой на устах, мы прямо-таки «пьем» их слова, запоминаем информацию. Таким способом нам удается собирать довольно значительный объем сведений. Вот пример. Один из инженеров «организации Тодта», Людвиг Хайнц, подружившийся с Лео, сообщает нам первые данные о приготовлениях к войне на Востоке. Надо сказать, что Хайнц внутренне порвал с нацизмом. Вначале он работал на строительстве укреплений на германо-русской границе в Польше, затем, весной 1941 г., во время очередной служебной командировки он увидел, что вермахт готовится к нападению на Советский Союз. Об этом он нам рассказал по возвращении. Позже, уже после начала войны, ему довелось стать свидетелем страшного события — массовых расстрелов в Бабьем Яре под Киевом, где погибли десятки тысяч евреев.
В Виши Жюль Жаспар завязал множество новых контактов, которые приносят нам свои плоды. Будучи официальным директором марсельского филиала «Симэкс», Жаспар вместе с одним бельгийским сенатором организует маршруты побегов через Алжир и Португалию, которые с течением времени будут использованы примерно сотней борцов Сопротивления48. В этом кипящем котле, в обстановке общей возбужденности, где сталкивались коллаборационисты, участники движения Сопротивления и шпионы, любознательные и внимательные люди, у которых, как говорится, «ушки на макушке», могли улавливать не только всевозможные слухи, но иной раз даже узнавать государственные тайны. Нашему Центру была известна вся подноготная вишистской политики, закулисных переговоров и дипломатической игры Виши с Италией, Испанией и Ватиканом. Только один пример: так как по условиям перемирия вишистское правительство должно было оплачивать расходы по содержанию германской армии, нас ежемесячно информировали о состоянии этих расчетов. При таких обстоятельствах не нужно быть волшебником, чтобы делать верные заключения об изменениях в численности войск.
Я устанавливаю связи с организациями Сопротивления через представителя руководства Французской компартии Мишеля, с которым регулярно встречаюсь. Мы полностью осведомлены о перемещениях немецких войск во Франции. Этим мы обязаны организациям железнодорожников. Я связан с многочисленными рабочими-иммигрантами, занятыми на предприятиях крупных промышленных центров страны, которые сообщают нам драгоценные сведения о характере выпускаемой продукции. Мы также располагаем высокопоставленными агентами, чьи источники информации буквально неиссякаемы. В первую очередь хочется назвать барона Василия Максимовича, с которым в конце 1940 года меня свел Мишель, представив его как русского белоэмигранта, желающего работать на Красную Армию!
Максимович — довольно любопытный продукт исторической эпохи. Его отец, генерал русской армии, был одним из первых фаворитов императорского двора. В момент Октябрьской революции Василий и его сестра Анна покидают Россию и уезжают во Францию. Василий поступает в высшее техническое учебное заведение «Эколь сентраль» и становится инженером. Сразу после начала войны, подобно множеству иностранцев, живущих во Франции, его объявляют «подозрительной личностью» и интернируют в лагерь Вернэ.
И словно сама судьба протягивает Василию руку помощи: вскоре после перемирия военная комиссия, возглавляемая полковником вермахта Куприаном, прибывает в этот лагерь, чтобы набрать рабочих для отправки в третий рейх. Максимович заинтересовывает немецкого полковника, он сожалеет, что застал его «в таком скверном обществе», освобождает его и связывает с офицерами гитлеровского генштаба, размещенного в отеле «Мажестик».
Российский барон и белогвардеец Максимович, по мнению полковника Куприана, не может не быть ярым антикоммунистом. Его освобождают в надежде, что он сумеет «стать полезным». Такое предположение немцев вроде бы вполне обоснованно. Однако, вопреки этим ожиданиям, Василий не желает работать на немцев… Он расхаживает по знакомому отелю «Мажестик», как по собственному дому, внимательно за всем наблюдает. Исполненный лютой ненависти к нацистам, он подобен лисе, которую пустили в курятник. Вскоре он вступает в контакт с нами.
Тут — и весьма кстати — к делу примешивается любовный фактор: секретарша полковника Куприана Анна-Маргарет Хофман-Шольтц по уши влюбляется в барона. Как раз в это время она переходит на службу к Отто Абетцу, послу третьего рейха в Париже. И маленькая золотая жилка превращается в неисчерпаемые золотые россыпи: поток совершенно секретных документов, зашифровывается и отправляется в Москву.
Начинает действовать также и Анна, сестра Василия — психиатр по профессии, она руководит домом отдыха в Бийероне. Через свою семью Анна сближается с магистром Шапталем и генералом Вейганом. По настоятельным рекомендациям Василия Максимовича многие сотрудники германских организаций и ведомств частенько посещают ее замок. Эта женщина-врач ростом в метр восемьдесят, с телосложением лесоруба известна какими-то оригинальными методами лечения. Вечно бодрую и жизнерадостную Анну невозможно превзойти в искусстве исповедования секретарш и женского персонала вермахта. В их числе тридцатипятилетняя немка Кете Фелькнер, секретарша директора «организации Заукеля», занимающейся угоном иностранной рабочей силы в третий рейх.
Максимович первым обращает внимание на Кете Фелькнер. После нескольких проверок он передает ее Анне на предмет прохождения «вступительного экзамена». Результаты испытания вполне убедительны. С этой женщиной можно, не теряя ни дня, перейти к непосредственным действиям (что бывает далеко не всегда). И вот из первых рук к нам начинают поступать сведения о потребностях германской промышленности в рабочей силе, об экономических проблемах третьего рейха. Кроме того, Кете снабжает нашу сеть бланками формуляров и служебных удостоверений, из которых в случае проверки явствует, что предъявитель данного документа работает в Германии и временно находится в отпуске.
Исходя из принципа, согласно которому лучше выслушать самого Цезаря, нежели его конюшего, мы поручили специальной группе техников-связистов смонтировать подслушивающие устройства, которые подключаются к телефонным линиям отеля «Лютеция», где находится штаб-квартира парижского отделения абвера. Таким образом московское руководство может читать разговоры между парижской группой немецкой контрразведки и ее начальством в Берлине.
Другой метод добывания разведданных — менее техничный, но тоже очень эффективный — это использование так называемых «оживляющих девушек» в парижских кабаре, посещаемых немецкими солдатами и офицерами. Ежедневно сотни фронтовиков прибывали в «веселый Париж», чтобы немного прийти в себя после ада передовой. У нас есть человек, работающий в бюро по организации их досуга в столице. По их воинской принадлежности, то есть по дивизиям, в которых они служат, он может реконструировать маршевый порядок частей и соединений вермахта. В числе наших агентов есть еще и гид этого бюро. Тот показывает прибывающим на отдых военнослужащим Монмартр и Эйфелеву башню — обязательные объекты при осмотре города. Затем он советует им посетить несколько определенных кабаре, где наши «корреспондентки» проявляют глубокий интерес к жизни и невзгодам германских военных, когда те уже приняли «на борт» крупные дозы спиртного. Метод, конечно, классический, спору нет, но с уверенностью могу сказать, что из этих прокуренных и задымленных погребков до нас доходила многообразная и интересная информация о состоянии дивизий, о потерях, проблемах снабжения, моральном состоянии войск и т. д.
В Бельгии Кент (напомню, что там он руководил нашей фирмой «Симэкско») общается с высокопоставленными германскими военными, местными промышленниками и собирает обильную военно-экономическую информацию. Дом его приятельницы, Маргарет Барча, становится своеобразным салоном, излюбленным местом находящихся в Брюсселе национал-социалистских деятелей.
В лице Исидора Шпрингера бельгийская группа приобрела выдающегося сотрудника. С ним я познакомился еще в тридцатых годах, когда, будучи активистом палестинской организации «Хашомер хацаир», приезжал в Брюссель, чтобы выступать там с докладами. Несколько раз, не соглашаясь со мной, он громко прерывал меня репликами с места. Позже он стал членом Компартии Бельгии и вступил добровольцем в Интернациональную бригаду. Недюжинная храбрость Исидора Шпрингера производила сильное впечатление на его товарищей по оружию, которые, казалось бы, и сами привыкли ежедневно смотреть смерти в лицо.
Как тяжелую личную драму воспринял этот боец-антифашист подписание советско-германского пакта. В 1940 году он офицер бельгийской армии. Как только нам удается связаться с ним, он тут же без колебаний изъявляет готовность работать на нас и с помощью своей жены Флоры Велертс буквально превосходит самого себя. Шпрингер создает собственную сеть техников и информаторов из офицеров, знакомых ему по войне. Их компетентность крайне полезна в деле оценки поступающих материалов. Сам он по образованию инженер-химик. Из его людей, связанных с промышленностью, надо назвать Жака Гунцига (Долли), коммуниста с 1932 года, участника гражданской войны в Испании, где он познакомился с Андре Марти. В конце 1940 года Гунциг начинает формировать диверсионные группы. И он, и его жена Рашель снабжают Шпрингера сведениями о работе военных заводов.
Бок о бок с Шпрингером действует Вера Аккерман, которая в свои тридцать два года уже имеет большой боевой опыт. До февраля 1939 года она служила в Испании, в госпитале. В 1936 году ее муж погиб при обороне Мадрида.
Еще более долгий боевой путь за плечами Германа Избуцкого (Боб) — другого члена нашей бельгийской группы. Он родился в Бельгии в 1914 году. С нами работает с 1939 года. Пламенный коммунист, он готов отдавать все свое время делу борьбы. Мы превратили его в коммивояжера «Красного оркестра». На своем трехколесном грузовом велосипеде он шныряет во всех направлениях, везде, даже в самых крохотных деревушках, завязывает нужные знакомства, выявляет заброшенные дома, находит новых связных.
Боб порекомендовал мне из числа завербованных им одного молодого человека, утверждая, что из него получится отличный агент. Я встречаюсь с этим парнем, и на первый случай поручаю ему переправить из Антверпена в Гент очень тяжелый запертый чемодан с неизвестным ему содержимым. Боб должен сопровождать его.
Несколько дней спустя получаю весьма тревожный сигнал: оказывается, наш молодой «кандидат» сообщил какому-то другу, разумеется «под строгим секретом», что недавно перевозил оружие. (Эта формула хорошо известна: «Тебе я скажу, но ты — никому ни слова!» Именно таким способом самые доверительные сообщения становятся секретами полишинеля.) Значит, болтун! А из болтуна какой же может быть агент? Я передаю этому пареньку и Бобу ключ от чемодана — пусть, мол, откроет и внутри найдет инструкцию по поводу содержимого.
Юноша открывает чемодан и обнаруживает в нем… одни только камни.
«Кандидат» провалился. Мы сознательно проводили тесты такого рода. Они позволяли нам решать, на кого действительно можно положиться.
При выборе кандидата в радистки Бобу повезло в большей степени. Он привел к нам Сару Гольдберг (Лили). Она входила в состав группы Сопротивления из молодых коммунистов, дезориентированных советско-германским пактом.
— Мы предлагаем тебе очень опасную работу, — сразу же сказал ей Боб. — Лучше тебе с самого начала знать: на такой работе мало кто остается в живых.
Сара согласна присоединиться к нам. Но в этом случае она вынуждена покинуть своих товарищей и дать им какое-то вразумительное объяснение своего ухода. Вот она им и говорит, что окончательно поняла, какой опасности все они подвергаются, и поскольку она, мол, очень боязлива, то продолжать борьбу больше не может. Конечно, никто ей не верит, но нам это уже не так важно. В крайней спешке обучаем ее «игре на пианино», то есть работе с ключом. Если, не дай бог, Боб выйдет из строя, она заменит его…
Маргарет Барча ввела в «Симэкско» одного из своих дальних чешских родственников по имени Анри Раух. Он нам часто доставляет очень ценную военную информацию, но вскоре я начинаю подозревать его в одновременном сотрудничестве с англичанами. И хотя в принципе я ничего не имею против этого, все же прошу его четко разделить обе сферы своей деятельности.
Художник Билл Хоорикс несколько позже окажет группе большие услуги, нанимая для нее квартиры.
Огюст Сесе, пламенный патриот, связист по профессии. Он смонтировал в Остенде запасную рацию. Его именем и завершается перечень членов бельгийской группы.
В Голландии мы располагаем базовой группой в двенадцать человек под руководством Антона Винтеринка. Три действующие рации передают сведения, поступающие прежде всего от берлинской группы, а также информацию, собираемую непосредственно в этой стране.
6. В СЕРДЦЕ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА
В 1933 году, вскоре после прихода Гитлера к власти, Харро Шульце-Бойзен, 23-летний немецкий аристократ, внучатый племянник знаменитого адмирала Тирпица, и его друг, еврей Анри Эрлангер, были арестованы эсэсовцами. Шульце-Бойзен уже несколько лет редактирует журнал, на страницах которого печатаются представители всех политических течений. Эрлангер — один из его сотрудников. Журнал называется «Дер гегнер» («Противник»). Под «противником» подразумевается нацизм.
И поскольку теперь нацизм у власти, то эсэсовцы, этот передовой отряд «расы господ», хотят расквитаться с Шульце-Бойзе-ном, Эрлангером и иже с ними за долгие месяцы ожесточенной кампании против будущего диктатора и его движения. В этом смысле у них есть предшественники и учителя — итальянские фашисты с их «карательными экспедициями».
Молодчики, арестовавшие Шульце-Бойзена и Эрлангера, звереют. Обоих задержанных заставляют обнажиться по пояс и прогоняют сквозь строй фанатиков, которые хлещут их плетками. Затем то же по второму разу. На третьем прогоне верхняя половина туловища истязаемых испещрена кровоточащими ранами. Тогда Шульце-Бойзен обращается к своим мучителям:
— Давайте-ка еще один раз!
Дойдя до конца строя, он салютует командиру эсэсовцев и говорит:
— Вот я и совершил круг почета! Эсэсовцы опешили. Один из них предлагает:
— Присоединился бы ты к нам. Люди твоего пошиба должны быть в наших рядах!
Тут же они набрасываются на Эрлангера и убивают его прямо на глазах его друга. Ведь Эрлангер еврей…
Через некоторое время Шульце-Бойзен доверительно скажет друзьям:
— Смерть Эрлаигера помогла мне сделать решающий шаг. С этого дня Шульце-Бойзен безоговорочно принадлежит нам. Приход нацистов к власти побудил людей с отважной душой присоединиться к движению Сопротивления. Вокруг Шульце-Бойзена сплотилась группа в составе писателя Гюнтера Вайзенборна, доктора Эльфриды Пауль, Гизелы фон Перниц, Вальтера Кюхен-майстера, Курта и Элизабет Шумахер. Впоследствии численность этой небольшой группы возросла…
В 1936 году Шульце-Бойзен женится на Либертас Хаас-Хайэ, внучке князя Филиппа фон Ойленбурга. Одного из друзей семьи зовут… Герман Геринг. Маршал принимает близкое участие в судьбе Харро. Он направляет его в институт своего имени, где в условиях нацистского режима третьего рейха ведутся самые важные исследования в военной области. Шульце-Бойзен быстро идет в гору. К началу войны он занимает довольно высокий пост в министерстве авиации. Он всецело посвящает себя делу Сопротивления. В 1939 году его группа сливается с группой Арвида Харнака.
Если Шульце-Бойзен весь, как говорится, огонь и пламя, то Арвид Харнак, напротив, спокоен и рассудителен. Он постарше Харро и принадлежит к научным кругам. Доктор философии, он изучал экономику в Соединенных Штатах. Там он встретил профессора литературы Милдред Фиш и женился на ней. Вернувшись в Германию, поступил на работу в министерство экономики, где занял высокую должность. В 1936 году советская разведка входит с ним в контакт. Однако у него нет никакой возможности проявить свои таланты, ибо Сталин запретил своей разведке действовать на германской территории под тем предлогом, что, дескать, там они рискуют поддаться на провокацию.
К группе Шульце-Бойзен — Харнак примыкают писатель Адам Кукхоф, автор широко известной пьесы о Тиле Уленшпигеле, и его жена Грета, доктор Гримм — социалист, бывший министр культуры Пруссии, Ион Зиг — старый коммунист и редактор органа Коммунистической партии Германии «Роте фане», Ганс Коппи, Генрих Шеель, Ганс Лаутеншлегер, Ина Эндер — бывшие члены организации коммунистической молодежи. Разразилась война, и лучшие бойцы группы Шульце-Бойзена — Харнака сразу привлекаются к разведывательной работе. Но практически нет никакого строгого разграничения между этими разведгруппами. И той и другой группой руководит Шульце-Бойзен. Эта нечеткость в распределении задач оказывается непростительной ошибкой, за которую со временем придется расплатиться очень дорогой ценой. Действия группы Сопротивления не проходят незамеченными для берлинской службы безопасности. Речь идет о листовках, опускаемых в личные почтовые ящики, о расклейке объявлений, о раздаче среди военнопленных газеты «Внутренний фронт», выпускаемой на пяти языках. Однако работа не ограничивается одной пропагандой: осваиваются маршруты побегов для евреев и пленных, устанавливаются контакты с рабочими-иностранцами, группы, внедряемые на множестве предприятий, незаметно портят военную продукцию. Весьма эффектное мероприятие проводится в ответ на выставку «Советский рай», организованную службой нацистского министра пропаганды Геббельса. За одну ночь на стенах берлинских домов появляются листовки с надписью:
«ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА „НАЦИСТСКИЙ РАЙ“ — ВОЙНА, ГОЛОД, ЛОЖЬ, ГЕСТАПО. СКОЛЬ ДОЛГО ЕЩЕ ТЕРПЕТЬ?»
Может ли читатель достаточно ясно представить себе, чем
является такая акция в столице третьего рейха в 1942 году?49
Только в 1941 году Шульце-Бойзен вплотную сближается с советской разведкой. Первые его контакты начались еще в 1936 году, когда он передал советскому посольству сведения о нацистских агентах, пробравшихся в состав Интернациональных бригад в Испании. За несколько дней до нападения на Польшу он вручает работникам польского посольства в Берлине соответствующий план вермахта.
После объявления войны Харро использует свое служебное положение в министерстве германских военно-воздушных сил («люфтваффе») и собирает разнообразную и обширную информацию. Ему помогает полковник Эрвин Гертс, начальник третьей группы подготовки кадров для ВВС, Ион Грауденц — работник заводов «Мессершмитт», Хорст Хайльман, старый член гитлерюгенда, работающий в… группе расшифровки донесений д-ра Фаука (ниже я вернусь к нему), Герберт Гольнов, ведающий ни больше ни меньше как подразделением парашютистов, действующих в советском тылу.
Арвид Харнак со своей стороны имеет доступ к самым конфиденциальным планам выпуска промышленной продукции, в том числеи военной.
Из этого видно, кто в берлинской группе «Красный оркестр» занимает главенствующее положение.
Никак нельзя отрицать, что немецкие участники Сопротивления внутри самой Германии играли особую роль в борьбе против нацизма. Вполне очевидно, что француз, бельгиец, поляк или чех не только не шел против своей совести, но, напротив, считал своим долгом принять участие в этой борьбе. Иное дело немец. Он задумывался: «Не изменяю ли я своей собственной стране?»
Но такие люди, как Шульце-Бойзен или Харнак, не колебались с ответом на этот вопрос. Больше чем кто бы то ни было они познали всю чудовищность нацизма, заранее взвесили, какими были бы последствия победы его оружия: на весь мир опустилась бы кромешная тьма. Они понимают, что союзнические армии конечно же сумеют раздавить гадину. А вместе с тем они сознают, сколь огромную помощь генеральным штабам стран, объединившихся в антигитлеровскую коалицию, могут оказать люди, которые находятся в самом сердце германской военной машины. Эта мысль и определила сделанный ими выбор.
Мне хорошо известно, что сегодня в Федеративной Республике Германии именно этот выбор порой ставится им в упрек, их без стеснений называют «изменниками родины», тогда как агентов, работавших на Англию, превозносят как героев. Но разве, сотрудничая с Советским Союзом, они не были вместе с ним кузнецами той же победы?!
7. ТВЕРДОЕ УБЕЖДЕНИЕ «БОЛЬШОГО ХОЗЯИНА»
«Wir fahren gegen England» («Мы идем в поход на Англию»).
После разгрома французской армии самая излюбленная песня немецких солдат не оставляет никаких сомнений насчет целей нацистского генерального штаба. Под кодовым названием «Seelowe» («Морской лев») гитлеровские генералы лихорадочно разрабатывают план вторжения на Британские острова. В августе 1940 года верховное командование вермахта отдает приказ начать наступление на Великобританию с суши, с воздуха и с моря. 7 сентября на Лондон падают первые бомбы. В течение последующих шестидесяти пяти ночей англичане ночуют в бомбоубежищах. Все ждут со дня на день десанта германских войск.
12 октября 1940 года — неожиданная перемена обстановки. По указанию Гитлера подготовка к операции «Морской лев» прекращается на неопределенный срок. Об этом решении я узнаю немедленно от наших агентов, которые благодаря своим «аусвайсам» сумели побывать на Атлантическом побережье. Они сразу заметили, что суета и ажиотаж улеглись. Боевые корабли ушли, вместо них — старые грузовые суда. И что еще важнее: дивизии, которые должны были участвовать во вторжении, отведены. Я посылаю в Центр донесение: в обозримом будущем немцы не будут предпринимать никаких попыток высадиться в Англии. Вскоре мы получаем подтверждение — войска перебрасываются на Восток. Три германские дивизии (4, 12 и 18-я), еще недавно дислоцированные на побережье Атлантики, теперь размещены в Польше, близ Познани.
18 декабря 1940 года Гитлер подписывает директиву № 21, более известную под названием «план Барбаросса». Первая же фраза этого текста не оставляет сомнений: «Германские вооруженные силы должны быть готовы, до окончания войны против Великобритании, разгромить Советскую Россию в ходе быстрой военной кампании». Раздобыв копию этой директивы, Рихард Зорге немедленно пересылает ее в Центр50. Идет неделя за неделей, командование разведывательной службы Красной Армии получает одно за другим донесения о военных приготовлениях вермахта. В начале 1941 года Шульце-Бойзен отправляет в Центр точные данные о намеченных операциях на Востоке: массированные бомбардировки Ленинграда, Киева, Выборга, количество участвующих дивизий… В феврале я передаю детальную шифровку, где указываю точное число дивизий, выведенных из Франции и Бельгии и отправленных на Восток. В мае при содействии советского военного атташе в Виши Суслопарова сообщаю план предусмотренного нападения и указываю его изначально фиксированную дату — 15 мая, потом дополнительно информирую об ее изменении и докладываю окончательно назначенный срок. 12 мая Зорге уведомляет Москву, что сто пятьдесят германских дивизий сконцентрированы вдоль границы. 15 мая он передает дату «21 июня» как день начала военных действий. Та же дата подтверждается и Шульце-Бойзеном из Берлина.
Этой информацией располагает не только советская разведслужба. 11 марта 1941 года Рузвельт передает советскому послу информацию о «плане Барбаросса», добытую американскими агентами. 10 июня аналогичные сведения представляет заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган. Советские разведчики, работающие в приграничных зонах Польши и Румынии, шлют подробные донесения о концентрации войск.
Но тот, кто нарочно закрывает глаза, конечно, не увидит ничего даже при самом ярком свете. Это относится к Сталину и к его окружению. Он предпочитает доверять своему политическому нюху, нежели секретным донесениям, которыми завален его письменный стол. Но, похоже, Сталин утратил и обоняние. Убежденный в том, что пакт с Германией подписан на вечные времена, он продолжает посасывать «трубку мира». Его военная секира зарыта в землю, и он не торопится взять ее в руки.
Через тридцать лет после окончания войны маршал Голиков официально подтвердил ценность информации, полученной в те времена:
— Советская разведка своевременно узнала дату нападения на СССР и в нужный момент забила тревогу. Разведка представила точные сведения, касающиеся военного потенциала гитлеровской Германии, точные цифры численности вооруженных сил, количество вооружений и стратегических планов командования вермахта.
Голиков имел все основания для подобного заявления. С июня 1940 года по июль 1941 года51 он был начальником ГРУ — Главного разведывательного управления Красной Армии. Но если советский Генеральный штаб был так хорошо осведомлен, то разве Голиков не мог бы объяснить причины катастрофы после нападения немцев на СССР. Ответ, бесспорно, заключен в записке, разосланной тем же Голиковым 20 марта 1941 года по всем звеньям подчиненной ему разведки:
«Все документы, указывающие на близкое начало войны, должны рассматриваться как фальшивки, происходящие из британских или даже германских источников»52.
На полях самых важных донесений, поступающих от Зорге, Шульце-Бойзена или Треппера, Голиков делает пометку «двойной агент» или «британский источник».
Голиков далеко не единственный пример. Многие другие тоже переписывают историю наново. В 1972 году в Москве состоялось совещание, посвященное книге историка Некрича «1941 год, 22 июня». Генерал Суслопаров взял слово, чтобы рассказать, как, будучи военным атташе в Виши, он поставил Москву в известность о предстоящем вскоре нападении Германии. Жаль, что я не мог присутствовать на этом совещании.Я, несомненно, заставил бы Суслопарова быть более скромным. Всякий раз, когда я приносил ему информацию о военных приготовлениях против Советского Союза, он снисходительно похлопывал меня по плечу и говорил:
«Дорогой друг, я передам ваше сообщение, но, поверьте, только ради вашего удовольствия».
21 июня 1941 года Максимович и Шульце-Бойзен подтверждают, что вторжение вСССР назначено на завтрашний день. Еще есть время поднять Красную Армию по тревоге. Мы с Лео Гроссфогелем мчимся в Виши. Как обычно, недоверчивый Суслопаров пытается переубедить нас:
— Вы абсолютно заблуждаетесь, — говорит он нам. — Сегодня я встретился с японским военным атташе, прибывшим из Берлина. Он меня заверил, что Германия не готовится к войне. На него можно вполне положиться.
Я же предпочитаю верить моим информаторам и продолжаю настаивать на отправке шифровки, пока Суслопаров не отдает распоряжение об этом53. Поздно вечером возвращаюсь к себе в отель. В четыре утра хозяин гостиницы будит меня и кричит:
— Вот мы и дождались, месье Жильбер, Германия начала войну против Советского Союза.
23 июня в Виши прибывает Волосюк, военно-воздушной атташе при Суслопарове, покинувший Москву за несколько часов до начала войны. Он говорит мне, что перед отлетом его вызвали к моему начальнику, который заявил: «Вы скажете Отто54, что я передал большому хозяину информацию о непосредственной угрозе нападения немцев. Большой хозяин удивлен, как это такой человек, как Отто, старый коммунист, разведчик, поддается на удочку английской пропаганде. Вы можете передать ему глубокое убеждение большого хозяина в том, что война с Германией не начнется до 1944 года…»
За это «глубокое убеждение большого хозяина» — Сталина — пришлось заплатить очень дорогой ценой. Обезглавив Красную Армию в 1937 году, что и было причиной первых неудач, «гениальный стратег» выдал ее гитлеровским ордам. В первые часы наступления вермахта, вопреки всей очевидности создавшейся обстановки и все еще веря в какую-то «провокацию», он запрещает давать врагу отпор. Но что же это за провокация? Ради чего она? Загадка… Он один уверен в этом и обязывает других разделять его уверенность… А результат — это разбомбленные аэродромы, самолеты, разбитые на взлетной полосе, германская авиация, хозяйничающая в воздухе и превращающая русские равнины в кладбище танков. Командующим армейскими корпусами, которым Сталин запретил объявить по войскам боевую готовность номер один, вечером 22 июня отдается приказ отбросить войска противника за пределы страны. А к этому моменту бронетанковые части вермахта уже проникли на несколько сотен километров в глубь советской территории.
И для того чтобы перевесить чашу весов военной удачи, советскому народу, как один человек восставшему против захватчиков, придется пойти на неисчислимые жертвы. За ошибку Сталина Россия расплатилась миллионами убитых и затяжной войной.
Вместе с моими товарищами я пережил эти первые дни войны со смешанным чувством.
Конечно, поражения Красной Армии тревожили нас, но мы делали ставку не только на доблесть и отвагу народа, но и на огромные материально-технические и людские резервы Советского Союза. Морально — и тут я должен сказать, что этот аспект был для нас решающим, — мы почувствовали облегчение, словно с наших плеч упала большая тяжесть. Как коммунисты, мы не могли одобрить пакта о ненападении 1939 года. Как разведчики, мы не верили в его долговечность. Теперь все встало на свои места: СССР принял участие в антифашистской битве. Это обстоятельство удесятеряло наши усилия, нашу волю. Наша задача заключалась в том, чтобы добывать еще больший объем военной, экономической и политической информации. Это и явилось бы нашим вкладом в общее дело победы.
8. «ОРКЕСТР» ИГРАЕТ
Вот истинные победители в этой войне: русский солдат, отморозивший ноги под Сталинградом, рядовой американской морской пехоты, зарывавший свой нос в красноватый песок Омаха Бич55, югославский или греческий партизан, сражающийся в горах. Что касается разведок, то ни одна из них не повлияла решающим образом на исход конфликта. Ни Зорге, ни Радо56, ни Треппер ничего определяющего в этом смысле сделать не могли. Являясь партизанами, действующими на самом что ни на есть переднем крае в меру своих возможностей и благодаря беззаветной самоотверженности своих товарищей, они способствовали конечному успеху действий вооруженных сил57. Мне представляется необходимым внести в этот вопрос полную ясность.
Прежде всего, думается, нужно ответить на один очень важный вопрос. Я бы его сформулировал так: «Красный оркестр»? Очень хорошо! Но зачем он? К чему эта группа отважных людей, действующих в тылу врага и словно бы вырывающих у него информацию и документы? Все это тоже хорошо, но все-таки что это были за люди и какова их ценность?»
В этом моем повествовании я привел уже немало конкретных примеров нашей работы, рассказывал о непосредственной деятельности, говорил о различных методах, которые мы применяли, что-бы узнавать все больше и больше информации. И все же считаю важным внести еще некоторые, дополнительные уточнения. Тогда общая картина станет более полной и подробной.
С 1940 по 1943 год «музыканты»58 «Красного оркестра» передали в Центр приблизительно полторы тысячи донесений59.
Одна категория донесений касалась материальных средств противника: военной промышленности, сырья, транспорта, новых типов вооружения. В этой области «Красному оркестру» удалось многое. Сверхсекретные документы по танку типа «Тигр-Т6» были своевременно переданы в Москву, что позволило советской промышленности разработать танк «KB», который по всем показателям превосходил немецкую машину. Появление «KB» на полях сражений оказалось весьма печальным сюрпризом для германского генштаба.
Осенью 1941 года Центр получил донесение № 37, в котором говорилось: «Суточное производство самолета „мессершмитт МЕ-110“ равно девяти-десяти единицам. Суточные потери самолетов на Восточном фронте доходят до сорока штук». Оставалось произвести несложное вычитание.
В конце 1941 года мы сообщили своему руководству: «Предприятия „Мессершмитт“ уже три месяца работают над созданием нового истребителя, снабженного новыми моторами, которые позволят достигать скорости в 900 км/час». Планы этого нового самолета ушли в виде микрофильмов в Москву. Несколько месяцев спустя советская авиапромышленность выпустила новый истребитель, превосходивший «мессершмитт».
Вторая категория депеш относилась к сведениям о военной обстановке, числе дивизий, наличном вооружении, планах наступления.
Для примера приведу донесение № 42, датированное 10 декабря 1941 года:
«Люфтваффе» в своем первом и втором эшелонах располагает 21 500 машинами, из коих б 258 — транспортные самолеты; на Восточном фронте в настоящий момент находятся 9 000 единиц».
Или другой пример: «Ноябрь 41 — Источник Сюзанна. Генеральный штаб германской армии предлагает установить на всю зиму линию фронта Ростов — Изюм — Курск — Орел — Брянск — Новгород — Ленинград».
И через несколько дней продолжение: «Гитлер отверг это предложение и приказал начать в шестой раз наступление на Москву, используя все наличные силы этого участка фронта».
Конец 1942 года: «В Италии различные отделы командования армией начинают саботировать указания партии. Не следует исключать возможности свержения Муссолини60. Немцы сосредоточивают силы между Мюнхеном и Инсбруком на случай возможного вторжения в Италию».
Наконец, главные резиденты регулярно посылали в Центр свои обобщения и анализы прогнозирующего характера.
Опять же приведу пример: «Руководящие круги вермахта считают, что на Востоке блицкриг провалился и что военная победа Германии больше не гарантирована. Существуют тенденции толкнуть Гитлера на сепаратный мир с Англией. В командовании вермахта есть генералы, которые думают, что война продлится еще тридцать месяцев и закончится компромиссом».
Было бы ошибкой представлять себе дело так, будто информации, посылаемые Зорге, Шульце-Бойзеном или Треппером, принимались Москвой как Священное писание. Все материалы, поступающие в Центр, проходили прежде всего через отдел расшифровки. Затем производилась их сортировка и проверка военными и политическими специалистами. Собранные данные сопоставлялись с другими, исходящими из различных источников. Так, когда осенью 1940 года я доложил о снятии трех германских дивизий с Атлантического побережья и их отправке в Польшу, Центр получил подтверждение этого через сеть паровозных машинистов, перевозивших эти войска, а затем через польскую сеть.
Осенью 1941 года Красная Армия находится в критическом положении. За пять месяцев вермахт продвинулся на тысячу двести километров в глубь страны.
Падение Киева открывает немцам доступ к украинской житнице. На крайнем юге генерал Манштейн вышел к Черному морю. На севере возникла угроза Ленинграду, а в центре германского фронта падение Смоленска открывает путь на Москву.
В победоносном коммюнике Гитлер возвещает:
«Русская армия уничтожена. Вступление в Москву — вопрос дней».
Германский генштаб готовит план оккупации столицы и замены в ней всех административных органов. Гитлер уверен — падение Москвы вызовет такую деморализацию армии и населения, что Сталин станет на колени и капитулирует. Он созывает своих генералов в ставку под Растенбургом в Восточной Пруссии для уточнения планов наступления. Фюрер — сторонник фронтального наступления на Москву, но его штаб отстаивает вариант окружения. 3-я и 4-я армии обтекают столицу и, совершив огромный охватывающий маневр, соединяются восточное ее. В конце концов принимается именно этот план.
Один из членов «Красного оркестра» присутствовал на этом совещании в военных верхах — сегодня я могу открыть эту тайну. Стенограф, тщательно записывавший высказывания Гитлера и его генералов, был членом группы Шульце-Бойзена. Советский генштаб, зная до мельчайших подробностей этот замысел противника, получил возможность подготовки контрнаступления и победоносно отбросить соединения вермахта61. Тот же стенограф с упреждением в девять месяцев представил информацию о готовящемся наступлении на Кавказе. 12 ноября 1941 года Центр получает следующее донесение: План III, имеющий целью захват Кавказа, первоначально предусмотренный на ноябрь, вступает в силу весной 1942 г. Стягивание войск должно быть закончено к 1 мая. С 1 февраля начинаются мероприятия по материальному обеспечению данной операции. Базы развертывания для наступления на Кавказ: Лозовая — Балаклея — Чугуев — Белгород — Ахтырка — Красноград — Главный штаб в Харькове. Подробности следуют».
12 мая 1942 года в Москву прибывает специальный курьер. Он привозит с собой микрофильмы, на которых заснята моя детальная информация о направлениях предстоящего наступления немцев: в августе должна завершиться оккупация всего Кавказа. Главное — завладеть городом Баку и всеми нефтепромыслами. Сталинград — один из важнейших объектов наступательной операции.
12 июля сформирован штаб Сталинградского фронта под командованием маршала Тимошенко. Готовится ловушка, в которую попадутся соединения и части вермахта.
9. ФЕРНАН ПОРИОЛЬ
Одной из самых первостепенных задач, возложенных на нас, является обеспечение бесперебойной связи. Излишне говорить, что вряд ли стоит собирать и накапливать информацию, не имея возможности передавать ее куда следует. Образно говоря, для разведсети связь — это то же, что кислород для водолаза. Если его подача нарушена, удушье неизбежно.
Надо честно признаться: война уже началась, а у нас нет связи.
Она не подготовлена по той простой причине, что Центр не соизволил уделить этим проблемам необходимое внимание. Нам не хватает передатчиков и «пианистов».
Со временем мало-помалу «оркестр» обзаводится аппаратурой и находит людей для ее обслуживания: три радиопередатчика функционируют в Берлине, три — в Бельгии и три — в Голландии. Однако Франция на первых порах остается «немой», и мы с нетерпением ждем, чтобы и она начала участвовать в концерте радиоволн, уносящихся в эфир.
Радио не было нашим единственным средством связи. Во-первых, потому, что не всякую информацию можно передать в форме радиограммы, например чертежи и схемы портовых сооружений и укреплений, военные карты, структурные схемы и т. д. Вся эта документация изготовлялась нами с помощью симпатических чернил или — и это мы практиковали особенно часто — фиксировалась на микрофильмах. Вплоть до июня 1941 года весь материал, собираемый во Франции, переправлялся с помощью советского военного атташе в Виши Суслопарова. Мы избегали переходить демаркационную линию, имея при себе какие-либо документы, и придумали способ их передачи, которые Лео и я применили первыми. Прежде всего надо было заказать себе место в спальном вагоне. Другой сотрудник нашей сети заказывал другое купе, по возможности смежное с первым, которое оставалось пустым. После прохода контролера агент покидал свое купе, входил во второе, отвинчивал планку, закрывавшую электропроводку, вкладывал в нишу самопишущую ручку со вставленным в нее микрофильмом, вновь привинчивал пленку и возвращался на место.
В Мулене — станции у демаркационной линии — наш курьер и его багаж, естественно, подвергались самому тщательному досмотру, затем немецкие жандармы открывали соседнее спальное купе, видели, что в нем никого нет, и продолжали дальнейший досмотр. Затем оставалось извлечь самописку с микрофильмом из этого недолговременного тайника.
Наши поездки значительно облегчались, благодаря документам «организации Тодта», которые были у руководителей и сотрудников фирмы «Симэкс» и «Симэкско». Были у нас и другие, тоже довольно необычные курьеры. Так, связь между Берлином и Брюсселем обеспечивала очень хорошенькая Ина Эндер, манекенщица из художественного ателье мод, где одевались Ева Браун (любовница Гитлера) и жены нацистских сановников. На Симону Петер, служащую парижского бюро Бельгийской торговой палаты, возложена передача материалов между Парижем и Брюсселем. Ей достаточно переслать все, что надо, своей корреспондентке на брюссельской бирже, а уж та займется их дальнейшей переотправкой. Мы пользуемся также услугами паровозных машинистов, пересекающих демаркационную линию, и моряков с пароходов, совершающих рейсы в Скандинавию.
Но необходимость расширения своей деятельности и начало войны на Востоке вынудили нас отойти от, так сказать, ремесленнеческих методов работы. Сколь бы хитроумными и эффективными ни были всякого рода трюки, возбуждающие воображение и радующие любителей романов про шпионаж, они все же не отвечали ч достаточной степени требованиям секретной службы, призванной отправлять большое количество донесений и притом с максимальной оперативностью и быстротой. После вступления в войну Советского Союза военный атташе Суслопаров покинул Виши. Единственное, чем мы могли располагать, была брюссельская рация, однако она не давала нам удовлетворительных гарантий в смысле безопасности и производительности.
Следовательно, срочно понадобилось организовать рации во Франции. Я обратился к своему московскому Директору с просьбой связать меня с кем-нибудь из ведущих радистов Французской компартии, который наверняка мог бы помочь нам в этом деле. Москва согласилась, благодаря чему и состоялось мое знакомство с Фернаном Пориолем (Дювалем).
С первой же встречи я проникся к нему доверием. Я понял, что это «именно тот человек». Вдобавок он прямо-таки светился каким-то огромным, подкупающим обаянием. Несмотря на очень высокие и сложные обязанности, возложенные на него партией, он сразу же согласился подыскать для нас аппаратуру и подготовить «пианистов».
Уроженец юга Франции, остроумный и жизнерадостный, Пориоль обладал свойством браться за самые трудные дела с улыбкой, словно пронизанной ярким светом его родного солнечного края. Родившись в одном из тех семейств, где первой «книгой для чтения» является газета «Юманите», он с самых юных лет принял активное участие в комсомольской работе, затем вступил в ФКП. Влюбленный в море, Пориоль поступил в марсельское гидрографическое училище и окончил его по специальности радионавигатора торгового флота. Затем три года плавания на грузовых судах, воинская служба. После демобилизации, уже имея на руках партбилет, Пориоль нигде не может найти себе работу.
Вскоре Фернан увлекается журналистикой и с головой уходит в газетное дело. Ему он посвящает большую часть своего времени, выступая на страницах «Ля дефанс» («Оборона») — органа МОПР62. Попутно, по заданию партии, частенько делает доклады в департаменте Буш-дю-Рон. В 1936 году компартия начинает выпускать в Марселе газету «Руж-Миди» («Красный юг»), выходящую два раза в неделю. В редакционной кассе нет ни единого су, но Пориоля назначают главным редактором. Страстный журналист, Пориоль много пишет, работает до полного изнурения: то ищет типографа, то пробует себя самого в роли рассыльного. Благодаря его стараниям ширится круг читателей газеты. Про «Руж-Миди» говорили, что это «единственная ежедневная газета, выходящая дважды в неделю».
В начале войны Пориоля направляют в подразделение подслушивания радиосетей противника. Вот уж действительно каприз судьбы: будущий ответственный организатор радиослужбы коммунистической партии и «Красного оркестра» работает по обнаружению и подслушиванию вражеской радиосвязи! После демобилизации Фернан без промедлений вступает в ряды движения Сопротивления, начинает монтировать рации, готовить кадры радистов.
Мы, разумеется, в полной мере оценили подарок, который в его лице, сделала нам ФКП… Фернан очень скоро завершает монтаж аппаратуры нашей первой рации. Что до «пианистов», то военный атташе Суслопаров помог мне войти в контакт с супругами Сокол.
Они происходили из того района Польши, который в 1939 г. был присоединен к СССР. Оба попросили разрешения обосноваться на русской территории. И хотя Герш по специальности врач, а Мира — доктор социально-политических наук, при заполнении анкет они назвали себя специалистами по ремонту радиоаппаратуры. Они знают, что СССР нуждается в технических кадрах, и поэтому у них будет больше шансов на разрешение жить в стране, чем если они укажут свои настоящие профессии. Их партийные документы, попав в советское посольство в Виши, ложатся на письменный стол генерала Суслопарова, который, зная, как остро я нуждаюсь в радистах, направляет их ко мне.
Старые боевые коммунисты, муж и жена Сокол без колебаний принимают мое предложение… Фернан Пориоль берется за их обучение и в рекордно короткий срок делает из них отличных радистов. К концу 1941 года у Фернана уже целых семь новых учеников: группа из пяти испанцев и супружеская пара Жиро. Через несколько месяцев — опять рекордный срок! — французский «оркестр» уже может играть. Добавлю, что для передачи донесений особой важности Пориоль монтирует специальную линию связи, идущую через подпольный центр ФКП. К этому я вернусь ниже…
В тот же период Центр дает мне возможность выйти на Анри (Гарри) Робинсона63. Это бывший член Союза спартаковцев, руководимого Розой Люксембург, опытный практик подпольной коминтерновской работы. Давно обосновавшись в Западной Европе, Робинсон порвал связь с Центром. Московское руководство предоставляет мне самостоятельно решить, стоит ли возобновить с ним отношения.
— После чисток в советской разведке, — объясняет мне Гарри, — я прекратил отношения с ними. В 1938 году я был в Москве и видел, как ликвидировали лучших. Согласиться с этим я не могу… Теперь я поддерживаю отношения с представителями генерала де Голля и знаю, что Центр запрещает такие контакты…
— Послушай, Гарри, — ответил я ему, — и я не одобряю то, что происходит в Москве. И меня привела в отчаяние ликвидация Берзина и его друзей, но сейчас не время цепляться за прошлое. Идет война. Оставим прошедшее в стороне, и давай бороться вместе. Всю свою жизнь ты был коммунистом и не должен перестать быть им лишь потому, что ты не согласен с Центром…
К моей радости эти доводы подействовали на него. И вот он делает мне следующее предложение:
— Есть у меня радиопередатчик и радист, но я не могу себе позволить ставить его под удар. Давай договоримся о регулярных встречах. Каждый раз я передаю тебе добытые мною сведения, причем сам их зашифровываю. Ты же возьми на себя передачу их в Центр…
Москва приняла это предложение. Информации Робинсона поступали ко мне регулярно. Помогал ему деньгами, ибо он с трудом сводил концы с концами. Однако в состав «Красного оркестра» он так никогда и не вошел.
Как-то осенним днем 1942 года он дал мне знать, что срочно желает встретиться. Мы условились, когда и где. То, что он мне сообщил, было и в самом деле крайне важно…
— Ты знаешь, что я связан с Лондоном, — сказал он мне. — Представитель генерала де Голля находится здесь и желает встречи на уровне главного руководства коммунистической партии…
— С какой целью? Ты в курсе?..
— Видимо, де Голлю хотелось бы, чтобы компартия послала к нему своего эмиссара. Но руководство ФКП сумело так здорово законспирироваться, что вот уже три недели как нашему человеку никак не удается нащупать хотя бы малейший контакт…
Я пообещал Гарри заняться этим. Поскольку я имел возможность за двое суток связаться с Мишелем — представителем коммунистической партии, — мы с ним увиделись, и я изложил ему ситуацию. Встречу Мишель назначил на несколько более поздний срок.
Так Лондон впервые вошел в контакт с ушедшим в глубокое подполье руководством Французской коммунистической партии.
10. МОЯ ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Легенды о шпионаже живучи… В них обычно рассказывается, как будущего разведчика посылают учиться в некую школу, где его, согласно принятой традиции, приобщают к более или менее таинственной науке о сборе разведывательных сведений. Сидя за партами в таких специальных учебных заведениях, изучается разведывательное дело так же, как в других изучают, скажем, математику. По окончании спецшкол вручается диплом, и свежеиспеченный доктор разведнаук начинает путешествовать по белу свету, дабы узнать, выдержит ли изученная им теория проверку практикой. При этом забывают, что законы разведки не являются ни теоремами, ни аксиомами и что, как правило, ни в каких книгах их не найти.
Я лично никогда и никаких «шпионских курсов» не посещал. В этой области я не более чем скромный «автодидакт», а проще говоря — самоучка. Моя жизнь активного коммуниста — вот, собственно, моя школа. Ничто не могло лучше подготовить меня к руководству сети, подобной «Красному оркестру», чем те двадцать бурных лет (подчас это были годы подполья), что предшествовали моему приобщению к разведслужбе. В Польше и в Палестине я научился жить на нелегальном положении, и это ничем не заменимый опыт стоит всех учебных курсов, какие только есть на свете. В той же самой «школе» учились и мои друзья Лео Гроссфогель и Гилель Кац, сыгравшие решающую роль в создании и развитии нашей сети. Будучи боевыми коммунистами, мы овладевали искусством действовать в любой обстановке, чувствовать себя в ней, как рыба в воде. Разведка требует постоянной непринужденности, непрерывной работы воображения, напряженного внимания. Если, например, Кент, едва покинувший свою «разведакадемию», очутившись в парижском предместье, входит в какой-то самый обыкновенный кабачок, направляется к стойке и спрашивает чашку чая, то этим он вызывает не только насмешливые замечания в свой адрес, но и — хуже того! — привлекает к себе общее внимание. А ведь разведчику подобная реакция окружающих явно ни к чему. Видимо, в школе, где учился Кент, ему забыли внушить простейшее правило: в питейных заведениях такого рода посетители заказывают не чай, а уж по меньшей мере стакан доброго красного вина!..
Золотое правило разведчика гласит: быть незаметным, но не таиться и ни от кого не прятаться, а жить нормально. На этой стадии бытия умелый камуфляж решает все. Агент не должен изображать кого-либо или что-либо, он должен просто-напросто «быть». В Брюсселе я не только жил под именем Адама Миклера, я стал Адамом Миклером. Внимательный и вдумчивый наблюдатель не заметил бы никакой разницы между моей жизнью и жизнью одного из множества коммерсантов, с которыми я встречался на бирже или в ресторанах.
Человек как бы вживается в выбранный им образ. Для этого ему нужно детально знать страну, среду, в которой он действует, профессию, которую практикует. Адам Миклер приехал из Квебека? Что ж, я могу часами рассказывать о красотах Монреаля и дурачить любого, кто развесит уши. Присутствие в Брюсселе Любы и одного из наших сыновей облегчает мое внедрение в местную жизнь. Война и оккупация вынуждают меня удвоить меры предосторожности.
Моя жизнь в Париже с внешней стороны ни в чем не изменилась. Один из акционеров общества «Симэкс», Жан Жильбер, живет под этим именем на улице Фортюни или на улице де Прони. Соседи и консьержки приветствуют в его лице бельгийского промышленника. Я живу один, и в этих двух «официальных» квартирах редко кого принимаю. Моя приятельница Джорджи де Винтер никогда не является по этим адресам. Она покинула Бельгию осенью 1941 года и с момента вступления в войну Соединенных Штатов живет под фамилией Тэвене. Ее квартира находится в доме на площади Пигаль (впоследствии она снимет виллу в Ле Везине). Сдержанная и умная, она знает про меня лишь то, что я борюсь против нацизма. Иногда Лео заглядывает ко мне на улицу де Прони. Однажды, забыв про комендантский час, он остается ночевать. И уже назавтра управительница домом, раньше приветливая и предупредительная, подозрительно косится на меня. Через две или три недели меня посещает одна дама. На следующий день лицо моей управительницы расплывается в широкую доброжелательную улыбку. Заинтригованный, я спрашиваю у нее о причине такой метаморфозы.
— Месье Жильбер, — говорит она, — я вас считала вполне респектабельным жильцом. И вдруг… Первый же человек, который провел у вас ночь, оказался мужчиной. Но вот вчера, когда я увидела даму, я с облегчением вздохнула. А то, знаете ли, я было решила, что у вас ненормальные склонности.
Несколько раз в неделю Жан Жильбер отправляется на Елисейские Поля, в управление компании «Симэкс»64. За исключением Гроссфогеля, Корбена, Каца и Сюзанны Куант, никому из сотрудников моя истинная роль не известна. Для непосвященных я просто промышленник-воротила, умеющий делать дела. Приходить в управление «Симэкс» с компрометирующим материалом или, чего доброго, пускаться там в разговоры про разные истории, приключившиеся с нашими агентами, конечно же запрещено. При любых обстоятельствах наша «крыша» должна оставаться безупречной. Для переговоров о важных контрактах, заключаемых нами с немцами, Лео Гроссфогель организует неофициальные ужины. Дельцам из «организации Тодта» особенно приглянулся русский ресторан «У Корнилова» и даже один еврейский ресторан, не закрытый немцами и зарезервированный исключительно для обслуживания оккупантов.
Готовясь к такому ужину, требующему от нас огромного внимания и напряжения, мы в порядке профилактики заглатываем рюмку оливкового или ложку сливочного масла, чтобы не захмелеть… Жиры связывают алкоголь и позволяют нам оставаться вполне «приличными», а главное, до конца сохранять ясную голову. Надо ли добавлять, что этого никак не скажешь о наших партнерах? Мой портной, мой парикмахер, хозяева кабачка и ресторана, которые я посещаю, почтительно приветствуют в моем лице месье Жильбера, который курит дорогие сигары и щедро раздает чаевые.
За этой моей личиной скрывается и постоянно присутствует другая личность — шеф «Красного оркестра». Жан Жильбер и Отто полностью изолированы друг от друга. Опасность таится в возможности трансформации одного в другого. Поэтому никто не должен последовать за Жильбером, когда тот уходит в тень и растворяется в ней.
Дважды в неделю я еду на одну из наших двадцати или двадцати пяти явок. Как правило, это загородные виллы, подобранные Лео. Кац или Гроссфогель, у которых за несколько дней накопилась свежая информация, приносят мне соответствующие материалы, и я их сортирую. Основываясь на обилии новых сведений, я составляю краткое, сжатое донесение, затем делю его на четыре или пять радиограмм. Выполнение такой задачи требует по крайней мере одного полного рабочего дня. Потом связной забирает весь материал и относит его шифровальщику, обычно Вере Аккерман, от которой шифровка поступает к супругам Сокол для непосредственной передачи в эфир. Каждый из перечисленных этапов тщательно отделен от остальных. Каждый из членов сети знает только самое необходимое для его работы. В такой организации любая из существующих связей жизненно важна. Важно и другое: с самого начала мы уделяли особое внимание разработке техники встреч.
Наибольшая безопасность обеспечена тогда, когда два человека встречаются в обычной для них среде: так, например, в 1939 году контакты между Любой и Кентом выглядели вполне естественными — оба были студентами Свободного университета в Брюсселе. Но такая форма общений, конечно, далеко не всегда возможна. А вообще говоря, два разведчика, которым предстоит встретиться, покидают свои жилища задолго до часа их рандеву. Они не фланируют по улицам, но занимаются своими повседневными делами и стараются находиться на возможно большем удалении от места встречи. В принципе они пользуются метро, всегда следуют в хвостовом вагоне, который покидают в числе последних из выходящих на этой станции пассажиров, чтобы наблюдать тех, что идут впереди. Затем следует пересадка на другую линию, а при продолжении поездки соблюдаются те же правила — и так вплоть до момента, когда они полностью уверены в отсутствии «хвоста». Потом заходят в заранее определенную кабину автомата, чтобы посмотреть в телефонной книге, подчеркнуто ли в ней предусмотренное кодом слово, например десятая фамилия во втором столбце такой-то страницы. Если это так, то, значит, путь свободен.
Собственно встреча, с виду совершенно случайная, никогда не длится более нескольких секунд и обыкновенно происходит на станции или в переходе метро. Иной раз я назначаю встречу в плавательном бассейне. Достаточно обоим агентам войти в смежные кабины с перегородкой, не достигающей потолка. В этом случае передать материал легче легкого. Другим простым вариантом являются туалеты мало посещаемых кафе или ресторанов. Два «музыканта» «Красного оркестра» могут встретиться также и в театре. Они, конечно, не знают друг друга, но «по случайности» — благодаря третьему лицу, купившему билеты, — оказываются рядом.
Донесения, которые таким образом незаметно переходят из рук в руки, пишутся на очень тонкой бумаге. Для особо важной информации мы пользуемся симпатическими чернилами, которыми пишем между строк какого-нибудь письма с совершенно невинным текстом. Иногда передача материала осуществляется при обстоятельствах, когда агенты даже и не видят друг друга. Например, один из них кладет свой «пакет» в точно оговоренном месте, скажем у подножья дерева или статуи, куда чуть позже подходит другой агент и забирает его. По телефону мы никогда ничего не говорим. Это принцип и непреложный закон.
В Брюсселе я дал Кенту номер своего телефона, предупредив его, что позвонить можно только в случае крайней опасности. Однажды, вернувшись домой, слышу, как Люба что-то говорит в трубку. Выясняется — Кент позвонил ей по какому-то совершенно пустяковому поводу. Помнится, этот эпизод вызвал у меня один из сильнейших (и очень редких в моей жизни) приступов ярости. Для нас телефон — это прежде всего средство контроля. После радиосеанса я часто звоню на квартиру или на виллу, откуда велась передача. Мне достаточно услышать знакомый голос, и я тут же вешаю трубку; значит, все прошло хорошо. В другой раз я пользуюсь кодовой фразой: «Алло, это квартира господина Икс?» — «Нет, вы ошиблись». Открытым текстом это означает — «никаких происшествий». Когда же нам абсолютно необходимо переговорить по телефону, то мы пользуемся условным языком: «Я уезжаю из Парижа» означает «Я остаюсь в Париже», «Я вернусь в понедельник» означает «В субботу я буду на месте». Никогда мы не указываем точно день или час. Из месяца в месяц мы совершенствуем технику связи и к 1941 году достигаем в этом смысле почти полного автоматизма. Машина функционирует сверху донизу без помех. И все же разведчик, как и всякий другой человек, не свободен от слабостей, с которыми порой трудно или не очень удобно бороться. Так, например, Аламо обожает автомобили. Из-за формальностей, связанных с получением водительских прав, из-за риска попасть в аварию и лишний раз привлечь к себе внимание мы взяли себе за правило не иметь автомашин. Но я очень люблю Аламо и соглашаюсь сделать для него исключение. Свою открытую спортивную машину он водит со скоростью самолета. В один прекрасный день он везет меня в Кнокке и мы действительно «взлетаем на воздух и падаем». Кое-как я выбираюсь из автомобиля, от которого, после того как он трижды перевернулся, мало что осталось. Аламо жалобно глядит на меня, но я молчу, точно лишился дара речи. Наконец он восклицает:
— Да наорите же на меня как следует, Отто! Ведь из-за меня вы едва не погибли!
— Что же, по-твоему, я должен сказать тебе, идиот, если ты даже не умеешь толком водить машину!..
Выпивка, кроме как «в интересах службы», нам строго запрещена. Азартные игры тоже. Нет в нашем деле ничего вреднее разведчика, который ночи напролет стал бы резаться в карты. Однако самый деликатный вопрос — это, разумеется, вопрос о женщинах. Все тот же Аламо как-то раз подходит ко мне:
— Послушайте, Отто, мне скучно. Я, конечно, готов подчиняться указаниям, но все-таки я же не монах.
— Что тебе говорили в Москве?
— Мне запретили заводить отношения с женщинами.
— Но тебя ведь не кастрировали перед отъездом! Поэтому делай что хочешь. Но вот три совета: остерегайся публичных домов, не теряй голову и щади жен своих друзей!
Аламо сдержал (почти что) слово.
Для подпольщика общение с женщиной чревато непредсказуемыми неприятностями. Днем мы еще можем контролировать свои реакции и иностранный язык, на котором говорим. Но ночью, во сне, зачастую невольно и громко произносишь слова своей родной речи, и разве возможно поручиться, что такое ни разу не произойдет? По-французски я говорю с сильным акцентом и не владею всеми синтаксическими тонкостями, но это естественно для бельгийца, уроженца Антверпена. Иногда нас подслушивают весьма внимательные и настороженные уши. Как-то раз Кент является ко мне после очередной встречи в состоянии сильнейшего волнения:
— Я раскрыт! — говорит он мне. — Звоню по телефону насчет найма квартиры, а хозяин спрашивает, не русский ли я.
— Что ты ему сказал? Повтори в точности!
— Банжур, моссьё…
— Достаточно! — прерываю я его.
Хозяин квартиры, видимо уже общавшийся с русскими, несомненно, знал об этой особой трудности для славян — правильно произносить слово «monsieur» («месье»).
Подобные мелкие инциденты не так уж тревожили меня, но я считался с возможностью, что рано или поздно какая-нибудь из этих мелочей обратит внимание гестапо на нас.
11
26 июня 1941 года, в три часа пятьдесят минут, дежурный радист станции подслушивания в Кранце66(Восточная Пруссия) перехватывает следующее сообщение:
KLK из РТХ 2606 0330 32WES N14KBV…
Далее следуют тридцать две группы по пяти цифр:
AR 50 385 KLK из РТХ…
Радист регистрирует прием в журнале, но в этот момент ему совершенно неизвестно ни происхождение, ни назначение, ни смысл этой радиограммы. С тем же успехом он принял бы сигналы из какой-то далекой галактики.
С первого дня войны эфир переполнен несчетными голосами, которые загадочным языком передают информации секретных служб, приказы, контрприказы, донесения враждующих лагерей, тайно противостоящих один другому. Операторы германских станций радиоподслушивания, в частности в Кранце, уже привыкли к ночным передачам мелодичной джазовой музыки, обычно рассчитанным на англичан. Но сегодня явно не то. Но что же? На сей раз перехваченные «аккорды», видимо, воспроизводят какую-то «партитуру», адресованную отнюдь не обитателям Британских островов.
В течение трех месяцев, до конца сентября 1941 года, будут перехвачены двести пятьдесят «аккордов». И лишь по истечении столь длительного срока немцы обретут окончательную уверенность, что все эти таинственные и «непереводимые» радиограммы предназначены для Москвы.
Их посылает «Красный оркестр».
Офицеры германского генштаба узнают об этом от своих связистов, но ничего не могут понять. Они глубоко озадачены. Они могли ожидать чего угодно, но только не «музыки» для русских. Разве абвер (армейская разведка) и служба безопасности (СД) не твердили им постоянно, что как в Германии, так и на оккупированных территориях никакой советской разведывательной сети не существует?.. Откуда у них такая уверенность? Она основывается на известном им указании Сталина, запрещающем его агентам действовать в пределах рейха. Это они давно и твердо знают… А кроме того, в эту ночь на 26 июня, когда такая шифровка перехвачена впервые, завершились лишь пятые сутки после начала войны между Германией и Советским Союзом.
Но разве пяти суток достаточно для получения и осуществления новых указаний Сталина Разве не сам Гейдрих в момент начала «плана Барбаросса» поручился за правильность мнения специалистов на этот счет? Больше того, он представил фюреру доклад с заверениями, что вся территория Германии «очищена от советской нечисти».
Но ввиду такого исключительно важного сообщения созывается специальное совещание, на котором присутствует сам Гитлер. Впервые различные клики нацистской камарильи пытаются преодолеть свое соперничество. Гейдрих, чей авторитет, несмотря на его неосторожные высказывания, все-таки остается непоколебленным, берет инициативу в свои руки. Под его руководством адмирал Канарис из абвера, генерал Тиле из радиоразведки, Шелленберг, начальник зарубежной службы СД, Мюллер, руководитель гестапо, решают согласовать свои усилия. Первый и второй эшелоны разведки и полиции вступают в войну против советских разведчиков67.
На всех территориях, контролируемых вермахтом, подразделения радиопеленгации приводятся в боевую готовность и начинают действовать с полным напряжением. Немцам удается напасть на один след; раньше или позже — что будет зависеть от их искусности и от капризной воли случая — этот след приведет их кое-куда… В самом деле капитан Гарри Пиле из бельгийского управления абвера в ноябре 1941 года запеленговал наш радиопередатчик в Брюсселе…
Ну а мы? Каково было наше положение тогда?
В конце 1940 года я столкнулся с немалыми трудностями при попытках развернуть и задействовать радиопередатчики на территории Бельгии. Поэтому я обратился в Центр с просьбой связать меня со специалистом по ремонту раций и подготовке радистов. Так мне довелось познакомиться с Иоганном Венцелем. Обосновавшись в Бельгии в 1936 году, он руководил небольшой разведгруппой, специализированной в области военной промышленности.
Прошлое Венцеля служило ему хорошей рекомендацией для настоящего. С молодых лет активный член Коммунистической партии Германии. Уроженец Гданьска, деятельный участник гамбургского «красного бастиона»68, он был хорошо знаком с генеральным секретарем КПГ Эрнстом Тельманом. Прежде чем переселиться в Бельгию, Венцель создал группу промышленного шпионажа в Рурской области. Ну и наконец, этот ветеран-подпольщик был на редкость квалифицированным специалистом по части радиосвязи.
В глазах всей брюссельской группы Венцель — «профессор», причем профессор, который подает личный пример, ибо, готовя «пианистов», он одновременно обеспечивает передачу радиограмм своей рацией. Первым его учеником становится Аламо, и так как в середине 1941 года мы испытываем недостаток в «солистах», я решаю направить к нему в качестве стажеров Давида Ками и Софи Познанску.
Ками — настоящий активист-революционер. Его мне представляет Гилель Кац. Они знают друг друга по совместному пребыванию в организации ФКП 5-го района Парижа. Свои молодые годы Ками провел в Палестине, затем поехал сражаться в Испанию, как, впрочем, и многие другие из нашего «Красного оркестра». Прежде чем присоединиться к нам, он работал в техническом отделе ФКП. Страстный любитель радио, хорошо ориентируясь в химии, он организовал небольшую подпольную лабораторию, в которой изготовлял, в частности, симпатические чернила, самоуничтожающиеся документы и т. д. Мы считали его главным образом специалистом по микрофильмам. В этом отношении он был профессионалом высокого класса.
Софи Познанска помогает Венцелю проводить занятия. Ее я знаю еще по Палестине, где она показала себя необычайно храброй и умной девушкой.
Таким образом, оба «стажера» очень мне дороги. Я прошу Кента подыскать им самые надежные тайные квартиры. Но он ничего в этом смысле не делает: Софи живет в доме 101 на улице Атребатов (это вилла, которую мы арендуем для передачи наших материалов), а Ками ютится у Аламо. Но ни тут ни там не соблюдаются даже самые элементарные условия безопасности. Словно кто-то специально хочет спровоцировать катастрофу.
В начале декабря получаю тревожную записку от Софи. Она просит меня прийти к ней и «навести порядок». В нашем особняке на улице Атребатов частенько складываются довольно нелепые ситуации, которые того и гляди могут стать опасными. Одиннадцатого я прибываю в Брюссель и убеждаюсь, что там действительно творятся необычные в нашей практике дела. Неисправимый Аламо приезжает на виллу «поработать», его сопровождают… друзья (и подружки тоже) — люди, абсолютно посторонние для нашей группы. При таких обстоятельствах Венцель с полным основанием решает на какое-то время прекратить передачу отсюда радиограмм. А ведь еще только в ноябре, совсем недавно, такие передачи велись ежедневно по нескольку часов.
В полдень 12 декабря я встречаюсь с Софи. Она говорит мне о совершенно немыслимой атмосфере, царящей здесь. Я тут же принимаю решение отозвать ее и Ками в Париж, предоставив Кенту заботу об их замене. Затем назначаю всем им встречу на вилле назавтра в полдень, чтобы поставить их в известность о намеченных мною изменениях.
Тем временем капитан Гарри Пиле из абвера со своей стороны как бы пустился наперегонки со временем. Ему удается запеленговать передатчик, но он еще не установил точного номера дома, колеблется между номерами 99, 101 и 103. Ночью он решается действовать и со своими людьми врывается в дом 101. Сперва, на первом этаже, они обнаруживают Риту Арну, антинацистски настроенную голландку, приятельницу Шпрингера, которая наняла для нас эту виллу, не зная про наши дела почти ничего. На втором этаже Софи как раз занята расшифровкой радиограмм. Испугавшись стука сапог на лестнице, она торопливо швыряет в камин все, что попадается под руку. Самое главное сожжено, но немцам удается завладеть одним полусгоревшим листком бумаги…
В другой комнате работает Ками. Он подслушивает рацию, работающую где-то в другом месте (нами установлен принцип контроля одного радиопередатчика другим). Он слышит шаги и пытается спастись бегством. Следует бешеная погоня, но на улице его схватывают. Риту Арну, Софи и Ками арестовывают. Немцы устраивают на вилле засаду.
На следующий день в одиннадцать тридцать ничего не подозревающий Аламо приходит на встречу, назначенную накануне. Несколько дней он не брился и зарос щетиной. В его руке корзинка с кроликами для пропитания. Едва он ступил на порог, как немецкие жандармы набрасываются на него…
— Ваши документы!
Не теряя спокойствия, он достает из кармана свой уругвайский паспорт на имя Карлоса Аламо… Следуют вопросы:
— Зачем вы пришли сюда? Откуда вы пришли? Чем занимаетесь?
Он им рассказывает нехитрую историю: дескать, его магазин в Остенде недавно разрушен (и это правда), после чего, чтобы прокормиться, он подвизается на черном рынке…
— Только что я позвонил у парадного — хотел предложить своих кроликов.
Версия правдоподобна. По виду его вполне можно принять за бродячего мелкого торговца. А тут еще и кролики для достоверности.
Посовещавшись, жандармы приказывают ему оставаться в их распоряжении.
В этот момент являюсь я…
Ровно в полдень звоню у входа. Мне открывает жандарм, неизвестно зачем переодевшийся в женское платье. Мы смотрим друг на друга в упор. И тут я отчетливо чувствую, как мое сердце перестает биться. Собравшись внутренне, невольно делаю шаг назад и стараюсь держаться непринужденно.
— О, простите, пожалуйста, но я не знал, что этот дом занят вермахтом. Видимо, ошибся адресом…
Я его не убедил. Он хватает меня за руку, да так, что едва не ломает мне ее, и втаскивает внутрь.
Теперь нужна сверхосторожная игра… В доме все перевернуто вверх дном, везде неописуемый беспорядок — классическая картинка после обыска… Сквозь застекленную перегородку, отделяющую большую комнату, где я нахожусь, от лестничной клети, я вижу Аламо. Медленно, уверенный в себе, я достаю свои документы и протягиваю их немцу, хотя он меня об этом и не просил.
Его лицо вытягивается, он ошарашен: документ, который я держу перед его глазами, испещренный множеством подписей и печатей, подтверждает, что его обладатель, месье Жильбер, уполномочен директором парижского отделения «организации Тодта» изыскивать стратегические материалы, нужные вермахту. Тот же директор просит все военные оккупационные инстанции всемерно помогать месье Жильберу…
Чтобы нарушить затянувшееся молчание, я, в порядке дополнительной информации, поясняю моему собеседнику:
— Напротив этого дома есть гараж, где я, вероятно, найду старые автомобили, которые можно пустить на переплавку. Но гараж закрыт, и я решил узнать у жильцов этого дома, в каком часу он открывается…
Жандарм становится невольно приветливее, но, судя по всему, хочет быть дисциплинированным до конца:
— Верю вам, — отвечает он, — но вам следовало бы дождаться возвращения моего начальника…
— Невозможно! Это невозможно! Я обязательно должен успеть на поезд. Директор «организации Тодта» ожидает моего доклада сегодня же, во второй половине дня. Вы невольно можете стать причиной серьезной неприятности, знаете ли! Отведите меня к вашему офицеру или позвоните ему по телефону!
Немного поколебавшись, немецкий жандарм решается позвонить капитану Пиле. Он сообщает ему о моем появлении… Из трубки до меня доносится громовое рычание капитана. Мой немец, словно сраженный молнией, резко бледнеет.
Из трубки слышно:
— Кретин! Чего вы держите этого человека? Немедленно отпустите его!
Аламо — он все слышал — приближается к нам и бросает мне одобрительный взгляд… Вместе с жандармом я спускаюсь на первый этаж. Он доходит со мной до парадного, и я спрашиваю:
— А что здесь происходит? Опять какая-нибудь история с евреями?
— О нет! Тут дело посерьезнее…
— Еще серьезнее? Что же тогда?
— История со шпионами…
Мое лицо принимает крайне озабоченное выражение, я должен показать ему, как глубоко понимаю всю важность подобной ситуации. Мы расстаемся добрыми друзьями, и я ему говорю:
— Приедете в Париж, обязательно загляните ко мне. Буду очень рад!..
Я выхожу на улицу и лишь теперь, уже по-настоящему, осознаю, насколько эта ситуация и впрямь серьезна! Только что нам нанесли очень тяжелый удар. Несколько наших людей угодили в сети абвера.Чем все это кончится? Я смотрю на часы — четверть первого. До чего же быстро все произошло… Вдруг вспоминаю, что условился встретиться со Шпрингером, совсем близко отсюда. Нельзя терять ни минуты, иначе, не дождавшись меня, он скорее всего тоже устремится прямехонько в мышеловку на улице Атребаты. К великому счастью, Шпрингер терпеливо ждет меня. Я быстро рассказываю ему о случившемся и спрашиваю, нет ли при нем компрометирующих документов…
— Мои карманы полны ими, — отвечает он.
— А конкретно что у тебя?
— Планы антверпенского порта!
— Проклятие! И только-то?!
Я вспоминаю, что несколькими неделями раньше мой Директор выразил желание получить подробные планы этого порта с обозначением мест, куда могли бы прокрасться подводные лодки. Эти планы Шпрингер каким-то образом сумел раздобыть…
— Оставаться здесь больше нельзя!Ни секунды! Еще не хватало, чтобы и тебя обыскали…
Через час встречаюсь с Кентом. Достаточно нескольких слов, и он мгновенно понимает всю серьезность положения. Трое наших арестованы, и хотя все они безоговорочно внушают мне полное доверие, все равно, если они в лапах гестапо, можно ожидать самого худшего. И еще: присутствие у них Риты Арну беспокоит меня особенно сильно: у нее нет тех же причин хранить молчание, какие есть у других. То есть практически я уверен, что она будет говорить. Кента она видела дважды, хорошо знает Шпрингера и кое-что слышала про Венцеля… Кроме того, немцы захватили наши донесения, так почему же им не попробовать раскрыть наш шифр?..
Необходимы экстренные контрмеры: Кент и Шпрингер должны немедленно покинуть Бельгию, а остальные — уйти в самое глубокое подполье. Бельгийская группа временно консервируется. Другого выхода нет69.
Надо было действовать предельно быстро… Я поехал на машине в Лилль. Там сел в поезд на Париж. На другой день состоялось совещание с Лео Гроссфогелем и Фернаном Пориолем. Мы решили сформировать особую группу из нескольких абсолютно надежных людей, которые под руководством обоих моих друзей будут следить за развитием событий как в Бельгии, так и во Франции и отражать возможные удары врага. Нам стало очевидно, что с провалом на улице Атребатов период безопасности окончился. Отныне немцы будут денно и нощно выслеживать нас всеми имеющимися в их распоряжении средствами…
Лео и Фернан уехали в Брюссель и там взяли все в свои руки. Следовало организовать отъезд Кента в Париж, отправить Шпрингера в Лион и дать инструкции Избуцкому, Райхману и Венцелю. Венцель тотчас же сменил квартиру, по возможности запутал следы, изменив свои привычки и прекратив всякий обмен с Центром на два месяца.
Но больше всего тревожила судьба наших товарищей, содержавшихся в брюссельской тюрьме Сен-Жиль. Лео и Фернан вошли в контакт с надзирателями, участниками движения Сопротивления, и те информировали их о дорогих нам узниках. Выяснилось, что немцы так и не узнали их настоящих имен, что Аламо сидел именно под этой фамилией, Ками — под своим псевдонимом Дэме (Desmet), а Софи Познанска зарегистрирована как Верлинден.
Так обстояли дела в декабре, после их ареста. Но вот в начале апреля 1942 года наши информаторы сообщают, что немцы уже знают настоящее имя Софи и что Ками-Дэме превратился в Антона Данилова.
Что же произошло?
Софи Познанска назвала свои настоящие имя и фамилию, и ничего страшного в этом нет. Осаждаемая немцами, которые забрасывают ее бесконечными вопросами, Софи старается внушить им — разумеется, только для отвода глаз! — что она-де полна «доброй воли и честных намерений». В течение всей ее боевой жизни она фигурировала под каким-то заимствованным именем, неизвестным даже нам, и поэтому в данном случае, назвав себя правильно, она ничем не рисковала. Далее — и этого мы тогда не могли знать — она нарочно утаила от немцев, что родилась в польском городке Калиш, чтобы не навлечь на свою семью возможные репрессии.
Иное дело Ками — за двадцать лет подполья он сталкивался с немалым количеством соратников по борьбе и, естественно, не желает навлечь на кого-то из них неприятности. Вот почему этот еврей, не являясь подданным какого-либо государства, в ходе одного допроса «с пристрастием» говорит, что он якобы Антон Данилов — лейтенант Советской Армии… Он достаточно хорошо владеет русским, чтобы эта версия могла показаться достоверной. Он заявляет, что в 1941 году был командирован в советское посольство в Виши, где оставался до самого начала войны. Затем, добавляет он, его послали в Брюссель в помощь Аламо. Он утверждает, что не знает никого, кроме тех, кого арестовали вместе с ним. Немцы принимают эту побасенку за чистую монету. Даже через несколько месяцев после его задержания они вполне уважительно отзываются об этом «советском офицере Данилове» (назвать себя в этой обстановке офицером противника — хитрейший ход).
Гестаповцы подчеркивают, что арестованный держится очень мужественно и… не хочет ничего говорить.
После эпизода на улице Атребатов наступает некоторое затишье. Рита Арну дала капитану Пипе два адреса. Один из них — адрес активного борца движения Сопротивления по имени Доу, другой — Шпрингера.
16 декабря, через три дня после обыска на улице Атребатов, в меховой магазин Доу на улице Руаяль входит человек странного вида. Говорит, что послан сюда Большим Шефом и желает повидаться со Шпрингером. Доу, учуяв неладное, просит посетителя зайти еще раз через сорок восемь часов и немедленно сообщает о пришельце Шпрингеру, который со своей стороны, предчувствуя провокацию, советует соблюдать максимальную осторожность.
По истечении двух суток незнакомец заявляется снова. Доу приглашает его пройти в комнату, смежную с торговым помещением. За стеной притаился один из друзей Доу, готовый вмешаться в любой момент. Шпик достает из кармана револьвер и кладет его около себя. Доу не теряет самообладания и говорит, что ему не удалось свидеться со Шпрингером. Несколько дней спустя он случайно замечает и узнает этого типа в машине, остановившейся рядом, и решает, что это, видимо, гестаповец. Доу едва успевает улизнуть.
Рита Арну выдала еще один адрес, который тоже мог бы помочь немцам выйти на Шпрингера, а следовательно, оказаться в самом сердце нашей сети. Это адрес Ивонны Кюнстлунгер, его кузины. Она связная между ним и улицей Атребатов. Теперь ищейки из гестапо действуют более искусно: несколько раз посылают к Ивонне плохо замаскированных провокаторов, однако не запугивают ее, не арестовывают, а только пристально следят за ней в надежде, что она невольно сама приведет их к Шпрингеру. Но и эта попытка остается безуспешной…
Из тюрьмы Сен-Жиль приходят тревожные вести про Аламо. Надзиратели сообщают необычную подробность. Оказывается, его возили в Берлин, а затем через некоторое время вернули обратно, но уже под именем Михаила Макарова.
Его настоящее имя не знал даже я, оно для меня — открытие, хотя, между прочим, открытие вполне нормальное, ибо по мотивам безопасности всегда действует такое правило: никому не следует знать истинных имен и фамилий своих коллег. Но все-таки, на всякий случай, я решаю уточнить эту деталь и посылаю запрос в Центр. Мне отвечают — все правильно. Тогда я направляю Директору другую радиограмму и в ней информирую о грозящей нам опасности.
Абвер возобновляет усиленное преследование наших людей, но поначалу идет по ложному следу. Выясняя личность Аламо, офицеры абвера едва не проморгали главное. Примерно в то же время, когда капитан Пипе запеленговал нашу рацию на улице Атребатов, в Северной Франции арестовали группу участников Сопротивления, включая бывшую техническую секретаршу Андре Марта, который в годы гражданской войны в Испании занимал пост одного из секретарей ЦК ФКП. Абвер убежден, что эта группа французов и брюссельские «музыканты» из «Красного оркестра» принадлежат к одной и той же сети бывших бойцов Интернациональных бригад в Испании. Напоминаю читателю, что Аламо тоже сражался там. Свои соображения по этому поводу Пипе посылает в Берлин и предлагает отправить арестованных в концентрационный лагерь. Тут в дело вмешивается Гиринг, с которым в дальнейшем повстречаюсь и я.
Карл Гиринг имеет титул криминальрата — советника уголовной полиции. К нему-то и попадает донесение капитана Пипе. Гиринг не верит, что былая принадлежность к Интербригадам может служить доказательством контактов между нашими агентами и бойцами Сопротивления в Северной Франции. Однако он вспоминает, что в связи с разгромом одной сети в Чехословакии, где он исполнял свои «функции», агенты противника назвали какого-то советского офицера-летчика, некогда принадлежавшего к Интербригадам.
Словесный портрет этого пилота, запомнившийся Гирингу, не дает ему покоя. Он сопоставляет это описание с данными об Аламо в донесении Пипе. И наконец, чтобы выяснить этот вопрос, Гиринг садится в самолет и лично привозит Аламо в Берлин, но не отправляет его в тюрьму, а поселяет на две недели в своем доме. Опытный полицейский чиновник, годами боровшийся против коммунизма, Гиринг постепенно обрел определенный психологический нюх. Его сын был летчиком «люфтваффе» и лишился руки. Встретившись с Аламо, тот легко находит с ним общие темы. Покуда они ведут разговоры, Гиринг-отец посещает и допрашивает арестованных агентов чехословацкой сети, стремясь выяснить, знаком ли им Аламо и не служил ли он, так же как и они, в рядах Интербригад. Показывает им фотографию. Их ответы однозначны: да, это действительно он, их бывший товарищ по разведшколе в Москве… Игра проиграна…
Гиринг добился важного успеха. Он возвращает Аламо обратно в тюрьму Сен-Жиль, где мы с помощью надзирателей находим его, как уже сказано, под фамилией Макаров. Теперь у заплечных дел мастеров есть доказательство участия и роли Аламо в подпольной борьбе. Из этого они заключают, что Софи Познанска и Ками работали с ним. Но им хочется узнать побольше. Они уверены — многое им еще неизвестно. Начинаются пытки…
В начале лета Аламо и Ками переводятся в форт Бреендонк, где непрерывно подвергаются изуверским пыткам. С несгибаемым мужеством оба упорно молчат, не выдают ни одного имени. По их показаниям не арестовывают никого. Для ищеек абвера следы «Красного оркестра» обрываются в форте Бреендонк.
12. ОШИБКИ ЦЕНТРА
Таким образом, наша бельгийская группа словно бы «улетучилась»…
Следуя в Марсель, Кент остановился в Париже. Его супруга, Маргарет Барча, на которой он женился в июне, должна была последовать за ним через несколько дней. Но, не желая расставаться, он сразу взял ее с собой. Следовало во что бы то ни стало обеспечить безопасность Кента. После его многочисленных поездок в Германию, Чехословакию70 и Швейцарию он знал так много, что мы уже никак не могли хоть на секунду подвергать его угрозе ареста.
Я встретился с ним в Париже, и мне показалось, что он совершенно подавлен, сломлен морально. После года напряженной работы последовал разгром бельгийской группы, которой он руководил. Со слезами на глазах он сказал мне:
— Твое решение послать меня в Марсель правильно, но я уверен — в Москве этого не поймут. Я советский офицер, и, когда я вернусь в Советский Союз, меня заставят расплатиться за провал на улице Атребатов.
Поскольку Шпрингер и его жена предполагали создать собственную сеть в Лионе, я решился распределить уцелевший остаток бельгийской группы по разным местам. Самым способным товарищам, а именно Избуцкому, Сесе и Райхману, намечалось выделить отдельную рацию и предложить поддерживать связь непосредственно с Центром. В руководстве фирмой «Симэкско» Кента мы решили заменить Назареном Драйи.
Ответ Москвы на мои предложения не только изумил меня, но и крайне разволновал: мне предписывалось встретиться с капитаном Советской Армии Ефремовым (Бордо) и передать ему остатки бельгийской группы Кента, а также Венцеля и всю его сеть.
Я не знал, кто такой Ефремов. Впервые встретился с ним в 1942 году в Брюсселе. Он произвел на меня неблагоприятное впечатление. В Бельгии Ефремов жил с 1939 года и до 1942 года ограничивался заботами о маскировке собственного подпольного положения. Химик по образованию, он выдавал себя за финского студента и поступил в Политехническое училище (Эколь политекник). Итоги его разведывательной деятельности весьма незначительны. Ценность информации, передаваемой им по своей рации, равна нулю: чисто любительская работа, я бы даже сказал — карикатура на разведку, какая-то мешанина из сплетен и ложных сведений, подбираемых по ночам в злачных местах, где кутит германская военщина. Опираясь на какие-то крохи информации, он делает крупные «обобщения», давая полную волю фантазии. Бюрократам из Центра было все это неважно: испытанному практику разведки Венцелю, прошедшему сквозь* огонь, воду и медные трубы в условиях подполья, они предпочитают какого-то капитана, у которого за плечами всего лишь трехмесячный курс подготовки в разведшколе71.
Сдерживая свое беспокойство и гнев и указав Центру на ответственность, которую он на себя берет, я передал Ефремову всю имевшуюся в моем распоряжении информацию. Ветераны нашего дела — Венцель, Избуцкий и Райхман — сильно расстроились по этому поводу. «Подчиняться такому дураку! Да ведь из-за него мы все погорим!» — воскликнул Райхман, узнав эту новость. Мне пришлось их уговорить — каждого в отдельности — смириться с этим решением по соображениям дисциплины. Но чтобы Центр знал точно, каково мое мнение, я в апреле отправил в Москву докладную, в которой беспощадно раскритиковал полученные нами указания. Через два месяца из Москвы пришел ответ. В нем говорилось, что, пересмотрев вопрос «заново, руководство присоединяется к моей точке зрения и просит меня расформировать остатки бельгийской группы.
Слишком поздно! В июле 1942 года Ефремова арестовывают… Не имея опыта, он, словно слепой, попадается в расставленную ловушку. В апреле, когда я приехал в Брюссель для разговора с Ефремовым, Райхман рассказал мне о случайной встрече с бельгийским полицейским инспектором Матье, который в 1940 году вел следствие по его делу о подделке документов. Матье доверительно сообщил Райхману, что якобы участвует в движении Сопротивления, и, полагая, что Райхман работает для какой-то подпольной сети, предложил свои услуги. В частности, предложил свои услуги в снабжении подпольщиков подлинными удостоверениями личности.
Этот Матье не внушал мне никакого доверия, и я приказал Райхману прервать с ним всякие отношения. Ефремов же считал вполне естественным, что ему приносят новенькие удостоверения личности, так сказать, на серебряном блюдечке. В мое отсутствие он нарушил инструкции, и когда Матье предложил ему спрятать в квартире радиопередатчик, Ефремов с готовностью согласился и тут же, в избытке доверчивости, вручил инспектору свою фотографию, попросив изготовить для себя удостоверение личности. Оба договариваются о встрече близ Обсерватории, но Матье прибывает туда не один: вместе с ним в черных «ситроенах» приехали мужчины в макинтошах…
Избуцкий очертя голову мчится в Париж, торопится рассказать нам об аресте Ефремова. Лео Гроссфогель едет в Брюссель, чтобы следить на месте за развитием событий… Трое суток спустя Ефремов, свободный, как птица в полете, появляется снова, но уже в сопровождении какого-то «друга»… Своей консьержке он говорит, будто бельгийская полиция вызывала его для проверки личности и что теперь-де все уладилось.
И в самом деле — все «уладилось»… В последующие дни немцы забирают Сесе, Избуцкого и Мориса Пеппера (последний осуществлял связь с Голландией). 17 августа Пеппер под пыткой признает свои контакты с начальником голландской группы Винтеринком, которого, равно как и супругов Хильболлинг, немедленно арестовывают. Вне поля зрения немцев остаются девять членов этой группы и два тайных радиопередатчика. Ефремов также выдал еще неизвестные гестапо общие сведения о фирмах «Симэкс» и «Симэкско», не вдаваясь в подробности, которые он, впрочем, и не знал. Но с этого дня вся деятельность обеих фирм ставится под тайное наблюдение.
Когда капитану Пипе сообщают адрес «Симэкско», он делает большие глаза. Да и не разыгрывают ли его? Да ведь в этом же самом здании он сам снял рабочие помещения! А когда Ефремов описывает ему Большого Шефа («Le Grande Chef»), он хлопает себя по лбу:
— Господи, да я же встретил его на лестнице и даже приветствовал его, снял перед ним шляпу!
Ефремова не пытают, он и без того говорит. Гестаповцы ловко играют на его националистических чувствах и задевают старую-престарую струну — антисемитизм.
— Как это ты, украинец, и вдруг работаешь под началом еврея! Они грозят ему репрессиями по отношению к его семье, потому устраивают ему «туристскую» поездку в Германию, чтобы он воочию убедился в достижениях великого рейха…
Короче, Ефремов полностью «раскололся». По его милости арестовано более тридцати людей, целые семейства. По численности это вдвое больше бельгийской группы.
В конце августа Ефремов встречает Жермену Шнайдер, работавшую с Венцелем, и раскрывает перед ней всю подноготную своей игры. Рассказывает, что был арестован, что немцы знают абсолютно все, и поэтому он решил спасать свою шкуру. Он предлагает Жермене работать с ним. Он объясняет ей:
— Ты пойми — Отто всегда выпутается, а расхлебывать все придется нам. Значит, лучшее для нас — это перейти к немцам и спасти то, что можно спасти…
Жермена просит дать ей подумать до завтра и спешит в Париж — известить меня. Я сразу же командирую ее в Лион. Обнаружив ее исчезновение, немцы арестовывают ее мужа, Франца Шнайдера, и двух сестер Жермены.
Шнайдеры, швейцарцы по национальности, более двадцати лет работали в Коминтерне. Выполняя функции связных, курьеров и «почтовых ящиков», Франц и Жермена Шнайдер были знакомы со множеством европейских коммунистов. До войны их дом в Брюсселе служил тайной квартирой и «перевалочным пунктом» для проезжавших через Бельгию крупных партийных руководителей. Здесь останавливались Морис Торез и Жак Дюкло. Оба они были тесно связаны с коминтерновскими «старичками», в частности с Гарри Робинсоном и его бывшей женой Кларой Шаббель, исполнявшей функции курьера между Берлином и Венцелем.
Франц Шнайдер не числился в активе «Красного оркестра», но благодаря своим давним контактам был в курсе множества важных дел. Не выдержав пыток, он выдал Гриотто — радиста Робинсона.
С этого дня Робинсон живет в режиме так называемой «охраняемой свободы».
Без промедлений я извещаю обо всем Центр, но получаю от него прямо-таки ошеломляющий ответ: «Отто, вы абсолютно ошибаетесь. Мы знаем, что Ефремов был арестован бельгийской полицией для проверки документов, но все прошло хорошо. Между прочим, Ефремов продолжает посылать нам очень важные материалы, которые, после самой строгой проверки, оказались первоклассными».
В Центре даже не задумались, почему это Ефремов внезапно совершает столько геройских подвигов! Вот тут-то и пошла дезинформация… Мой Директор, вероятно, считал, что список арестованных лиц неполон. В начале сентября он попросил меня съездить в Брюссель и переговорить с Ефремовым… Наша группа наблюдения, высланная на место встречи, констатировала: во всех близрасположенных кафе торчат посетители, которых происходящее на улице занимает куда больше, чем содержимое их рюмок. Кроме того, во всех направлениях, удаляясь и возвращаясь, кружились в своеобразном и тревожном «танце» черные, переднеприводные «ситроены».
В это самое время Венцель, выказывая недюжинную храбрость, поглядывая на лежащий наготове револьвер и на особое химическое соединение, способное в считанные секунды уничтожить сразу все донесения, продолжал передавать шифрованный текст. Обнаруженный службой радиопеленгации, его дом оказывается глубокой ночью в окружении. Венцель бежит по крышам, отстреливаясь от преследователей. Сотни людей, разбуженные стрельбой, глядят вслед силуэту беглеца. Он исчезает в соседнем здании. Наконец немцы находят его в подвале… Знаю, что в германских архивах Венцель будет представлен как предатель, якобы согласившийся сотрудничать с врагом. Но это грубейшая клевета, рассчитанная на дискредитацию старого, заслуженного коммуниста, друга Эрнста Тельмана! Что же до подлинных фактов, то, как мы увидим дальше, они были совсем иными.
В последние дни января 1942 года наша группа наблюдения устанавливает, что слежка за виллой на улице Атребатов прекращена. Я немедленно отряжаю туда двух товарищей, снабженных документами гестапо. Им поручается принести книги, оставшиеся, как я надеюсь, в комнате Софи Познанской. Эти книги представляют для нас особый интерес: ключ для зашифровки донесений основан на тексте одного из этих изданий.
Знает об этом и доктор Фаук, начальник немецкой службы расшифровки. Он обращается в брюссельскую штаб-квартиру гестапо и просит передать ему указанные книги, конфискованные, как он и полагает, при обыске. Гестапо отвечает, что данными книгами оно не занималось, больше того — у нее их вообще нет. Тогда Фаук, не желая так быстро сдаться, распоряжается еще раз допросить Риту Арну, и та действительно вспоминает пять названий книг, лежавших на столе в комнате Софи.
При поиске «ключевой» книги у доктора Фаука есть только одна зацепка — слово «Проктор», которое ему удалось расшифровать в итоге крайне сложных расчетов и тщательного исследования наполовину сгоревшего листка с донесением. В первых четырех книгах слово «Проктор» не встречается. Пятая книга под названием «Тайна профессора Вольмана» куда-то запропастилась, и найти ее невозможно… После долгих хождений по букинистам капитан Карл фон Ведель 17 мая 1942 года наконец-то находит экземпляр этого произведения. И тогда доктор Фаук приступает к прочтению ста двадцати радиограмм, зашифрованных этим кодом, то ест всего, что германским радиостанциям подслушивания удалось перехватить с июня 1941 года.
14 июля 1942 года шифровальщики, действующие под началом Фаука, выявили открытый текст следующей шифровки: «KLS из R. Т. X. 1010. — 1725.99 wds. gbt. от ДИРЕКТОРА КЕНТУ. ЛИЧНО.
Немедленно отправляйтесь Берлин трем указанным адресам и выясните причины перебоев радиосвязи. Если перебои возобновятся, займитесь радиопередачами лично. Работа трех берлинских групп и передача сведений имеют огромное значение. Адреса: Нойвестенд, Альтенбургер аллее 19, четвертый этаж справа, Коро. — Шарлоттенбург, Фредерицияштрассе 26-а, третий этаж слева, Вольф. — Фриденау, Кайзерштрассе 18, пятый этаж слева, Бауэр. Здесь напомните «Уленшпигеля». Пропуск: «Директор». Ждем сообщения до 20 октября. Новый план (повторяем новый) касается всех трех станций gbt аг KLS из R. Т. X.»
Сколь бы неправдоподобным это ни показалось, но мой Директор действительно передал по радио адреса трех ответственных руководителей берлинской группы, а именно Шульце-Бойзена, Ар-вида Харнака и Кукхофа! Признаюсь, эта неосторожность просто очень напугала меня… Я знал: неуязвимых шифров не бывает, как бы искусно они не были составлены. Если немцам удастся подобрать ключ к нашему шифру, думал я, то они запросто прочитают эти адреса! 14 июля 1942 года то, чего я опасался больше всего, стало свершившимся фактом.
Гестаповцы не торопятся использовать этот поистине роскошный подарок. Отнюдь. Не спеша, они расставляют мышеловки, устанавливают слежку за кем надо, налаживают регулярное подслушивание телефонных разговоров.
А тут грянула новая беда: один из агентов берлинской сети, Хорст Хайльман, хотя он и работает в аппарате доктора Фаука, узнает об этой действительно решающей по своему значению радиограмме с адресами только 29 августа — без малого через полтора месяца после ее расшифровки. Не теряя ни минуты, он звонит Шульце-Бойзену, но того нет в Берлине. Тогда он оставляет у него дома записку с просьбой срочно позвонить ему, Хайльману. Рано утром 30 августа Шульце-Бойзен звонит, но трубку снимает сам Фаук, случайно оказавшийся в кабинете Хайльмана.
Из трубки слышится:
— У телефона Щульце-Бойзен…
Фауку сначала кажется, что тут какая-то провокация, но для порядка он, не мешкая, информирует гестапо. Шульце-Бойзена арестовывают в тот же день. Начиная с 30 августа в течение трех-четырех недель в тюрьме оказываются шестьдесят членов берлинской группы. К концу октября число арестованных достигает стал тридцати с лишним. В начале 1943 года в застенки гестапо брошено уже сто пятьдесят человек. Многие из них не имеют никакого отношения к «Красному оркестру».
После провала на улице Атребатов список арестованных продолжает пополняться новыми и новыми именами.
13. ЗОНДЕРКОМАНДА ИДЕТ ПО НАШИМ СЛЕДАМ
Операция против группы на улице Атребатов проводилась абвером. Чтобы сделать борьбу против «Красного оркестра» во Франции и в Бельгии более эффективной, в июле 1942 года создается специальное подразделение — «Зондеркомандо Роте Капелле», которую возглавляет Карл Гиринг, отличившийся своим тонким нюхом при выслеживании Аламо. Он командует группой отборных эсэсовцев, специально натасканных для тайной войны. Во главе парижской группы — Генрих Райзер. Мюллер — начальник гестапо — осуществляет общее руководство операциями, а окончательная ответственность за них возложена лично на Гиммлера и Бормана.
В начале октября 1942 года зондеркоманда прибывает в Париж и размещается на пятом этаже одного из домов на улице де Соссэ — в бывшей штаб-квартире французской «Сюртэ Женераль».
Начинается борьба с французской группой «Красного оркестра»… Эта группа уже потерпела одно поражение, но Гиринг не знает о нем. 9 июня 1942 года на одной из вилл города Мезон-Лафит супруги-радисты Мира и Герш Сокол, едва закончив очередную передачу, были застигнуты врасплох. Их арест произошел совершенно случайно: во время злополучного радиосеанса машина, оснащенная пеленгатором и приемно-передаточным разговорным устройством, патрулируя одно из западных предместий Парижа, засекла рацию супругов, быстро уточнила ее местоположение, и немцы ворвались в дом-Гестапо не сразу догадалось о принадлежности этой рации к «Красному оркестру». Самодельную аппаратуру смастерил Фернан Пориоль. Ее мощности не хватило для прямых передач на Москву. Поэтому донесения радировались в Лондон и уж оттуда передавались в Москву. Из этого немцы заключили, что Сокол и его жена работают на англичан.
Об аресте обоих супругов нам сообщил немедленно Фернан Пориоль, следивший за их передачами по другому аппарату, сразу заметивший внезапное прекращение сигналов. Я тут же послал в Мезон-Лафит человека, который подтвердил факт ареста. Тогдамы убрали из их парижской квартиры все лишнее, и явившиеся туда гестаповцы ни к чему не могли придраться. Еще в день ареста Миры и Герша Сокол я командировал шифровальщицу Веру Аккерман в Марсель и предостерег об опасности Спааков, близких друзей арестованных. Супруги Сокол, несмотря на жуткие пытки, вели себя как истинные герои, не выдали ни одного имени.
Гиринг ничего не знал о роли этой семейной пары в делах «Красного оркестра», однако расшифровка радиограмм, произведенная слугой доктора Фаука в Берлине, и признания нескольких коммунистов, арестованных в Бельгии, дали ему обильную дополнительную информацию. Зверски истязуемый Райхман «раскололся» узнав о предательстве Ефремова, и вместе со своей возлюбленной Мальвиной Грубер переметнулся на сторону гестапо. Благодари им обоим у Гиринга сложилось достаточно ясное представление о нашей французской группе. Перво-наперво он попробовал завлечь меня в западню. Мадам Лихониной, представительнице фирмы «Симэкс» при «организации Тодта», было решено предложить чрезвычайно соблазнительное дельце с промышленными алмазами, но при условии, чтобы в переговорах участвовал лично месье Жильбер.
Вскоре назначается первая встреча в Брюсселе.На ней агенты зондеркоманды довольно глупо объявляют Лихониной, что я «советский агент». Но тут они явно недооценили такой фактор, как русский патриотизм…
Когда я встретился с ней, она мне тотчас же заявила:
— Да, я убежденная антикоммунистка. Но я прежде всего русская и не желаю выдавать вас гестапо!
Я ее успокаиваю и советую сказать немцам, что из-за «внезапного недомогания» я не смогу явиться на следующую встречу.
После этой неудачи Гиринг натравливает на меня Райхмана. Тот шныряет по каким-то адресам и почтовым ящикам, которые узнал во время краткого пребывания в Париже после дела на улице Атребатов но повсюду, как говорят, «тянет пустышку» — все двери перед ним закрыты. Зондеркоманда топчется на месте. Гирингу известно что нервный центр «Красного оркестра» находится в Париже. Ему уже удалось посадить за решетку немало наших активистов, и все-таки дело у него не сдвигается с мертвой точки.
От Мальвины Грубер, сопровождавшей Маргарет Барчу в Марсель, Гиринг узнает, что Маргарет и Кент находятся там. Он посылает своих людей в этот город, и 12 ноября 1942 года парочка Кент — барча — в его руках72.
Надо сказать, что Кент вполне мог бы улизнуть у немцев из-под носа. Еще в августе я дал ему указание выехать в Алжир, но он не последовал ему. А ведь для него именно это и было бы самым простым и легким выходом из положения: Жюль Жаспар, директор марсельского филиала «Симэкс» — близкий друг генерала Катру, губернатора Алжира. Но деморализованный Кент неспособен ни рассуждать, ни действовать. Он чувствует приближение опасности: оккупация свободной зоны — теперь уже вопрос нескольких недель…
— Не могу я уехать в Алжир, — говорит он мне. — Оттуда меня отзовут в Москву, и там заставят расплатиться за разгром бельгийской группы.
— В таком случае что же ты собираешься делать?
— Если меня арестуют, буду подыгрывать немцам, постараюсь узнать их цели…
— Этого делать никак нельзя! Прежде чем затевать подобную игру, надо известить Центр. Но этого ты не сможешь сделать, более того — немцы вытянутиз тебя шифр, и уж если кто кого и обыграет, то не тыих, а они тебя…
Я знаю, что не убедил его. В ответ на мое предложение укрыться в Швейцарии он мне говорит, что его подруга, с которой он ни за что не хочет расстаться, ожидает получения паспорта. И назавтра же после оккупации Южной зоны ловушка захлопывается. Зондеркоманда не теряла времени!..
На первом же допросе Кент заговорил. Гестаповцам было достаточно пригрозить ему разлукой с Маргарет. Кент знает, какое место в нашей сети занимают фирмы «Симэкс» и «Симэкско», знает, как важна роль Альфреда Корбена.
17 ноября встречаюсь с Корбеном:
— Вам грозит опасность, Альфред, надо уезжать, — говорю я ему.
— Почему вы так думаете? Единственный, кто мог бы меня скомпрометировать, это Кент. Но он советский офицер, а советские офицеры не предают, разве я не прав?
— Альфред, вы великий реалист в делах, но в остальном видите слишком многое с позиций идеалиста. Вы не знаете, на что способно гестапо. Поскорее убирайтесь! В Швейцарию! С семьей!
— Немыслимо! Моя жена не знает ничего о моей деятельности и ни за что не расстанется со своей квартирой!
19 ноября 1942 года люди из зондеркоманды прибыли в контору фирмы «Симэкс» и арестовали ее главных руководителей — Альфреда Корбена, Сюзанну Куант, Владимира Келлера, мадам Миньон…
Лео Гроссфогель, Гилель Кац и я переезжаем в парижское предместье Антоии и прячемся там на одной вилле, адрес которой известен только нам. Поспешно подводим итоги и видим, что они отнюдь не блестящи (за Брюсселем, Амстердамом, Берлином, Марселем на очереди Париж…). Единодушно принимается решение поставить во главу угла вопросы безопасности: те из пятидесяти членов французской группы «Красного оркестра», кто еще на свободе, получают наши инструкции. С Мишелем, представителем ФКП, устанавливается новый код для назначения встреч. Лео Гроссфогель принимает такую же меру перестраховки в отношении Фернана Пориоля.
Но наши действия влекут за собой еще более тяжкое последствие: ЦЕНТР ЯВНО УТРАТИЛ К НАМ ДОВЕРИЕ. Мы в этом убеждаемся вот почему: на все наши донесения об арестах он нам отвечает: «…Вы ошибаетесь, передачи продолжаются, и мы получаем замечательный материал…»
Центр прав — передачи и в самом деле продолжаются: Фернан Пориоль перехватывает донесения, посылаемые рацией Ефремова, а также из Голландии, из Берлина. Если передавать открытым текстом, то это означает, что зондеркоманда не хочет извещать Центр про аресты и поэтому создает видимость продолжения деятельности «Красного оркестра». С какой целью? Этого мы пока еще не можем объяснить… Кого-то из арестованных радистов заставляют передавать ложную информацию для обмана противника. Такое вполне возможно и диктуется самой логикой тайной войны. Но казалось немыслимым, чтобы рации, захваченные немцами, передавали Москве первоклассный материал и, таким образом, точно информировали ее.
Эта абсолютно новая тактика, возможно, применялась для маскировки какого-то весьма крупномасштабного маневра, смысл которого мы пока что разгадать не могли. Поэтому надо было как-то разобраться, какие же побудительные причины могут здесь действовать, и любой ценой, каковы бы ни были обстоятельства, сорвать замысел врага. Допуская возможность нашего ареста, мы заранее готовились создать видимость сотрудничества, чтобы поглубже внедриться в среду противника.
Надо было попробовать точно доложить нашему Директору ход событий. 22 ноября 1942 года я послал ему радиограмму с подробностями и одновременно написал обо всем Жаку Дюкло, чтобы и он был в курсе. После этого мы сочли нужным исчезнуть на время. Вот именно исчезнуть — точнее не скажешь. В городке Руайя, близ Клермон-Феррана, я подготовил свое собственное погребение. Свидетельство о смерти и надгробная доска заготовлены заблаговременно. Через несколько дней Жан Жильбер умрет… Было предусмотрено, что я покину Париж 27 ноября, Кац через три-четыре дня последует за мной. Лео, как только получит свое новое удостоверение личности, отправится на Юг Франции и скроется там.
До отъезда я звоню доктору Мальпляту, хирургу-дантисту, который должен поставить мне две коронки. Я прошу его принять меня раньше назначенного срока. Как раз 24 ноября у него остается немного свободного времени, и он предлагает мне прийти в четырнадцать часов.
14. «ИТАК, МЕСЬЕ ОТТО…»
24 ноября… Встаю довольно рано. Не торопясь, умываюсь, одеваюсь. Вспоминаю недавние события и прикидываю, сколько новых трудностей скопилось на нашем пути. Нужна предельная осторожность. Чем больше размышляю, тем больше убеждаюсь в разумности и необходимости нашего решения рассеяться на какое-то время и как бы исчезнуть.
Завтракаю с Кацем, Почти не разговариваем. Ситуация не побуждает ни к пространным разговорам, ни тем более к излияниям чувств. Мы условились встретиться около шестнадцати часов, после моего визита к дантисту. Затем я пойду к Джорджи де Винтер, чтобы проститься с ней. Наконец, вечером состоится моя последняя встреча с Лео. Ночью сяду в поезд на Руайя.
В сопровождении Каца я иду к доктору Мальпляту, в его стоматологический кабинет на улице Риволи, но вскоре Кац отстает и следует за мною в нескольких десятках метров — такой метод пешего передвижения мы разработали с учетом риска ареста. Ровно в четырнадцать часов подхожу к нужному мне дому. Быстро смотрю по сторонам: можно идти — не видно ни подозрительных людей, ни стоящих автомобилей. Поднимаюсь по лестнице, звоню, и сам доктор открывает мне. Это меня удивляет: обычно дверь открывает его помощник. И еще одна странная подробность — приемная пуста. Ни одного ожидающего, а так в ней всегда полно пациентов. Доктор Мальплят лично сопровождает меня в свой зубоврачебный кабинет. Я смотрю на него. Он бледен и, кажется, растерян, его руки дрожат…
Я спрашиваю:
— Что с вами? Плохо себя чувствуете?
Он неразборчиво произносит несколько слов, затем подталкивает меня к креслу. Я усаживаюсь, по его просьбе откидываю голову на подголовник. Он берет в руки какой-то инструмент, подносит его к моим губам, и в это мгновение я слышу позади шум. Слишком поздно! По всем этим необычным подробностям я, конечно, просто обязан был почуять неладное и смыться. Но теперь уже слишком поздно…
— Hande hoch, — рявкает кто-то над моей головой. С момента моего входа в кабинет не прошло и минуты. Пообе стороны от меня стоят два парня с пистолетами в руках… Они так же бледны, как и дантист, тоже дрожат, тоже выглядят неуверенными в себе… В общем — та еще сценка!
После немногих секунд волнения (не скажу, что я волновался больше, чем они) хладнокровие возвращается ко мне, кровь снова приливает к лицу. Медленно поднимаю руки.
— Я не вооружен, — спокойно произношу я.
Это их, видимо, успокаивает… Тут появляется третий парень и быстро становится у окна, вероятно, на случай, если я вздумаю выброситься на мостовую.
Я встаю, меня обыскивают и надевают наручники. В их взглядах я читаю недоуменное удивление. Заговори они в эту минуту, то скорее всего я бы услышал: «Но вы ведь действительно безоружны. Вас даже не сопровождает телохранитель…» Они все еще не могут поверить, что все произошло так быстро и просто.
Доктор Мальплят подходит ко мне. Похоже, он один еще не сумел взять себя в руки. Дрожащим голосом он обращается ко мне:
— Месье Жильбер, уверяю вас — я тут ни при чем!
Он не солгал, о чем я узнаю позже.
Ну а пока что приходится смотреть правде в глаза: я в руках гестапо. Сознавать это очень горестно, но нельзя падать духом. И у меня предчувствие: партия между мною и ими еще не доиграна…
После ареста служащих «Симэкс» гестапо круглосуточно допрашивало их, применяя пытки первой и второй степени. Заключенным задается один-единственный вопрос: «Где Жильбер?» Это знает только Корбен, но он меня не выдает. Нам неизвестно, что в это же время мадам Корбен и ее дочь находятся в своей квартире под присмотром Лафона и его банды — французских подручных гестапо. Полагая, что я еще ничего не знаю про арест Корбена, они поджидают меня в его доме и держат его жену и дочь в качестве заложников.
23 ноября из Брюсселя прибывают Гиринг и капитан Пиле как представитель абвера. Оба очень злятся на Эриха Юнга, одного из членов зондеркоманды, самочинно проявившего инициативу вторжения в контору фирмы «Симэкс». Гиринг предпочел бы — и это вполне понятно — поставить персонал фирмы под контроль и слежку, ибо именно это давало наибольшие шансы выйти на меня.
Вечером Гиринг распоряжается доставить в тюрьму Френ жену, дочь и брата Корбена. Утром 24-го Гиринг лично допрашивает мадам Корбен. Очень спокойно он объявляет ей, что, если в ближайшие часы она не укажет ему мое местонахождение, Альфред Корбен будет расстрелян у нее на глазах, а остальные члены семьи отправятся в концентрационный лагерь. Страшное средство давления! Бедная женщина в отчаянии. Вдруг она вспоминает одну подробность: однажды в начале лета, страдая зубной болью, я попросил ее дать мне адрес какого-нибудь дантиста. «А вы пошли бы к нашему зубнику, к доктору Мальпляту», — посоветовала она…
Эту информацию мадам Корбен дает Гирингу 24 ноября, примерно в одиннадцать часов утра. Я считаю, что, поступив таким образом, она не совершила никакого предательства. Она не могла подозревать, что ставит меня под угрозу, ибо несколькими неделями раньше она меня как-то спросила про мои зубы, а я ей ответил, что лечение окончилось и мне уже незачем посещать доктора Мальплята. То есть она повела себя, как всякий агент-разведчик, знающий свое дело: дать противнику правдивую, но бесполезную информацию и утаить от него то, что существенно…
Во время этого допроса Корбен находится в соседнем помещении. Дверь приоткрыта, и он слышит все. Воображаю, как он обрадовался, когда его жена так ловко кинула кость гестаповским псам…
Гиринг и. Пипе сразу берут след… В одиннадцать тридцать они уже в кабинете дантиста. Доктора Мальплята нет на месте, он в госпитале, говорит им его помощник. Они приказывают ему немедленно позвонить своему шефу и попросить его срочно вернуться к себе. Доктор, обеспокоенный плохим состоянием здоровья своего отца, живущего этажом ниже, не заставляет себя долго упрашивать. Оба гестаповца встречают его и требуют зачитать им список всех пациентов. Он принимается листать блокнот и поименно называет своих больных. Фамилии Жильбер в списке нет. Гиринг начинает проверять этот перечень лично, но вдруг доктор Мальплят вспоминает: пациент, назначенный на четырнадцать часов, отменил свой визит, а вместо него должен явиться месье Жильбер…
Гиринг и Пипе прекрасно понимают, что никогда еще у них не было таких шансов схватить меня. Им хочется действовать возможно быстрей, и они просят Мальплята описать этого пациента. Это бельгийский промышленник, уточняет доктор, который первоначально был назначен на 27-е, но в последнюю минуту попросил принять его раньше. Они ничего не говорят, только перед уходом советуют:
— Не покидайте ваш кабинет… Уже около половины первого Гиринг и Пипе прикидывают, сколько остается времени. Развернуть крупную операцию нельзя — слишком поздно. Поэтому они решают произвести арест собственными силами. В половине второго они возвращаются к доктору Мальпляту и предупреждают его:
— Мы арестуем Жильбера у вас. Ведите себя точно так же, как обычно. Усадите его в кресло и запрокиньте ему голову…
О последующем читатель уже знает… Моя свобода зависела только от этой детали. Жизнь вообще зависит от непредвиденных случайностей, но разведчик должен уметь предвидеть непредсказуемое. Вот о чем я размышляю, когда Гиринг и Пипе ведут меня к машине. Мы трогаемся и после минуты молчания я говорю Гирингу:
— А вам везет. Если бы вы не арестовали меня сегодня, то могли бы безуспешно искать меня до конца войны…
— Я вполне удовлетворен, — радостно отвечает он. — Вот уже два года как мы идем по вашим следам во всех странах, оккупированных Германией…
Машина быстро мчится, и вот мы уже на улице де Соссэ. Они отводят меня на пятый этаж, где размещена канцелярия зондерко-манды. Вскоре начинаются всеобщие «смотрины». Новость быстро разнеслась, и теперь все чины приходят поглазеть на редкого зверя. Какой-то рослый, жирный тип с рожей пьянчуги, посмотрев на меня, восклицает:
— Наконец-то он у нас, этот медведь из СССР!73 Это Бемельбург — начальник парижского гестапо. Гиринг исчез. Через час он возвращается, сияющий и счастливый: ему удалось доложить по телефону самим Гитлеру и Гиммлеру об аресте Большого Шефа. По крайней мере, так он говорит. Затем продолжает:
— Гиммлер очень доволен. Он сказал: «Теперь будьте особенно внимательны. Самое лучшее — связать ему руки и ноги и бросить в яму. А то ведь никогда не знаешь, что может случиться!..»
В конце дня они ведут меня вниз, на улицу, предварительно убедившись, что никто меня не увидит. Нас ожидают машины. Мои руки связаны. Меня сопровождают три гестаповца. Мы пускаемся в путь, одна машина следует впереди моей, другая — позади. После поворота на авеню ле Мэн я понимаю, что мы едем в тюрьму Френ. Подъехав к ней, ждем полчаса — это чтобы очистить тюремные коридоры от всех. Видимо, факт моего задержания решено держать в секрете. Наконец мы идем к особому отсеку, где содержатся мои товарищи по «Красному оркестру». Нигде ни одной души.
Меня вталкивают в камеру. Замок двери защелкивается. Я оглядываюсь. Хорошо знакомая обстановка: столик, матрас, набитый соломой, оконце под потолком.
Пытаюсь подвести какой-то итог. Неотступно сверлит тревожная мысль — что с моими друзьями? Прежде всего мысль о Каце. С ним мы условились на шестнадцать часов. Он должен был подождать, но мы договорились, что если я не появлюсь, то пусть позвонит дантисту. Впоследствии я узнал, что по приказу гестаповцев доктор ответил ему: «Месье Жильбер не приходил…» Плохо придумали — ведь Кац видел, как я вошел в дом доктора Маль-плята. Покуда в ожидании меня он бродил по улице Риволи, гестапо проникло в его квартиру.
А Джорджи?.. Только благодаря какому-то чуду ей удается уйти от людей Гиринга. Около восемнадцати часов, видя, что, вопреки договоренности, меня нет, она решается пойти к Кацу. В парадном консьержка предостерегает ее — в квартире гестапо! Джорджи мгновенно скрывается…
Весь этот день 24 ноября я торчу в камере. Уходит час за часом, но обо мне словно совсем забыли. Странная ситуация. Обычно (а мне тюремный «ритуал» достаточно хорошо знаком), когда попадаешь в места подобного рода, нужно выполнить некоторые формальности, сообщить фамилию, имя. Кроме того, тебя обыскивают, заставляют раздеться…
В голове роятся мрачные мысли. «А что если Гирингу уже удалось заручиться доверием московского Центра? Тогда я ему больше не нужен… Больше того, если „оркестр“ противника — так сказать „коричневый оркестр“ — функционирует как следует, то, арестовав меня, они рискуют навредить самим себе. Поэтому гестапо может прикончить месье Жильбера и продолжать дурачить Москву до самого конца войны…»
И все-таки мысль, что я доживаю, быть может, последние мгновения моей жизни, не помешала мне уснуть.
Однако спал я недолго… Дверь резко распахнулась, камера озарилась ярким светом и я услышал громкую команду: «Aufsteheni74 Едем!»
Что ж, едем так едем! И снова пустынные коридоры. У тротуара те же три машины, что и днем. И опять поездка. Через несколько минут наша машина останавливается. Кругом — кромешная тьма. Местонахождение определить невозможно. Мои сопровождающие выходят, мелькают едва различимые тени. Шепотом произносятся непонятные мне слова. И тут мне становится ясно, что путешествие мое подошло к концу. Дверца машины осталась открытой, кругом мрак, может, попробовать убежать. Шансы, конечно, минимальные. Но по крайней мере я заставлю их преследовать меня, стрелять. Я умру, борясь. Эта попытка к бегству будет моим последним рывком, единственным оставшимся мне способом выразить свое «нет»! Я колеблюсь несколько секунд. Слишком поздно! Мои господа конвоиры вновь садятся в машину, кто-то сердито восклицает:
— Первая машина сбилась с дороги! Надо же быть таким идиотом! Тоже мне шофер!
Через двадцать минут мы на улице де Соссэ. Снова меня отводят на пятый этаж. И вдруг неожиданная любезность: с меня снимают наручники. Один из чинов зондеркоманды, словно метрдотель, извиняющийся за нерадивое обслуживание, подходит ко мне и церемонно заявляет:
— Извините нас, что мы не подали вам обед в тюрьме Френ, месье Жильбер, но мы не хотели, чтобы тамошняя администрация узнала о вашем визите.
Об этом я уже и сам подумал…
Меня вводят в просторную комнату, где за столом сидят семь человек. Троих я знаю. Среди четырех остальных, о которых мне сообщают, что они специально приехали из Берлина, я узнаю начальника гестапо Мюллера. Гиринг сидит в середине и как бы председательствует. Мне предлагают сесть за небольшой отдельный столик. Если бы еще традиционный графин с водой и стакан, у меня было бы полное впечатление присутствия в конференц-зале.
— Может, после такого трудного дня вы желаете выпить чашку кофе, — предлагает мне Гиринг.
Я охотно соглашаюсь. Горячий кофе подкрепляет мои силы. Теперь Гиринг поднимается и нарочито громко обращается ко мне по-немецки:
— Итак, господин Отто, в качестве резидента советской разведки в странах, оккупированных Германией, вы сослужили большую службу вашемуДиректору. С этим нельзя не согласиться. Но теперь вам нужно перевернуть страницу. Вы проиграли и, думается, знаете, что вас ожидает. Однако слушайте меня внимательно. Можно умереть, так сказать, двояко: в первом случае вы будете расстреляны как враг третьего рейха, но, кроме того, мы можем сделать и так, чтобы вас расстреляли в Москве как предателя!
— Господин Гиринг…
— Почему вы называете меня «господин Гиринг»? — прерывает он меня. — Вы знаете мое имя?
— А как вы думали? Неужели вы допускаете мысль, что нам неизвестны имена всех членов зондеркоманды или что мы не знаем всего, что происходит у вас? Вам было угодно заметить, что у меня есть некоторая практика в делах разведки. В подтверждение правильности ваших слов я дал вам небольшое доказательство… После небольшой паузы хочу убедиться в эффекте моих слов — я добавляю:
— Итак, господин Гиринг, в какой уже раз вы рассказываете эту историю про «двоякую» смерть?
Коллеги Гиринга дружно рассмеялись. В этой странной конфронтации я, несомненно, выиграл одно очко. Затем продолжаю:
— …Что касается меня, — продолжаю я, — то могу вам ответить. Конечно, я знаю, что меня ждет, и готов к этому. Ну а насчет символического расстрела, на который вы намекаете, скажу вам честно — на него мне наплевать! Что бы вы ни делали, но раньше или позже правду узнают. Для меня имеет значение только моя совесть. Гиринг меняет тему:
— Вы знаете, где находится Кент? Тут настает моя очередь расхохотаться:
— И вы и я хорошо знаем, что 12 ноября он был арестован в Марселе. Мне неизвестно, в какую тюрьму вы его упрятали, но операция, которую Бемельбург провел совместно с французскими полицейскими, хорошо известна всем и каждому.
Они слегка опешили и наперебой спрашивают меня:
— Кто вам сказал?.. Откуда вы знаете?.. Почему вы так говорите?
— Жаль, что вы не читаете французскую прессу, — отвечаю я. — 14 ноября одна марсельская газета сообщила на видном месте крупным шрифтом об аресте группы советских агентов. И, повторяю, эту операцию вы провели при содействии французских полицейских. Но разве вы так уж уверены в их преданности и думаете, что они никому ничего не говорят?
Моя последняя ремарка тщательно продумана. Почему бы не посеять недоверие к их французским пособникам? Вообще говоря, нас пугало сотрудничество ажанов с германской полицией. Во многих случаях гестапо не добилось бы никаких успехов без консультации французской полиции. Картотеки, заведенные еще до войны на левых активистов, особенно на лиц, лишившихся родины, принесли немцам немалую пользу. В первый же день оккупации Парижа, а именно 14 июня 1940 года, зондеркоманда Хельмута Кнохена по прямому приказу Гейдриха потребовала от городского управления полиции выдачи «интересных» досье, в особенности относившихся к политическим беженцам.
Я и не подозревал, что попаду не в бровь, а в глаз, ибо, словно позабыв обо мне, самые высокопоставленные из присутствующих «шишек» набросились на Гиринга, требуя объяснений. Мыслимо ли, чтобы французские или бельгийские вспомогательные силы участвовали в проведении операций по делу, классифицированному в Берлине как «государственная тайна»? Гиринг оправдывается, говорит, что такого рода сотрудничество не входит в его компетенцию. Во всяком случае, я достиг своей цели, ибо начиная с этого дня — о чем я узнаю позже, — всему личному составу зондеркоманды запретят прибегать к услугам французов в делах такого рода.
После этой маленькой «интермедии» Гиринг опять пытается перейти в наступление:
— С декабря 1941 года Москва перестала доверять информации, которую вы ей посылаете…
(Вслед за этой репликой он показывает мне три объемистых досье. На первом крупными буквами написано: «Красный оркестр» — Париж»; на втором: «Красный оркестр» — Брюссель», на третьем: «Дело Большого Шефа». Вот когда я узнаю, что это хвалебное обозначение относится ко мне…)
— В первом досье фигурируют радиограммы, расшифрованные в Берлине в начале 1942 года. Из них видно, что Центр был недоволен мерами, принятыми вами после 13 декабря. Он расценил их как чересчур резкие. (Я прекрасно помню этот обмен радиограммами с Центром. В дальнейшем я оправдал свои решения перед Директором, доказав ему, что опасность была реальной и далеко не преодоленной…)
Но начальнику зондеркоманды хочется «выжать» из этого аргумента максимум возможного:
— Вот радиограмма, переданная в Центр летом 1942 года. В ней вы сообщили об аресте Ефремова. А вот ответ на нее: «От-то, вы абсолютно ошибаетесь. Мы знаем, что Ефремов был арестован бельгийской полицией для проверки документов, но все прошло хорошо». Так что, видите ли, — продолжает Гиринг, — Директор больше не доверяет вам. Впрочем, вы были правы. Не буду скрывать. Ефремов работает на нас. И он отнюдь не единственный в этом смысле. Мы сильнее вас…
— Господин Гиринг, давайте вообразим, что я не арестован, и поговорим просто как два профессионала. Вот что я вам скажу: не будьте слишком уверены в себе, ибо именно в самоуверенности заключается самое большое искушение, подстерегающее специалистов разведки. Вы убеждены, что пользуетесь доверием Директора. В таком случае, уж коль скоро вы начали читать радиограммы, найдите-ка ту из них, в которой Директор просит меня поехать в Брюссель для встречи с Ефремовым. Он назначает дату, час, место… Ведь эту радиограмму вы перехватили, не так ли? А теперь, Гиринг, пожалуйста, проинформируйте сидящих здесь господ: пошел я на это рандеву или нет?
— Вы не пошли на него.
— Как же это возможно в свете строжайшей дисциплины, царящей в разведслужбе? А вот как, объясняю вам: просто я получил другую радиограмму, по другому каналу. В ней мне предписывалось не идти на встречу с Ефремовым. А назначение встречи — хитрый ход Директора: он хотел узнать, действительно ли Ефремов арестован…
Движение среди слушателей… Я продолжаю:
— …Так что, видите ли, нельзя быть уверенным ни в чем… Откуда же вы взяли, что Центр не в курсе ваших задумок?
— Мы знаем, Москва считает, будто Кент на свободе, — отвечает Гиринг.
— Кент перешел на вашу сторону?
— Да.
— Вы уверены?
— Абсолютно, он зашифровывает все радиограммы, которые мы посылаем Центру.
— Это не доказательство!
И снова Гиринг меняет тему разговора:
— Между прочим, Отто, что это за специальная связь с Москвой через руководство коммунистической партии?
— А, вы знаете про этот канал связи? О нем вам рассказал Кент, не правда ли? Но он научил вас, как пользоваться им? Я очень заинтригован — какой ответ даст мне Гиринг?..
— Нет еще, но это не имеет значения… Между прочим, вы знаете группу Шульце-Бойзена?
— Нет, о ней я еще ничего не слышал.
— Это группа коммунистических разведчиков в Берлине. Она полностью ликвидирована, но ее контакты с Москвой продолжаются как ни в чем не бывало…
— А от меня вы, собственно, чего хотите? Я арестован и хотел бы сразу предупредить вас: все, что вы мне тут рассказываете, никак не влияет на меня. Все это я уже давно знаю. Я также знаю, что доверием Москвы вы не пользуетесь. И, между прочим, каждый лишний день, который вы продержите меня здесь, поможет Москве полностью раскрыть вашу игру.
На сей раз Гиринг промолчал. Уже два часа пополуночи. Мои собеседники, видимо, утомлены. Разговор, суть которого я кратко изложил, был долгим и напористым с обеих сторон. Планы противника постепенно раскрываются передо мной. Ясно одно: я имею цело с попыткой завести крупномасштабную фальшивую игру. Я понимаю, что присутствую не при маленькой «радиоигре», которая обычно длится пару-другую недель. Но окончательная цель мне пока еще все-таки непонятна. В чем замысел начавшейся «Grand jeu» («Большой игры»)? Ни Гиринг, ни остальные ничего определенного на этот счет не сказали. Гиринг прерывает «заседание»:
— На сегодня достаточно, — говорит он. — Завтра продолжим. Остаток ночи я провожу в небольшой комнате, вытянувшись на диване. Меня охраняют два унтер-офицера СС. Утром меня никто не навещает. Во второй половине дня появляется Гиринг и объявляет:
— В настоящий момент нас непосредственно интересует лишь одно: ваш арест должен оставаться тайной. Вам может показаться странным, что мы так открыто говорим с вами. Все главные деятели «Красного оркестра» арестованы, часть сотрудничает с нами, другая часть отказывается сотрудничать. Повторяю: вы проиграли… Но есть все же один вопрос, который, несомненно, интересует вас…
То есть чего именно мы хотим добиться? Что ж, месье Отто, сегодня вечером поговорим и об этом.
15. «БОЛЬШАЯ ИГРА»
25 ноября около девяти вечера я вновь предстаю перед моим «ареопагом». Что они припасли для меня? Что намерены со мной сделать? Вчера на все лады обыгрывалась тема: «Вы проиграли». Но если я проиграл, то почему же зондеркоманда, видимо, все-таки добивается моих «услуг»?
Сюрпризы следуют один за другим: так же как и накануне, Гиринг не говорит со мной как с побежденным пленником; нет, лишь слегка изменив интонацию, он не без церемонности, я бы даже сказал, с известной торжественностью заводит речь о высокой политике. Его слова были бы вполне уместны даже на дипломатическом приеме.
— Единственная цель третьего рейха, — начинает он, — состоит в том, чтобы заключить мир с Советским Союзом…
Вот это новость так новость!.. Думаю, он заметил, как я нахмурил брови, но для него это неважно, и он продолжает обрушивать на меня «откровения»:
— …Все более разрастающаяся кровавая битва между вермахтом и Красной Армией может радовать только капиталистов-плутократов. Разве не сам фюрер назвал Черчилля алкоголиком, а Рузвельта — несчастным паралитиком? Но вот какое дело: если в нейтральных странах легко войти в контакт с представителями англо-американцев, то там почти невозможно встретить эмиссаров советского правительства. Эта проблема долго оставалась для нас неразрешимой. Но наконец нам пришла в голову мысль использовать для этого «Красный оркестр». Когда его сеть будет «повернута в обратную сторону», то есть будет действовать под нашим руководством, ее передатчики станут инструментами для достижения этого мира…
В этот момент Гиринг, уверенный в успехе, прерывает свою речь, чтобы подтвердить выдвинутый им «тезис» на примере нескольких радиограмм, переданных немцами в Москву с помощью захваченных передатчиков. Он вполне доволен собой: торжествуя, добавляет, что в Москве никто ни о чем так и не догадался.
С точки зрения Центра «на Западном фронте без перемен», все идет, как прежде, и это вполне понятно, ибо передаваемый нами материал продолжает оставаться первоклассным как с политической, так и с военной точки зрения. Он, Гиринг, не стремится передавать ложную информацию, он хочет сохранить доверие Москвы. И на данном этапе ничего не заставит его изменить тактику.
— Уж так и быть — в течение нескольких месяцев мы будем идти на маленькие жертвы во имя великого дела, и в тот день, когда мы убедимся, что у русских нет ни малейших подозрений относительно их сетей, работающих на Западе, именно в тот день начнется второй этап. Тогда к вашему Директору станет поступать информация решающего значения, исходящая из самых высоких кругов Берлина. Эта информация будет содержать неопровержимые заверения в том, что мы ищем сепаратного мира с Советским Союзом…
Гиринг подходит к концу своего разъяснения: он поворачивается ко мне и выкладывает козыри на стол:
— Я раскрыл перед вами нашу программу только потому, что вы уже не являетесь препятствием на пути к ее реализации. Так что выбирайте: либо вы работаете с нами, либо вы исчезнете…
Так, значит, вот куда он клонил! Вот смысл всей этой подготовленной для меня инсценировки, вот вывод из пространных речей! Нацисты предлагают мне альтернативу: либо работать на них, имея в виду «перемену союзников», и тогда я становлюсь одной из главных фигур на новой шахматной доске, либо смириться с тем, что меня попросту «устранят»…
Какой чудовищный шантаж! По мере того как — шеф зондеркоманды разглагольствует, я лихорадочно, сосредоточенно и быстро оцениваю размах этого маневра, прекрасно вижу расставленный для меня капкан. И я прихожу к первому выводу: не так уж сильно это меня удивляет. Действительно, не удивляет. Мне уже приходило на ум, что немцы не столько старались уничтожать наши рации и физически ликвидировать наших людей, сколько стремились, так сказать, «повернуть их на 180 градусов». В годы второй мировой войны подобная тактика стала нормой, и, как покажет практика, я далеко не единственный, которым пытались манипулировать таким образом. Только Гиринг и его друзья — и это мой второй, отнюдь не менее важный вывод — нахально лгут, утверждая, будто третий рейх желает заключить с Советским Союзом сепаратный мир. В ноябре 1942 года я твердо знаю (впрочем, знаю я это еще с осени 1939 года), что в руководстве партии, равно как и в некоторых высокопоставленных политических и военных нацистских кругах, лелеют надежду на компромисс с Западом и что если и будет какой-то сепаратный мир, то заключат его с «капиталистами-плутократами» — будь они «алкоголиками» или «паралитиками» — и, само собой разумеется, за спинойСССР.
На подобной позиции могли бы стоять, скажем, абвер или адмирал Канарис (кстати, его игра прояснится окончательно только после войны). Но чтобы такая инициатива исходила от шелленбергов, гейдрихов, мюллеров, Гиммлеров, хозяев гестапо! Ну уж нет! Мне хочется крикнуть Гирингу: «Как же вы заставите нас поверить, что готовы замириться с первой социалистической страной?» Для этих фанатиков не могло быть и речи о сепаратном мире, они добивались только одного: подорвать антигитлеровскую коалицию. Вот чему должна была служить эта громоздкая адская машина, к которой меня хотели подключить и в которой таилась главная опасность:
возбудить недоверие, а затем и взаимную враждебность среди союзников, а затем пожинать ее плоды75. Но мы, бойцы «Красного оркестра», всегда считали неизбежной войну между гитлеровской Германией и Советским Союзом; эту нашу точку зрения не поколебал даже пакт о ненападении 1939 года.
Французы, бельгийцы, поляки, итальянцы, испанцы, евреи — все мы были одержимы одной непоколебимой идеей уничтожения нацизма, полного искоренения коричневой чумы. Мы прекрасно понимали, сколь велика опасность сепаратного мира и разрыва между союзниками, что только отсрочило бы ликвидацию (выражаясь медицински, экстирпацию) этой страшной раковой опухоли.
В начале войны нацисты извлекли определенную выгоду из разногласий между Советским Союзом и западными демократиями, и многим народам пришлось расплатиться за это дорогой ценой. В описываемом 1942 году в коалиции обнаружились признаки слабости: Красная Армия была вынуждена отступить на несколько сотен километров, неся значительные потери в живой силе и технике. Это отступление породило на Западе известные подозрения и страхи, долго ли еще Красная Армия сможет выдерживать натиск вермахта?
С другой стороны, англо-американцы без конца и под любыми предлогами откладывали открытие второго фронта, что поддерживало вполне понятные подозрения Москвы. Советские люди спрашивали себя: не мечтают ли наши западные союзники о том, чтобы Красная Армия и вермахт окончательно обескровили друг друга, после чего, мол, они — «западники» — со свежими силами и нетронутыми резервами смогут, ничем не рискуя, вытаскивать каштаны из огня этого гигантского костра?
С тех пор мы, конечно, поняли, что наши опасения были преувеличенными. Теперь мы знаем, что те элементы в германском генштабе или даже в ближайшем окружении Гитлера, которые хотели заключить сепаратный мир с Западом за спиной Советского Союза — хоть с согласия фюрера, хоть вопреки ему, — не пользовались большим влиянием. Кроме того, известно, что в Великобритании и в Соединенных Штатах некоторые политические деятели горячо одобряли план договориться с «Германией, избавившейся от Гитлера». Но вместе с тем мы были убеждены, что, верные своему требованию о «безоговорочной капитуляции», Рузвельт и Черчилль никогда не взвешивали возможность такого решения.
Однако вернемся к моей второй встрече с нацистским «ареопагом»…
Гиринг и остальные не утратили иллюзий, они охотно и подробно излагали задуманные ими планы. Но, обнажая передо мною — их пленником — тайные пружины этой игры, они тем самым показывали мне свои сомнения в том, что им действительно удалось обмануть моего Директора. Они проверяли мои реакции, прощупывали меня — не пойду ли я на сотрудничество с ними. Мне же открылась одна важнейшая истина. Я понял, что в последующие недели и месяцы на Центр обрушатся горы ложной информации. Военные, политические и дипломатические донесения, от начала и до конца высосанные из пальца немецкой разведкой, будут приниматься в Москве за чистую монету. Пока что наши еще не клюнули, но, когда рыбка заглотает крючок с наживкой, Гирингу будет нетрудно затащить ее в сеть, осторожно регулируя натяжение лески.
Мой мозг был предельно возбужден, но, собравшись с мыслями для ответа, я старался казаться очень спокойным. Прежде всего мне нужно было пошатнуть их уверенность. И я придумал достаточно правдивую историю, чтобы убедить немцев, которые, как известно, очень ценят логику. Я им сказал:
— Вы опираетесь на следующую гипотезу: с помощью «пианистов», «повернутых в обратную сторону», вы поведете такую тонкую игру, что Директор будет поддерживать радиосвязь по-прежнему и ни о чем не догадается. Пусть так. Но мы-то можем исходить из совершенно иной и не менее ценной гипотезы, а именно: наш Директор не слеп или, точнее сказать, не глух, и даже если он уже давно понял, что в игре «Красного оркестра» зазвучали фальшивые ноты, то все равно он притворяется, будто ничего не замечает… Кто же в этом случае дергает нитки — вы или он?
Гиринг на мгновение смутился, но тут же иронически возразил:
— Своей акцией 13 декабря 1941 года вы не уладили ваши дела. Теперь Москва больше не верит вам, и вы не смогли убедить Директора, что в тот день ваш побег удался только благодаря «организации Тодта»…
Все громко расхохотались, кроме капитана Пипе, приказавшего освободить меня, когда меня задержали на улице Атребатов.
— …Вам хорошо известно, — добавил Гиринг, — что в Москве не верят людям, которые побывали хотя бы одну минуту в руках гестапо…
И тут я решился нанести сильный удар:
— Вы не знаете, господа, одного решающего факта, а именно того, что существует группа контрразведки, абсолютно независимая от «Красного оркестра» и выполняющая задачу обеспечения безопасности его членов. Эта группа по особому каналу связана с Москвой напрямую и извещает ее обо всем, что происходит здесь…
Если бы я заявил, что Гитлер — советский агент, то и тогда ошеломление не могло бы быть большим. С точки зрения специалистов, информация о существовании подобной группы представлялась вполне правдоподобной. Такая организация могла бы функционировать, оставаясь неизвестной не только немцам, но и большей части людей из «Красного оркестра».
Сообщение о выдуманной мною группе контрразведки полностью изменило ситуацию. В головы моих противников закралось сомнение, постепенно перешедшее в уверенность. Я продолжил:
— Вы поймите, что в этих условиях я более чем сдержанно и осторожно подхожу к вопросу о возможности сотрудничать с вами. Я всецело поддерживаю основополагающий тезис Бисмарка, согласно которому Германия должна любой ценой избегать войны с Россией, но вместе с тем придерживаюсь мнения, что не могу участвовать в сооружении здания на песке. И ведь просто смешно, когда я, человек, захваченный в плен, должен войти в игру, все правила которой уже известны моему Центру…
Ответ Гиринга вызвал смех:
— Из ваших слов следует, что я должен освободить вас! Я ответил в том же тоне:
— Это было бы лучшим из всего, что вы могли бы сделать, если вы действительно желаете заключить сепаратный мир с Советским Союзом!..
На этом наше второе собеседование закончилось, и в общем я остался доволен: практически мне удалось поколебать их самоуверенность. 26 и 27 ноября я разговаривал с Гирингом один на один и отчетливо понял, в чем слабые стороны «Большой игры». Во-первых, эта операция находилась лишь в своей начальной стадии. В течение всего этого периода немцам пришлось бы обязательно передавать Москве ценный материал, чтобы не вызвать ее подозрений насчет «поворота» наших раций. Мы получили некоторую передышку. Но — и в этом состояло главное — Гиринг понял, что спецсвязь при посредничестве коммунистической партии, о которой ему говорил Кент, может опрокинуть все замыслы немцев. Он опасался, что по этому каналу Центр уже получил известие о частичном уничтожении «Красного оркестра» во Франции. Он знал, что для окончательного успокоения Центра необходимо послать ему радиограмму именно через этот канал. Кент сказал Гирингу, что воспользоваться этой связью могу только я, и поэтому я стал ему нужен. С полной уверенностью я повторил ему, что его операция обречена на провал и что в близком будущем он сам в этом убедится. Я заявил, что каждый лишний день без моих контактов с ФКП только усилит подозрения Центра.
Замечу, что эти мои рассуждения отнюдь не были пустым фанфаронством. Я твердо надеялся, что раньше или позже Гиринг будет вынужден привлечь меня к «Большой игре», и не как безвольную пешку, а как абсолютно необходимого ему партнера. Вот когда я, быть может, сумею разрегулировать эту машину изнутри…
— Если вы станете участником игры, то какие гарантии вашей лояльности можете вы нам дать? — спросил меня Гиринг.
— Вопрос о доверии вообще не ставится, — ответил я ему. — Вы должны пойти на риск. И если вы обращаетесь ко мне, то только потому, что я вам нужен, не так ли? Без моего участия все ваши построения рушатся.
Но Гиринг еще не созрел для риска. В течение шести следующих недель он все время пытался, не прибегая к моей помощи, наладить контакты с Французской коммунистической партией.
16. ШЕСТЬ ПОРАЖЕНИЙ КАРЛА ГИРИНГА
Одно за другим Гирингу пришлось потерпеть целых шесть поражений, которые вселяли оптимизм, укрепляли во мне стремление продолжать борьбу.
Поражение первое. Гиринг просит меня — сделать так, чтобы Директор не узнал о моем аресте. Я тут же предлагаю ему позвонить владельцу одного кафе на площади Мадлен и передать для Андре (Каца) следующее сообщение: «Все прекрасно, вернусь через несколько дней». С точки зрения Гиринга, такой текст был вполне логичен. Он не знает, что в «Красном оркестре» принято прибегать к телефону лишь в исключительных обстоятельствах и при этом пользоваться «обратным языком». «Все хорошо» означает «все плохо». Следовательно, мое краткое послание Кац прочитает так: «Все очень плохо, я не вернусь», — и таким образом получит еще одно подтверждение моего ареста.
Поражение второе. Гиринг приказывает Кенту отправить Директору радиограмму с просьбой получить дополнительно к контактам со мной право на прямые контакты с руководителями ФКП. Просьба мотивируется утверждением, будто я «ненадежен», и поэтому, дескать, стоило бы дублировать каналы связи. Директор отвечает категорическим отказом. Он подчеркивает, что если в группах наблюдаются признаки «ненадежности», то незачем распространять связанный с этим риск и на товарищей из компартии.
Поражение третье. Опять-таки через рацию Кента зондеркоманда от моего имени просит Директора потребовать от руководства ФКП организовать встречу с Мишелем, представителем руководства партии, в согласованном месте в назначенный день и час. Директор дает свое «добро» и подробно указывает координаты для такой встречи.
Руководители зондеркоманды вне себя от радости. Они мгновенно собирают военный совет и решают не арестовывать Мишеля. Напротив, агент, которого предполагается направить к нему, должен попросить его передать Директору, что, мол, несмотря на аресты, произведенные гестапо среди сотрудников «Симэкс», Отто и членов парижской группы «Красного оркестра» пока что не трогают. Однако бурная радость этих чинов преждевременна: Мишель вообще не является на встречу. А все дело в том, что Гиринг и его команда не знают про особые условия, которые я, еще до моего ареста, согласовал с представителем компартии: мы договорились не встречаться в местах, назначаемых Центром, а там, где сами решим. При этом встреча должна начинаться ровно за двое суток плюс два часа до намеченного срока.
Таким образом, Гиринг бредет на ощупь в густом тумане: разве можно предположить неявку на встречу, назначенную Центром?! Я ему поясняю, что Мишель, находясь непосредственно в Париже, то есть на три тысячи километров ближе к месту действия, чем Центр, по-видимому, почуял что-то неладное в отношении меня.
Поражение четвертое. Гиринг послал еще одну радиодепешу через Кента. В ней говорится, что я испытываю затруднения с передачей радиограмм по марсельскому каналу и что канал связи ФКП по неизвестным причинам с некоторых пор не функционирует. Поэтому Гиринг — опять же от моего имени — просит назначить встречу с Дювалем (Фернаном Пориолем), ответственным за работу этого канала. Как и в случае с Мишелем, Директор указывает место, день и час встречи. Руководство зондеркоманды снова решает, что цель достигнута. Но и эта надежда не сбывается: в ноябре мы с Фернаном решили играть по тому же сценарию, что и с Мишелем. Добавлю, что встречаться с Пориолем мог только лишь Гроссфогель. Фернан является на место встречи, строго следуя нашим правилам, то есть на двое суток и два часа раньше. Он не застает там никого — в это время Гроссфогель уже был арестован. Поэтому Фернан еще больше укрепляется в подозрении, что Центр получает дезинформацию.
А Гиринг все больше недоумевает. Правда, ему удалось обмануть бдительность Центра, но какой же в этом прок, ежели здесь, в Париже, не исполняются приказы самого Директора?!
Поражение пятое. С 1941 года кондитерская Жакена, что на улице Пернель, близ площади Шатле, служит нам почтовым ящиком для отправки и получения радиограмм, которые шли через компартию. Там работает пожилая и весьма почтенная женщина — мадам Жюльетта Муссье, которая высоко ценится в партии. Уже много лет она активно выполняет партийные поручения… В течение дня кондитерскую посещают десятки покупателей. Фернан Пориоль и я как-то подумали, что, покупая здесь всякую мелкую выпечку, шоколад и так далее, нетрудно заодно сдавать и получать свернутые листки радиограмм. Мадам Жюльетта живо откликается на наше предложение и берет на себя роль посредника в таком важном деле. Этот канал мы используем для передачи самых важных сообщений, и в течение полутора лет он бесперебойно функционирует. Помимо Гилеля Каца, давнего друга мадам Жюльетты, связь с ней поддерживают только два или три товарища, в том числе Райхман, вернувшийся в Париж после истории на улице Атребаты.
Но Райхман арестован. С помощью страшных пыток немцам удается «повернуть» его, и начальство зондеркоманды узнает от него о существовании мадам Жюльетты. Гиринг решает попытать счастья…
Однажды в декабре Райхман заходит в кондитерскую и просит Жюльетту о любезности передать «старику» (сиречь мне) записку, Мадам весьма холодно отвечает, что тут, видимо, какое-то недоразумение, что она не знает, с кем имеет честь говорить, и не знакома ни с каким «стариком», на которого намекает месье…
Гиринг вновь поставлен в тупик. Как же так, почему мадам Жюльетта отказывается «узнать» человека, с которым какое-то время поддерживала контакт? На самом деле все очень просто:
Гиринг не знает, что после ареста Ефремова мы подозреваем Райхмана и приказали всем прервать с ним всякие отношения. Мы условились, что, кроме меня и Гилеля Каца, любой, кто захочет обратиться к мадам, должен предварительно вручить ей красную пуговицу. Эти новые меры безопасности Райхману неизвестны. Гиринг растерян и не знает, на что решиться. Арестовать мадам Жюльетту?.. Похоже, что это не лучший вариант, ибо, действуя таким образом, он отрезает себе путь, который мог бы привести его к руководству компартии. Кроме того, такой арест равносилен признанию ареста «старика», а также и того, что Райхман работает на немцев. Поэтому он воздерживается от этого шага и снова чувствует, что попал впросак.
И наконец, поражение шестое — шестой тяжелый удар по Гирингу. Речь идет о побеге «профессора» Венцеля…
Немцы завладели шестью нашими рациями, но не знают, каков удельный вес каждой из них. Передатчик, захваченный ими осенью 1942 года, на котором в берлинской группе работали сброшенные на парашютах радисты из Москвы, был первым инструментом подставного, ложного «Красного оркестра». «Повернутый на 180 градусов» передатчик Паскаля (Ефремова), который с момента своего ареста в июле весьма усердно работает ключом, очень полезен противнику. Кроме того, есть еще один аппарат у Сэсси, и в Голландии передатчик Винтеринка. Во Франции функционируют передатчик Кента «Эйфель» и вторая рация «Эйфель-2», которые у немцев работали в паре под названием «Марс Эйфель». Между тем в ложном «Красном оркестре» недоставало передатчика Венцеля.
Последнего заключили в крепость Бреендонк, где его пытали. Наконец в ноябре до верхушки зондеркоманды дошло: Венцель абсолютно необходим. Отсутствие этого «солиста» отчетливо «прослушивается» в Москве. Не может быть и речи о замене Венцеля «пианистом» из зондеркоманды, ибо «профессор» поистине великий виртуоз в этом деле и в Центре хорошо знают его «почерк». Поэтому немцы были очень довольны, когда замученный ими Венцель поневоле согласился «играть».
Несмотря на строгий контроль, уже во время первого сеанса связи ему удалось передать условный сигнал тревоги. Таким образом, Центр понял, что «партитура» написана противником.
В «сотрудничестве» с немцами Венцель пишет, редактирует и передает два послания, за подписью «Герман» (его псевдоним военного периода). Мы узнаем о них из советского источника. Первая радиограмма гласила:
«Директору. СРОЧНО. Обычная связь с Большим Шефом находится под контролем. Просим указаний о новой встрече с Большим Шефом. Считаю встречу с Большим Шефом очень важной. Герман».
А вот текст второй радиограммы:
«Директору. ОЧЕНЬ СРОЧНО. Судя по тому, что мы узнали из немецкого источника, шифр разгадан по книге. Я еще не получил извещения о встрече с Большим Шефом. Моя связь с вами осуществляется бесперебойно. Нет никаких признаков слежения. Как мне надлежит организовать мою связь с Центром? Прошу вас срочно ответить. Герман».
Эти две радиограммы, полученные Центром, не оставляли никаких сомнений в их происхождении, ибо мы никогда не пользовались термином «Большой Шеф». Постепенно Венцель сумел завоевать доверие зондеркоманды. Его поселили вместе с аппаратурой, на которой он работал, на улице Орор в Брюсселе. В один из первых дней января 1943 года «профессор» «уложил» своего охранника, когда тот, повернувшись к нему спиной, растапливал печку. Он запер его труп в комнате и исчез… разумеется не оставив адреса.
Для Гиринга этот побег едва не обернулся катастрофой. Здесь была реальная опасность: Венцель мог проинформировать Москву обо всем, что произошло в бельгийской группе «Красного оркестра» с декабря 1941 года. И действительно, он пробрался в Голландию и по одной неконтролируемой рации передал Центру все подробности 6 произошедших событиях76.
И все-таки со времени провала на улице Атребатов зондеркоманда могла похвалиться некоторыми очень существенными успехами: с полдюжины передатчиков передавали Центру десятки радиограмм. И если судить по ответам, Директор ни о чем не догадывался. Но эти успехи все же были неполные — им противостояли шесть поражений Гиринга, поражений тяжелых, следовавших подряд в течение нескольких недель: указания Центра не выполнялись, значит, где-то машина забуксовала. Мечта Гиринга — этот замок на песке — позже или раньше должна была рухнуть.
В руках начальника зондеркоманды, судя по всему, оставалась лишь одна еще не разыгранная козырная карта: надо было сделать из Большого Шефа предателя, добиться его сотрудничества и успокоить Центр через канал связи Французской компартии. Тут Гиринг шел на очень большой риск, но у него не было выбора.
В конце декабря мои разговоры с ним и его заместителем Вилли Бергом приняли совершенно новый оборот. Вся атмосфера изменилась. Я ждал и дождался своего часа. Теперь он настал…
17. ЧЕРНАЯ СЕРИЯ
Крайне напряженная «партия», которую я разыгрывал с Гирингом, не вытесняла из моего сознания мыслей о судьбе нескольких наших товарищей, еще остававшихся на свободе. Ведь и они должны были отражать удары зондеркоманды. Прежде всего я думал о Гроссфогеле и Каце, хотя ни тот, ни другой в общем не внушали мне большого беспокойства. Я полагал, что они в безопасности. В отношении Гилеля я был стопроцентно уверен. Вначале он жил в весьма надежной тайной квартире в Антони, а потом мы решили, что он переедет из Парижа в Марсель и в течение нескольких месяцев не будет действовать.
И вдруг Берг, заместитель Гиринга, сообщает мне скверную новость:
— А мы, знаете ли, арестовали вашего Каца.
— Вот как? И когда же?
— Да уж около трех недель тому…
Значит, Гилель Кац тоже у них, настал и его/черед. Лишь впоследствии я узнал, как именно, вопреки всем мерам предосторожности, им все-таки удалось схватить моего доброго друга.
Расстроенный моим арестом, Кац был занят в течение нескольких дней подготовкой своего отъезда. Его жена Сесиль родила 19 ноября, и он не хотел покинуть Париж, не обеспечив безопасность матери и ребенка. Его старший сын Жан-Клод уже был пристроен у сестры Максимовича, в замке Бийерон.
После моего отъезда из Польши в 1973 году я узнал от самой Сесиль Кац, что 28 ноября 1942 года ее муж вместе с Гроссфогелем пришел проведать ее в клинике. Оба они, по ее словам, уже знали о моем аресте и были страшно взволнованы. 1 декабря Кац снова прибыл в клинику. Назавтра он должен был забрать оттуда свою жену и их малыша. Но «назавтра» не было. В тот день он задержался в Париже до комендантского часа. Не желая рисковать в этих условиях и ехать в Антони, он отправился к нашей приятельнице, Модесте Эрлих, французской учительнице, вышедшей замуж за инженера-еврея, бывшего бойца Интернациональных бригад.
С самого начала войны квартира Эрлихов служила нам явкой и почтовым ящиком. Именно там в начале 1942 года Райхман встретил Гилеля Каца. После ареста Райхмана и его признаний гестапо стало следить за этой квартирой. В тот вечер Гилель, в нарушение моих инструкций (я официально приказал больше не пользоваться квартирой Эрлихов), решил, что может провести там несколько часов и на рассвете уйти. Агенты гестапо, установившие здесь круглосуточную слежку, немедленно известили Райзера, начальника парижского подразделения зондеркоманды, который тут же организовал обыск у Модесты Эрлих и арестовал ее и Каца. Мне удалось убедить Гиринга, что Модеста не имела отношения к «Красному оркестру» и что мы пользовались ее квартирой, нисколько не посвящая ее в наши дела; но, к несчастью, впоследствии ее отправили в концлагерь, где она умерла.
Лео Гроссфогель в свою очередь тоже был арестован офицерами зондеркоманды. Подобраться к нему им удалось при помощи редкостно подлого шантажа.
По довольно необычному совпадению супруга Лео, Жанна Пезан, незадолго до того тоже разрешилась от бремени. Находясь в тюрьме, я, естественно, не знал об этой подробности — оказавшейся крайне важной во всех отношениях! — и не особенно тревожился за нашего друга, хорошо помня, что его переход в Швейцарию всесторонне подготовлен. Жанна Пезан, не имевшая никакого представления о серьезности сложившейся обстановки, отказалась бежать в безопасное место. В результате агенты зондеркоманды нашли ее на квартире, которую она сняла в пригороде Брюсселя. Немцы применили к ней метод, вполне соответствующий их привычкам: они пригрозили Жанне убить ее ребенка здесь же, у нее на глазах, если она не напишет мужу письма с просьбой прийти повидаться. Хотя Лео и был настороже, ожидая всевозможных подвохов, его огромное желание увидеть своих, прежде чем уйти в подполье, превозмогло все опасения, и 16 декабря 1942 года он отправился к ним в Юккле, на авеню Брювар. Тут его и взяли.
За четверо суток до этого события Берг небрежным тоном сказал мне:
— Сегодня будем брать Робинсона.
Более откровенный, чем обычно, Берг неожиданно поведал мне планы зондеркоманды. Его своеобразная «полусимпатия» ко мне в дальнейшем окажется очень полезной…
— Робинсона выслеживаем вот уже несколько месяцев, — продолжал Берг. — Решили взять его на какой-нибудь квартире, где ему будет назначена заранее известная нам встреча. Райзер снарядил настоящую военную экспедицию. Десятки агентов рассредоточены на ближних подступах к дому. В руке каждого из них — фотография Робинсона, чтобы было легче опознать его. Предупреждаю вас, Отто, Райзеру очень хочется понаблюдать, какой будет ваша реакция, и поэтому он предложит вам поехать на эту операцию вместе с ним и его группой. Но это будет только своеобразным тестом, проверкой, потому что у него вообще-то нет разрешения показывать вас там. В противном случае вся «Большая игра» окажется окончательно скомпрометированной. Так что, повторяю, предложение Райзера будет чисто «экспериментальным». Однако если вы откажетесь, то он решит, что вы не хотите сотрудничать с нами, и раззвонит об этом везде и всюду.
— Что ж, — ответил я Бергу, — если я вас правильно понял, то Райзер намерен и прощупать меня, и заодно расставить мне ловушку…
— Вы вольны истолковать его намерения, как пожелаете… Словом, я был предупрежден… В полдень меня отвезли к Райзеру. Как бы вторя Бергу, он сказал:
— Итак, Отто, сегодня мы арестуем Робинсона. Я прибег к классическому приему — постоянно умалять роль своего товарища:
— Вы совершите ошибку, Райзер. Робинсон — зануда и кляузник. Он ничего не знает.
— Возможно, возможно, — быстро проговорил он, явно не придавая значения моим словам. — Но, если вы не возражаете, мы сами постараемся оценить, чего он стоит. Так или иначе, но вы поедете с нами.
— Как вам будет угодно.
Я произнес это таким бодрым и примирительным тоном, что Райзер от удивления широко раскрыл рот и словно прирос к стулу.
Во всяком случае, Берг не обманул меня.
В машине, увозившей нас к месту «рандеву», назначенного Робинсону, я раздумывал, как мне держаться, и решил, что единственный способ принести товарищу хоть какую-то пользу состоит в возможно более шумном и демонстративном поведении. В самом деле, если немцы покажут меня в наручниках, то они, значит, поставили крест на «Большой игре», ибо товарищи, издалека опекающие Гарри, наверняка увидят меня и сразу поймут, что я арестован. Но вдруг, когда оставалось метров двести до цели, машина остановилась. Бессильный предпринять что-либо, я как бы присутствовал при аресте Гарри77.
В августе в Бельгии был арестован Франц Шнайдер, и гестапо вновь напало на след Робинсона. Его бывшая жена, член берлинской группы, и его сын, солдат вермахта, уже сидели в тюрьме78. Почему же гестаповцы так долго медлили с этим ударом? Потому что, по их мнению, Гарри руководил группой видных коминтерновцев, к числу которых, как они считали, принадлежали Жюль Юмбер-Дроз, бывший секретарь Интернационала молодежи, и Вилли Мюнценберг, бывший руководитель Компартии Германии79.
Но эта «могущественная и тайная группа» существовала только в воображении подчиненных Мюллера, которым мерещились заговоры там, где их не было. К этому времени Юмбер-Дроз уже был исключен из компартии. Вилли Мюнценберг в 1938 году больше не фигурировал в числе кадровых работников КПГ и Коминтерна. В 1940 году правительство Даладье интернировало его и поместило в лагерь для иностранцев в Гюрсе. Именно там два интернированных вместе с ним агента Берии получили задание ликвидировать его. Оба предложили ему бежать втроем. Обрадованный, он согласился. Его нашли повешенным в двухстах метрах от лагеря. Немцы хотели переловить всех членов этой призрачной, выдуманной ими организации. Поэтому до поры до времени они оставляли Робинсона в режиме так называемой «наблюдаемой свободы».
В итоге намечался большой показательный процесс, на котором Гарри отводилась роль «главной звезды». Цель процесса — разоблачить в глазах народов «Новой Европы» происки международного большевизма!
В декабре, убедившись в том, что следы Робинсона не ведут никуда, кроме как к нему самому, гестапо решило арестовать его. Мой последний разговор с ним состоялся 21 ноября, через два дня после арестов на фирме «Симэкс». Я растолковал ему положение нашей группы, и по обоюдному согласию было решено прервать все контакты между нами. Во время этой встречи Гарри, не знавший об аресте Франца Шнайдера, все же был очень встревожен и не скрывал этого. Он также не знал, что за его тайным жилищем в Пасси уже тоже ведется наблюдение.
Гестапо не оставило без внимания и Максимовича. По случаю его «помолвки» с фройляйн Хофман-Шольтце, секретарши Отто Абетца, гестапо навело в полицейской префектуре, где ведется картотека регистрации иностранцев, самую элементарную справку.Не предупрежденные заблаговременно, мы узнали об этом с опозданием, но на всякий случай попросили наших людей в префектуре изъять карточку Максимовича. Однако гестапо уже успело ознакомиться с ней. А в карточке было написано, что Максимович настроен просоветски. У него забрали пропуск в отель «Мажестик», где находился главный штаб вермахта. Ставший и без того подозрительным, Василий был окончательно разоблачен радиограммами, расшифрованными в Берлине аппаратом доктора Фаука и не оставлявшими никаких сомнений в источнике этой информации. «Невеста» Максимовича съездила в Германию — повидаться со своей семьей. Вернувшись, она рассказала нам о разрушениях в немецких городах, вызванных бомбардировками союзников. Эти сведения мы передали в Москву. Методом сличения многократных пробных пеленгов гестапо сумело установить личность фройляйн Хофман-Шольтце.
Слежка за Максимовичем началась в октябре. Сотрудники зондеркоманды совершенно открыто прибыли в замок Бийерон, где разъяснили Анне, что у них есть все доказательства причастности ее самой и ее брата к деятельности шпионской сети, борющейся против третьего рейха.
— Но вы поможете нам, — сказали они ей, — если организуете встречу вашего брата с одним представителем Германии. Встреча состоится в свободной зоне. Вам мы дадим все гарантии безопасности, ничем не затрудним вас, но помните, что речь идет о деле большой политической значимости…
Анна немедленно сообщила мне о предложении Гиринга. В тот момент эту его просьбу о подобной встрече я не мог истолковать иначе, как грубый маневр с целью ареста еще одного нашего. Впрочем, в голове мелькнула и другая догадка: может, Гиринг задумал, так сказать, заложить основы «будущего сотрудничества» с нами…
Все эти подробности и невольные домыслы указывали на огромную опасность, подстерегавшую Василия. Поэтому я предложил ему исчезнуть и объяснил, чем сумею ему пособить.
— Не могу, — ответил он. — Не могу из-за моей старой матери и моей второй сестры… Что с ними станется без меня?.. Ведь они, несомненно, будут репрессированы. Об этом вы подумали?
И после небольшой паузы:
— Если меня схватят — покончу с собой!
— Нет уж, Василий! Напротив, надо прикончить как можно больше этих подлецов.
Но он ни в чем не изменил распорядок своей жизни, продолжал работать по-прежнему.
12 декабря Василия арестовали в кабинете его «невесты».
Кете Фелькнер, которая после расшифровки радиограмм тоже оказалась под угрозой, хорошо знала, какая судьба ей уготована. В декабре она поехала в Германию проведать родных. Двадцать пять лет спустя ее дядя рассказал, что тогда, в тяжелую годину, она не тешила себя никакими иллюзиями. Ее близкий друг, Подсиальдо, был схвачен гестапо и подвергся лютым истязаниям. Как она предвидела, дошла очередь и до нее. Ее тоже забрали.
Что касается Шпрингера, то он умер так же, как Пьер Броссолет…80
В декабре 1941 года он поселился с женой — Флорой Велертс — в Лионе, о чем я уже упомянул. Там он продолжал активную деятельность. Он подружился с Балтазаром, бывшим бельгийским министром, и консулом Соединенных Штатов и через них нашел новые источники информации. Это был поистине неутомимый борец. Он погиб смертью героя, сражаясь с гестаповцами, не выпуская оружия из рук.
Я разыскал Шпрингера в апреле и посоветовал ему вести себя поосторожней. Но он ничего не хотел слушать и попросил у меня шифр, который я ему дал.
— А какже аппаратура? — спросил я его.
— У меня есть все, что нужно, мои американские друзья снабдили меня передатчиком. Это настоящее маленькое чудо!
В октябре (когда мы уже знали, что вторжение в Южную зону Франции вопрос недель) я возвратился в Лион. И снова настоятельно посоветовал Шпрингеру максимальную осторожность. Но на этот раз он прямо-таки завелся:
— Я хорошо понимаю, что Флора (его жена) и я могли бы уехать в Соединенные Штаты! Но я от такого варианта отказываюсь, и она тоже! Разве солдаты на передовой могут себе позволить отступить перед опасностью? Нет, конечно! Вот и мы должны поступать так, как они!.. Я боец переднего края и должен действовать до последнего дня, а если они придут, то я уж как-нибудь встречу их не с пустыми руками!
Шпрингер перевез свою рацию в небольшую деревню, в семнадцати километрах от Лиона. Там он подключил ее к кабелю высокого напряжения, проложенного поблизости…
— Если они придут, — уточнил он, — ладно, пусть! — тогда все здесь взлетит на воздух!
Но осуществить это ему не довелось — не хватило времени.
Однажды поздним вечером Шпрингер шел на свою лионскую квартиру, которую снимал с женой. Супруги договорились о каком-то условном знаке в окне, указывающем, можно ли ему подняться наверх или нельзя…
Кругом темно, все огни погашены, значит, следует поостеречься. Но инстинкт самосохранения не срабатывает, он поднимается по лестнице, правда держа револьвер наготове — все-таки тень беспокойства остается, — вдруг там гестаповцы. Ну да черт с ними — он готов пойти на риск. Он открывает дверь. Гестаповцы здесь, их много. Они сидят, стоят, жмутся друг к другу, словно черные мокрицы. Он стреляет в сбившиеся тела, ранит двоих, пытается проглотить капсулу с цианистым калием, которую всегда имеет при себе…
Ночь он проводит в Лионе под стражей, а днем его перевозят в Париж, в тюрьму Френ. Четверо суток пыток. Но хоть осатаней от боли — все равно ничего говорить нельзя. А если в полузабытьи? Не дай бог! Шпрингер кончает жизнь самоубийством — при переходе через галерею на пятом этаже он внезапно перемахивает через перила лестничной клети, срывается а пустоту и разбивается насмерть. Было это в день рождества 1942 года.
Брат и двоюродная сестра Шпрингера Ивонна узнали про обстоятельства его смерти лишь после войны, читая «Книгу о храбрости и страхе» полковника Реми. Во втором томе этой работы, на 27-й странице, можно прочитать: «День рождества начался с самоубийства. Доведенный до отчаяния человек прыгнул через перила верхней тюремной галереи. До слуха многих заключенных донесся глухой звук удара тела о пол…» Здесь все правильно, кроме одного: Шпрингер бросился вниз не от отчаяния, но ради того, чтобы любой, даже такой страшной, ценой предотвратить дачу показаний под пыткой. Я знал его достаточно хорошо и с уверенностью могу свидетельствовать: да, он был так храбр, что мог добровольно пойти на смерть. Он встретил гестаповцев с револьвером в руке, он пытался отравиться. И его последний поступок в тюрьме Френ вполне соответствует геройскому духу этих действительно образцовых борцов, умирающих с оружием в руках. Его труп был эксгумирован, опознан и перезахоронен в семейном склепе. Мой друг Шпрингер был посмертно удостоен высокой награды бельгийского правительства.
В том же Лионе, где гестапо возглавлял скандально известный Барби, были арестованы Жозеф Кац, брат Гилеля, и мой давнишний друг Шрайбер. Ни тот, ни другой не были членами «Красного оркестра». Правда, Жозеф предлагал нам свои услуги, но я отказал ему, ибо не хотел, чтобы два брата, выходцы из очень близкой мне семьи, одновременно рисковали жизнью.
Как и многих других моих соратников по подпольной борьбе, Шрайбера я знал по Палестине. Пламенный коммунист, но не конформистского толка, он не боялся выступать с критическими высказываниями, раздражавшими доктринеров. Ему не разрешили поехать сражаться в Испанию, куда он просился добровольцем, под предлогом, будто он-де недостаточно строго придерживается официальной линии партии.
Одной из первый моих забот в самом начале моего пребывания в Париже летом 1940 года была попытка разыскать его. Шрайбер был на редкость активным и, как говорят, ангажированным человеком, и я понимал, что бездействовать он просто не может. Через некоторое время я узнал от его жены, что еще в 1939 году он завел магазин по скупке подержанных автомобилей. Это предприятие должно было служить ему крышей на случай войны. Московский Центр заинтересовался им и командировал к нему молодого офицера, который, как ни странно, откликался на имя «Фриц» и для вида выполнял обязанности директора этого автомагазина.
К сожалению, Фриц оказался менее одаренным, нежели другие представители нашей дирекции. Однажды осенью 1939 года два полицейских инспектора заявились в гараж с ординарным проверочным визитом (вероятно, Шрайбера внесли в картотеку иностранцев). И тогда наш молодой офицер, прибывший в Париж со спецзаданием и находившийся в этот момент в заднем помещении, струхнул, быстренько выскочил из окна и — какая сообразительность! — побежал прятаться в советское посольство. Там он с ходу рассказал, как только что спасся от «полицейской облавы».
Сотрудник посольства, с которым Фриц был связан, оказался «виртуозом» секретной службы примерно того же пошиба. Он не додумался ни до чего более разумного, чем сразу же записать в свой блокнот телефон и адрес автомагазина Шрайбера. Находясь под наблюдением французской контрразведки, как, впрочем, и все остальные служащие посольства, он через несколько часов был под каким-то предлогом на неделю задержан и обыскан.
И вот логическое следствие всех этих откровенно любительских неосторожностей: после подписания советско-германского пакта французские власти арестовали Шрайбера и выслали в лагерь Вернэ. Когда пришли немцы, Шрайбер все еще был на положении интернированного. Я решил устроить ему побег. Генерал Суслопаров, которого я известил о своем намерении (напоминаю: Суслопаров был советским военным атташе в Виши), ответил, что предпочитает действовать на законных основаниях и что ему нетрудно внести имя Шрайбера в список задержанных советских граждан, который он собирался представить немцам на предмет освобождения. Шрайбера действительно выпустили, но в момент вступления Германии в войну против Советского Союза он находился в Марселе, где в это время жила его жена Регина и дочь. Шрайбер ушел в подполье. А потом его либо пристрелили при аресте, либо бросили в концлагерь. Известно лишь то, что после войны он так нигде и не появился.
Жозеф Кац умер в ссылке. И если я как-то связываю эти два случая, то только лишь потому, что, по-моему, и в том и в другом действовал один и тот же осведомитель, а именно Отто Шумахер. Он принадлежал к той небольшой группе сомнительных людишек, которые по приказу противника внедряются в ту или иную сеть, чтобы подорвать ее изнутри. Шумахер как раз и был таким провокатором гестапо, пробравшимся в «Красный оркестр». Это он арендовал квартиру, на которой был арестован Венцель. Вопреки ожиданиям, его самого тогда и пальцем не тронули. После ликвидации бельгийской группы он приезжает в Париж и поселяется у Арлетты Юмбер-Ларош, выполняющей функции связной между мною и Гарри Робинсоном. В ноябре 1942 года, нарушив мой официальный запрет, он прибывает в Лион, где входит в контакт со Шпрингером (чей геройский конец я уже описал) и с Жерменой Шнайдер.
В декабре Шумахер возвращается к Арлетте и просит ее организовать встречу с Робинсоном (читатель помнит, что последний тоже будет арестован немцами при помощи необычайно многочисленной опергруппы). Арлетта сначала колеблется, но затем соглашается познакомить его с нашим другом. Сама она тоже исчезла навсегда.
Арлетта Юмбер-Ларош, член «Красного оркестра», влюбилась в замаскированного информатора Гиринга и его шайки. То была очаровательная девушка большого душевного благородства, оставившая после себя прекрасные стихи.[В 1946 году в издательстве «Эдисьон Реалите» вышел сборник ее стихов с предисловием Шарля Вильдрака. «…В течение лета 1941 г. Арлетта Юмбер-Ларош стала приходить ко мне и показывать свои стихи, — писал Ш. Вильдрак. — От меня она ожидалаих критического разбора и советов… Как-то в конце 1942 г. она оставила у моей консьержки большой конверт. В нем были все ее стихотворения. Она дове — рила их мне для сохранения. Остается только гадать, почему именно мне. Больше я еене видел…» Арлетта, несомненно, предчувствовала свою гибель. Весной 1939 года она писала:
Я тоже желаю оставить на земле свой аромат
И сделать так, чтобы люди,
чтобы братья
Вспоминали обо мне. — Прим. авт.
18. ОСОБЫЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ
25 ноября 1942 года, после первого ночного допроса, перед Гирингом встает проблема о моем дальнейшем содержании. В этой проблеме два аспекта — где содержать и как содержать?
Он должен придумать и найти достаточно изолированное место, где тайна моего ареста может быть сохранена и где будут выполняться все условия, при которых я не смогу ни сбежать — уж это элементарно! — ни сообщаться с внешним миром.
Последний момент имеет немаловажное значение, когда речь идет о расследовании деятельности «Красного оркестра». В этом отношении зондеркоманда потерпела крупные неудачи. Ей никогда не удавалось полностью изолировать наших арестованных разведчиков. Нельзя забывать, что в тюрьмах во времена оккупации сохранилась часть надзирателей довоенной поры. И совсем нередки были случаи, когда они давали ту или иную информацию движению Сопротивления, переправляли различные послания, а иной раз просто входили в состав какой-нибудь разведывательной сети. Я уже рассказывал, как надзиратели тюрьмы Сен-Жиль в Брюсселе держали нас в курсе событий, касавшихся судьбы арестованных на улице Атребатов.
Заключенные из французской группы «Красного оркестра» находились в специальном отделении тюрьмы Френ. При перевозках на головы им надевали капюшоны. Было строго запрещено менять место их нахождения внутри тюрьмы. Ни тюремная администрация, ни даже другие оккупационные инстанции третьего рейха не знали, кто они, эти заключенные. Каждый член зондеркоманды занимался одним или несколькими точно определенными арестантами и не имел права интересоваться другими. После моего ареста все меры предосторожности в отношении вас были еще больше усилены.
Прибыв в Париж в начале октября, зондеркоманда обосновалась, как я уже говорил, на улице де Соссэ, на пятом этаже здания, где до войны размещалась штаб-квартира французской Сюртэ. 26 ноября меня провели на первый этаж, где некогда находился финансовый отдел полиции. Здесь Гиринг хотел содержать меня «инкогнито». По его указанию для меня, как «особого заключенного», две большие комнаты были переоборудованы в своеобразную тюремную камеру. Первую комнату разгородили решеткой, в которой была устроена дверца. С одной стороны поставили стол и два стула для двух унтер-офицеровСС,призванных стеречь меня круглосуточно. Другая сторона была отведена для меня, здесь поставили койку, стол, два стула. Зарешеченное окно выходило в сад. Входную дверь укрепили стальной плитой.
Через два-три дня в Берлине разработали распорядок и режим моего содержания, а также определили обязанности охранников. Это был подлинный шедевр чисто немецкого бюрократизма. В частности, охранникам запрещалось обращаться ко мне или отвечать на мои вопросы.
Вскоре после «въезда в новую квартиру» Гиринг представил меня Вилли Бергу, которому было специально поручено заниматься мною. Он мог приходить в любой момент, разговаривать со мной как ему вздумается и ведал моим питанием, которое доставлялось трижды в день из ближайшей военной столовой. Ежедневно он сопровождал меня во время прогулки во внутреннем дворе.
Вилли Берг будет занимать важное место в дальнейшем развитии этой истории… Невысокого роста, приземистый, с сильными руками, которыми в случае надобности мог в любое время воспользоваться, он с трудом нес бремя своих пятидесяти лет. При среднем умственном развитии Берг был словно нарочно приспособлен к вторым ролям, которые с рвением исполнял под началом Гиринга. Друг и доверенное лицо начальника зондеркоманды, он был единственным, с кем тот делился тайнами и своими честолюбивыми замыслами, единственным, посвященным в глубинную суть дел этой группы особого назначения и во все вопросы подготовки «Большой игры». Профессиональный полицейский, Берг начал свою карьеру еще при кайзере, продолжал ее во времена Веймарской республики, с тем чтобы завершить ее на службе у Адольфа. Часто на него возлагались деликатные и довольно подозрительные миссии. Так, например, он был телохранителем Риббентропа, когда тот поехал в Москву подписывать советско-германский пакт о ненападении.
В литературе, посвященной «Красному оркестру», порой утверждается, будто Берг был двойным агентом и информировал меня обо всех решениях зондеркоманды… Это абсолютно неверно, какое-то бредовое предположение. Это было бы куда как хорошо, но, как говорится, «держи карман шире!».
Однако достоверно другое: с самого начала моих контактов с Бергом у меня возникло предчувствие, что со временем мне удастся воспользоваться его услугами. Очень скоро я заметил, что этот заместитель шефа зондеркоманды глубоко несчастный и легкоранимый человек. Его личная жизнь не принесла ему ничего, кроме горя. Во время войны двое из его детей умерли от дифтерии, третий ребенок погиб при бомбардировке, разрушившей его жилище; жена, не в силах выдержать всю эту серию тяжких испытаний, пыталась наложить на себя руки и была помещена в дом для умалишенных. Так что в чисто моральном плане он был сильно подавленный. К концу 1942 года Берг, как, впрочем, и его друг Гиринг, засомневался в окончательной победе третьего рейха. Он решил определить для себя такую линию поведения, чтобы могли бы открыться две возможности: либо, если конфликт завершится в пользу Советского Союза и его союзников, он сможет доказать, что обращался со мной по-человечески и тем самым в ходе «Большой игры» облегчал мою задачу, либо, если третий рейх одержит верх, он выставит себя как героя борьбы против «коммунистической подрывной деятельности». Вилли Берг, недавно вступивший в нацистскую партию, хотя и пользовался официальной гитлеровской фразеологией, все же очень скептически относился к политике, проводимой фюрером. В числе «доверительных» идеологических высказываний, которые я от него слышал, могу выделить следующее: «Во времена кайзера я был полицейским, — сказал он мне однажды. — Я был полицейским Веймарской республики, теперь я шпик Гитлера, завтра я с тем же успехом мог бы стать слугой режима Тельмана…»
С первых же дней под предлогом пополнения моих знаний немецкого языка я просил Вилли Берга передать начальству мое желание иметь словарь, бумагу, карандаш и получать газеты. Разрешение на все это было дано. И тогда я вдруг загорелся надеждой — не стану отрицать, на первый взгляд довольно абсурдной — каким-то образом отправить донесение Центру. При этом у меня не было ни малейшего представления, как и когда это будет возможно. Но в тот момент меня в высшей степени ободряло, что под рукой у меня все-таки есть те несколько предметов, о которых только может мечтать заключенный, то есть письменные принадлежности. А еще я знал, что мне, быть может, каким-то образом удастся вновь связаться с внешним миром.
Было ясно, что я не смогу написать и пару слов, если бдительность моих церберов не ослабнет. Охрана сменялась дважды в сутки — в семь и в девятнадцать часов. Всякий раз появлялись новые физиономии… Инструкция о моем содержании производила такое неизгладимое впечатление на дежурных унтер-офицеров СС, что, ознакомившись с ней, они часами ни на секунду не спускали с меня глаз… Для достижения своей цели мне нужно было добиться, чтобы меня охраняли одни и те же стражники. Тогда я мог бы попытаться завязать с ними какие-то контакты.
Я решил поговорить об этом с Гирингом…
— Признайтесь, — сказал я ему, — что вы только усилили риск разглашения факта моего ареста и заключения. Скоро это перестанет быть секретом. В течение пятнадцати суток в моей камере сменилось более пятидесяти надзирателей. Если хотя бы один из них болтун — причем это весьма оптимистическая пропорция, — то все узнают, что на улице де Соссэ есть этакий «особый заключенный»!
Мое нарочито ироническое замечание произвело впечатление на шефа зондеркоманды. Начиная с этого дня численность охраны сократилась до шести человек.
Мои отношения с Бергом становились все более «сердечными». Мало-помалу во время ежедневных прогулок, благоприятствующих сближению, он подбрасывал мне какие-то крохи информации, которые, словно камушки мозаики, постепенно складывались в довольно точную картину того, что представляет собой зондеркоманда, и давали общее представление о ее планах. Неясное понемногу прояснялось. Берг доходил до того, что посвящал меня в дела высших полицейских кругов Берлина.
Он любил ошеломлять собеседника неожиданными заявлениями… Однажды Берг сказал без тени иронии:
— Послушайте, Отто, я надеюсь, что мы скоро добьемся хороших результатов и война окончится… Если случайно взвод немецких солдат поведет вас на расстрел, я приду пожать вам руку и сказать вам последнее «прости».
Я ответил ему в том же духе:
— Если случайно взвод советских солдат поведет вас на расстрел, то и я приду — обещаю это вам! — пожать вашу руку и сказать вам последнее «прости».
Во второй половине декабря в тюрьме Френ несколько заключенных из «Красного оркестра» пытались покончить с собой. Из Берлина пришел приказ связать арестантам руки за спиной. Мне сделали
поблажку — связали руки спереди.
В таких условиях невозможно написать ни единого слова… Я пожаловался Бергу на это распоряжение. Он посочувствовал мне, заявил, что знает, насколько трудно спать со связанными руками, затем научил, как манипулировать с завязками, чтобы высвободить правую руку. В это время стражники, полагая, что я надежно спутан, мирно засыпали. Каждую ночь, между двумя и тремя — именно это время казалось мне наиболее благоприятным — я писал на маленьких клочках бумаги свое донесение.
Как-то я сказал Бергу, что моя лежанка слишком короткая и жесткая. Он снова помог мне — распорядился принести в мою камеру новую кровать. Она была из железа и снабжена хорошим матрасом. Я заметил, что ее четыре ножки сделаны из полых труб: отличный тайник для заключенного!
Через несколько дней после моего «новоселья» меня посетили три военврача войск СС и осмотрели меня с головы до ног… Я немедленно спросил Берга, в чем дело?
— А это для того, чтобы определить состояние вашего здоровья, — ответил он. — Ну, например, для выяснения, сможете ли вы выдержать допрос с пристрастием…
Вероятно, мой физический «статус» произвел на них впечатление: повышенное давление, больное сердце — последствия голодовки в Палестине… Но мне хотелось узнать побольше.
— При помощи антропологических измерений, — добавил Берг, — они пришли к выводу, что вы не еврей, и Гиринг пришел в восторг…
С трудом я удержался от хохота. Лишь позже я узнал, каков был ход рассуждений Гиринга: он полагал, что отнесение меня к категории «настоящих арийцев» облегчит получение согласия Берлина в отношении «Большой игры». Уж какое там доверие могут питать высокие берлинские круги, заинтересовавшиеся моим делом, к словам какого-то жалкого еврея, мыслимо ли хоть какое-то сотрудничество с представителем «проклятой расы».
Гиринг нуждался именно в арийце, и его соображения не были лишены юмора. Во время одного из наших разговоров я заметил, что родился в еврейской семье и подвергся обрезанию тотчас же после рождения.
Я не мог не удивиться его ответу:
— Честно говоря, вы меня смешите… Ведь это только доказывает, что советская разведывательная служба очень хорошо поработала! В начале войны абвер послал в Соединенные Штаты нескольких своих агентов, которым предварительно сделали обрезание, понимаете? Ну чтобы облегчить их положение на случай ареста: ведь обрезанного еврея довольно трудно принять за нашего шпиона. Но когда их забрала американская контрразведка, эта перестраховочная мера была быстро разоблачена, ибо эксперты-хирурги установили, что операции произведены совсем недавно.
Гиринг был настолько нашпигован всевозможными историями и байками про деятельность секретных служб, что мое действительно всамделишное обрезание решительно не признавал, считал его недавним, а подлинность его вида объяснял каким-то особым мастерством русских хирургов, умеющих орудовать скальпелем, как никто из их зарубежных коллег по профессии.
Кроме того, я ему неоднократно повторял, что я еврей. Из этого он заключил, что человек, попавший в руки гестапо и называющий себя евреем, не может не лгать.
Наконец Гиринг взялся за расследование. В доме супруги Гроссфогеля, в Брюсселе, нашли старый паспорт, которым я пользовался в 1924 году в Палестине и куда были внесены точные сведения обо мне: Леопольд Треппер, а также дата и место моего рождения — 23 февраля 1904 года в Новы-Тарге. В декабре 1942 года гончие псы зондеркоманды поехали в Новы-Тарг, чтобы попытаться обнаружить там мои следы. В радиограмме, содержавшей отчет о выполнении ими этой миссии, они объясняли, что не нашли ничего, поскольку — цитирую их собственное выражение — «город был очищен от иудейской нечисти, а еврейское кладбище перепахано…».
Гиринг укрепился в своей уверенности: конечно, я не еврей, какие тут могут быть сомнения! Когда я был направлен советской разведкой в Палестину, из меня намеренно сфабриковали этакий «еврейский персонаж», а что до фамилии Треппер, то она, бесспорно, заимствована. Для меня же особенно важным было то, что гестапо не докопалось до моей партийной клички — Лейба Домб.
Зондеркоманда отличалась весьма своеобразными приемами сохранения тайны: на двери моей камеры, перед которой ежедневно проходили десятки людей, укрепили большую табличку с надписью:
«Внимание, особый заключенный, вход воспрещен!» Позже я узнал (и ничуть этому не удивился), что в среде парижских коллаборационистов циркулировали слухи насчет какого-то «особого советского заключенного».
У моих охранников любопытство частенько одерживало верх над пресловутой и хваленой немецкой дисциплиной. Они несли около этого «особого заключенного» службу, подчиненные настолько драконовскому режиму (и, разумеется, ничего по существу не зная), что по истечении некоторого времени просто уже никак не могли не вступить в разговор со мной. Дожидаясь наступления полуночи, когда было ясно, что их уже никто не застанет врасплох, они пытались — сперва разными окольными путями, а потом все более откровенно — узнавать обо мне все больше и больше. И тогда я мог проболтать с ними и час и два, причем извлекал немалую пользу из этих небольших и, казалось бы, довольно бессвязных разговоров. Двое из них были тупыми держимордами, форменными палачами. Остальные (помнится, у них были знаки различия войск СО, хотя и были приставлены к этой службе, тем не менее не отличались слепой приверженностью к нацизму. По прямому приказу они бы, бесспорно, без колебаний совершили любое преступление, забили бы меня до смерти, однако у двоих из них мне удалось пробудить какое-то подобие симпатии. Особенно запомнился тот, кто, будучи членом какой-то религиозной секты, однажды объявил, что хотя он и стережет меня всю ночь, но вместе с тем молит бога о спасении моей души! Наконец даже предложил передать какую-нибудь весточку моей семье.
19. «ВОЗМЕЗДИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ!»
Все попытки Гиринга установить без моей помощи контакты с руководством ФКП провалились. И так как он по-прежнему не решался рискнуть использовать меня, то ему пришлось пустить в ход последнюю оставшуюся ему карту: заставить заговорить Лео Гроссфогеля и Гилеля Каца.
В течение всего декабря люди из зондеркоманды изводили Гроссфогеля. Они считали, что, будучи в прошлом моим заместителем, он должен знать, как связаться с ФКП. Но он неизменно, в строгом соответствии с нашим уговором, отвечал им, что занимался в нашей организации только коммерческими вопросами, и отсылал их ко мне. Тогда зондеркоманда решила прибегнуть к самому мерзкому шантажу: либо он дает им требуемые сведения, либо при нем казнят его жену и ребенка. Но и глазом не моргнув, с полным спокойствием и хладнокровием, которое, по словам Берга, произвело глубокое впечатление на немцев, он им ответил:
— Вы можете начать с меня, с моей жены или с малыша, это не имеет никакого значения, вы ничего не узнаете!
Гиринг и его подручные поняли, что Лео — человек небывало сильного характера и из него им ничего не вытянуть. По-моему, они просто раздумали подвергать его пыткам. Со своей стороны я предупредил Гиринга, что если они станут его истязать, то я буду считать себя свободным от всех обязательств, касающихся «Большой игры», что Лео абсолютно необходим для осуществления наших планов и что раньше или позже Центр попросит сообщить о его судьбе.
Итак, с Лео Гроссфогелем дело не вышло, и тогда зондеркоманда навалилась на Гилеля Каца, которого хотели использовать как связного с Жюльеттой. Позже, в апреле 1943 года, когда я встретил Гилеля в тюрьме Нейи, он рассказал мне обо всем, что ему пришлось пережить. Это был сущий ад.
Ожесточение заплечных дел мастеров объяснялось тем, что Райхмаи, несомненно, дал им понять, какое место наш друг занимал в «Красном оркестре». Сперва они попробовали уговорить его, предложили самому пойти к Жюльетте от моего имени и вручить ей донесения, которые «я написал», с тем чтобы она передала их руководству коммунистической партии.
— Мой начальник Отто, — ответил Гилель. — Подчиняться я могу только его приказаниям…
Тут офицеры зондеркоманды изменили тактику и пустили в ход обычный сценарий, а именно угрозу его жене и двум детям, находившимся в замке Бийерон под наблюдением Райхмана. Гилель Кац вновь отклонил предложения Гиринга.
Тогда начались зверские пытки. «Сеансы» следовали без перерыва один за другим. Думаю, что их инициатором был Райзер — начальник парижского отделения зондеркоманды. Немцы прибегли к новой тактике: потребовали от Каца, чтобы тот выложил все, что знал про «Красный оркестр». Они подозревали, что он информирован о многом. Кац и вправду знал буквально все, был посвящен во все важные тайны. Десять дней кряду он переносил ужасы, терпел страшные муки, затем за дело взялся Эрих Юнг, патентованный садист зондеркоманды. Но Кац не сдавался, и тогда из Берлина вызвали «подкрепление», специальную группу по «форсированным допросам», дипломированных экспертов пытки, гангстеров с липкими, окровавленными руками. Гилель без устали повторял:
— Обращайтесь к Отто, он вас информирует, а я был всего лишь маленьким служащим фирмы «Симэкс», никаких секретов мне не доверяли…
Потом, окончательно выбившись из сил, он пытался совершить самоубийство, искромсав себе вену на предплечье, но гестаповцы не позволили ему умереть.
Гиринг, ненадолго отлучавшийся в Берлин, вернулся и застал Каца в тяжелом состоянии. Он решил попытаться как-нибудь загладить самовольные действия своих подчиненных. Гиринг понимал, что Кац мог бы быть полезным в «Большой игре», что без моего разрешения он говорить не станет и вообще без меня от него ничего не добьешься. Он был достаточно умен, чтобы понять простую вещь: человек, способный вынести такие муки, без колебаний готовый лишить себя жизни, никак не может считаться потенциальным предателем. Он поручил Вилли Бергу передать мне, что моего друга истязали без его ведома, а потом попросил меня сказать Кацу, что тот должен пойти к Жюльетте. С этой целью он решил свести нас. Гиринг хотел, чтобы эта встреча прошла в присутствии Берга к без переводчика. Между тем Кац не говорил по-немецки, а Берг не знал французского. Поэтому я предложил, чтобы мы разговаривали на языке идиш, представляющем собой своего рода смешение иврита с немецким. Гиринг согласился, не сознавая, что дает нам шанс, о котором мы могли только мечтать: ведь я смогу дать Гилелю и советы и указания, пользуясь в разговоре чисто древнееврейскими словами.
Прошло несколько дней, Гиринг не спешил. Я понял, что он просто хочет выиграть время, чтобы рубцы и раны на теле моего товарища хоть немного затянулись…
Никогда не забуду минуты, когда я увидел Гилеля. Его привели в служебное помещение, где находились мы с Бергом. Мы не виделись месяц, и он показался мне неузнаваемым, словно каким-то другим человеком. Гилель приблизился и, зарыдав, бросился мне на шею. Он был без очков. Кожа вокруг глаз была в сплошных порезах…
— Посмотри! — сказал он. — Ты только посмотри, что они со мной сделали! Вдавили мне стекла от очков в глаза… А посмотри на мои руки!..
Кац протянул ко мне свои искалеченные, толсто перебинтованные руки с выдранными ногтями.
Он встал совсем вплотную ко мне и с едва скрываемой гордостью шепнул мне на ухо:
— Я не сказал ни слова!
От Берга, стоявшего в стороне, не ускользнула ни одна подробность этой сцены.
— Это не мы… — пробормотал он, — это садист Юнг!.. Разве мог я успокоить моего друга, ободрить его, вдохнуть в него мужество, когда он был в таком ужасающем состоянии! И все же я сказал ему, очень тихо, но уверенным тоном:
— Успокойся, Гилель, возмездие не за горами! Мы провели два часа вместе. Берга несколько раз подзывали к телефону. Я пользовался этими короткими мгновениями, чтобы объяснить Гилелю, что он должен был сделать у Жюльетты.
Под конец встречи его измученное лицо просветлело. Мы снова могли действовать, а желание добиться удачи удесятеряло наши силы.
20. ЧЕТЫРЕ ВСТРЕЧИ С ЖЮЛЬЕТТОЙ
Мадам Жюльетта Муссье по-прежнему находилась на своем посту. Эта женщина отличалась удивительной стойкостью и редким мужеством. Не сдаваться, когда ты фактически находишься в руках врага. Это уже само по себе достойно восхищения. Но сохранять полное самообладание, ни разу не дрогнуть перед лицом постоянной угрозы ареста, когда в любое мгновение могут прийти «они», — это подвиг совершенно иных масштабов.
Мадам Жюльетта знает — она еще нам нужна. Поэтому, будучи настоящим борцом, она пойдет до конца. Следуя необходимым и строго обязательным мерам конспирации, мы с ней договорились:
любой человек, приходящий к ней от меня, прежде всего должен вручить ей красную пуговицу (читатель помнит: Райхман, не знавший этой подробности, ушел от нее, ничего не добившись). Я не стал утаивать от нее правду, сказал, что за кондитерской наверняка следят, но, несмотря на это, ей нужно оставаться на месте. С другой стороны, добавил я, необходимо прервать любые отношения с товарищами по Сопротивлению. Фернану Пориолю — он был в курсе всех дел — было поручено держать ее все время в поле зрения.
Когда мы в присутствии Берга встретились с Кацем, я дал ему указание сделать вид, будто он готов с ними «сотрудничать». Я его незаметно проинструктировал: после посещения Жюльетты он должен сказать, что она его хорошо встретила, но, поскольку у нее прервались контакты с компартией, она постарается восстановить эту связь и даст ему ответ через неделю. После второго визита к Жюльетте Гилель должен был вернуться от нее с положительным ответом: представители компартии согласны встретиться, но не скрывают тревожных опасений и требуют, чтобы соответствующее послание доставил я. Мы рассчитали: Гирингу поневоле придется согласиться отправить к Жюльетте именно меня. Таким образом я наконец смогу передать мое донесение Центру.
Зачем же, спрашивается, столько сложных маневров? А для того, чтобы успокоить Гиринга и его начальство в Берлине…
Гиринг колебался, все не мог решиться подключить Каца к этой операции. Он поделился со мной своими соображениями:
— Раньше Кац представлялся мне идеальным кандидатом для выполнения такого поручения, но после того, как он побывал в руках наших людей, я очень сомневаюсь в его искренности. Он может сыграть с нами злую шутху… Разве можно быть уверенным в человеке, с которым так жестоко обошлись. Не сделает ли он противоположное тому, что от него ожидают?
В сущности, это рассуждение звучало логично. Я попытался успокоить его:
— Все-таки Кац не предает свою мечту. Он всем сердцем желает сепаратного мира, и только это определит его поведение…
Но Гиринг настаивал на своих оговорках; он предложил Гилелю ознакомиться и расписаться под предупреждением о том, что если он сбежит или попытается предупредить Жюльетту, то его жена, дети и я будут расстреляны.
Гилель совершенно спокойно подписался.
За несколько дней до посещения Кацем кондитерской Жакена, близ площади Шатле, офицеры зондеркоманды всполошились. Райзер развертывал по-настоящему крупную операцию: весь квартал оцепили подразделения гестаповцев, рассаженных по черным «ситроенам». Они притаились в прилегающих улицах, готовые в любой момент действовать.
Все шло, как по маслу: Гилель в сопровождении Берга вошел в кондитерскую и вскоре вышел оттуда с пакетом сладостей (или, по крайней мере, с тем, что в условиях оккупации так называлось). Как мы сговорились, он сообщил Гирингу: в следующую субботу состоится вторая встреча. Гиринга это вполне устраивало, он решил, что в следующий раз Кац передаст для Центра радиограмму чисто успокоительного свойства, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров, наша группа цела и невредима и мы можем продолжать работать в том же духе.
Я сумел убедить Гиринга в целесообразности предложить моему Директору прекратить на месяц всякую связь, ибо, пояснил я, если бы находился на свободе, то как раз именно это и предложил Центру. Такая дополнительная отсрочка давала нам преимущество: перед мадам Жюльеттой открывалась возможность скрыться (при встрече я бы ее соответственно проинструктировал). В общем мои шансы на этот неожиданный контакт с ней казались реальными, если, конечно, Кац, вернувшись после второго визита, скажет, что текст донесения обязательно должен быть доставлен и вручен мною лично и что это conditio sine qua non81.
Надо было подготовить доклад. В нормальных условиях такая работа потребовала бы нескольких часов, но в теперешней ситуации мне пришлось затеять с моими охранниками нечто вроде игры в прятки. Эта игра не допускала никакой импровизации, никаких промахов. Я не мог работать над докладом днем, и не из-за стороживших меня эсэсовцев — те привыкли видеть меня за занятиями по немецкому языку, а из-за Берга, который мог нагрянуть в любую секунду и чье любопытство было необходимо усыпить. Так что оставалось только ночное время. Свет горел непрерывно: я страдал от бессонницы и получил разрешение читать. Лучше всего было работать от двух до трех, когда охранники спали, облокотившись о стол… Инструкция обязывала их периодически вставать и поглядывать на меня через решетку, но в действительности они это предписание не соблюдали. В случае необходимости я мог бы быстренько сунуть листки под одеяло. Свой доклад я писал на полосках бумаги, вырезаемых из газет, крохотными буквами, пользуясь некоей смесью идиш, иврита и польского. Если бы меня все-таки разоблачили, то время, необходимое для расшифровки подобного ребуса, дало бы мне известную отсрочку.
Чтобы убедить Центр, я должен был восстановить хронологически все события с 13 декабря 1941 года. Я составил подробный перечень арестов с точным указанием дат, мест и обстоятельств. Я рассказал все, что знал о поведении членов нашей сети после их ареста. Затем перечислил все рации, попавшие в руки врага, перехваченные и расшифрованные радиограммы, раскрытые шифры. Как можно более подробно объяснил суть «Большой игры», ее политические и военные цели, применяемые в ней средства. Наконец следовал список всех лиц, находившихся под угрозой ареста.
Во второй части сообщения я предлагал два варианта возможной реакции Центра.
Вариант первый: Центр считает полезным продолжить «Большую игру» и взять инициативу в свои руки. В этом случае 23 февраля 1943 года Директор посылает поздравительную радиограмму по случаю годовщины Красной Армии и моего дня рождения.
Вариант второй: Центр не находит нужным продолжать «Большую игру». Тогда в течение месяца или двух он посылает мне радиограммы, чтобы не насторожить противника резкой реакцией на мое сообщение.
Кроме того, я написал личное письмо Жаку Дюкло, в котором описал сложность и тяжесть положения. Я просил его проследить лично, чтобы мой доклад попал непосредственно к Димитрову, а тот в свою очередь передал бы его руководству ВКП(б). Одновременно я послал ему список двадцати лиц, чья безопасность должна быть обеспечена немедленно. Первыми в этом перечне я назвал Фернана Пориоля и Жюльетту.
Тем временем зондеркоманда готовила вторую встречу Каца с Жюльеттой. Гиринг не знал, на каком языке написать донесение Центру и каким шифром закодировать его. Кент сказал ему, что донесения, предназначенные для коммунистической партии, мы зашифровывали специальным кодом. Я категорически опроверг это. Наконец Гиринг решил использовать шифр Кента и написать текст радиограммы по-русски.
Это было еще одним сигналом, настораживающим Центр: мои донесения всегда составлялись по-немецки. Написанные симпатическими чернилами, они зашифровывались по коду коммунистической партии.
Вторая встреча была подготовлена в полном соответствии с принятыми правилами режиссуры: оцепление, наблюдение. Гиринг был убежден, что Жюльетта примет послание, которое ей доставит Кац. Каково же было его изумление, когда Кац вернулся с посланием обратно, да еще с пакетиком конфет в виде «премии»… С простодушной улыбкой, которая могла бы убедить монаха-францисканца в его безбожии, Кац, как и было согласовано, заявил Гирингу, что «товарищи» крайне обеспокоены моей судьбой: слухи о моем аресте уже начали распространяться. Жюльетта получила приказ принимать лишь те донесения, которые я лично буду ей доставлять. На всякий случай Кац договорился с ней о возможной встрече со мной.
Гиринг моментально и весьма заметно разнервничался и попросил меня высказать свое мнение.
— Меня это ничуть не удивляет, — спокойно пояснил я. — Со дня моего ареста прошло два месяца, и с тех пор меня нигде не видели, я не подавал никаких признаков жизни, все нити, которые связывали меня с коммунистической партией, оборваны. Несколько раз я вас предупреждал, что дело может принять именно такой оборот. Поставьте себя на место функционеров ФКП. Будь вы в их положении, и у вас возникли бы серьезные сомнения. Во всем происходящем виноваты только вы, так как сами не желали, чтобы я сотрудничал в «Большой игре». Теперь все поставлено под удар.
В порыве явной откровенности он мне ответил, что с самого начала добивался моего участия в этом деле, но начальники в Берлине были против, хотя в ряде рапортов он специально подчеркивал мою добрую волю. В Берлине, сказал он, опасаются, как бы коммунистическая партия не постаралась освободить меня силой.
— Во всяком случае, — заметил я, — если через неделю моя встреча с Жюльеттой не состоится, можете навсегда распрощаться с «Большой игрой». Что касается меня, то прошу перевода в тюрьму Френ.
После этого разговора Гиринг тут же отправился на самолете в Берлин. Через несколько дней он вернулся, получив «добро» от своих шефов.
В его отсутствие я ежедневно вел дружественные беседы с Бергом, которому Гиринг поручил поподробней прощупать меня и выведать мои истинные намерения. От Берга я узнал, что сам Гиммлер проявляет большой интерес к операции «Большая игра». Это известие лишний раз убедило, что вся эта афера очень дурно пахнет.
Операция «Жюльетта», как я полагал, должна была оказаться успешной.Я,конечно, понимал, что в случае ее провала всех до последнего заключенных из «Красного оркестра» ждет смертная казнь.
Всегда и везде я делал все мыслимое и немыслимое, чтобы спасать людей от смерти, но на сей раз я ни секунды не колебался, ставя на карту жизнь моих соратников. Бывают мгновения, когда один-единственный человек вынужден взвалить на свои плечи огромную ответственность. Мне было не с кем посоветоваться. Я тогда сам сделал выбор и сейчас, по прошествии тридцати лет, этим горжусь.
В четверг вечером — за два дня до встречи с Жюльеттой — у меня состоялся долгий разговор с Гирингом. Для него, как он меня уверял, это было последней попыткой. Признался, что в Берлине ему стоило немалых трудов добиться санкции на эту встречу и всю ответственность за нее несет он один.
— Я придаю большое значение успешному исходу этой встречи, потому что если мы вновь завоюем доверие ФКП, то и с Центром дело пойдет гораздо лучше, — сказал он.
Затем стал анализировать гипотезы, способные объяснить мое поведение:
— Предательство с вашей стороны исключаю начисто. Но если у вас нет полной уверенности в каких-то шансах на сепаратный мир, то, боюсь, встречу с Жюльеттой вы используете с целью так или иначе предостеречь ее. Предупреждаю: если вы предпримете попытку бежать или если насторожите Жюльетту, я прикажу расстрелять всех узников «Красного оркестра» во Франции и в Бельгии.
Тут я вышел из себя:
— Такая угроза человеку, с которым вы якобы желаете сотрудничать во имя заключения сепаратного мира, наводит меня на печальные мысли… Пусть уж лучше сразу… Пусть сейчас произойдет то, чего я ожидаю с первой минуты моего ареста. Поставьте меня перед командой солдат, которые приводят приговор в исполнение!
Больше Гиринг мне никогда не угрожал. Сам он в конце концов все отлично понял, но, поскольку, докладывая обо мне своим шефам, явно блефовал, расписывая бог весть какие успехи, которых якобы добился при моей «обработке», ему Поневоле пришлось пойти на риск моей встречи с Жюльеттой Муссье… Но как бы то ни было, со мной он оставался настороже.
В последнюю ночь перед этой встречей мне все никак не удавалось уснуть. Я прикидывал в уме разные варианты. Я не допускал мысли, что Гиринг распорядится обыскать меня, ибо знал, что в этом случае я от встречи откажусь. Но могли быть провокации со стороны «друзей» Гиринга. Шеф парижского гестапо Бемельбург и начальник зондеркоманды в Париже Райзер только и мечтали о провале Гиринга. Их задачей было обеспечить благополучный исход встречи. Им было бы нетрудно разыграть «попытку к бегству» и на этом основании арестовать Жюльетту. Берг предупредил меня, что, по мнению некоторых членов зондеркоманды, арест Жюльетты помог бы прояснить ситуацию.
Взвесив все, я решил пойти на встречу с пустыми руками. Если все пройдет гладко, то я назначу Жюльетте второе рандеву и уж тогда вручу ей оба послания — Гиринга и мое…
Во второй половине того субботнего дня двор на улице де Соссэ был словно на военном положении. Множество агентов гестапо отправлялись оцеплять площадь Шатле. Берг должен был вместе со мной войти в кондитерскую, но я подозревал, что там будут и другие агенты.
И вот я на месте. Жюльетта очень обрадовалась встрече со мной. Мы обнимаемся и при этом я ухитряюсь шепнуть ей на ушко, что приду снова через неделю и принесу ей послание, которое необходимо передать другому лицу, как только я покину кондитерскую. Затем и она, и это другое лицо должны исчезнуть до окончания войны. Жюльетта запоминает все, сохраняя непринужденное и приветливое выражение лица, и вручает мне пакет с шоколадными конфетами.
При возвращении на улицу де Соссэ Гиринг очень спокоен. Но он удивлен — почему я не передал ей донесение? Я ему объясняю:
— Жюльетта говорит, что уже не выполняет обязанности связной, но в кондитерскую заходил какой-то незнакомый ей товарищ, и он подтвердил, что дела идут нормально. В общем при следующей встрече она сможет принять послание.
Эта с виду логичная версия успокоила Гиринга. В итоге он остался довольным всеми тремя встречами с Жюльеттой.
Последнее, решающее рандеву с Жюльеттой было назначено на последнюю субботу января 1943 года, непосредственно перед закрытием кондитерского магазина. Это время я выбрал не случайно, ибо по воскресеньям и понедельникам магазин не работал, и у Жюльетты было бы больше времени, чтобы скрыться.
В ночь накануне я извлек свой доклад из «сейфа» — ножки кровати — и сунул его на дно кармана, положив поверх носовой платок. Гиринг приехал за мной, мы немного поболтали и двинулись в путь.
В этот раз наша «экспедиция» протекала скромнее, шпиков было поменьше и действовали ела почти незаметно… Я вручил Жюльетте сложенные вместе оба донесения и уточнил: зашифрованный текст исходит от немцев, а большой доклад я посылаю от себя лично. И то и другое надо передать по радио московскому Центру. Я обнял ее и еще раз порекомендовал поскорее исчезнуть. Больше я ее не видел, этой радости меня лишили тягостные послевоенные дни.
А потом я вернулся к себе в камеру, и на сердце у меня было легко и спокойно. Я был уверен, что мой доклад попадет по назначению и повлечет за собой ряд радикальных перемен в действиях Центра. И каким бы ни оказалось окончательное решение моего Директора по поводу «Большой игры», одного я достиг: враг уже не сможет безнаказанно пользоваться передатчиками «Красного оркестра», то есть Центр больше не рисковал быть снова и снова обманутым.
Теперь мне оставалось лишь одно — ждать ответа.
Хотя Гиринг не отличался особой восторженностью, все же он заявил мне, что опять очень обрадован результатами, которых мы добились: Жюльетта приняла донесение, и, как он полагает, агенты советской контрразведки, находившиеся в кондитерской, воочию убедились, что я на свободе.
Гиринг был доволен, что само по себе казалось мне очень важным. Но я понимал, как будет трудно объяснить ему причины исчезновения Жюльетты. Зондеркоманда, конечно, держала кондитерскую Жакена под наблюдением, в этом я не сомневался.
И все-таки исчезновение мадам Жюльетты диктовалось необходимостью, я не имел права продолжать рисковать ее жизнью, равно как и жизнью Фернана Пориоля.
Во вторник — в день, когда кондитерская вновь открылась, ко мне явился Гиринг. Он выглядел озабоченным.
— Вы знаете, — сказал он, — эта женщина не вышла на работу… Я,разумеется, попытался успокоить его.
— После стольких арестов ее реакция представляется мне вполне естественной. Жюльетта, видимо, боится, как бы ваши люди не увели ее с собой…
Конечно, оправдать поступок Жюльетты в глазах Гиринга было крайне сложно. Он начал что-то подозревать. Через неделю он направил в кондитерскую какого-то говорившего по-французски чина из зондеркоманды, поручив ему выведать про Жюльетту. Директриса магазина сообщила этому человеку, что Жюльетта получила телеграмму от старой, больной тетки и вынуждена была отправиться к ней.
Гиринг становился все более озабоченным…
— Знаете, что я думаю? — сказал он мне. — Руководство компартии, возможно, не уверено, что на эту встречу вы явились как свободный человек…
— Думается, Жюльетта повела себя просто импульсивно, чисто по-женски, ведь с ними никогда ничего не знаешь заранее… Давайте выждем, какой будет реакция Центра. Сейчас важно только это. Только этим все и решается!
Гиринг покачал головой. Мне не удалось рассеять его сомнения, он намекнул, что вскоре все выяснится… Но по-настоящему меня беспокоило другое, и куда сильнее, нежели душевное состояние начальника зондеркоманды. Беспокоила меня мысль о реакции Центра. Какой она будет? Часто по ночам и меня охватывали сомнения. На личном опыте я убедился, что признание собственной ошибки порой требует какого-то прямо-таки геройского преодоления самого себя, а у руководителя Центра в течение всего 1942 года ошибок накопилось великое множество. Их было так много, что иной раз я спрашивал себя: а не замешан ли здесь какой-то злой дух или, проще говоря, не пробрался ли в Центр вражеский агент?.. Да, в течение этих долгих, бессонных ночей, глубокая тишина которых способствует всевозможным раздумьям, страхам, чувствам тоски и ностальгии, я несказанно сожалел, что во главе разведывательной службы Красной Армии нет больше такого человека, как Берзин!
23 февраля 1943 года. Дата — еще одна дата! — которую мне никогда не забыть… Сияющий Гиринг входит в мою камеру и, торжествуя, объявляет мне, что по аппарату Кента только что приняты две радиограммы Директора; он показывает их мне, и я читаю первую:
«В день годовщины славной Красной Армии и вашего рождения (тут я едва не вскрикнул от радости: дело сделано. Центр предупрежден!) мы шлем вам наши наилучшие пожелания. Принимая во внимание ваши большие заслуги. Дирекция решила войти в правительство с ходатайством о награждении вас военным орденом».
Затем читаю вторую радиограмму:
«Отто, мы получили вашу телеграмму, переданную с помощью наших друзей. Будем надеяться, что ситуация улучшится. Считаем необходимым для обеспечения вашей безопасности прервать с вами связь до нового распоряжения. Свяжитесь с нами напрямую. Пошлем вам подробные директивы, касающиеся работы вашей сети в будущем. Директор»82.
Я не скрывал своей радости. Все наши труды и старания были вознаграждены. Инициатива в «Большой игре» переходила в руки Красной Армии. Настал час реванша!
Гиринг тоже сиял.
— Отлично! — воскликнул он. — Просто отлично! Теперь мы видим, что Центр действительно доверяет нам!
Примерно тогда же моя жена, эвакуированная с детьми в Сибирь, получила от руководства Центра следующую телеграмму: «Ваш муж — герой. Он работает для победы нашей Родины». Телеграмма была подписана полковником Эпштейном, майором Поляковой, майором Леонтьевым.
21. БРЕЕНДОНКСКИЙ АД
Про ад невозможно рассказать. В нем живут. Хорошо, коли удается пережить его и выжить, но чаще всего в нем остаются навеки. В аду страдают всегда. Люди, не испытавшие ужасов гестапо, не могут вообразить их себе. Но никакое воображение не может подняться до уровня кошмара, возведенного в систему. Для выживших членов «Красного оркестра», людей, так сказать, вознесшихся из преисподней, остались одни лишь воспоминания об истязаемой плоти, и часто, по ночам, эти воспоминания вырывают их из удушливого сна. А колесо истории продолжает вертеться, и на человечество обрушиваются все новые кровавые преступления, геноцид и пытки. Кровь высыхает скорее, чем типографская краска на первой полосе газет. Из памяти людской уходят грохот и ярость этой войны. Больше того, иной раз ее изображают чуть ли не в виде какого-то пикника на идиллической природе. В литературе, на телеэкранах и в кино позорнейшие вещи приобретают совершенно невинный вид, дабы ни в коем случае не оскорбить чью-то невинность и добродетель. Военные преступники нежатся на солнце у плавательных бассейнов и чокаются друг с другом в память «прекрасного времени».
Сегодня в мире немало людей, выступающих в роли адвокатов звериного нацизма, сознательно или неосознанно обеляющих коричневую чуму. Историки и кинорежиссеры совлекают с гестаповского Мюллера или Карла Гиринга, Паннвица и Райзера окровавленные передники живодеров и надевают на них джентльменские рединготы. Белые перчатки словно бы скрывают от наших глаз дубинки, которыми избивали, уродовали, калечили. «Чего ж вы хотите, — восклицают эти добросердечные люди, — ведь в те годы высокопоставленные функционеры и чиновники, военные или специалисты по контрразведке не могли не подчиняться определенным приказам!» Верные служители третьей империи, они повиновались десяти заповедям преступления! Теперь нам их расписывают как этаких степенных, уравновешенных граждан, которые ежедневно спокойно и размеренно выполняли все свои задачи. Кроме одной! Той, в которой они превзошли самих себя, — задачи кровавых палачей, истязающих в подвалах агонизирующих мучеников. Простые исполнители, они попросту «исполняли». Сегодня их реабилитируют. Расспросите уцелевших товарищей из «Красного оркестра», пусть поведают вам о пережитом. Их рассказы быстро перенесут вас на столетия назад… Когда же были эти самые «средние» века? Да всего лишь тридцать лет назад, и «джентльмены» из гестапо чувствовали себя в этом «средневековье» как нельзя лучше. А что до заключенных, то страшные семь букв — ГЕСТАПО — навсегда врезались в их плоть и память.
7 декабря 1941 года Гитлер продиктовал свой знаменитый указ «Nacht und Nebel» («Ночь и туман»). «Если на оккупированных территориях негерманские гражданские лица совершают наказуемые деяния, направленные против рейха или оккупационных войск и угрожающие их безопасности или боеспособности, то против таких лиц в принципе уместно применять смертную казнь».
Примерно в середине 1942 года Канарис и Гиммлер подписали директиву, так называемую «Линию Коминтерна». В ней уточнялось, что для получения признаний от арестованных радистов, шифровальщиков, информаторов могут быть использованы все средства. Однако руководителей разведывательных сетей ни в коем случае нельзя подвергать пыткам. Напротив, следует использовать любые возможности в попытке «повернуть» их, то есть склонить к сотрудничеству.
Таковы две директивы, которыми зондеркоманда и руководствовалась… В течение всего периода оккупации военный форт Бреендонк в Бельгии был одним из избранных мест национал-социалистского злодейского варварства. Именно там переносили страшнейшие страдания и гибли многие наши товарищи.
Форт Бреендонк был сооружен в 1906 году у шоссе, ведущего из Брюсселя в Антверпен. В кампанию 1940 года он служил главной штаб-квартирой королю Леопольду III. 29 августа он был преобразован в Auffang-lager (приемный лагерь), а 20 сентября, меньше чем через месяц, штурмбаннфюрерСС Шмитт доставил туда своих первых заключенных. Число содержавшихся здесь узников непрерывно росло — в ноябре 1940 года их было всего пятьдесят, а к июню 1941 года, в момент гитлеровского нападения на Советский Союз, достигло своего наивысшего уровня.
Голодные пайки, каторжный труд, издевательства, избиения и пытки — такова была повседневная участь заключенных. Начиная с 1941 года службу охраны лагеря несли бельгийские эсэсовцы и предатели из других оккупированных стран. Один из них встречал вновь прибывающих такой фразой: «Здесь — ад, а я — дьявол!»
Он не преувеличивал… Большую часть узников никогда не судили; одни попадали сюда транзитом, по пути в лагеря смерти, а гестапо не хотело разглашать сведения об их аресте. Другие подвергались «обыску», и специально для них гестапо устроило «бункер». Камеру пыток оборудовали в бывшем пороховом погребе, куда можно было пройти по длинному, узкому коридору. Подвешенные руками к блоку, бреендонкские узники переносили муки, придуманные в каком-то другом столетии: зажимы для пальцев, тиски для головы, электрические колючки, бруски железа, раскаленные докрасна, деревянные клинья… Если результаты допроса не удовлетворяли эсэсовца Шмитта, он спускал на несчастных собак. При эвакуации лагеря фашисты старались ликвидировать следы своих преступлений, они очистили камеру пыток от ее наиболее компрометирующих атрибутов. Но они забыли про память выживших, чьи свидетельские показания позволили в точности реконструировать все… В ходе подготовки процесса над Шмиттом его доставили на место совершенных им злодеяний. Он, конечно, не проявил никаких эмоций, сказал, что (за исключением сцен, изображающих ужасы пыток) сама по себе обстановка воспроизведена достоверно, но все же уточнил, что клинообразный деревянный обрубок, на который сваливали пытаемых из висячего положения, поставлен, пожалуй, повыше, чем прежде!
После предательства Ефремова мы потеряли следы многих членов «Красного оркестра», арестованных в Бельгии. Радиограммы по-прежнему передавались от их имени, немцы стремились создать впечатление, будто эти люди «повернуты» и продолжают действовать, но теперь уже в противоположном смысле. В действительности же наши радисты, находясь в застенках Бреендонка, изолированные и подвергаемые пыткам, никакого участия в «игре» не принимали. В этом смысле расследование, которое я предпринял при самом деятельном сотрудничестве бельгийских властей, дало мне довольно большой «урожай» весьма поучительной информации.
Прежде всего хотелось бы сказать о деле Винтеринка, который — читатель это уже знает — был руководителем голландской группы «Красного оркестра». Его арестовали по доносу Ефремова 16 сентября 1942 года, и с тех пор его следы пропали. Некоторые «историки», писавшие после войны о «Красном оркестре», в частности в ФРГ, утверждали, что этот наш товарищ якобы согласился работать на зондеркоманду и что в 1944 году ему удалось бежать, разумеется в обозном фургоне противника83. Не в силах поверить в такую тенденциозную версию, я взялся за расследование этого случая и могу только порадоваться результатам:
правда о Винтеринке совсем иная. Сначала его заключили в брюссельскую тюрьму Сен-Жиль, а 18 ноября 1942 года перевезли в Бреендонк. Одновременно его рация вновь заработала… По мнению истинных специалистов из «Красного оркестра», свои донесения Винтеринк мог составлять только в промежутках между двумя сеансами пыток. Вот какой оказалась в действительности судьба, уготованная на долгих два года этому «предателю»… Зато настоящие предатели, которые, подобно Ефремову, перешли к врагу, жили в комфортабельных квартирах, не имевших даже самого отдаленного сходства с казематами бреендонкского форта преступлений.
6 июля 1944 года Винтеринк был вновь доставлен в тюрьму Сен-Жиль и в тот же день расстрелян в «Национальном тире». Чтобы скрыть это преступление, палачи, как обычно, надписали на его могиле: «Неизвестен»84.
Я продолжаю:
Огюст Сесе, «пианист», тоже якобы «повернутый» немцами. Арестован 28 августа 1942 года, заточен в форт Бреендонк, где остается до апреля 1943 года, приговорен к смерти, доставлен в Берлин, казнен в январе 1944 года.
Избуцкий (Боб): В Москву посылаются радиограммы от его имени… В действительности арестованного в августе 1942 года, его переводят в Бреендонк, где устраивают очную ставку с Маркусом Люстбадером, родственником Сары Гольдберг85… «Боба так сильно пытали, что его было невозможно узнать», — расскажет Люстбадер после своего возвращения из Освенцима. Избуцкого казнят 6 июля 1944 года в берлинской тюрьме Шарлоттенбург.
В июне 1942 года в Бреендонк попадают Аламо и Нами. После пыток военный трибунал под председательством Редера приговаривает их к смертной казни (18 февраля 1943 года). Ками расстреливают 30 апреля, а мне удается спасти Аламо — Макарова. Помня, что его сестра работала в аппарате Молотова, я однажды — в начале 1943 года, — беседуя с Гирингом, «доверительно» назвал Аламо «племянником» советского министра иностранных дел. Начальник зондеркоманды доложил об этом Герингу, который распорядился отсрочить приведение в исполнение смертного приговора. Макарова депортировали. Его следы обнаруживаются в самые последние дни войны в одном из лагерей близ итальянской границы. Он был освобожден американцами и передан ими советским инстанциям86.
28 сентября 1942 года Софи Познанска, шифровалыцица с улицы Атребатов, повесилась в своей камере в тюрьме Сен-Жиль.
Через несколько месяцев после ареста Герша и Миры Сокол (их забрали в Мезон-Лафит 9 июня 1942 года) они тоже оказались в этом страшном форте пыток. Из описания одной бывшей заключенной мы узнаем, каким был их крестный путь на голгофу:
«Чтобы заставить Миру заговорить, были использованы все полицейские методы, — писала в своей книге „Братская симфония“ госпожа Бетти Депельсенер. — После долгих дней ожидания с руками за спиной, скованными наручниками, в присутствии нескольких эсэсовцев-полицейских была разыграна сцена устрашения, чтобы в последний раз побудить Миру быть „благоразумной“, затем несколько очных ставок, сопровождаемых сильными пощечинами. Далее пытки.
Следователь вцепился в Миру, словно она какой-то свирепый зверек, закрывает ей рот ладонью и тащит за волосы по узкому и темному коридору, ведущему в камеру пыток… В этом помещении, похожем на подземелье, нет окон, оно никогда не проветривается. В нос ударяет вонь горелого мяса, смешанная с запахом плесени. От этого становится дурно. Стол, табурет, толстая веревка, прикрепленная к потолку с помощью блока. Телефон прямой связи с полицией в Брюсселе. Следователь приказывает Мире стать на колени и перегнуться через табурет. Удар хлыста, второй удар. Полицейские понимают, что надо действовать покруче. Картина дополняется комендантом лагеря и двумя эсэсовцами. Здесь же полицейские овчарки. С Миры снимают наручники, теперь она должна вытянуть руки вперед. На нее надевают оковы.Их стягивают поплотнее, скрепляют с веревкой так, что тело можно мелкими рывками приподнимать все выше, а кончики пальцев ступни все еще касаются пола. Непрерывно свистит хлыст. Но этого недостаточно. Хлыст заменяется дубинкой, наконец появляется толстая палка. Как бы ею ни бить она не сломается. Мира кричит, это немного облегчает мучение, но ничего не говорит.
Следователь рассвирепел, с его лба стекают капли пота. Он решает подтянуть веревку еще повыше, чтобы тело свободно повисло.
Теперь всю тяжесть несут запястья в оковах, их края врезаются в плоть. Но так как тело слегка раскачивается, удары палки уже не так чувствительны, и по знаку палача майор хватает рукой истязуемую, чтобы зафиксировать ее в строго вертикальном положении. Тогда удары более действенны. Мира больше не может, она теряет сознание. Придя в себя, она видит свои руки, они совершенно синие, полностью деформированы. Она распрямляется и опять готова смотреть врагам в лицо. Новая вспышка их бешеной ярости не заставляет себя ждать. Все начинается сначала. И опять обморок… Сегодня палач сдается…»
Такому обращению Герш и Мира будут подвергаться несколько месяцев кряду. Они знают шифр всех шести сотен радиограмм, переданных через их рацию, но до конца сохранят его тайну. Стремясь во что бы то ни стало сломить их, палачи заставят Миру присутствовать на сеансах пыток Герша и наоборот. Герш, уже совсем больной, весит всего тридцать семь килограммов. Лагерный врач удивляется такой силе сопротивления:
— Нет, подумать только: он до сих пор еще жив. Действительно крепкий орешек, ничего не скажешь. Просто удивительно, как долго организм человека способен сопротивляться…
Но комендант лагеря хочет с ним покончить и преуспевает в этом: снова в ход пускаются собаки, они разрывают Герша на куски87.
Мира умрет от истощения в одном из лагерей на территории Германии.
Жанна, супруга Гроссфогеля, провела четыре месяца в Бреендонке, где ее ожидала та же участь, что и ее товарищей. Туда же попадут Морис Пеппер, агент по связи с Голландией, расстрелянный 28 февраля 1944 года, Жан Жессер, у которого был найден радиопередатчик. Морис Бебле, юрисконсульт фирмы «Симэкс», находился в Бреендонке несколько месяцев, в течение которых его часто «приглашали» в камеру пыток. Его расстреляли в 1943 году в Берлине. Вилльям Круйт, член голландской группы, десантирован-ный в возрасте шестидесяти трех лет, схвачен тотчас же после своего приземления. Он проглатывает пилюлю с цианистым калием, но выживает. Гестапо пытает его, чтобы узнать, кто второй парашютист, высаженный одновременно с ним. Но он молчит, и тогда немцы волокут его в морг и срывают простыню с трупа его спутника. Это его собственный сын, убитый в момент приземления. Круйта привозят в Бреендонк и там расстреливают.
Все в том же Бреендонке допрашивают «с собаками» Назарена Драйи, директора «Симэкско» в 1942 году, арестованного в январе 1943 года на квартире его возлюбленной. С растерзанными ногами его отвезли в какой-то антверпенский госпиталь, где пришлось произвести ему ампутацию одной ноги88. Доставив обратно в Бреендонк, его приговаривают к смерти, затем перевозят в Берлин в поезде, в котором следует большинство членов «Красного оркестра», арестованных во Франции и в Бельгии. Среди них его жена, Жермена. Она видит своего мужа ковыляющим между двумя гестаповцами, бледного, словно покойник, но не узнает его. Кто-то толкает ее локтем в бок:
— Да ведь это же ваш муж!
Ей удается поговорить с ним минуту-другую в коридоре.
— Ты заметила? У меня одна нога короче другой, — говорит он ей.
Больше она его не увидит. 28 июля 1943 года он будет обезглавлен в Берлине. Жермена Драйи после долгого пребывания в берлинских тюрьмах, последовательно испытает концентрационные лагеря в Равенсбрюке, Шенфельде, Ораниенбурге, где 19 марта ей предстояло погибнуть в газовой камере,
Но 15 марта британские самолеты бомбят этот концлагерь, и Жермене удается бежать. Не умея плавать, она кое-как переправляется через канал. «Было такое ощущение, будто я иду по воде», — скажет она впоследствии. Вновь пойманную гестаповцами, ее отправляют с эшелоном смертников в концлагерь Заксенхаузен. Идут последние дни войны…
Благодаря какому-то чуду Жермена уцелела. Она вспоминает, что в этом поезде арестованные во Франции супруги Корбен, месье и мадам Жаспар, Робер Брейер, Сюзанна Куант, Келлер, Франц и Жермена Шнайдер, Гриотто встретились с товарищами из Бельгии — Шарлем Драйи, братом Назарена, Робером Кристианом, Луи Тевене, фабрикантом сигарет. Биллем Хоориксом, художником-живописцем и другом Аламо, которому он помогал арендовать квартиры, и другими…
Из двадцати семи членов «Красного оркестра», прошедших через форт Бреендонк, шестнадцать были приговорены к смертной казни. Остальных отправили в концентрационный лагерь с пометкой «Ночь и туман», позволявшей казнить без суда.
Благодаря мемуарам Бетти Депельсенер мы знаем, что в апреле 1943 года в камере смертников берлинской тюрьмы Моабит встретились Жанна Гроссфогель, Кете Фелькнер, Сюзанна Куант, Рита Арну и Флора Велертс. Эти женщины встретили смерть с мужеством, которому изумились даже их надзиратели. По вечерам Жанна пела, а Флора танцевала. Когда утром 3 июля 1943 года к месту казни вместе с другими повели Риту Арну, которая после арестов на улице Атребатов выдала имя Шпрингера, она стала молить флору, его жену, о прощении, и та простила ее. Кете, услышав свой смертный приговор, вскинула вверх кулак и бросила в лицо судьям:
«Я счастлива, что внесла свой маленький вклад в дело коммунизма!» Сюзанна, Флора, Рита и их подруги погибли под топором палача.
Нацист, прокурор Редер, который из-за своей исступленной кровожадности заслужил прозвище «гитлеровская ищейка», был в свое время председателем трибунала на всех процессах бойцов «Красного оркестра», а сегодня он занимает должность заместителя бургомистра небольшого немецкого местечка89. 16 сентября 1948 года он заявил следователю, который вел его дело и которое впоследствии было прекращено «за отсутствием состава преступления»:
«Я знаю, что общее число осужденных из „Красного оркестра“ во Франции и в Бельгии не превысило двадцать — двадцать пять человек. К высшей мере наказания приговорили одну треть… В начале 1943 года я обратился к рейхсмаршалу Герингу с просьбой помиловать женщин, приговоренных к смерти, и он дал свое согласие на это».
Тот же Редер добавил, что в Берлине из семидесяти четырех арестованных сорок семь были казнены. Здесь я вновь вынужден сказать, что мои расследования дали иные результаты.
Около восьмидесяти человек были арестованы во Франции и в Бельгии. Сорок восемь из них погибли (расстреляны, обезглавлены, повешены, умерли под пыткой, покончили жизнь самоубийством или навсегда остались в концентрационном лагере). Выжили только двадцать семь. Но эти итоги никоим образом нельзя считать окончательными.
Из членов группы «Красного оркестра» в Германии с 1 августа 1942 года до начала 1943 года было арестовано примерно сто тридцать человек. Семьдесят пять поплатились жизнью, остальных депортировали. Выжили только сорок90.
Такова правда, да и то она пока еще до конца не известна… Что сделалось с Маргерит Мариве, секретаршей марсельского отделения фирмы «Симэкс», с Модестой Эрлих, у которой арестовали Гилеля Каца, со Шрайбером, Йозефом Кацом, братом Гилеля, Гарри Робинсоном, обеими сестрами и свояком Жермены Шнайдер?..
А сколько невинных людей были арестованы за мнимую причастность к «Красному оркестру»! Пострадали целые семейства — Драйи, Гроссфогели, Шнайдеры, Корбены. Из архивов германской полиции я узнал, что после эпизода на улице Атребатов за принадлежность к «Красному оркестру» гестапо забрало Марселя Вранкса, Луи Бургена, Реджинальда Голдмаера, Эмилия Карлоса, Боланжье. А ведь ни один из них не имели абсолютно никакого отношения к нашей сети, как говорится, ни сном ни духом.
Весной 1945 года по приказу из Берлина были сожжены архивы «Красного оркестра»91. После войны оставались всего один текст из архива Мюллера от декабря 1942 года и документы абвера. Капитан Пиле (напоминаю: тот самый, что запеленговал передачи, посылаемые в эфир с улицы Атребатов) описал обстоятельства, при которых начиная с лета 1942 года разведывательная служба вермахта была отстранена от расследования наиболее важных моментов, относящихся к работе «Красного оркестра». Зондеркоманда ограничивалась тем, что время от времени подбрасывала абверу сильно сокращенные или даже искаженные сведения.
После окончания войны, желая спасти свои шкуры, люди из зондеркоманды измышляли истории, одна экстравагантнее другой. Если верить им, то всеми полученными результатами они обязаны исключительно… стихийным признаниям и непосредственному сотрудничеству агентов «Красного оркестра», включая и его «Большого Шефа»(!).
Пытки?! А что собственно означает это слово? Они его вообще никогда не слышали. Они были только лишь воинами, благородными рыцарями и пользовались доверенным им оружием в строгом соответствии со своим служебным долгом. Однако, к сожалению, нашлись у них какие-то неожиданные союзники да сообщники, самым возмутительным образом искажающие правду, лишь бы скрыть собственные преступления, умолчать о них! Но союзники они, сообщники или нет, все равно: ложь не может длиться вечно, а правда раньше или позже пробьет себе дорогу…
В Берлине, Брюсселе и Париже для десятков борцов «Красного оркестра» смерть как бы располагалась где-то в самом низу большой лестницы, каждая ступенька которой приносила новые страдания. Умершие во имя уничтожения коричневой чумы, эти герои, вопреки своему глубочайшему отчаянию, все-таки надеялись, что грядущий, наконец-то измененный мир не забудет их и передаст потомкам достоверные свидетельства об их жизни. Но ведь этот «грядущий мир» — вот он, это наш сегодняшний день. А невозмутимый земной шар продолжает вращаться, и молчание становится все более непроницаемым. Главные начальники зондеркомиссии (особой комиссии) в Берлине и зондеркоманды в Париже пустились во все тяжкие, пытаясь стереть следы своих преступлений. Только бы люди забыли их имена! Взять, к примеру, дело гауптштурмфюрера СС Райзера, который с ноября 1942 года по июль 1943 года возглавлял зондеркоманду во Франции. Патетически прижимая руку к сердцу, он заявил: «В моем подразделении пытки не применялись никогда! У меня совершенно незапятнанная совесть». Но сколько раз эта рука, «никогда не прикоснувшаяся к заключенному», подписывала приказы о передаче его жертв в руки специализированных палачей из службы «форсированных допросов»? Кто в течение одного месяца трижды приказывал пытать Альфреда Корбена? Кто распорядился замучить досмерти Герша и Миру Сокол?.. В подразделении Райзера, видите ли, никогда и никого не пытали!! Может, из-за отсутствия подходящего «снаряжения»? Может, не было у них этих ящичков с наборами инструментов для пыток, которые по просьбе Райзера не раз привозили с собой из Берлина его специализированные и многоопытные палачи? И кто же, если не Райзер или Паннвиц, мог бы отдать приказ отправить двадцать семь членов «Красного оркестра» в Бреендонк, чтобы там подвергнуть их истязаниям, описание которых леденит душу человеческую?
Райзер — это только один пример. Я мог бы перечислить всех членов берлинской зондеркомиссии и парижской зондеркоманды. После войны они довольно скоро подыскали себе новых хозяев, которые на алтаре «великого примирения» отпустили им все грехи, словно никаких преступлений и не было.
Кем же были эти палачи и их подручные, против которых мы боролись? Конечно, они не рождались на свет божий с занесенной для удара рукой и восклицание «Хайль Гитлер!» не было их первым младенческим криком.
Среди гестаповцев есть довольно значительный процент «поздних» нацистов, то есть таких, которые вступали в партию лишь в 1939 и в 1940 годах. А прежде они в течение долгих лет были «достойными слугами» Веймарской республики. Генрих Мюллер, которого во всем мире называют «гестапо-Мюллер», — вот их истинный прототип. Членом национал-социалистской партии он стал только в 1939 году, но, прежде чем надеть коричневую рубашку, в душе он уже был нацистом. Лютая ненависть к коммунизму превратила этого строгого католика и богобоязненного человека правого толка в потенциального гестаповца. Еще в годы Веймарской республики он успешно подвизался на поприще выслеживания людей и доносительства. Для Генриха Мюллера быть шпиком — значило следовать внутреннему призванию. Девятнадцати лет от роду он начал свою карьеру в качестве служащего полицейского управления Мюнхена. Десять лет спустя, в 1929 году, его вводят в штат IV отдела того же управления. Этот отдел создан специально для борьбы с коммунистическим движением. Когда нацисты приходят к власти, этот способный полицейский чиновник предлагает свои услуги Гейдриху, который довольно скоро делает, его одним из своих главных адъютантов. В 1936 году Мюллер получает назначение на пост начальника гестапо. Мелкий баварский шпик становится «гестапо-Мюллер». После его вступления в нацистскую партию, в 1941 году, ему присваиваются чины группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции. Вот когда, уже в зените славы, он берет на себя ответственность за «Большую игру».
Двумя ближайшими помощниками Мюллера становятся его подчиненные Фридрих Панцингер, начальник отдела IVA государственной службы безопасности, и Хорст Копков, руководивший отделом борьбы с «коммунистическим саботажем». Они возглавляли «Спецкомиссию по „Красному оркестру“ („Зондеркомиссион Роте Капелле“), созданную в августе 1942 года для централизации действий в отношении нашей берлинской группы. Запомним эти имена. Они ответственны за все зверства, обрушившиеся на активистов берлинской группы. Биография этих двух персонажей мало чем отличается от биографии их начальника и друга — „гестапо-Мюллера“. Панцингер останется полицейским на протяжении всей своей жизни.
Его карьера началась в 1919 году в мюнхенской полиции. Ему шестнадцать лет. Ни дать ни взять «вундеркинд»! Быстро карабкаясь вверх по ступенькам иерархической лестницы, он в начале войны вступает в национал-социалистскую партию. Чтобы стать гестаповским гангстером, не обязательно принадлежать к этой партии с первого часа ее существования. «Гестапо-Мюллер», Панцингер, Карл Гиринг — вот три примера, показывающих, что для истинных шпиков по призванию вступление в партию было венцом карьеры.
За всем тем, что творили Гиринг, Райзер и иже с ними в борьбе против «Красного оркестра», не следует забывать, что они несут ответственность за множество других преступлений, совершенных гестапо во Франции и в Бельгии. Райзер, например, с лета 1940 года по ноябрь 1942 года руководил специальным сектором, ведавшим репрессиями против коммунистических активистов. Эрих Юнг, член парижской зондеркоманды и исполнитель подлейших дел, а также Иоганн Штрибинг, инструктор берлинской спецкомиссии, себе же во вред накапливали все новые и новые неопровержимые доказательства своих преступных действий: палачи по приказу, они были ими в еще большей степени из «любви к искусству» и по страстной склонности и неутомимому тяготению к своему «ремеслу».
Карл Гиринг также был врожденным шпиком, что, однако, не помешало ему подняться в своем умственном развитии выше среднего уровня. Особенно он отличался по части хитроумных провокаций. В двадцатипятилетнем возрасте он вступает в ряды берлинской полиции и специализируется в области борьбы против Советского Союза, Коминтерна и коммунистического движения в самой Германии. В 1933 году Гиринг переходит на службу в гестапо и выполняет ряд деликатных поручений. Ему поручают найти авторов одного из первых планов покушения на жизнь Гитлера. Несколько позже по приказу Гейдриха он организует провокацию против начальника управления кадров Коминтерна Осипа Пятницкого, потом — против маршала Тухачевского. Когда начинается борьба с с «Красным оркестром», его послужной список уже достаточно почетен, чем и объясняется его назначение начальником зондеркоманды в Париже и в Брюсселе.
Самый близкий соратник Гиринга Вилли Берг, видимо, также родился в полицейских сапогах. Его обязанность — следить за окружением зондеркоманды и вместе с тем не позволять абверу и другим гестаповским инстанциям вмешиваться в ее дела.
22. ЦЕНТР БЕРЕТ ИНИЦИАТИВУ В СВОИ РУКИ
23 февраля 1943 года, в день, когда пришла радиограмма Центра, состоялся очень долгий разговор между мною и Гирингом. Он проинформировал меня, а также свое берлинское начальство о содержании радиограмм. Как и он, начальство считает, что самое трудное позади и теперь «Большую игру» можно двинуть вперед. Гиринг слишком хорошо знал свое ремесло, чтобы принять обе радиограммы на веру. Особенно это относилось к первой. Он спросил у Кента, действительно ли московский Центр завел обычай поздравлять нас по случаю дня Красной Армии. Кент, смекнувший, что я тем или иным способом предупредил Москву, явно искал случая как-то искупить свою вину. Он ответил, что да, действительно, таков обычай. В тот период Кент проявлял еще и другие признаки доброй воли. Я заметил, что от немцев он старается быть на определенном удалении. Этой тактики он придерживался вплоть до момента моего исчезновения.
На Гиринга произвело большое впечатление известие о представлении меня к правительственной награде. Такое проявление доверия Центра ко мне, рассуждал он, — отличное предзнаменование. Оно укрепляло его позиции в глазах Берлина. Теперь там не могли не признать, что он и в самом деле совершенно прав, подчеркивая важность моего участия в «Большой игре». С гораздо большей сдержанностью он отнесся ко второй радиограмме: я предложил прервать контакты с коммунистической партией на месяц. Директор же указал мне прекратить их окончательно!
Зная замысел Гиринга (при посредничестве Жюльетты добраться до самого Жака Дюкло и подпольного руководства ФКП, что, с точки зрения шпика, — а он оставался им непрерывно — представлялось совершенно правильной стратегией), я сразу понял, насколько он огорчен такой неудачей. Этот ярый антикоммунист видел, как на его глазах провалился серьезный шанс нанести сильный удар по ФКП и, быть может, даже арестовать Жака Дюкло. Ему конечно же было нелегко утешиться. Поэтому я решил успокоить его какими-нибудь аргументами…
— В конце концов, — сказал я ему, — на месте Директора вы поступили бы точно так же, то есть отдали бы такой же приказ. Связи с коммунистической партией были запрещены с самого начала, и только наша острая нехватка в радиопередатчиках вынудила нас отступить от этого правила. Теперь, когда связь с Центром установлена и мы можем сколько угодно обмениваться с ним радиограммами, зачем нам, по-вашему, прибегать к каналу ФКП?..
Через несколько дней была получена новая радиограмма от Директора, в ней содержались инструкции о возможно большем расширении сети наших радиопередатчиков и закреплении за каждым из них новых задач, строго ограниченных чисто военной информацией. Одновременно Директор спрашивал, что случилось с фирмами «Симэкс» и «Симэкско». Гиринг решил ответить Москве, что оба предприятия оказались под контролем гестапо, но связанные с этим аресты не затронули «Красный оркестр». Таким образом, теперь начальник зондеркоманды располагал всеми средствами, чтобы как угодно расправляться с главными сотрудниками обеих фирм, сохраняя при этом возможность продолжать «играть» с Москвой. Поэтому судьба товарищей из «Симэкс», арестованных гестапо, рисовалась нам в самых мрачных красках. Редер, этот обагренный кровью председатель военного трибунала, прибыл в Париж в марте 1943 года и организовал там от начала и до конца инсценированный процесс, по сути, предумышленное избиение людей. «Судьи» не имели решительно никаких сколько-нибудь веских доказательств принадлежности обвиняемых к нашей сети, однако они приговорили к смерти Альфреда Корбена, Робера Брейера, Сюзанну Куант, Кете Фелькнер и ее друга Подсиальдо. Келлеру дали тюремный срок. Что касается Робера Брейера, то он был просто одним из владельцев акций «Симэкс» и ничего общего с нашей группой не имел. Этого человека просто-напросто убили. Лео Гроссфогелю и мне посчастливилось спасти Людвига Кайнца, инженера парижского отделения «организации Тодта»: в ходе следствия мы неоднократно выступали с энергичными заявлениями в его защиту. Прошло немало лет после войны, и мы узнали, что в тюрьме Плетцензее в Берлине в один и тот же день вместе с руководителями берлинской группы были обезглавлены Альфред Корбен, Робер Брейер, Гриотто, Кете Фелькнер, Сюзанна Куант, Подсиальдо и Назарен Драйи. Это произошло 28 июля 1943 года.
Гиринг обменялся с Центром первыми радиограммами уже после того, как мне удалось предупредить Москву о состоянии нашей сети… Теперь зондеркоманда приступила вплотную к своему широкомасштабному плану дезинформации. Предпринималось все возможное, чтобы сохранить в тайне аресты членов «Красного оркестра» (в частности, Гроссфогеля, Каца, Максимовича, Робинсона, Ефремова и Кента). Меня самого перевели с улицы де Соссэ (где мой статус «особого заключенного» постепенно становился общеизвестным) на новую квартиру в Нейи. Мне пришлось подчиниться правилу, согласно которому любой заключенный в конце концов должен привыкнуть к камере. Находясь в ней, можно сказать в «самом сердце» гестапо, я все ж сумел написать свое донесение. Гиринг и его друзья в своих радиограммах могли рассказывать все, что им взбредет в голову, ради достижения своей довольно туманной цели — «сепаратного мира», пускать в ход всякие стародавние приемы и рецепты, дезинформировать, врать напропалую — короче делать все, что подсказывало им извращенное воображение шпиков и провокаторов. Но это уже не имело значения — там, в Москве, знали что к чему!
В Нейи, на углу бульвара Виктор Гюго и улицы де Рувре, Бемельбург, начальник парижского гестапо, завладел особняком для содержания в нем особенно ценных заключенных. С десятью комнатами, фасадом, украшенным белыми колоннами и широкой полосой газона, овощными грядками на заднем дворике, этот особняк не был лишен приятности и изящества. Чугунная ограда, окаймлявшая владение, и буйно распустившаяся зелень скрывали от глаз прохожих довольно знаменитых заключенных. Бемельбург и его сотрудники — нацисты до мозга костей, чья спесивость вошла в поговорку, с нескрываемым тщеславным удовольствием принимали здесь таких «гостей», как, например, Альбер Лебрен, последний президент Третьей республики, Андре-Франсуа Пенсе, бывший посол Франции в Берлине, полковник де Ля Рок, вождь организации «Огненных крестов»92 и PSF, Ларго Кабальеро, бывший премьер республиканского правительства Испании. Помнится, что помимо этих лиц я видел там одного полковника из Интеллидженс сервис, который, как мне показалось, тоже вел с немцами какую-то свою «игру». Бемельбург жил здесь же и проводил время в почти непрерывных пьянках. Консьерж, некто Продом, вместе со своими двумя дочерьми ведал кухней и содержал в порядке сад. Он считал для себя великой честью соприкасаться со столь знаменитыми деятелями, хотя и не осмеливался заговорить с кем-либо из них.
Мне отвели комнату на втором этаже, обставленную в сельском стиле. Окно без решетки, дверь постоянно заперта. Мне разъяснили, что при желании выйти я должен вызвать звонком часового, ежедневно я имею право прогуливаться в саду в течение одного-двух часов. Однако мне строжайше запрещалось разговаривать с другими заключенными. Дом был поставлен под охрану небольшого подразделения словацких солдат, которые по примеру своего патрона напивались с регулярностью метронома. Они производили прямо-таки адский шум; слушая их храп и хмельное «пение», я уже было стал подумывать о побеге… Но я сразу же переборол это искушение, поскольку обязан был исполнять свою роль в «Большой игре». Во время бессонных ночей в своем воображении я взламывал замок, убивал часового у парадного и, заперев за собой дверь, пускался наутек…
Через несколько дней после моего перевода в Нейи Берг объявил мне, что мой, как он выражался, «адъютант», то есть Гилель Кац, вскоре прибудет, чтобы скрасить мое одиночество. Этому известию я, конечно, очень обрадовался, но, узнав, что его поместили в подвальном помещении вместе с перебежчиком Шумахером, я понял, что последний приставлен к нему с целью выведать мои истинные намерения. Стукач Шумахер сказал Гилелю, будто я разыгрываю немцев и он не верит в мою измену. Я пожаловался Бергу на эту попытку провокации, ставящей под сомнение мое слово. После этого Гилеля сразу же избавили от присутствия его «ментора».
Итак, Гилель находился рядом со мной в Нейи, и это было для меня великим утешением. Ему разрешалось приходить ко мне и сопровождать меня на прогулках. Поскольку мы не сомневались, что в моей комнате спрятан микрофон для подслушивания, мы незаметно договорились успокоить Гиринга насчет моих замыслов. Прогуливаясь в саду, разговаривая очень тихо на идиш или на иврите, мы могли свободно обсуждать любые проблемы. Гилель с тоской говорил о родных: они были под наблюдением гестапо, и нас предупредили, что семьи арестованных членов «Красного оркестра», так же как и сами арестованные, считаются заложниками. В марте 1943 года Кент и Маргарет Барча прибыли в Нейи. Кент с утра до вечера зашифровывал радиограммы, предназначенные Гирингом для нашего Центра. Они подписывались моим именем, но кодировались одним из специалистов зондеркоманды: как-то я раз и навсегда заявил, что нет никакого смысла обращаться ко мне по поводу шифровки и расшифровки, поскольку я в этом ничего не смыслю…
Гиринг консультировался со мной относительно посланий, получаемых им от Центра, а также ответов, которые стоило бы давать на них. Время от времени Берг возил меня на улицу де Соссэ. Часто я сталкивался с моим «хозяином», Бемельбургом, многолетним коллегой Гиринга и Берга. Бемельбург и Гиринг откровенно ненавидели друг друга, и эта ненависть переросла в какую-то ярость в тот день, когда Берлин указал Бемельбургу не вмешиваться в дела зондеркоманды.
— Держитесь подальше от Бемельбурга, — посоветовал мне Берг. — Особенно когда он под парами!
Излишняя рекомендация, тем более что довольно трудно было встретить его в другом состоянии…
Как-то во второй половине дня я и Берг возвратились с улицы де Соссэ. Вдруг мы услышали выстрелы. Заметив мое удивление, Берг повел меня в сад. Там на нетвердых ногах, едва сохраняя равновесие, стоял в дымину окосевший Бемельбург с пистолетом в руке…
— В кого он палит? — спросил я.
— А вы посмотрите получше! — ответил Берг. Бемельбург устроил себе своеобразный тир, в котором все мишени были портретами руководителей Советского Союза и Французской коммунистической партии. Кроме того, здесь укрепили несколько карикатурных изображений евреев. Так вот чем занимался начальник парижского гестапо в промежутке между очередным перепоем и какой-нибудь карательной экспедицией!
Бемельбург продолжал свои упражнения… При каждом выстреле сидевшая около него овчарка угрожающе рычала. Внезапно Бемельбург ударил собаку и заорал:
— Заткнись, Сталин, заткнись!
В этот момент он заметил меня и сказал:
— Вы слышали, какую великолепную кличку я придумал для своего пса: Сталин!
— Что ж, — ответил я ему, — по-моему, это признак очень скверного вкуса. В Москве я видел собак, которых звали Гитлер… Окончательно ошалев от злости и алкоголя, Бемельбург рванулся ко мне, целясь в меня из пистолета…
— Господь с вами, Отто!..
Берг встал между мною и им, прикрыв меня своим телом… Позже он упрекнул меня за неосторожность:
— Мы с вами были на волоске от катастрофы. Наша «Большая игра» едва не оборвалась, причем глупейшим образом…
23. ЗОНДЕРКОМАНДА В ЛОВУШКЕ
Начались мои поездки по Парижу и его окрестностям. Разрешение на них я получил благодаря совершенно правдоподобной выдумке, на которую Гиринг клюнул. Еще на первом допросе я заставил его поверить в существование специальной контрразведывательной группы, сформированной с целью тайной охраны и обеспечения безопасности личного состава «Красного оркестра». Я сказал, будто Москва обязала меня называть все посещаемые мною места (кафе, парикмахерские, рестораны, ателье, универмаги) и заодно указывать частоту таких посещений. Благодаря этой информации неведомые мне агенты группы безопасности якобы следуют за мной по пятам.
— В Москве, — заявил я Гирингу, — вероятно, удивляются, почему это я с некоторых пор не показываюсь в этих указанных мною местах. А как мне туда приходить, если я арестован?
В своем донесении я не забыл попросить Директора, чтобы в ответной радиограмме он потребовал от меня регулярно бывать на обычных явках. И тогда в одной из ближайших радиограмм мне действительно было дано такое указание, и Гирингу не оставалось ничего иного, как санкционировать мои «выезды». Постепенно они стали нормой. В первое время мой автомобиль следовал в сопровождении двух машин гестапо, но впоследствии я стал выезжать только в компании Берга и водителя. Такая упрощенная организация дела оказалась, как мы увидим дальше, весьма выгодной. Я стал ездить на мнимые явки — в парикмахерскую на улице Фортюни, к портному в районе Монпарнаса, в бельевой магазин на бульваре Осман. Мои маршруты проходили также через кафе и рестораны в различных районах Парижа и даже за его пределами. Агенты зондеркоманды теряли немало своего драгоценного времени на попытки выявить людей из придуманного мною подразделения нашей контрразведки. Их абсолютно бессмысленное усердие наполняло меня чувством искренней радости. И покуда полицейский механизм Райзера крутился вхолостую, он не беспокоил еще находившихся на свободе «музыкантов» «Красного оркестра». Постепенно мои многократные «выезды» несколько притупили бдительность зондеркоманды и в какой-то мере отвлекли ее внимание. Для меня словно бы приоткрылась маленькая дверца в мир свободы.
В ходе этих «сопровождаемых визитов» я заметил, что мои конвоиры не пользуются немецкими удостоверениями личности. У всех у них были фальшивые документы — бельгийские, голландские или скандинавские. Я доверительно разузнал, что побуждает Гиринга прибегать к таким проделкам. Мне объяснили: по мнению Гиринга, при этом варианте его люди остаются незаметными, не бросаются в глаза и меньше рискуют пасть от руки участников движения Сопротивления. А при проверке документов французскими полицейскими последние не могут узнать ни истинную национальность, ни профессию сопровождающих меня лиц.
Услышав все это, я не удержался и попросил Гиринга распространить и на меня такое преимущество:
— Если вы хотите, чтобы при контроле со стороны французской полиции моя персона не привлекала лишнего внимания, то вам следует выдать мне удостоверение личности…
Он счел мое соображение вполне разумным и сказал, что в дальнейшем при всяком моем выезде Берг будет выдавать мне на руки документ и некоторую сумму денег, которые я обязан ему отдать по возвращении в Нейи. Это, мол, лишний раз подтвердит мою честность и благоприятно повлияет на дальнейшее.
До «операции Жюльетта» всю «Большую игру» можно охарактеризовать одной короткой фразой: немцы сидели на коне, а Центр… под конем. Ибо усилиями гитлеровцев «Красный оркестр» сменил окраску, превратился в «Коричневый оркестр», который с помощью своих семи «повернутых» радиопередатчиков раз за разом обводил Москву вокруг пальца. Центр словно заболел дальтонизмом — не мог отличить красный цвет от коричневого.
С другой стороны, немцы хорошо понимали, что даже после ответа Директора от 23 февраля 1943 года им еще в течение нескольких месяцев придется передавать противнику сведения военного характера. С момента, когда сторонники сепаратного мира с Западом могли доказать свою информированность о попытках, предпринимаемых ради этого, то есть знали все о соответствующих дипломатических и политических шагах, им, естественно, понадобилась также и информация военного характера.
Сегодня достоверно известно, что старания Гиммлера добиться сепаратного мира с Западом хронологически соответствуют попыткам зондеркоманды затеять «Большую игру». Для подтверждения этой уверенности приведу только два примера:
в декабре 1942 года адвокат Карл Лангбен с согласия Гиммлера устанавливает контакты с союзниками в Цюрихе и Стокгольме;
в августе 1943 года, точнее говоря, 23 августа в Берлине, в министерстве внутренних дел, происходит тайная встреча Гиммлера с сотрудником этого министерства Попитцем, причастным к движению Сопротивления. Попитц предлагает Гиммлеру пожертвовать Гитлером, ибо для заключения сепаратного мира это conditio sine qua поп. «Верный Генрих» не ответил ни да, ни нет. По мнению Попитца, это означало, что Гиммлеру подобный вариант представлялся вполне приемлемым. Лангбен немедленно отправился в Швейцарию, чтобы сообщить приятную новость своим англо-американским контрагентам. Между тем — и тут я ни за что не поверю в простое совпадение — в том же августе месяце 1943 года новый начальник зондеркоманды Паннвиц предпринимает попытку оживить «Большую игру».
Ошибка Гиммлера заключалась в переоценке противоречий между союзниками. Правда, второй фронт очень уж долго заставлял себя ждать, и было довольно логично допустить, что бесконечные проволочки англо-американцев омрачали их отношения с русскими. Но разве это означало разрыв коалиции?! Чем дольше длилась война, чем меньше военное счастье улыбалось немцам, тем больше военачальников вермахта, для которых поражение под Сталины градом явилось важнейшим предметным уроком, окончательно поняли, что для нацистской Германии сепаратный мир — единственное решение вопроса. Так, потерпевший кораблекрушение хватается за проплывающее мимо бревно, даже если оно прогнило и неминуемо пойдет ко дну. Веря до последнего мгновения в возможность сепаратного мира, принимая, свои желания за действительность, Гиммлер и его окружение считали, что с точки зрения такой перспективы — то есть заключения сепаратного мира с западным противником — обязательно нужно обманывать Москву.
Какова же была тактика Центра после получения моего доклада?
Прежде всего, Центр решил создать впечатление о своем якобы полном неведении относительно «поворота на 180 градусов» «Красного оркестра». И поскольку радиограммы из Центра, как и прежде, адресовались различным руководителям групп, я воспользовался этим, чтобы убедить Гиринга не предавать суду Каца, Гроссфогеля и остальных. Мои рассуждения были с виду безукоризненно логичными. Я заявил Гирингу:
— Поймите, Москва может в любой момент потребовать прямого контакта с ними. Если вы их будете судить и, следовательно, осудите, то попросту выдадите себя…
Он согласился со мной.
Центр умело воспользовался «Большой игрой», чтобы запрашивать все больше и больше военной информации. И поэтому начиная с февраля 1943 года немцы вынуждены были снабжать Москву таким объемом разведданных, который нормально работающая, пусть даже очень разветвленная разведсеть едва ли могла бы раздобыть. Наконец, Центр получил возможность предотвращать проникновение немцев в свои еще не раскрытые ими разведывательные группы.
Но вот интересный вопрос: Москва требовала военную информацию. Но кто решал, что именно передавать ей, а что не передавать? Прежде всего, нужно было согласие тех лиц в Берлине, которые отвечали за «Большую игру», а именно «гестапо-Мюллера» и Мартина Бормана. Затем зондеркоманда проводила свои материалы через парижское отделение абвера, которое докладывало вопросы Москвы верховному командованию Восточным фронтом. И всякий раз фельдмаршал фон Рундштедт давал «зеленый свет» на передачу материала в Москву. Но поскольку он, мягко говоря, не питал чрезмерно дружеских чувств ни к Гиммлеру, ни к гестапо, а с другой стороны, не понимал — как, впрочем, и абвер — смысла «Большой игры», то иной раз обращал внимание Берлина на строго секретный характер затребованной информации.
Удивление фон Рундштедта понять нетрудно. Что же касается высокого берлинского начальства, посвященного в сокровенную тайну, то оно утешалось лишь тем, что передаваемая информация касалась только Западного фронта. А Центр тем временем ставил вопросы, все более и более важные для Красной Армии.
В берлинских архивах абвера скопились весьма поучительные документы по поводу радиограмм, посланных Директором. Прежде всего, по ним можно определить цели, которые тогда преследовал Центр. Их можно резюмировать несколькими простыми словами: собирать максимально возможное количество военных сведений.
Вот несколько примеров:
20 февраля 1943 года; радиограмма, адресованная Отто: «Пусть Фабрикант пошлет информацию о транспортировке воинских частей и их вооружения из Франции на наш фронт».
На следующий день продолжение этой же радиограммы: «Какие германские дивизии оставлены в резерве и где? Этот вопрос очень важен для нас».
9 марта Центр спрашивал, какие части и соединения дислоцированы в Париже и в Лионе, номера дивизий, типы вооружения.
Вопросы подобного рода приводили руководителей зондеркоманды в полнейшее замешательство. Не давать ответа было невозможно, а передавать ложную информацию — крайне опасно. При внимательном изучении этих вопросов становилось ясно, что Москва не так уж сильно нуждается в запрашиваемой информации, а просто желает проверить уже имеющиеся у нее сведения. Формальным подтверждением этого явилась следующая радиограмма:
«Какие дивизии находятся в Шалон-сюр-Марн и в Ангулеме? По нашим данным, в Шалоне 9-я пехотная дивизия, а в Ангулеме 10-я танковая. Проверить».
Зондеркоманде не оставалось ничего иного, как дать на эту радиограмму точный ответ (2 апреля):
«Новая дивизияСС в Ангулеме не имеет номера. Солдаты одеты в серую форму с черными погонами и нашивками СС».
Продолжение ответа, переданное 4 апреля, содержало подробности о вооружении этой дивизии.
Почти ежедневно из Центра поступали весьма конкретные радиограммы, на которые зондеркоманда давала столь же конкретные ответы. Такова была цена, которую приходилось платить инициаторам «Большой игры».
Аналогичные обмены радиограммами касались германских войск, размещенных в Голландии и в Бельгии. Центр запрашивал имена старших офицеров, командовавших войсковыми соединениями, интересовался результатами бомбардировок британской авиации.
Фон Рундштедт начал относиться к этому нескончаемому обмену радиопосланиями со все возрастающим недоверием и недовольством. Радиограмма от 30 мая 1943 года оказалась каплей, переполнившей чашу. Она вызвала конфликт между генштабом верхмата и германской разведкой. Центр передал:
«Отто, свяжитесь с Фабрикантом, чтобы узнать, готовится ли оккупационная армия применить газы. Перевозятся ли в настоящее время материалы этого рода? Складированы ли химические бомбы на аэродромах? Где, в каком количестве? Каков калибр бомб? Какой применяется газ? Насколько он вредоносен? Проводятся ли испытания этих новых видов оружия? Слышали ли вы разговоры о новом отравляющем веществе военного назначения под названием „Gay Halle“? Вы должны поручить эту работу всем агентам, находящимся во Франции…»
Это было уже слишком. Командование вермахта чрезвычайно разволновалось. Посовещавшись между собой, господа военачальники заявили Берлину, что «отвечать на эти вопросы совершенно невозможно…». Ну а зондеркоманда, разумеется, не придерживалась такого мнения. Гиринг ознакомился с расшифрованными в Берлине радиограммами, которые я отправил еще до моего ареста. В них я уже дал определенную информацию насчет отравляющих веществ. Кете Фелькнер и в особенности Максимович были хорошо осведомлены по этому поводу: в дирекции «организации Заукеля» их подробно информировали о развитии германской химической промышленности.
По мнению начальника зондеркоманда в Берлине, на эту радиограмму следовало ответить хотя бы частично. Генштаб со своей стороны намеревался использовать эту ситуацию для того, чтобы громогласно заявить о своем несогласии с подобной практикой. Два документа из германских архивов свидетельствуют об этом конфликте.
20 июня 1943 года руководство абвера информировало берлинские инстанции: «Верховное командование армии полагает, что уже довольно давно Директор в Москве задает вопросы военного характера в настолько точной форме, что продолжение радиоигры возможно лишь в случае, если ответы на эти точные вопросы будут также точными, ибо в противном случае… Москва разгадает игру. Но главнокомандующий Западным фронтом, по причинам военного характера, не может давать в порядке поддержания игры… ответы на точные вопросы, которые… требуют указания номеров дивизий, полков, а также имен командиров и т. д… Главнокомандующий Западным фронтом придерживается той точки зрения, что при нынешней военной обстановке на западном театре военных действий введение в заблуждение московского Центра не представляет для нас интереса».
А немного позже сам Рундштедт объявил, что «не считает нужным дальнейшее продолжение радиоигры».
Таким образом, мы видим, что верховное командование германской армии открыто нацелило огонь своих батарей против «Большой игры», причем никогда прежде оно не делало это так демонстративно и явственно. 25 июня оно пошло в этом смысле еще дальше и, так сказать, «взорвало бомбу», заявив следующее:
«Главнокомандующий Западным фронтом придерживается мнения, что противник в Москве уже разгадал игру и что… по причинам военного характера… главнокомандование Западным фронтом уже не в состоянии передавать необходимый материал».
Такой же точки зрения придерживался начальник абвера адмирал Канарис, который очень недружелюбно наблюдал за маневрами клики «гестапо-Мюллера» и Гиммлера. В самом деле ни абвер, ни Шелленберг, начальник германской контрразведки, ни Рундштедт не были информированы о преследуемых целях. В этих условиях их страхи и настороженность вполне понятны. Чтобы как-то разъяснить суть дела, им сказали, что «Большая игра» якобы позволяет раскрывать советские шпионские сети в оккупированных странах. Однако в глазах генштаба вермахта такой аргумент не был достаточно убедителен, чтобы так точно и подробно выдавать противнику свои военные тайны. Но зондеркоманда на этот счет имела другую точку зрения и не удивлялась важности и точности запрашиваемой информации, ибо знала, что «Красный оркестр» всегда передавал Москве сведения большой военной ценности.
В конце концов, доводы зондеркоманды возобладали и высшие военные чины вынуждены были, как и прежде, давать точные ответы на предлагаемые им вопросы. 9 июля из Берлина был получен официальный приказ, утверждающий такой порядок93
Любопытство Центра распространялось на самые различные проблемы, порой выходившие за рамки военно-организационного характера. Так, со временем стали поступать радиограммы с вопросами об армии Власова.
Власов — генерал Красной Армии — сдался в плен94. Военачальники вермахта предложили ему создать русскую армию, которая сражалась бы на их стороне. Во главе ее подразделений немцы решили поставить деморализованных офицеров, которые любой ценой хотели избежать лагерей для военнопленных.
Специализированная группа нацистских пропагандистов принялась агитировать Власова и его войска, однако голод оказался лучшим советчиком, нежели идеологическая обработка: пленные советские солдаты, всеми покинутые, зачастую преданные своим командованием, ослабленные и истощенные, ради того чтобы выжить, согласились носить немецкую форму. Так возникла РОА — «Русская освободительная армия»95.
Чисто военная ценность этой армии оказалась ничтожной. Известная материальная обеспеченность не могла заставить солдат поверить, будто они сражаются за «справедливое дело», будто защищают свое национальное наследие. Командование вермахта, видя отсутствие боевого духа в армии Власова, использовало ее главным образом на Западном фронте для карательных мероприятий.
Но в течение лета 1943 года руководству советской военной разведки чрезвычайно важно было знать, что в действительности представляет собой армия Власова, какие у нее части и подразделения, их общую численность, ее географическую дислокацию, имена офицеров и характер вооружения, ее использование, особенности политического оболванивания личного состава. В этом смысле Центр требовал самой дотошной информации и, чтобы знать максимум подробностей, просил перепроверять все сведения, которыми уже располагал. Берлин не чинил препятствий удовлетворению этого любопытства, а генштаб вермахта, отступив от своих правил сохранения тайны, тоже не выдвигал в этом смысле каких-либо возражений по той простой причине, что он не питал никаких иллюзий насчет боеспособности солдат Власова.
В апреле 1943 года зондеркоманда получила адресованную Отто пространную радиограмму Центра, содержавшую весьма точные данные о потерях германской армии под Сталинградом. Весьма удивившись этому, Гиринг спросил меня, зачем Москве вдруг понадобилось информировать нас об этом.
— Время от времени, — ответил я, — Центр дает мне сведения, позволяющие точно оценивать военную обстановку на том или ином этапе войны.
— Очень сожалею, — ответил Гиринг, — но от Кента мне известно, что радиограмма такого типа передана вам впервые…
Надо было парировать этот выпад и отбить мяч на его сторону:
— Есть вещи, по необходимости скрываемые от людей того уровня, на котором находится Кент.
Позже я понял смысл и цель этой радиограммы: Центр решил заронить сомнения в умы берлинских сановников и назвал цифры немецких потерь под Сталинградом, намного превышавшие те, что имели хождение в столице рейха. В донесениях германского генштаба высшему гитлеровскому руководству истинные потери вермахта явно занижались. Таким образом благодаря нашему Центру Гиммлеру удалось заслужить благоволение Гитлера за представление ему точной картины истинных огромных потерь вермахта.
И тогда зондеркоманда, не сомневаясь в доверии Центра, начала форменный пропагандистский бум, чтобы вызвать тревогу в рядах антинацистской коалиции и, таким образом, обмануть противника. Правда, следует сказать, что все это было шито белыми нитками, притом грубыми и суровыми. Но зато на этом примере хорошо видно, к каким только средствам не прибегали сторонники сепаратного мира ради достижения своей цели. В серии радиограмм, отправленных от моего имени и якобы основанных на проведенном Геббельсом широком опросе германского общественного мнения относительно исхода войны, утверждалось, что среди населения рейха заметно проявляются сильные антисоветские настроения. В своем большинстве эти радиограммы «констатировали», что большинство немцев верит в окончательную победу, но в случае, если все-таки придется вступить в переговоры, все опрошенные будто бы высказались в пользу сепаратного мира с Западом.
Другие радиограммы, передаваемые Центру, трактовали о моральном духе англо-американских солдат и офицеров. От моего имени в одной радиограмме говорилось, что «Красному оркестру» будто бы удалось войти в контакт с английскими летчиками, сбитыми над районом Парижа и лечившимися в госпитале Клиши. Эти пилоты якобы заявили, что им надоело «умирать за СССР». И все они, конечно же, были сторонниками заключения сепаратного мира с Германией.
Гиринг выложил передо мной эти радиограммы, и мне стоило немалых трудов сохранить серьезную мину. Я живо представил себе, какой громовой хохот раздастся в Центре, когда там получат и огласят эти «совершенно секретные документы». Думать, что подобного рода филькины грамоты способны поколебать стойкость советской стороны, могли только очень ограниченные люди. В Центре знали, чего стоит опрос, проведенный Геббельсом, этим специалистом по «промыванию мозгов»; да и вообще, разве в нацистской Германии была хотя бы малейшая возможность безнаказанно высказать какую-нибудь неофициальную мысль?!
Поскольку Гиринг оказывал мне «честь» консультироваться со мной по поводу радиограмм, я заявил ему о моем безоговорочном согласии с их содержанием и даже на полном серьезе добавил, что такого рода информация заставит Москву «крепко призадуматься»… Весьма польщенный и довольный собой, он продолжал в том же духе — то есть продолжал «сеять раздор» между союзниками. В частности, составил депешу о том, что англичане продают немцам автоматы. Свое утверждение он основывал на том, что в Кале немецкие жандармы вооружены автоматами британского происхождения. По словам Гиринга, немцы приобрели это оружие в нейтральных странах, причем, продавая его, англичане ставили лишь одно условие: чтобы оно не использовалось на советском фронте.
Подобная информация не выдерживала сколько-нибудь серьезной проверки: ничто не доказывало факта продажи автоматов англичанами. Автоматы могли оказаться у немцев просто как трофеи, захваченные в ходе боевых действий. Эта побасенка звучала тем более смехотворно, что в то же самое время союзники поставляли в СССР огромное количество вооружения.
Затем у Гиринга возникло новое желание: воспользоваться «Красным оркестром» для проникновения в советскую разведывательную сеть в Швейцарии.
Эта сеть, созданная еще до начала военных действий, возглавлялась Шандором Радо, боевым коммунистом, зарекомендовавшим себя смолоду активным участием в Венгерской революции, руководимой Бела Куном. Кроме того, Радо был известным ученым-географом и владел несколькими языками. Вся деятельность этой сети была обращена против национал-социалистской Германии. В принципе «Красному оркестру» полагалось воздерживаться от контактов с ней, но в 1940 году Центр поручил Кенту съездить в Швейцарию, чтобы обучить Радо технике радиопередач и шифровальному делу. Уже сам по себе этот замысел был грубой ошибкой, ибо в 1940 году Центр мог решить такую задачу иными способами и незачем было посылать в Швейцарию руководителя целой сети, действующей на оккупированной территории. Когда же через два года Кента арестовали и «повернули», его информация о группе Радо оказалась чревата очень тяжелыми последствиями: ведь он действительно знал адрес Радо, его шифр и длину волны, на которой тот вел свои передачи.
Радиограммы, посылаемые Радо по трем рациям — так называемая «Красная тройка», — перехватывались немцами, которые, несмотря на сотрудничество Кента, с большим трудом расшифровывали их. Поэтому они решили послать своих агентов на место.
Нейтралитет Швейцарии, естественно, ставил германские службы перед определенными проблемами. Гиринг надумал использовать Франца Шнайдера, швейцарского гражданина, который вместе со своей женой Жерменой фигурировал в числе лиц группы Ефремова, арестованных в Бельгии, и был связан с несколькими ведущими разведчиками Радо. Благодаря Шнайдеру, Гиринг узнал множество подробностей относительно состава швейцарской группы, но три последовательные попытки внедриться в нее окончились неудачно.
В первый раз он использовал Ива Рамо — агента, некогда хорошо знавшего Радо. Рамо встретился с Радо и предложил сотрудничество, подчеркнув свои многочисленные связи в кругах французского Сопротивления и в группе Кента. Радо почуял неладное и прервал разговор.
Второй проект Гиринга сводился к отправке в Швейцарию одной женщины — немецкого агента, которая должна была выдать себя за Веру Аккерман, одну из шифровалыциц французской группы «Красного оркестра». После ареста супругов Сокол я отправил Веру из Парижа ради ее же безопасности. Сначала она уехала в Марсель к Кенту, а затем, ввиду угрозы ареста, в маленькую деревушку близ Клермон-Феррана. Но Гиринг узнал от Кента, что мне известен адрес Веры Аккерман. Он намеревался арестовать ее и изолировать до окончания войны, полагая, что, выдавая себя за нее, немецкая шпионка сможет легко внедриться в сеть Радо. А что касалось Центра, то, как считал Гиринг, достаточно известить его об отправке Веры Аккерман в Швейцарию. В таком виде проект Гиринга, казалось, имеет серьезные шансы на успех. Следовательно, мне вновь надо было каким-то образом парировать грозивший нам удар.
— Эта агентка будет немедленно раскрыта, — сказал я Гирингу. — Кент утверждает, что я — единственный, кто знает адрес Веры. Это правда, она в Женеве…
Таким образом, второй проект Гиринга также провалился, и до самого конца войны Вера была надежно спрятана в деревеньке, расположенной в Центральном французском массиве96.
Третий план — его разработал Кент — заключался в намерении послать курьера к Александру Футу, правой руке Радо. Гиринг пожелал узнать от меня, как готовилась подобная встреча в прежние времена. Я надавал ему таких советов, чтобы уже с первого контакта Фут понял, с кем имеет дело.
С другой стороны, в своих мемуарах «Руководство для шпионов» Фут рассказывает, что Центр сумел предупредить его о грозящей опасности, приказал не назначать новой встречи, не допустить, чтобы германский агент, который мог бы следить за ним, разведал его адрес. Гиринг в свою очередь указал своему агенту, чтобы тот передал человеку, которого встретит, толстую книгу, обернутую в яркую оранжевую бумагу. В книге, между двух склеенных страниц, лежали листки с зашифрованной информацией. Курьер должен был попросить передать эти тексты Центру и назначить своему собеседнику новое свидание. Такое поведение курьера выводило его на чистую воду, ибо сразу было видно, что он никогда не выполнял серьезных поручений. Надо было обладать поистине бредовой фантазией, чтобы в разгар войны посылать через границу агента с шифрованными депешами, которые спрятаны в книгу, обернутую в бумагу кричащего, яркого цвета. Такие детали не ускользают от внимания даже самого флегматичного и заспанного пограничника.
А ведь в тот период все информационные материалы передавались в форме микрофильмов, зашитых в складки одежды. И, кроме того, как я уже отметил выше, никакому, даже самому неопытному агенту не взбрела бы в голову дурацкая мысль договариваться о встрече без соответствующих рекомендаций. Короче, совокупность всех этих несуразностей привела к тому, чтоФут дал незадачливому гонцу, как говорится, от ворот поворот, и тот вернулся восвояси ни с чем.
Через две недели руководство Центра направило Кенту радиограмму. В ней выражалось недоумение: как могло случиться, что курьер, посланный в Швейцарию, оказался агентом гестапо. Гиринг попробовал выйти из неловкого положения и объяснил, что настоящий курьер был арестован, а гестапо послало вместо него одного из своих агентов…
Так одна за другой рушились попытки гестапо внедриться с помощью «Красного оркестра» в сеть Радо, однако работа, осуществляемая в Швейцарии, была слишком значительна, чтобы Берлин мог отказаться от новых попыток помешать ей. Задача борьбы с сетью Радо была возложена на самого Шелленберга. После затяжных и терпеливых усилий ему все-таки удалось сунуть туда одного из своих агентов, который соблазнил РозуБ.,молодую шифровалыцицу, работавшую на одной из раций «Красной тройки»97. Несколько позже супруги Массон, выдавшие себя за старых советских агентов, обманули бдительность наших швейцарских друзей и послали в Берлин точную информацию о функционировании этой сети. В конце концов Шелленберг оказал сильное давление на начальника швейцарской разведки и добился от него ликвидации всей организации Радо. Но поскольку все это потребовало немало времени. Радо вплоть до 1944 года продолжал передавать Москве важные военные сведения, исходившие от высокопоставленных офицеров вермахта.
Гирингу пришлось столкнуться также и с проблемами финансирования деятельности «Красного оркестра». До арестов коммерческие фирмы «Симэкс» и «Симэкско» обеспечивали полное покрытие расходов, связанных с нуждами нашей сети, и Москва могла не беспокоиться по этому поводу. Но так как в своих посланиях Центру Гиринг признал, что обе компании подпали под контроль врага, то, по его разумению, чтобы по-прежнему продолжать обманывать Москву, было вполне логично потребовать от нее определенные денежные субсидии.
В этой ситуации, как и во множестве других, я имел случай побеседовать с Гирингом на финансовую тему и буквально осыпать его советами, окончательно поставившими его в невозможно смешное положение. Я порекомендовал ему начать с Бельгии и Голландии и потребовать от Москвы денежный перевод на имя Венцеля. Вскоре после побега Венцеля из Болгарии прибыл «подарок»: на дне большой банки с фасолью лежала смехотворная сумма в десять фунтов стерлингов. Деятели зондеркоманды, безнадежно лишенные чувства юмора, пытались найти какое-то вразумительное объяснение этому «подарку». Я предложил им вариант объяснения, полностью их удовлетворивший:
— Ведь это все очень просто, — сказал я им. — Центр, естественно, захотел проверить надежность этого канала связи, прежде чем начать посылать значительные суммы…
Они еще долго ждали новых денежных поступлений.
От имени Винтеринка из зондеркоманды поступил запрос в Центр на крупную сумму для Голландии: Центр ответил, что полностью согласен удовлетворить это требование при условии сообщения ему адреса абсолютно безопасного «почтового ящика». Господа из зондеркоманды, не помня себя от восторга, сразу же сообщают Центру адрес одного бывшего члена голландской компартии… Но ответная радиограмма Директора ввергает их в смятение: как можно указывать адрес, известный гестапо?! Зондеркоманда запутывается в невразумительных объяснениях. Тогда Центр берет инициативу в свои руки и советует Винтеринку связаться с неким Боденом Червинкой, брюссельским инженером, который вручит ему пять тысяч долларов. Зондеркоманда неописуемо счастлива и отряжает к инженеру агента. Но инженер ошарашен. Он считает, что его разыгрывают по случаю 1 апреля. И снова Зондеркоманда утрачивает свою очередную иллюзию.
А Центр позволяет себе удовольствие еще одной мистификации, передав Ефремову адрес одного торговца надгробными памятниками, который якобы задолжал Моссовету сумму в пятьдесят тысяч франков. В действительности все было наоборот. Юмор Центра, сообщившего адрес торговца могильными плитами, заключался в том, что пора уже похоронить мечты о финансовых дотациях, но, судя по всему, он оказался слишком тонким для туповатых мозгов чинуш из зондеркоманды. Этого намека они так и не поняли.
24. ПАЛАЧ ИЗ ПРАГИ
В июне 1943 года состояние здоровья Гиринга ухудшилось: произошло обострение рака гортани, которым он страдал. Не помогло даже предложенное мною средство — я порекомендовал ему пить побольше коньяка. Впрочем, я уверен, что он бы и без моих советов неминуемо выбрал это же средство лечения. Он пил все больше и больше, чувствовал, что обречен и песенка его почти уже спета. Несмотря на посылаемые им в Берлин рапорты, похожие на победные реляции, мне он все же не доверял до конца. Свое берлинское начальство он неутомимо заверял, что Большой Шеф, то есть я, решительно и окончательно перешел на сторону немцев. Однако в ходе пространных разговоров, которые мы с ним вели, то и дело возвращался к одной и той же теме, отражавшей гложущее его беспокойство: каковы, мол, глубинные причины, побудившие меня участвовать в «Большой игре»? Мой ответ неизменно оставался одинаковым: дескать, мне дорога перспектива сепаратного мира между Советским Союзом и Германией.
Его это не убеждало по-настоящему. Он знал, что я еврей, знал, что я, как и прежде, коммунист и прямо-таки исступленный антинацист.
Гиринг был довольно интеллигентным шпиком, но, будучи вместе с тем «добропорядочным немцем», не мог подавить в себе стремления рассуждать логически. Расскажи ему кто-нибудь, что, находясь у себя в камере денно и нощно под наблюдением, я исхитрился написать подробный доклад Центру, а потом передать его Жюльетте, он бы воскликнул: «Исключено!» Кроме того, выдуманные мною «советские контрразведывательные группы» вселили в него панический страх. Но ни на секунду он не усомнился в их существовании, ибо в его представлении это было «логичным»!
Любое его действие определялось одной идеей: только начальник зондеркоманды должен знать все о ходе операций. Часто, оглушив мозг несколькими бокалами коньяка, он разъяснял мне принципы своих действий: «Человек, руководящий крупной игрой, вроде моей, — говорил он мне, — строя свои отношения с коллегами по „фирме“, должен умело дозировать правду и ложь… Что касается высокопоставленных начальников в Берлине, то — что бы ни случилось — важно успокаивать их, внушать им, что все идет хорошо. А военные, или абвер, которые так или иначе не сумели бы разобраться в тонкостях этого дела, пусть лучше знают о нем поменьше, во всяком случае, не более того, что я считаю нужнымимсообщить. Единственный, кто может знать правду во всем ее объеме, — это я…»
Его подчиненные имели доступ лишь к той информации, которую он считал строго необходимой для их работы.
Когда Паннвиц заменил Гиринга на посту начальника зондеркоманды, он мог оценить обстановку только по рапортам, посланным его предшественником в Берлин и весьма далеким от реального положения дел. Я уже как-то привык к Гирингу — противнику жестокому и безжалостному, хитрому и коварному. Но я опасался, что его преемник придаст «Большой игре» еще гораздо более страшный и кровавый характер. Должен добавить, что после ухода Гиринга Райзера откомандировали в управление гестапо города Карлсруэ. Таким образом, оба моих главных собеседника сменились.
С Паннвицем я познакомился в начале июля 1943 года. Хорошо помню день, когда он впервые вошел в мою комнату в Нейи. С огромным вниманием и вполне понятным любопытством я принялся разглядывать нового начальника зондеркоманды, ставшего моим главным противником. По внешнему облику он резко отличался от Гиринга. Молодой, полнотелый, с круглым розовым лицом, с живыми глазами, спрятанными за толстыми стеклами очков, безукоризненно одетый, он походил на типичного мелкого буржуа. То спокойный, то возбужденный, он казался мне чем-то вроде липкого шара, который невозможно ухватить руками.
Паннвиц родился в 1911 году в Берлине. Его становление вплоть до дня, когда он заделался криминальратом — советником уголовной полиции, — смело можно считать чрезвычайно интересной темой для психиатрических исследований. Еще мальчишкой он примыкает к организации христианских скаутов. Строгое религиозное воспитание в семье побудило его изучать теологию, которой он посвятил три года жизни. Но профессии пастора он все же предпочел ремесло палача, ибо неисповедимы пути господни!
Гитлер приходит к власти, когда Паннвицу двадцать два года. Будучи чиновником уголовной полиции (Крипо — «Криминаль-полицай»), он прикомандировывается к отделу «трудных случаев», но обычные уголовные преступления не соответствуют его размаху. Слишком уж они повседневны, вульгарны. То ли дело политические репрессии! Вот где можно по-настоящему показать себя! А самый надежный и быстрый подъем по лестнице нацистской иерархии ведет через гестапо. Значит, вперед! Фортуна благоволит ему. Его начинают замечать, ценить. Молодой волчонок приближается к королю хищников — он становится одним из сотрудников Гейдриха, который собирает вокруг себя способных и склонных к авантюризму молодых людей, так сказать, потенциальных хищников. Некоторые из них впоследствии заставят немало говорить о себе, их имена — Эйхман, Шелленберг…
29 сентября 1941 года Гейдрих назначается вице-губернатором Богемии и Моравии и переезжает в Прагу98. Его правая рука — Паннвиц. Для чехословацкого народа настает пора страшных страданий. Заполняются концентрационные лагеря. Сотни антинацистов расстреливают, депортируют, подвергают пыткам. Лондон и чехословацкое правительство в изгнании решили десантировать в Чехословакию партизан-парашютистов, чтобы дать отпор коричневому террору. 27 мая 1942 года происходит тщательно подготовленное покушение на Гейдриха. Тяжело раненный, этот палач умирает 4 июня.
Начинаются ужасающие репрессии. Паннвиц, лично ответственный за безопасность вице-губернатора, взбешенный своей явной неудачей, возглавляет массовые преследования населения. По указанию Геббельса главными «носителями зла» объявляются евреи. Поэтому немедленно умерщвляют несколько сотен еврейских узников концлагеря Терезиенштадт. Всего на чехословацкой территории в тюрьмах содержатся три тысячи человек, но после смерти Гейдриха разгул террора как бы удваивается, кровь льется рекой. В одной только пражской тюрьме расстреливают тысячу семьсот чехов, в Брно — тысячу триста. 10 июня немцы казнят всех мужчин и детей маленькой деревушки Лидице, женщин увозят в концлагерь Равенсбрюк.
Паннвиц лично ведет следствие по делу о покушении на Гейдриха. Он же — инициатор всех этих ужасающих злодеяний. Перед его глазами мелькают тени бесчисленных загубленных им людей, видения непрерывных пыток в подвалах пражской тюрьмы. Наконец, он возглавляет атаку отряда СС на церковь Кирилла и Мефодия, в которой укрылась группа партизан, участников покушения…
После этих событий у Паннвица было несколько неприятных столкновений с его шефами в Берлине, и он счел за благо исчезнуть на некоторое время. Он отправляется на русский фронт, где проводит в своем подразделении всего четыре месяца. Он опасается вредного воздействия сурового русского климата на свое драгоценное здоровье. В начале 1943 года он возвращается в Берлин в качестве сотрудника «гестапо-Мюллера». Ему поручают проверку сведений, сообщаемых зондеркомандой из Парижа, но его новый шеф по достоинству оценивает своего подручного, понимая, что помимо качеств высококвалифицированного палача тот вдобавок может участвовать и в акциях, касающихся «высокой политики». Паннвиц наделен богатым воображением. Уже после своего возвращения из Праги он предлагает план, который, по его мнению, позволит разделаться с чешским Сопротивлением. На место каждого арестованного патриота, утверждает он, встают десять других. Следовательно, остается только одно: арестовывать руководителей и «поворачивать» их. Перейдя на германскую сторону и сохранив свои места в Сопротивлении, они изнутри подорвут его.
Весьма заманчивый на бумаге, план Паннвица все же не отвечает создавшейся экстренной ситуации. В Чехословакии гестапо не может мешкать, оно должно немедленно наносить быстрые и сильные удары. Поэтому-то и прибегает к «добрым старым методам».
Натолкнувшись на донесения зондеркоманды из Парижа, Паннвиц изучает их, и радости его нет предела: вот где по крайней мере пытаются осуществить его план, вот где люди по крайней мере понимают что к чему! И Паннвиц еще больше проникается уверенностью в правильности своей идеи: недаром же Гиринг, чтобы набить себе цену, на все лады расписывает «предательство Большого Шефа» и других членов «Красного оркестра», которые-де, нисколько не сопротивляясь, перешли на сторону Германии. Отсюда четкий и ясный план: добиться своего назначения на должность больного Гиринга, который не сегодня-завтра покинет свой пост. Для достижения этой цели Паннвиц старается заручиться поддержкой всех своих влиятельных покровителей…
При моей первой встрече с Паннвицем я даже не подозреваю, что руки этого с виду добродушного малого, похожего на помощника бухгалтера какого-нибудь скромного предприятия, обагрены кровью тысяч чешских патриотов. При встрече со мной он разыгрывает роль джентльмена, склонного заниматься только «большой политикой», словно его только для этого и позвали. По мнению его берлинских начальников, первая фаза «Большой игры» завершена. Когда уже столько сделано, когда принесено так много жертв для завоевания доверия Центра, надо пойти дальше, перейти ко второму этапу.
События сами по себе как бы диктуют необходимость проведения новой политики. Ход войны изменился. Со времени поражения немцев под Сталинградом уже ничто не в силах остановить Красную Армию. 10 июля 1943 года американцы высаживаются в Сицилии. 25 июля низвергнут дуче. Перспектива англо-американского десанта на Западе представляется все более близкой. В Берлине знают — военная победа невозможна. Гиммлер, Шелленберг, Канарис, не питающие никаких иллюзий по поводу финального схода, теперь возлагают все свои надежды на сепаратный мир с Западом. Если вдуматься в суть этой надежды и этих рассуждений, то ясно, что «Большая игра» приобретает в их глазах первостепенное значение. Значит, надо ускорить темп. Именно с такой директивой Паннвиц и прибывает в Париж.
Да, надо действовать быстро. Начиная с лета 1943 года сам Мартин Борман — правая рука фюрера — вплотную заинтересовался этим делом. Он не только создал группу экспертов, готовящих материалы, нужные для «Большой игры», но и самолично пишет и редактирует донесения для Москвы. Гитлер тоже проинформирован, но, разумеется, ничего не знает об истинных намерениях своих приспешников. Одним из главных противников такой стратегии являлся Риббентроп. Враждебность министра иностранных дел явно мешает, ибо все дипломатические материалы никак не могут миновать его. С тех пор как Борман взял все в свои руки, ситуация изменилась, ибо у Бормана достаточно власти, чтобы преодолеть оппозицию фон Рундштедта и Риббентропа, вместе взятых. С этого момента «Большую игру» начинают называть «операция Медведь». В день моего ареста начальник парижского гестапо Бемельбург, увидев меня, воскликнул: «Наконец-то мы схватили советского медведя!» И вот все эти стратеги перестали остерегаться лап этого дикого зверя, полагая, что коли он в клетке, то его нечего бояться. Но они забыли пословицу, согласно которой нельзя делить шкуру неубитого медведя.
И тут заговорил Паннвиц… Сперва он критиковал своих предшественников, возглавлявших зондеркоманду. Он заявил мне, что Райзер смотрел на все это с позиций ограниченного шпика. Ну а Гиринг, тот, видимо, был чересчур робок и вел «Большую игру» в замедленном темпе. Паннвиц объяснял мне — и я слушал его с якобы напряженным, а на самом деле наигранным вниманием, — что давно уже следует перейти к политическому этапу. Однако рассуждения Паннвица свидетельствовали о больших пробелах в его знании специфики разведывательной работы. И хотя служба в гестапо научила его тысяче и одному способу фальсификации донесений «наверх» и всяким приемам, помогающим выйти сухим из воды, он, тем не менее, не реагировал на ворохи лжи, коими изобиловали объяснительные записки Гиринга, адресуемые в Берлин.
Новый шеф зондеркоманды предложил мне переселиться из тюрьмы в Нейи на частную виллу, где я мог жить под незаметной для меня ненавязчивой охраной. По мнению Паннвица и его начальства, контакт с Москвой при помощи одних только радиоволн стал недостаточным, и теперь, на следующем этапе, необходимо установить с ней прямые связи. Он задумал весьма престижный план отправки в Центр эмиссара, который проинформировал бы Москву о желании довольно многочисленной группы германских военных обсудить вопрос о сепаратном мире с Советским Союзом. Предполагалось, что этот специальный посланник повезет с собой документы, отражающие подобные настроения в офицерских кругах. Но в его багаже будут и такие бумаги, из которых видно, что другие представители германских вооруженных сил тоже тяготеют к сепаратному миру, но… с Западом.
Излишне говорить, что вся эта хитроумная стратегия преследовала одну-единственную цель — взорвать антигитлеровскую коалицию, и в этом смысле проявлялось большое упорство. Паннвиц был нацистом чистой воды и уже поэтому крайне ограничен. Насквозь пропитанный сознанием своего расового превосходства, ни на секунду не забывая, что я еврей, охваченный слепым и тупым презрением ко мне, он недооценивал меня как противника. Только при полной безмозглости или оболваненности геббельсовской пропагандой можно было допустить, будто бойцы «Красного оркестра» готовы хоть одно мгновение шагать вместе с немцами. Борьба, в которой мы участвовали, была борьбой не на жизнь, а на смерть, но типы наподобие Паннвица не могли этого понять.
Гиммлер, ознакомившись с планом Паннвица, сказал, что посылать в Москву «коммивояжера» слишком рискованно. Как разъяснил мне Паннвиц, он побоялся воздействия притягательной силы коммунизма на добропорядочного нациста. В его памяти еще был свеж пример берлинской группы «Красного оркестра». То, что люди вроде Шульце-Бойзена или Арвида Харнака могли стать «советскими агентами», то, что мужчины и женщины, отлично чувствующие себя в высшем обществе и свободные от финансовых забот, втянулись в антинацистскую борьбу, — все это было непостижимо для гестаповских мозгов.
Но Паннвиц не унывал. Он поведал мне другой вариант. На сей раз речь шла уже о прибытии представителя Центра в Париж. Ни секунды не колеблясь, больше того, симулируя живейшее одобрение, я ответил ему, что такая идея кажется мне вполне осуществимой. Потом Паннвиц поинтересовался мнением Кента по этому поводу, который назвал эту затею утопической. Словно качающийся маятник, он вновь склонился к предательству, хотел выслужиться перед своим новым патроном и окончательно перешел на противоположную сторону баррикады. Маргарет Барча была накануне родов, и он ни за что не хотел поставить на карту покой своей семьи. Но все-таки в конечном итоге мне удалось одержать верх, растолковать Паннвицу, что если он и впредь будет приплетать Кента к «Большой игре», то вся эта история превратится в фарс.
Поэтому в Центр было отправлено подробное донесение, в котором говорилось, что группа офицеров желает вступить в контакт с Москвой. Одновременно предлагалось отрядить своего эмиссара к немцам. Этот план получил достаточно далеко идущее развитие, поскольку упомянутая встреча была назначена на бывшей квартире Гилеля Каца, на улице Эдмон-Роже № 8. Было согласовано, что раз в десять дней я буду ожидать там посланца Москвы.
Зондеркоманда лихорадочно готовила эту встречу. Паннвиц и его сотрудники спорили до хрипоты, как должен развертываться сценарий. Мне и Бергу надлежало установить первый контакт с целью подготовки главной встречи, на которой Паннвиц играл бы роль делегата нашей берлинской группы. Энтузиазм, с которым он взялся за сооружение этого замка на песке, был действительно смешным. Волк натягивал на себя бурку пастуха. Пражский палач намеревался сыграть роль посредника в переговорах с Москвой!
В ожидании этой «исторической» встречи неутомимый Паннвиц вдруг вбил себе в голову мысль расширить в нейтральных странах сеть «повернутых» раций. Я заметил, что по какой-то странной причине он оставил в стороне сеть Радо в Швейцарии. Выяснилось следующее: все, что касалось сбора сведений о сети Радо, контролировалось Шелленбергом, а последний был, хотя это не афишировалось, ожесточенным противником и соперником «гестапо-Мюллера», прямого начальника Паннвица99.
Борьба отдельных клик нацистской Германии затмевала ее общеимперские интересы. В этом я убедился, когда в Париж прибыли два эмиссара Шелленберга, попросившие разрешения допросить меня и Кента о сети Радо в Швейцарии. Паннвиц дал мне без обиняков понять, что я отнюдь не обязан рассказывать им все, что знаю.
Намереваясь расширить зону «Большой игры», Паннвиц возымел честолюбивое намерение внедриться в советские разведывательные сети в Швеции и Турции. Под прикрытием коммерческой фирмы «Король каучука» мы с Лео Гроссфогелем заложили основы нашей деятельности в Дании, Швеции и Финляндии. Возможность возобновления соответствующих связей зависела исключительно от меня и Лео Гроссфогеля. Мы решили так или иначе провалить замысел Паннвица.
В ту пору, после падения Муссолини, Центр запрашивал у нас прежде всего сведения об Италии. Тогда же в различных берлинских кругах предпринимались попытки установления контактов с Западом. Аллен Даллес, тогдашний глава американской разведки в Европе, встретился в Швейцарии с несколькими германскими эмиссарами, о чем благодаря «Большой игре» узнал и московский Центр.
…Ну а Паннвиц, чья нервозность усиливалась с каждым днем, ожидал приезда путешественника из Центра. Но ему пришлось жестоко разочароваться: посланец из Москвы так и не появился. Я это знал заранее, как и то, что мой выигрыш сведется всего лишь к нескольким «экскурсиям» («вылазкам») на улицу Эдмон-Роже № 8. В конце августа я направился в эту квартиру, где когда-то пережил столько радостных часов в обстановке тепла и сердечности, с которыми меня принимали супруги Кац. Теперь эта квартира была превращена в ловушку, где приманкой служил Райхман. Но приманка покрылась плесенью, и дичь не шла на нее.
Райхман увидел, что я вошел в квартиру, но не посмел приблизиться ко мне. Опустив глаза, он остался на некотором удалении. В «ожидании» посланца Центра я не переставал думать о роковом срыве, приведшем Райхмана, Ефремова или Матье к предательству. Они шли разными путями, но каждый из них дал совратить себя, и результат во всех трех случаях один и тот же: предательство товарищей. Впрочем, Паннвиц оценивал их по-разному и обращался с ними неодинаково. Матье считался «почетным» сотрудником. Ефремову внушили, будто его поступок совершен «во благо украинского народа». А вот Райхман — тот оказался на самой нижней ступеньке оценок «хозяина». Что бы и как бы он ни делал — в глазах арийского суперрасиста Паннвица он навсегда оставался «грязным жидом».
И даже при своем поспешном отъезде из Парижа, освобождение которого ожидалось со дня на день, Паннвиц не забыл про эти различия. Спасаясь бегством, побежденный палач хорошо помнил затверженные азы учения третьего рейха, в особенности въевшуюся в плоть и кровь ненависть к евреям.
Матье получил вознаграждение — да, да, не удивляйтесь! — и был отпущен на волю. Украинец Ефремов также удостоился определенной «милости»: его снабдили фальшивыми документами и достаточной суммой денег, чтобы дать ему возможность скрыться в Латинской Америке. Райхмана же арестовали и засадили в бельгийскую тюрьму. Он не понимал, что даже ценой предательства еврею от нацистов никогда не откупиться!
Через десять дней в соответствии с планами Паннвица, в порядке «дальнейшего ожидания человека из Москвы», мы вернулись на улицу Эдмон-Роже № 8. Кац сопровождал нас. Райхман предпринял последнюю попытку вновь всплыть на поверхность. Он отвел Каца в сторону и попросил его передать мне, что знает, что мы продолжаем борьбу, и глубоко сожалеет о своем поступке. Стремясь как-то оправдаться, он сослался на шантаж в отношении его жены и детей, а также на предательство его начальника Ефремова, выдавшего его и других немцам. А теперь он, мол, готов как-то загладить свою вину… Кац притворился, будто не понимает его.
Доверять Райхману было невозможно. Он предал единожды, значит, завтра при первом же удобном случае сделает это снова. Он собственными руками закрыл себе все пути. Когда ты отдан на произвол врага, ты можешь выбрать одно из двух: либо сотрудничество с врагом, либо сопротивление ему. Между тем и другим непреодолимая пропасть, и мостик через нее перебросить нельзя. Ты останешься либо по одну, либо по другую сторону этой пропасти.
25. «БОЛЬШОЙ ШЕФ СБЕЖАЛ!»
В один из первых сентябрьских дней 1943 года Вилли Берг, как всегда, приехал в Нейи проведать меня в моем заключении. Но едва он вошел, я сразу заметил во всем его облике что-то необычное. Он крайне возбужден, словно только что узнал нечто чрезвычайное, из ряда вон выходящее. Я крайне заинтригован, волнение передается и мне, но я старательно скрываю его. Моя тревога не лишена оснований — от того, что он мне сообщает, я внутренне холодею:
— Просто потрясающе! Дюваль арестован!
В своем январском донесении я с особой настойчивостью рекомендовал, чтобы Фернан Пориоль (Дюваль) исчез. Он был предметом длительного, неустанного и безуспешного розыска. В начале лета я узнал из надежного источника, что немцы потеряли его след. И вдруг… Как же он все-таки оказался в руках гестапо? Я просто раздавлен этим известием. Через минуту-другую Берг уточняет: Фернана арестовали 13 августа в Пьерфите, к северу от Парижа. Несколькими днями раньше гестапо захватило одну из радиостанций коммунистической партии. Кому-то из радистов якобы удалось бежать и связаться с Пориолем. Последний соглашается на встречу, хотя подозревает неладное, и… попадается в ловушку, расставленную для него.
Однако гестапо не очень хорошо представляет себе, с кем имеет дело. С 1940 года Фернан — один из самых активных деятелей подпольной ФКП. Он руководит всей системой радиосвязи и работает в тесном контакте с «Красным оркестром». Именно он ведает подготовкой «пианистов», он же своими руками сконструировал и собрал несколько радиопередатчиков и — что еще важнее! — обеспечил связь между Жюльеттой и руководством партии. Он сыграл одну из главных ролей в «операции Жюльетта», проведенной в январе: получив материал, предназначенный для Центра, он незамедлительно передал драгоценный пакет партии. Кроме того, после арестов на улице Атребатов (13 декабря 1941 года в Брюсселе) вместе с Лео Гроссфогелем он сформировал специальную группу для проверки фактов арестов в бельгийской и французской группах «Красного оркестра». Наконец, уже совсем незадолго до моего ареста мы с ним наметили технические подробности поддержания контактов, которые помогли бы нам разоблачать действия зондеркоманды против Центра. Таким образом, он был в курсе всего, что касалось «Большой игры».
Достаточно одного этого перечня, чтобы понять, насколько велика была роль Фернана Пориоля. Он защищается по каждому пункту, утверждает, что он всего лишь простой механик, вспомогательный агент. К сожалению, в конце месяца шпики из зондеркоманды, порывшись в картотеке на лиц, подозреваемых в принадлежности к компартии, наталкиваются на фотографию Фернана Пориоля. Только так им удалось выяснить, что ими арестован знаменитый Дюваль, от розысков которого они временно отказались.
Итак, понесенный нами урон действительно велик… Я хорошо знаю Фернана, убежден, что он способен пожертвовать своей жизнью, но до каких пределов — при всей его смелости — сможет он выдержать ожидающие его мучения? Кто даст гарантию, что с его истерзанных уст не сорвется то или другое имя? И, полностью сохраняя свое доверие к нему, я все же внутренне готовлюсь к возможности краха всего, что мне с таким трудом удалось построить, к тому, что моя собственная «игра» будет разоблачена от начала и до конца.
Я справляюсь у словоохотливого Берга о режиме, в котором живет Фернан, и, к великому несчастью, мои опасения подтверждаются: речь идет о тщательно продуманной дозировке невыносимых телесных мук «мирных разговоров». Палачи задают ему самый важный для них вопрос, своего рода лейтмотив их текущей деятельности: что именно руководство коммунистической партии сообщило Москве о моем аресте и об арестах других членов «Красного оркестра»? Пориоль неизменно отвечает им, что получает — крайне редко — небольшие пакеты, которые, не вскрывая, передает одному неизвестному ему связнику. Вся его деятельность, утверждает он, ограничивалась этой ролью посредника между Жюльеттой и высшим эшелоном партии.
Ни убеждения, ни уговоры, ни пытки, ни шантаж не заставят его отвечать по-другому. Выдержки у него хватает. Зондеркоманда грозит арестовать и расстрелять его жену Элен, его дочь… Но все усилия тщетны. Этот изумительный человек, этот выдающийся борец в течение целого года не уступает изуверам. Год в застенке гестапо, в то время как Паннвиц и иже с ним, отлично понимая важность пойманной ими «птицы», не отчаиваются, не теряют надежды раньше или позже выведать у Фернана все тайны…
Первые дни сентября 1943 года у меня проходят в страхе и полном неведении о геройском поведении Пориоля. Я провожу долгие и бессонные дни и ночи, разрываемый противоречивыми чувствами, теряясь в самых безумных догадках, в размышлениях о том, как мне себя держать, как изменить ход событий, который постепенно начинает мне казаться неотвратимым. Проходят дни. Через Берга я почти ежедневно слежу за крестными муками Фернана. Он по-прежнему не говорит им ничего; со своей стороны я готовлюсь к худшему. Моя судьба, а главное — будущее «Большой игры» решаются в подвале пыток, где дорогой мне человек поневоле испытывает предельные страдания. Он их не находит…
Один тяжелый удар следует за другим: 10 сентября узнаю от Берга, что зондеркоманда выиграла дополнительное очко, найдя в районе Лиона еще один радиопередатчик ФКП. Захвачено большое количество радиограмм и архивных материалов. Теперь немцы уверены, что наконец-то обнаружили центральную подпольную радиостанцию руководства Французской компартии. Среди зашифрованных радиограмм они надеются найти депеши, касающиеся «Красного оркестра», посланные в Москву подпольным партийным центром.
С каждым днем угроза бури надвигается. Я узнаю, что зондеркоманда решила вызвать в Париж особую группу специалистов по раскрытию шифров, которую возглавляет знаменитый доктор Фаук. И действительно, 11 сентября на улице де Соссэ я вижу доктора Фаука и его сотрудников. Все они напряженно работают. Присутствующий здесь Берг объявляет мне, что расшифровка продвигается успешно, причем единственная проблема в том, чтобы среди всех радиограмм отыскать те, что относятся к «Красному оркестру». Берг добавляет, что это, мол, «дело одного или двух дней».
Ошеломляющее и весьма существенное известие… Я знал, что где-то на юге страны у ФКП был мощный радиопередатчик, и полагаю, что материал, врученный Жюльетте в январе 1943 года, был передан адресату по этому каналу. Хуже того: донесение было закодировано не моим шифром, а партийным, и если доктору Фауку удалось разгадать его, то отныне зондеркоманде остается одно — читать все мои материалы черным по белому.
Отсюда следует простой и недвусмысленный вывод — еще немного, и «Большая игра», которую веду я, будет разоблачена.
Значит, надо действовать, действовать немедленно, прежде чем со мной произойдет непоправимое. Ночи на 10, 11 и 12 сентября обернулись для меня одним сплошным кошмаром. В любое мгновение я мог узнать, что немцам открылась правда, в любое мгновение ожидал появления ухмыляющихся рож Паннвица и его пособников. Я не боюсь ни пыток, ни самой смерти, но я чувствую каждой клеточкой моего «я» высшую степень унижения, боюсь, как бы не подтвердилась угроза, произнесенная Гирингом при моем аресте:
«Месье Отто, вы проиграли…» Предстать побежденным перед этой бандой кровавых убийц!..
Невозможно! Надо бежать! Побег — это сопротивление. Побег — это надежда умереть сражаясь. В эти дни внутренней бури я стараюсь не выдать себя выражением лица, не обнаруживать своей предельной взволнованности. Как ни в чем не бывало я часами болтаю с Бергом, встречаюсь с Паннвицем и другими членами зондеркоманды, подчеркнуто спокойно беседую с ними и с какой-то безграничной дерзостью, маскирующей мою неослабевающую внутреннюю напряженность, заверяю их, насколько я был бы рад, если бы расшифрованные радиограммы подтвердили мое предположение относительно информации, передаваемой коммунистической партией в Москву.
11 сентября во время прогулки в саду, разрешенной мне в обществе Гилеля, я ставлю его в известность о происходящем. Он приходит к тому же выводу, что и я: да, в любую минуту нас могут разоблачить, да, такая опасность, безусловно, существует. Тогда я ему предлагаю совместный побег в ночь с 12-го на 13-е. Выбраться из моей комнаты, а ему из его подвала проще простого. Дойти до парадного, где стоит словацкий часовой, тоже нетрудно. При некоторой дозе оптимизма мы можем надеяться убить часового и запереть дверь снаружи. Есть у нас еще одно преимущество: мы знаем, что этот часовой обычно пьян, однако могут быть и другие часовые, это тоже нужно учесть. И все же у нас есть некоторый шанс на успех.
Кац одобряет план побега, но, как он мне признается, считает себя не вправе бежать, и даже перспектива смерти в тюрьме не может поколебать это решение. Все дело в том, что его жена Сесиль и обе дочери находятся под наблюдением гестапо в замке Бийерон, и если он исчезнет, то палачи сорвут свою злобу на них. Я взвешиваю этот аргумент, понимая всю его серьезность, но напоминаю ему: что однажды он уже рискнул поставить на карту жизнь своих родных («операция Жюльетта»), — Тогда были другие обстоятельства, — отвечает он. — Тогда я действовал ради общего дела, чтобы дать Центру ключ к пониманию всех махинаций зондеркоманды. Следовательно, я имел право и должен был рисковать не только своей жизнью, но и жизнью моих близких: ставка была слишком велика, она превосходила все личное. Теперь же речь идет только обо мне, и я не стою того, чтобы подвергать такому риску жену и детей.
Что ему сказать? Что возразить? Промолчать. Это все, что мне остается… Кац принадлежал к тем людям, вся жизнь которых проходит под знаком полного самоотречения и самопожертвования.
Да, я не могу сказать ему ничего, хотя точно знаю, что если я убегу, то вся звериная жестокость гестапо обрушится на него в полной мере.
На другой день я сообщаю Гилелю о моем новом плане побега. Он желает мне удачи и просит — если все пройдет успешно — сделать пусть даже невозможное, чтобы спасти его Сесиль и детей. Других желаний у него нет, заключает он. Вечером 12 сентября я прощаюсь с моим старым товарищем и соратником. С неимоверным трудом мы подавляем охватившее нас волнение. Теперь я должен полностью сосредоточиться на задуманном побеге. Дело это очень трудное, в нем не должно быть никакой импровизации. Мысленно перебираю все подробности, взвешиваю все шансы и прихожу к выводу, что обстоятельства благоприятствуют мне как еще ни разу до сих пор: Берг каждый день приезжает за мной в Нейи и увозит меня на улицу де Соссэ. В последнее время я стал замечать некоторое ослабление строгости охраны. Уже нет второй машины, следовавшей за нами прежде. Еще недавно в помощь Бергу на время поездки выделялся охранник, теперь же мы следуем одни. С нами в автомобиле только шофер-гестаповец. Итак, шофер занят вождением. Былое недоверие Берга, благодаря сложившимся между нами отношениям, притупилось. То есть обстоятельства действительно благоприятствуют, это объективный факт. Вдобавок Берг в результате несчастья, постигшего его семью, очень уязвим. Страдая скверным здоровьем, он ищет утешения в бутылке. Почти всегда в промежутке между двумя выпивками он жалуется на резкие боли в животе.
Уязвимость Берга, его склонность к спиртному — один из крупных дефектов в броне зондеркоманды, и я широко использовал это, стремясь завоевать его доверие. На сей раз я снова намерен сыграть на его слабости. Я расспрашиваю его о здоровье, советую как следует полечиться и обещаю когда-нибудь зайти с ним в аптеку Байи на улице Рима № 15, где, я уверен, он найдет идеальное средство от своих болей. Мое предложение не случайно, ибо эта аптека давно уже фигурирует мысленно в составленном мною списке мест, наиболее благоприятных для побега. В самом деле, аптека Байи отличается одной очень интересной особенностью: в ней два выхода — один на улицу Рима, другой на улицу дю Роше.
12-го я прибываю на улицу де Соссэ, и д-р Фаук заявляет мне с абсолютной уверенностью, что завтра он наверняка сможет расшифровать все радиограммы. Я не сомневаюсь в достоверности его слов. Значит, 13-е — крайний срок для моего побега. А после ловушка неминуемо захлопнется. Я принимаю окончательное решение: завтра Берг, как обычно, приедет за мной, чтобы вместе поехать на улицу де Соссэ, куда мы прибудем около полудня. Он мне почти наверняка предложит отправиться в аптеку и войдет в нее со мною. Тогда я проследую к прилавку, оттуда к кассе, чтобы затем уйти через противоположный выход. Сперва Берг окажется в невыгодном положении: окруженный французами (в аптеке Байи всегда полно покупателей), он закричит по-немецки, и это едва ли даст что-нибудь. Откроет ли он по мне стрельбу? Вряд ли — слишком велик риск попасть в другого. Если попытается погнаться за мной, то тут я рассчитываю на свою резвость и… на его почти перманентное состояние опьянения. Очутившись на улице, надеюсь за несколько минут добраться до станции метро, доехать до конечной остановки линии на Нейи, потом пересесть на автобус в Сен-Жермен, где разыщу своего человека. Уехать поездом с вокзала Сен-Лазар? Исключено! Конечно, будет объявлена тревога и гестапо, несомненно, оцепит всю округу, раскинет огромную сеть. Я хорошо помню, что на руках у меня подлинный документ, ибо всякий раз перед нашим отъездом Берг, как я уже отмечал, вручает мне удостоверение личности и некоторую сумму денег…
Что ж, я готов испытать судьбу, проверить мой последний шанс. Ночью передо мной словно мелькают кинокадры, я смотрю кинофильм про мой побег, который, безусловно, должен сложиться удачно!
13 сентября. Меня чуть лихорадит, надеюсь, ничто не нарушит мой план, что Берг чувствует себя не хуже обычного и не отменит свой визит ко мне, не пошлет никого взамен себя. Нет, все идет хорошо: он приезжает ровно в одиннадцать тридцать. Мы садимся в машину и выезжаем за ворота. Я оборачиваюсь: Гилель смотрит мне вслед, и я машу ему рукой на прощание. Знаю, что больше никогда не увижу своего боевого товарища. Мы не можем обменяться ни одним словом, наше последнее расставание безмолвно…
Мы с Бергом едем по Парижу, приближаемся к цели. Берг, как и полагается, вручил мне мое удостоверение и банкноту в пятьсот франков. С предельно участливым видом я осведомляюсь:
— Как вы себя чувствуете сегодня?
— Все хуже и хуже… (Кажется, он как-то особенно удручен…) Нам нужно заехать в аптеку.
Мы подъезжаем к аптеке Байи. Берг объят полудремой. Я легонько толкаю его локтем и говорю:
— Приехали, вы войдете?
В ответ я слышу совершенно невероятное:
— Поднимитесь, купите лекарство и быстро возвращайтесь… Что у него на уме? Что еще за маневр? Хочет меня испытать? Я очень спокойно смотрю ему в глаза и говорю:
— Но, позвольте, Берг, в этой аптеке есть другой выход.
— Я всецело доверяю вам, — отвечает он, смеясь, — и потом я слишком устал, чтобы карабкаться по этажам.
Я не заставляю его повторять это дважды. Вхожу в аптеку и…почти сразу же покидаю ее с другой стороны. Через несколько минут я в метро. Сажусь в поезд. Еду. Пересаживаюсь в сторону Пон де Нейи. Мне просто неслыханно везет. У выхода из метро сажусь в автобус на Сен-Жермен. Мало-помалу я обретаю спокойствие. Тем не менее, машинально, рефлекторно оглядываюсь вокруг. Никто на меня не смотрит. Тогда я начинаю размышлять о возможных реакциях Берга. Первые десять минут он не станет удивляться — за это время можно лишь зайти в большой магазин и что-то купить. К тому же в полдень везде толчея… Потом, не понимая, почему меня нет, заинтригованный, он поднимется на второй этаж аптеки и будет искать меня по всем углам. На это уйдет еще добрых десять минут. Не найдя меня, Берг устремится на улицу де Соссэ, чтобы оттуда объявить тревогу. Если будет торопиться, то затратит на это опять же не менее десяти минут. Зондеркоманда прибудет на место, откуда я бежал, не раньше чем через сорок — пятьдесят минут.Но тогда я уже буду находиться в гораздо более спокойном районе…
В половине первого я в Сен-Жермене. Я свободен, но очень насторожен: беглец, за которым охотится гестапо, знает всю хрупкость этой вновь обретенной свободы.
Почему я выбрал Сен-Жермен? Во-первых, потому, что решил искать убежища скорее у людей, с которыми я незнаком лично, нежели у надежных друзей. Мне представляется бесполезным и опасным ставить под удар членов «Красного оркестра», еще находящихся на свободе. Кроме того, агенты гестапо отличнейшим образом могли втереться в доверие к моим знакомым. Я помню, что Джорджи де Винтер в 1942 году снимала небольшую виллу в Везине. Там ли она еще? Понятия не имею. Но знаю, что ее личное положение тоже не гарантировано от разного рода превратностей. Американская подданная, она вынуждена была уйти в подполье в момент вступления Соединенных Штатов в войну против держав оси. Ей раздобыли бельгийское удостоверение на имя Тевене, согласно которому она родилась в деревне на севере страны. Этот документ, разумеется, не выдержал бы сколько-нибудь серьезной проверки.
Еще мне известно, что летом 1942 года сын Джорджи, Патрик, был помещен в какой-то пансион в Сен-Жермене, руководимый двумя сестрами-учительницами, но тут сразу же возникает другой вопрос: найду ли я его там? Не перевели ли его в другое место? Как бы то ни было, но я полагаю, что, найдя пристанище именно в этих краях, я буду в наибольшей безопасности и меньше рискую. Подыскивая себе нору, могу сослаться на Джорджи и надеюсь отыскать ее следы.
Легко нахожу упомянутый пансион. Дверь открывает молодая девушка ярко выражение русского типа. Я иду на риск полнейшего доверия и объясняю обеим сестрам мое положение. К моему великому удивлению, они без лишних эмоций выслушивают рассказ о моем побеге. Этого я никогда не забуду. Они мне сообщают, что Патрик покинул их пансион и что какая-то семья в Сюрене приютила его. Что касается Джорджи, то она расторгла договор на аренду виллы, но, быть может, продолжает жить в Везине. Мои гостеприимные хозяйки в течение нескольких часов безуспешно пытаются разыскать ее по телефону и гостеприимно предлагают мне остаться у них. Наконец поздно вечером Джорджи все-таки оказывается «на проводе». Она немедленно прибегает, очень взволнованная встречей со мной и нисколько не робея по поводу этого открытого знакомства с человеком, которого преследует гестапо. Она полна решимости действовать. Горячо поблагодарив обеих сестер, мы их покидаем.
Ну и денек! Впрочем, для Паннвица и его холуев 13 сентября 1943 года стало самым что ни на есть черным днем…
В борьбе с зондеркомандой я добился большого успеха и вновь контролирую ситуацию. Битва возобновляется. Но как мне избежать того, что меня подстерегает?..
После короткого размышления я понимаю, что вилла в Везине, куда Джорджи упрятала меня, не самая идеальная из тайных квартир. В этом довольно изолированном месте такая пара, как Джорджи и я, неизбежно привлечет к себе внимание. Надо в спешном порядке куда-нибудь переехать. Ведь я — и это очевидно — не ординарный беглец, на мне лежит огромная ответственность. До этого дня Джорджи ничего о моих делах не знала. Ей было лишь известно, что я участвую в антинацистской борьбе. Никогда она мне не задавала вопросов, но теперь сознает, что своим участием в моих действиях она идет на неимоверный риск. И я глубоко обязан не только ей и ее сыну, но и всем другим, кто помогали мне.
Борьба продолжается. Я далек от мысли заползти в какую-нибудь берлогу и отлежаться в ней до конца войны. Быть может, мне следует восстановить контакт с Мишелем, связником коммунистической партии, чтобы проинформировать Москву о моем побеге. Любой ценой я должен выяснить, прошел ли мой доклад Москве через радиопередатчик компартии, недавно захваченный гестапо. Ответ на этот вопрос определяет дальнейший ход «Большой игры». Наконец, передо мной стоит еще одна первостепенная задача: предохранить от страданий моих томящихся в заключении друзей, которых могут заставить жестоко расплатиться за мой побег. Для достижения этих целей в моем распоряжении считанные дни. Они быстро промелькнут, и — в этом не могло быть ни малейших сомнений — спущенная на меня свора ищеек понесется по моим следам…
— «Отто сбежал!»
Когда Берг, более хворый, чем когда-либо, возвращается на улицу де Соссэ с такой сногсшибательной новостью, всеми мгновенно овладевает растерянность и паника. Паннвиц быстро соображает, что основная ответственность будет возложена на него одного. Он реагирует на крайне неприятное для него сообщение в точности так, как я ожидал, то есть в духе злобных матерых охотников, не брезгующих никакими средствами при преследовании дичи. Человек, который после убийства Гейдриха руководил репрессиями во всей Чехословакии, привык к ситуациям такого рода. В одно мгновение здание аптеки Байи оцеплено, десятки покупателей арестованы. Паннвиц распоряжается прочесать и обыскать весь дом снизу доверху, предполагая, что я там где-то спрятался и жду конца поисковой акции. Затем, несомненно, оцепляется и обшаривается весь вокзал Сен-Лазар, тщательнейшим образом обыскиваются вагоны и пассажиры отправляющихся поездов. Гестапо держит под своим контролем все места (магазины, кафе, рестораны, парикмахерские), где я бывал во время моих «выездов с сопровождением». Паннвиц применяет тактику сетевого лова, надеясь, что из сотни «выловленных» найдется хоть один человек, который даст ему интересную информацию. Но все безрезультатно. Тогда он прибегает к последнему остающемуся ему средству — к террору против членов «Красного оркестра».
Чтобы запутать следы, я надумал написать и объяснить Паннвицу, что был вынужден исчезнуть, так как в аптеке ко мне подошли двое неизвестных и назвали пароль, согласованный с Центром на случай встреч с представителями «группы контрразведки». Они мне сказали, что с минуты на минуту я могу быть арестован гестапо, в связи с чем они получили приказ отвезти меня в безопасное место. Далее я поясняю Паннвицу, что, «дабы не ставить под угрозу наше общее дело», я рассудил, что не должен вступать в пререкания с обоими незнакомцами, не раздражать их и следовать за ними. Они посадили меня в машину, и мы покинули Париж. В ста километрах от столицы мы сели в поезд, следующий к швейцарской границе. Я добавляю, что, улучив минуту невнимательности моих стражей, я опущу это письмо в ящик на вокзале в Безансоне и в дальнейшем буду сообщать о себе. В постскриптуме советую Паннвицу не считать Берга виновным за то, что произошло со мной, ибо в любом случае его присутствие в аптеке ничему не помешало… Одна из двух сестер из пансионата в Сен-Жермене согласилась съездить на поезде в Безансон и опустить там письмо в почтовый ящик.
Проявив такую инициативу, я пытаюсь внушить Паннвицу, что нахожусь далеко от Парижа, и тем самым затормозить мой розыск. Но есть тут и другая, более важная цель: если, роясь в архивах радиостанции, гестапо не найдет мое донесение, то тогда это позволит Центру в Москве, невзирая на мой побег, продолжать «Большую игру».
Не теряя ни минуты и еще раз проявляя большую смелость, Джорджи пытается связаться с коммунистической партией. У меня действительно есть возможность установить контакт с руководством ФКП, достаточно позвонить по одному телефону и попросить написать следующую фразу: «Месье Жану сделана хирургическая операция; ему необходимы медикаменты…»
Сразу после получения этого условного сигнала партия должна выслать по одному агенту-связнику в четыре явочных пункта, предусмотренных севернее, южнее, восточное и западнее Парижа. Через два дня после телефонного звонка Джорджи я встретился в Везине с юной девушкой, которую попросил доставить мне удостоверение личности, яд и сведения о судьбе донесения, переданного через Жюльетту. Еще через день мы с ней увиделись снова. Она принесла те документы и капсулу с цианистым калием, которую следует проглотить только в самом крайнем случае. Затем она сообщила мне ошеломившую меня новость: оказывается, радиостанция ФКП в районе Лиона использовалась исключительно для передачи пропагандистских материалов в другие районы, и поэтому гестапо захзатило только листовки, не содержавшие никаких секретных данных. Жак Дюкло — об этом я узнал позже — посчитал, что мой доклад Центру, который я вручил Жюльетте, слишком важен и не может быть передан по радио. Специальный курьер привез донесение в Лондон, и оттуда его переслали в Москву по дипломатическому каналу. Таким образом, стало очевидным, что мой побег был бесполезен. Узнай я про эти факты не 17-го, а 13-го, я, несомненно, остался бы в Нейи. Зондеркоманда не имела решительно никаких шансов раскрыть тайну «Большой игры».
И еще один, пожалуй, еще более тревожный, момент: мой пo6eг чреват опасностью срыва «Большой игры», которой Центр придает такое большое значение. Отныне я уже не имею права попадаться гестапо живым. Капсула с ядом в моем кармане возвращает мне силы, уверенность и спокойствие, хотя уже на следующий день я чуть было не воспользовался ею.
Уходя из дома утром, Джорджи, как всегда, закрыла парадную дверь снаружи. Весь день напролет ставни остаются закрытыми. Такая элементарная предосторожность создает впечатление, будто дом необитаем… Вдруг кто-то нажимает на кнопку дверного звонка. А после паузы снова. Оба звонка продолжительные. Я настороже, готовый в любую минуту бежать, но неведомый посетитель больше не звонит. Ложная тревога.
На следующий день шутка повторяется: мы просыпаемся от сильного стука в дверь. В крайней спешке одеваюсь, нащупываю в кармане капсулу с ядом. Сажусь верхом на подоконник, чтобы выпрыгнуть, как только выставят входную дверь. Но стук прекращается, и я слышу, как хозяин виллы говорит Джорджи, что он уже несколько дней хочет показать это строение новым съемщикам, но так как двери и окна непрерывно закрыты, то он решил попытать счастья ранним утром.
Эти инциденты побуждают нас к быстрым действиям. Теперь ясно, что чья-либо болтливость может нас погубить. Мы обязательно должны уехать. Но между решением и его осуществлением пролегла пропасть, и преодолеть ее не так-то легко, когда тебя яростно преследует сорвавшаяся с цепи гестаповская свора. Уехать… Уехать… Но куда?.. Рассмотрев несколько возможностей, мы решаем просить супругов Кейри, у которых живет маленький Патрик, приютить меня. У них свой особняк в Сюрене. Их мать занимает небольшую квартирку в крупном садово-огородном поселке, расположенном по соседству. Несколько дней она будет отсутствовать, я могу этим воспользоваться и не заставляю себя долго упрашивать.
Так что у меня есть несколько дней форы перед зондеркомандой. И все же осторожность повелевает мне не питать чрезмерных иллюзий. Люди Паннвица, без сомнения, пытаются напасть на мой след через Джорджи. Раньше или позже они придут из Сен-Жермена в Везине, затем из Везине в Сюрен. И действительно, прошла только неделя, а они вышли на пансион в Сен-Жермен после того, как Паннвиц, как всегда неразборчивый в средствах, арестовал многочисленных близких и дальних родственников Джорджи. В Брюсселе гестаповцы запугали ее родителей и нескольких друзей. В конце концов они вызнали, что сын Джорджи живет в пансионе где-то в окрестностях Парижа. Одна информация сослужила им особенно большую услугу: зная, что Джорджи посещала школу танцев на улице Клиши, они пошли туда и от некоей Денизы, одной из ее соучениц, услышали, что Патрик живет в Сен-Жермене.
Гестапо все ближе, в этом я уверен: не прошло и трех суток моей жизни в Сюрене, как одна из сестер рассказывает мне по телефону, что к ней приходил какой-то мужчина под предлогом необходимости что-то передать для мадам де Винтер. По словесному описанию наружности пришельца я узнаю в нем Кента, ставшего «коричневым кардиналом» зондеркоманды. (В дальнейшем его присутствие будет прослеживаться во всех горячих точках, где будут искать меня.) Три дня спустя в пансион приезжает новая группа «любопытных». В их числе Гилель Кац!
Сразу после моего побега все усилия Паннвица обращены на него. Шеф зондеркоманды вбил себе в голову, что через Гилеля наверняка сможет «достать» меня. Прежде чем выпустить когти, это чудовище пытается пойти на хитрость: он просит Гилеля позвонить своей жене Сесиль и назначить ей срочное свидание в Париже. Сесиль прекрасно знает, что с декабря 1942 года ее муж в руках гестапо. Она также знает, что его непрерывно охраняют и что если она уклонится от встречи, то ее ждут репрессии. Поэтому она вынуждена откликнуться на этот вызов. Она встречает Гилеля в кафе и замечает, что его сопровождает кто-то неизвестный. Кац, который, естественно, обязан подчиняться указаниям Паннвица, тем не менее ухитряется открыть ей мое положение.
— Мои друзья, — говорит он, — очень обеспокоены судьбой Отто и ожидают его скорого возвращения…
Это означает, что я бежал. Только Паннвиц верит в полезность этого «мероприятия». В своих попытках маневрировать он не продвигается ни на миллиметр, он прибегает к привычным ему методам (аресты, пытки), затем решается на последний шаг, а именно — посылает Каца в сопровождении своих агентов в Сен-Жермен. И снова Кацу удается одержать верх, и снова охотнику не удается настигнуть дичь. Задав сестрам несколько невинных вопросов о Джорджи и Патрике, Кац умудряется шепнуть одной из них на ушко: «Месье Жильбер в смертельной опасности; гестапо преследует его по пятам».
Геройский человек этот Гилель! До последнего мгновения он сражается за наше дело и ради спасения жизни других людей ставит под угрозу собственную жизнь.
Позже, в день освобождения Парижа, я вернулся в сопровождении одного товарища, Алекса Лесового, на виллу в Нейи, превращенную немцами в тюрьму. Месье Продом, французский консьерж этого дома, рассказал нам, как мучили Гилеля Каца. Дней через десять после моего побега зондеркоманда стала возить его по ночам на улицу де Соссэ. По утрам его привозили обратно в ужасающем состоянии. Его страдания становились все более страшными, истязания усиливались, раны не успевали зарубцовываться. Консьерж, приносивший Гилелю еду, расспрашивал его про переживаемыеим ужасы. Мясники из зондеркоманды обвиняли его в пособничестве моему побегу, в том, что он якобы знает, но не хочет сказать, где я нахожусь. Они также считали, что будто бы Кац каким-то образом предупредил меня о визите гестаповцев в Сен-Жермен.
Консьерж Продом хорошо запомнил день, когда Кац с истерзанным лицом и руками доверительно сказал ему:
— После войны месье Жильбер наверняка придет сюда. Передайте ему, пожалуйста, что, несмотря на пытки и страдания, я не сожалею ни о чем и глубоко счастлив, что поступал так, как было нужно. Попросите его — пусть позаботится о моих детях… Несколько часов спустя гестаповцы увели его. Мы так и не узнали, при каких обстоятельствах умер Гилель Кац. Знает это палач Паннвиц, приказавший пытать его, а затем убить (после розыгрыша судебной комедии, а может, и без нее). Так он и стоит передо мною, как живой, этот образцовый боец.
Для него героизм был чем-то само собой разумеющимся, чем-то естественным для людей, жертвующих своей жизнью во имя радостного и счастливого будущего.
В Сен-Жермене зондеркоманда арестовывает обеих сестер. Мужественные девушки ничего не говорят, ничего не сообщают о поездке в Безансон, о моем письме, адресованном Паннвицу. На другой день гестапо наносит удар по вилле в Везине. Свора приближается, и через несколько дней, если не через несколько часов, ее громкий лай раздастся в Сюрене. Тогда снова придется действовать быстро, спасать мадам Кейри, которую я сумел убедить уехать (вместе с Патриком она найдет приют у своей родственницы в Коррезе), а Джорджи и я снова снимаемся с якоря. Куда же нам двинуться? Мой выбор падает на Спааков — Сюзанну и Клода, которых я увидел впервые летом 1942 года. Тогда я пришел к ним домой на улицу Божоле с целью предупредить супругов об аресте их друзей — Миры и Герша Сокол. Меня поразило хладнокровие, с которым они встретили эту весть. Ни секунды они не сомневались в Мире и Герше, убежденные, что и он и она предпочтут смерть признаниям. И ведь так оно и получилось: Соколы пополнили длинный список мучеников, боровшихся против нацизма. Известные им тайны они, подобно великому множеству других людей, унесли с собой в могилу…
Полное доверие, которое мы питаем друг к другу, является наилучшим гарантом верности моего решения. Так что Джорджи направляется к Спаакам, посвящает их в подробности, и они заверяют ее в своей готовности сделать все возможное, чтобы помочь мне. В окружающем меня мраке засветился огонек… Клод приезжает ко мне в Сюрен. Как все-таки утешительно сознавать, что мы больше не одни. Самое безотлагательное — это найти безопасное тайное жилище, не имеющее никакого отношения к участникам движения Сопротивления. В этом мы единодушны. Вторая необходимость: восстановить и регулярно поддерживать контакт с Французской коммунистической партией.
Для начала нужно временно спрятаться хоть где-нибудь, ибо о дальнейшем пребывании в Сюрене не может быть и речи. Затем поскорее подыскать другое, более надежное пристанище. Дениза, знакомая Джорджи по школе танцев, передает ей ключи от своей мансарды на улице Шабанэ, куда мы вселяемся вечером 24 ноября. Между прочим, на этот вариант я соглашаюсь нехотя. Что-то заставляет меня усомниться в полной надежности Денизы. Вдруг мы и в самом деле лезем в волчье логово. Эту ночь с 24 на 25 я провожу в беспокойстве, никак не могу уснуть, чутко прислушиваюсь к малейшему шуму и с минуты на минуту жду появления этих господ…
Но настает заря, и с чувством истинного облегчения мы покидаем это сомнительное укрытие, чтобы отправиться к Спаакам. Предчувствия не обманули меня, и мы вправе поздравить себя, ибо Денизу арестовывают, и она буквально с ходу выкладывает все, что знает. Она сообщает адрес супругов Кейри. В награду ее тут же отпускают на волю. Теперь Паннвицу кажется, что цель — вот она! Свора набрасывается на виллу. Слишком поздно. И хотя месье Кейри остался дома, для победного улюлюканья все же никаких оснований нет.
Паннвиц пробует атаковать с другой стороны. Он расставляет новую ловушку, рассчитывая на крупную добычу. Считая Патрика моим сыном и узнав, где скрылась мадам Кейри с ребенком, он решает шантажировать меня. Паннвиц организует телефонный звонок: какой-то «сосед» сообщает мадам Кейри, что ее муж «сломал себе ногу» и ей необходимо срочно приехать. Глупый обман очевиден, и мадам Кейри, почуяв блеф, остается в Коррезе.
Но шеф зондеркоманды не обескуражен: что ж, решает он, ежели «сын» Отто не желает прийти к нам, то мы пойдем к нему. И он снаряжает экспедицию для поисков маленького Патрика в Коррезе…
Паннвиц не принимает за чистую монету демагогические, «успокоительные» речи доктора Геббельса, который в конце 1943 года прямо-таки вопит о своей уверенности в окончательной победе третьего рейха. Хорошо информированный о ситуации в Коррезе, находящемся буквально в центре опорных пунктов макизаров100, он разрабатывает и осуществляет настоящую военную операцию. Колонна грузовиков с вооруженными гестаповцами пускается в путь. Цель: задержание «опасного агента» «Красного оркестра», которому отроду только четыре весны.
Миссия завершается удачно. Паннвиц потирает руки. Поохотившись за мной две недели кряду, теперь он уже твердо рассчитывает поймать Большого Шефа, рассуждая примерно так: раз добрались до сына, доберемся и до отца. Проведенный им «тест» развеял последние остатки сомнений в моем отцовстве. Показывая Патрику мою фотографию, он просит мальчонку сказать, кто этот «месье», и малыш отвечает: «Это папа Нану». Но шефу зондеркоманды не известно, что Патрик просто «окрестил» меня «папа Нану», так же как мадам Кейри «мамочка Анни».
И хотя мне лично тупость Паннвица только на руку, я не на шутку беспокоюсь за судьбу малыша. С другой стороны, мне ясно, что Паннвиц пустится во все тяжкие, чтобы заполучить Джорджи. Впоследствии мы узнаем: мнения гестаповцев о том, как поступить с Патриком, разделились. Одни предлагали отправить его в Германию, другие предпочитали оставить его на месте, чтобы находился под рукой. И поскольку им все же было бы трудно заключить его в тюрьму, то они поместили его вместе с мадам Кейри в Сен-Жермене, точнее, в какой-то тамошний институт, реквизированный немцами. Там он оставался до января 1944 года, потом его перевели в Сюрен, где от Патрика не отходили ни на шаг, рассчитывая, что я, не выдержав столь длительной разлуки со своим «сыном», начну бродить вокруг этого городка и тогда меня можно будет схватить. Паннвиц основательно ошибся. Теперь я спрятан у Спааков. Но при всем моем доверии к этим людям остается фактом, что их «тайник» наименее надежный из всех, в которых я находил прибежище после моего побега. Я знаю, что супруги Спаак участвуют в движении Сопротивления, но в какой степени, в какой роли? В частности, Сюзанна занята в нескольких видах подпольной деятельности. В 1942 году она посвятила себя делу спасения еврейских детей, активно участвовала в национальном движении против расизма, но мне неизвестно, что вдобавок к этому она сотрудничает еще и с несколькими голлистскими и коммунистическими организациями. Не задумываясь о грозящей ей опасности, она участвует в самых рискованных акциях. То есть она как бы очень «на виду». Поэтому мы приходим к выводу, что лучше нам с ней расстаться, и проводим две последующие ночи в одной из церквей, близ Лувра. На сей раз нас приютил пастор, прежде размещавший у себя еврейских мальчиков и девочек, которых Сюзанне Спаак удавалось вырвать из когтей немцев. Из церковной часовни стараниями все тех же супругов Спаак я попадаю в дом для престарелых… Это место окажется, пожалуй, одним из лучших укрытий от гестапо, но от слова «престарелый» у меня мурашки пробегают по телу…
26. ДУЭЛЬ С ГЕСТАПО
Мне тридцать девять лет, я руководитель «Красного оркестра», и вдруг — будь добр! — разыгрывай из себя более или менее пожилого пенсионера в тихом доме, точнее, в «белом доме», что находится в Бур-ля-Рэн. Но иного выбора у меня нет, и я решаю выдавать себя за больного пенсионера, нуждающегося в постоянном уходе. А для ухода нужна сиделка. Присутствие Джорджи исключено, поэтому мы прибегаем к услугам мадам Мэй, вдове довольно известного шансонье, ненавидящей нацистов и готовой участвовать в подпольной борьбе. Эту редкую птицу обнаружила Джорджи (в подобных обстоятельствах очень трудно найти женщину, на которую можно положиться и которая готова пойти на такой огромный риск). Для окружающих людей она будет старой теткой, не чаящей души в своем племяннике. В действительности она служит связной…
Мои первые дни в «белом доме» проходят безмятежно, но постепенно я замечаю, что нескольким пенсионерам, так же как и мне, довольно трудно удается изображать из себя милых старцев. Ряд признаков выдает их возраст и какой-то совершенно иной статус бытия. Так же, как я — и это беспокоит меня, — они, по-видимому, вынуждены прятаться от немцев… Атмосфера в доме сердечная, однако каждый его обитатель держится на известном удалении от других, словно подозревает своих соседей в неумении хранить тайну. Каждый принимает пищу в своей комнате. В общем, скажем прямо — довольно странный дом для престарелых…
Шансы на срыв планов Паннвица были невелики, и все же надо было попробовать. Поэтому в конце сентября я написал ему второе письмо. В первом письме, как вы помните, я ему сообщил, что уезжаю в Швейцарию в сопровождении агентов советской контрразведки. Но ведь с тех пор он обнаружил следы моего присутствия в Сен-Жермене, Везине и Сюрене… И поскольку следовало дать ему какое-то правдоподобное объяснение, я написал, что вернулся в Париж с согласия моей контрразведки.
Предвижу возражение, которое сразу же будет выдвинуто: «Неужели вы не могли придумать ничего лучшего, — скажут мне, — чем сообщить зондеркоманде, в каком именно городе вы находитесь?» Читатель, вероятно, скажет, что со стороны человека, бежавшего от гестапо и который все еще находится в бегах, проявление такой инициативы довольно странно. Ведь это все равно что навести охотника на след убегающей дичи, короче — огромный риск. Отлично понимаю это недоумение, но прошу помнить о необходимости учитывать весьма бесхитростную психологию гестаповского чиновника: скажи ему, что ты в Париже, и он начнет искать тебя во всех уголках Европы.
Но здесь действовали и более важные причины: Париж — это рай для подпольщиков, и если преследуемому удается порвать прежние связи, то у него появляются реальные шансы скрыться от преследователей. Я нарочно написал письмо в тоне спокойной самоуверенности, выразил свое возмущение поведением зондеркоманды, обвинив ее в преднамеренном распространении паники путем ареста ни в чем не повинных людей, никогда не имевших какого-либо отношения к моей сети. Я добавил, что в будущем моя позиция по отношению к зондеркоманде будет зависеть от их освобождения.
Мое письмо сильно смутило Паннвица. Видимо, он спросил себя, каковы же мои намерения, не понимал, почему после побега я не раскрыл перед Центром всей правды. Он, разумеется, не знал, что с момента «операции Жюльетта» в феврале 1943 года Москва знала истинное положение вещей.
Моей главной целью было восстановление устойчивой связи с Центром через ФКП. В этом смысле я надеялся на посредничество Сюзанны Спаак. Она не была членом партии, но при спасении еврейских детей работала вместе с молодым врачом, доктором Шертоком, который в свою очередь был связан с адвокатом-коммунистом Ледерманом. Последний был одним из главных руководителей еврейского Сопротивления во Франции, и мне приходилось с ним встречаться, когда я находился в рядах ФКП. На национальном уровне он поддерживал связь с руководителем иностранных боевых групп внутри компартии товарищем Ковальским, заместителем начальника MOI (рабочие-иммигранты).
Ковальского я знал хорошо. Именно он-то мне и был нужен. У него был контакт с партийным руководством, а заодно с Мишелем, который с 1941 года обеспечивал связь между ФКП и мною.
Добраться до Ковальского нелегко: надо как бы пройти обратно весь путь, ступенька за ступенькой. Начав действовать в этом направлении, я стал посылать по первым и пятнадцатым числам каждого месяца курьера в церковь в парке Бютт-Шомон — постоянное, уже давно установленное место встречи с представителями Центра.
Но продолжала ли эта явка функционировать? 1 октября Джорджи пошла туда, но не нашла никого.
При счастливом содействии неких Рут Питере и Антонии Лайон-Смит, двух нелегально проживающих в Париже подружек-англичанок, Спаакам удалось спрятать Джорджи. Антония Лайон-Смит предложила обратиться с письмом к доктору Джонкеру, своему родственнику, жившему в Сен-Пьер-де-Шартрез, у самой швейцарской границы. Принципиальный антинацист, этот доктор использовал свое столь удачное местожительство, чтобы помогать беженцам перебираться в Швейцарию. В ожидании его ответа мы поселили Джорджи в маленькой незаметной деревушке в провинции Вое, близ Шартра. Там ей было удобно дожидаться сигнала доктора на переход швейцарской границы. Но от этого ожидания Джорджи окончательно извелась. 14 октября она прибыла в Бур-ля-Рэн, находясь на грани нервного потрясения. С большим трудом я уговорил ее вернуться в Вое. Накануне своего отъезда, утром 15 октября, она тайком от меня передала мадам Мэй листок бумаги, на котором записала новый адрес, где ее можно будет найти. Мадам Мэй машинально сунула листок в карман. Было условлено, что в тот же день она поедет на встречу у церкви в Бютт-Шомон.
Я принял самое деятельное участие в подготовке этого рандеву. Мы договорились, что мадам Мэй будет держаться на достаточно большом расстоянии от церкви и — на чем я особенно настаивал — после непродолжительного контакта со связным ни под каким видом не должна заходить к себе на квартиру, расположенную совсем рядом…
Дениза, как помнит читатель, в свое время посещала вместе с Джорджи школу танцев. Там они разучивали парный танец па-де-де. С тех пор Дениза, несомненно, как говорят, «перекантовалась» и стала танцевать танго с зондеркомандой. После организованного Паннвицем рейда в Сюрен мы убедились, что она уже увязла в болоте измены по крайней мере по щиколотку. А ведь Дениза хорошо знала мадам Мэй и адрес ее жилища.
За время моего пребывания в «белом доме» я довольно подробно узнал мадам Мэй. Будучи уже в возрасте, она тем не менее отличалась большой экспансивностью. Умная от природы, она была в общем такой же, как и все, кто помогали мне после побега: исступленная антинацистка, великодушная, боевая, но, к сожалению, лишенная даже самых элементарных представлений о подполье и нелегальной работе. Она была одной из тех многих «любителей-антифашистов», которые в силу своей неопытности невольно облегчали профессионалам из гестапо выполнение их заданий. Она рассказала мне, что ее единственный сын, на котором после смерти мужа она сосредоточила всю свою любовь, попал в плен. Я мог себе представить тот омерзительный шантаж, на который пошли бы эти мерзавцы, если бы она, не дай бог, попала к ним в лапы. Вот почему я ее и попросил, чтобы в случае, если стрясется несчастье, она любой ценой сохраняла молчание в течение хотя бы двух-трех часов.
Встреча у церкви была назначена на полдень. Я ожидал возвращения мадам Мэй к часу, самое позднее — к половине второго. Но время шло, а она все не появлялась. В три часа все еще никого! Тут не нужно быть большим провидцем, чтобы понять — дело дрянь, и я, естественно, начал строить всякие предположения.
Мне представлялось немыслимым, чтобы гестаповцы могли застигнуть мадам Мэй на явке, координаты которой знали только Джорджи, Центр и я. Вторая гипотеза: вопреки моим официальным инструкциям она все-таки пошла на свою квартиру. Увы, как я узнал впоследствии, так оно и было. Она прождала минут пятнадцать около церкви. Никто не пришел. Но вместо того чтобы вернуться в Бур-ля-Рэн, она решила зайти к себе домой. Кто знает, что на сердце у матери, которая давно уже не имеет никаких известий о нежно любимом сыне, попавшем в плен! Я ей строго-настрого приказал сразу вернуться в Бур-ля-Рэн, но ей подумалось: а что если рядом, в нескольких шагах, ее ждут письма; будь что будет, надо посмотреть, каков бы ни был риск — удержаться невозможно! В своей квартире, превращенной в мышеловку, вместо писем она застает банду Лафона — французских пособников гестапо. В кармане мадам Мэй они обнаруживают бумажку с адресом Джорджи… Балерины из Денизы, видимо, не вышло, зато из нее получилась «серая крыса»101, и в этом смысле при немцах она могла рассчитывать на какое-то будущее. Паннвиц направил в квартиру мадам Мэй лафоновских головорезов. Им он доверял, ибо они уже не раз давали ему доказательства своей раболепной услужливости и «компетентности». Паннвиц знал, что если на эту квартиру кто-нибудь придет, то они наверняка сумеют «расспросить» посетителя, и не как-нибудь, а весьма эффективно.
Только выясняется, что не все произошло так, как это рисовалось Паннвицу. Взбешенная таким оборотом дел, мадам Мэй начинает с того, что осыпает ударами молодчиков Лафона, которые в общем-то привыкли бить сами, а не получать колотушки. Убийцам здорово достается, и они не без труда «укрощают» свою жертву. Затем вызывают Паннвица. Тот прибывает и… получает свою долю оплеух.
Далее положение мадам Мэй резко ухудшается. Ее отвозят на улицу де Соссэ, и начинается торг: жизнь сына или адреса. Это можно было предвидеть. Однако в течение нескольких часов ей удается хранить молчание. Около восемнадцати она не выдерживает и сообщает адрес «белого дома», где нахожусь я, адрес Спааков и добавляет, что выполняет роль связной между ними и мною.
Бедняжка! Она не была создана для подпольной жизни… Всего за несколько часов гестапо значительно вырвалось вперед. Супруги Спаак, Джорджи и я оказались под угрозой…
Я должен действовать, и очень быстро. Видя, что даже к пятнадцати часам мадам Мэй так и не вернулась, я прошу директрису «белого дома», мадам Парран, срочно принять меня; информирую ее о последних событиях и предупреждаю, что гестапо может нагрянуть с минуты на минуту. Я рекомендую ей предостеречь всех «особых» постояльцев ее пансиона. И тут же с безупречным самообладанием она советует всем жильцам, кому угрожает опасность, съехать с квартиры.
Я же договариваюсь с мадам Парраи о следующем: если меня попросят к телефону, пусть скажет, что я ушел на прогулку и обещал вернуться между девятнадцатью и двадцатью часами. По-моему, Паннвиц не натравит на меня свою свору сразу, а даст мне время успокоиться по поводу опоздания мадам Мэй. Притворившись перед зондеркомандой, будто я вернусь с прогулки не раньше девятнадцати, я тем самым произвожу впечатление человека, которому незачем беспокоиться, а Паннвиц скорее всего бросит все свои силы на Бур-ля-Рэн, ибо он неспособен вести несколько операций одновременно. Надо постараться задержать его возможно дольше около «белого дома». В пятнадцать тридцать я покинул пансион, предварительно разорвав мое удостоверение личности. Мои «резервные» бумаги, выданные коммунистической партией, свидетельствовали о моей принадлежности к категории фольксдойче. Так называли граждан немецкого происхождения, не проживавших на территории рейха. Во время войны они пользовались теми же правами, что и германские подданные. Эти документы позволяли мне передвигаться после наступления комендантского часа. Я намеренно оставил все свои пожитки на месте и не запер дверь, чтобы можно было предположить сравнительно скорое мое возвращение. И чтобы усилить это впечатление у возможных посетителей, я даже устроил небольшую мизансцену: на столе — открытая книга нейтрального содержания, неубранная постель, на тумбочке — медикаменты. Все это должно было убедить гестаповцев в моем скором возвращении.
Я сохранял полное спокойствие. При возникновении опасности это состояние стало у меня чем-то вроде рефлекса.Не останавливаясь, я прошел пешком до Плесси-Робэнсон102. Стояла прекрасная погода, улицы заполнились гуляющими.
И вдруг я замечаю силуэт Мишеля, связника между руководителями компартии и мною. Поразительная случайность! Кто-то шел с ним. Велико было мое искушение подойти к нему, рассказать о нашей драматической ситуации, попросить у него совета и помощи. Но, не колеблясь, я подавляю в себе это желание. Я не смею подвергать его опасности. Может, за мной уже тянется хвост и я на крючке. Ведь за моим побегом последовали крайне неприятные эпизоды (я говорю о двух сестрах из Сен-Жермена, о супругах Кейри, мадам Мэй, «белом доме», а теперь еще и семействе Спааков). После всего этого я строжайше запретил самому себе контакты с любыми людьми, у которых из-за этого могли бы возникнуть неприятности. И снова, как уже не раз, я внушал себе, что узник, бежавший из нацистской тюрьмы или лагеря, должен рассчитывать только на собственные силы и средства. Но если эта мысль и укрепляла мою решимость и вселяла отвагу, она все же не давала ответа на мучивший меня вопрос: что же делать? И потом: куда идти? В самом деле: что делать? Впрочем, это я знал — надо спасать Спааков. Но куда идти? Вот ведь проблема…
Близился вечер. Одиночество преследуемого человека… Я повторял один и тот же вопрос: что делать? И вдруг машинальным движением руки останавливаю такси и называю шоферу улицу Божоле, где жили Спааки…
Вроде бы довольно странная идея, и не надо быть большим знатоком подпольной борьбы, чтобы тут же воскликнуть: «Пойти к Спаакам?! Да это же все равно что броситься в объятия Паннвица!» Согласен, согласен! Но что же еще мог я предпринять для спасения моих друзей? Да, я играл в орлянку, мне не оставалось ничего другого.
Теперь у меня была по крайней мере одна уверенность: гестапо начало действовать. И действительно, около восемнадцати я позвонил в «белый дом», и незнакомый голос — не всем он незнаком! — ответил мне:
— Мадам Парран нет дома…
На что я очень спокойно замечаю:
— Не угодно ли вам подняться ко мне в комнату и предупредить мою тетку, мадам Мэй, что я буду дома к двадцати вечера. Пусть она, пожалуйста, не садится ужинать без меня…
Эти слова, как мне довелось потом узнать, чрезвычайно обрадовали членов зондеркоманды. Успокоенные и все более уверенные в близости цели, они располагаются поудобнее и продолжают ждать. Меня ожидают в «белом доме»! Что ж, пусть, но я не уверен, что на квартире Спааков нет другой «комиссии по приему», также жаждущей встречи со мной.
Если изверги из зондеркоманды, рассуждаю я, сумели с первого захода сломить сопротивление мадам Мэй, прибегая к своим привычным приемам, то у них есть все основания до конца использовать это первое преимущество и усилить свой нажим. Для них это было самой обычной практикой, результаты которой, к сожалению, давно уже проверены. Человек, сломленный пыткой, сперва пытается ограничить свои признания одним-единственным именем, одним-единственным фактом, после чего он обретает новые силы для сопротивления, но эти мастера причинять людям жуткие, нечеловеческие страдания, эти знатоки Психологического состояния жертвы усиливают пытки до тех пор, пока признания не станут полными. Они знают, что имеют все шансы на выигрыш. И я не строю никаких иллюзий: немолодая уже мадам Мэй, более ранимая, нежели молодая и полная сил женщина, более уязвимая, по крайней мере, в чисто физическом смысле, плохо подготовленная к неожиданностям нелегальной жизни, не обладает выдержкой и силой Гилеля Каца или Герша Сокола, которые умерли от пыток, не проронив ни слова… Такси остановилось перед домом Спааков, и началась игра с судьбой. Я чувствовал себя как царские офицеры-фаталисты прежних времен, которые на спор или по проигрышу заряжали барабан револьвера одним патроном и, несколько раз прокрутив его, приставляли дуло к виску и… нажимали на спусковой крючок. Иногда везло, а иногда…
Я медленно вышел из машины, собрал все свои силы. И в какой раз, в прямом смысле слова, оказался то ли на пороге загробного мира, то ли на краю жизни. Это и называется «испытывать судьбу». Отступить, конечно, невозможно. Я поднимаюсь по лестнице, сжимая в руке капсулу с цианистым калием, с которой не расстаюсь. Звоню. Несколько секунд ожидания, дверь открывается. Короткий взгляд… я узнаю лицо друга. Он здесь, и, по-видимому, цел и невредим. Я счастлив, но слишком тороплюсь, чтобы толком порадоваться. Я вопрошающе смотрю на него, и он мгновенно понимает мой невысказанный вопрос: «Вы тут один? Их нет?» По его виду понимаю, что могу не волноваться. И тут я чувствую, как моя кровь, которая уже чуть было не застыла, вновь пошла своим путем по жилам.Я сразу говорю ему:
— Вы должны сию же минуту покинуть свою квартиру!
Реакция Клода поразительна.
— Да что там! — говорит он. — Когда вы позвонили, я подумал — это могут быть немцы. Уж такова судьба любого участника Сопротивления — раньше или позже приходит день, когда он попадает в такую ситуацию… Но вы-то, вы, кого гестапо преследует день и ночь, вы приходите предостеречь меня, приходите в квартиру, быть может, уже превращенную в мышеловку. Это ошеломляюще!
— Я не мог поступить иначе после того, что произошло в Сен-Жермене, — отвечаю я. — Больше ни одной жертвы! Вот о чем я думал.
Да, эта мысль действительно завладела мной.
Короче, мы переживаем момент высокого эмоционального напряжения… Но у нас нет времени, чтобы прислушиваться к биению своих сердец и для излияния нахлынувших на нас чувств. Нужно немедленно начинать действовать, занять боевые позиции. Мы сразу же переходим к вопросам практического порядка. Где его родные, как их предупредить и оградить от репрессий герра Паннвица? Сегодня Сюзанна с детьми должна прибыть поездом из Орлеана. Мы решаем: Клод встречает их и прямо с вокзала отвезет к друзьям. Мадам Спаак и дети должны как можно быстрее отправиться в Бельгию, а Клод останется в Париже и перейдет на нелегальное положение.
Все это касается семейства Спаак. Но, продолжая разговор, мы переходим к обсуждению другой опасности, отвести которую еще труднее. Тут требуются быстрые решения, оперативная инициатива: моя встреча с представителем коммунистической партии Ковальским назначена на 22 октября в Бур-ля-Рэн. Однако точный час не согласован: доктор Шерток должен сообщить о нем Клоду Спааку по телефону, с упреждением в двое суток. Но дату этой встречи мне сообщила мадам Мэй еще до ее ареста. Значит, все нужно аннулировать!
От намеченного рандеву нас отделяет всего одна неделя. Путь к Ковальскому лежит через доктора Шертока и адвоката Ледермана. Обнаружить их в сумраке подполья — все равно, что пытаться обнаружить честного человека в бандитском притоне какого-нибудь Паннвица! Это невозможно или почти невозможно. Я покрываюсь холодным потом при мысли, что Ковальский, национальный уполномоченный по работе среди иностранных боевых групп, координатор их взаимодействия с главным штабом французских франтиреров103 и партизан, доверенное лицо ФКП, может попасть в застенок гестапо! Любой ценой мы обязаны предотвратить эту катастрофу. Прежде чем расстаться с Клодом, договариваюсь с ним о ряде мер. Мы уславливаемся встретиться снова вечером 21 декабря в церкви Святой Троицы.
Клод и я медленно спускаемся по ступенькам его дома и больше ничего друг другу не говорим. Суждено ли нам увидеться? Рукопожатие в парадном, я уже собираюсь разойтись с ним в разные стороны, но тут Клод меня спрашивает:
— Куда вы пойдете? Есть у вас по крайней мере тайная квартира?
— Да, не беспокойтесь, у меня есть пристанище… Но не было у меня никакого пристанища, кроме парижских мостовых… В общем, довольно грустное зрелище: двое мужчин, растворяющихся в ночной мгле…
Я вошел в какое-то кафе и выпил две-три рюмки. Несколько минут обдумывал создавшееся положение, мысленно, теперь уже, так сказать, «на свежую голову», вновь прокрутил в памяти драматические события этого дня: отъезд Джорджи, моя радость от сообщения, что она в безопасности, ожидание возвращения мадам Мэй, мое поспешное бегство из Бур-ля-Рэн. Визит к Клоду Спааку… Меня утешает лишь то, что я не воспринимал все это пассивно, пытался парировать удары врага. Приковав внимание зондеркоманды к «белому дому» и задержав там этих подлецов, я сумел спасти Спааков.
«Имели мы их в виду!» Этот торжествующий возглас всех антинацистов, гордых своими победами, я, кажется, тоже вправе произнести! Сидя в этом небольшом кафе перед рюмкой аперитива, разыскиваемый гестапо, я чувствую себя победителем. Однако война еще не окончена. Нельзя впадать в эйфорию.
Да, я их имел в виду!.. Но надолго ли?.. Что делать? Куда идти?.. А что завтра?.. А что потом?..
Не успел я расстаться с Клодом, как сразу же начинаю лихорадочно анализировать ситуацию. В одном я, правда, преуспел, и это важно: несомненно, что зондеркоманда, ее французские помощники, Лафон и иже с ними в эту самую минуту предпринимают все возможное, чтобы поймать меня. Но несущаяся за мной свора вынуждена несколько приглушить свой лай. Почему же Паннвиц и его шайка действуют так осторожно? Да потому что они не знают, проинформировал ли я обо всем Москву. Не хотят звонить во все колокола о моем побеге. Предположим, что Центр не в курсе последних событий. Объявив всеобщую тревогу, пустив все силы полиции по моему следу, Паннвиц рискует насторожить Центр.
На улице, в кинематографах или в кафе я чувствовал себя в относительной безопасности. При всей ненадежности своего положения я нигде не чувствовал себя более спокойно, как затерявшись в парижской толпе. Это чувство относительной безопасности подкреплялось еще и удостоверением с надписью «фольксдойче», которое давало более широкие права, нежели удостоверение французского гражданина. В частности, я мог беспрепятственно передвигаться по ночному городу.
Что же делает счастливый фольксдойче, когда попадает на несколько дней в Париж? Ясно, что он ведет веселую жизнь… Что ж, буду вести себя как этакий бонвиван, так сказать, баловень судьбы. А на самом деле я и не думал, насколько трудно развлекаться, когда смерть идет за тобой по пятам. Я покинул кафе и зашел в кинотеатр. Не спрашивайте меня про фильм, который показывали в тот вечер, помню только удобное кресло, а также расслабляющий, располагающий к отдыху полумрак. А главное — я мог убить полтора-два часа, и этого мне было вполне достаточно.
Сеанс окончился, и я направился в сторону вокзала Монпарнас. Была уже поздняя ночь. В ожидании рассвета я без конца бродил по улицам. Наконец бледная заря высветлила небо над крышами Парижа, город стал оживать, наполняться первыми шумами нового дня. После бурных событий, пережитых накануне, все, что открывалось впереди, казалось мне какой-то бескрайней пустотой. Полностью изолированный от всех, я мог только лишь считать часы и минуты, предельно настороженный и ожидающий что-то непредвидимое. Не зная, чем заняться, я решил придумать какое-нибудь занятие для личного состава зондеркоманды. Из какого-то бистро я позвонил в «белый дом»:
— Извините меня, — сказал я голосу, откликнувшемуся на том конце провода, — я не вернулся вчера вечером, потому что задержался у друзей. Вечером приду домой после визита к моему врачу…
Таким образом, подумал я, не мне одному придется с нетерпением ожидать конца дня!..
Пустые часы, бесцельное хождение, прерываемое остановками в каком-нибудь кафе или ресторане. И снова улица, на которой ты оказываешься так же неминуемо, как ракушка, выплеснутая волной, оказывается на пляже. Мой шаг нетороплив, но мозг напряженно работает, глаза широко раскрыты. Все мое существо охвачено волнением. Наступает вечер, и я понимаю, что не выдержу еще одну ночь под открытым небом. Мне необходимо лечь в постель, хотя бы на несколько часов. Нанимаю велотакси. Оно отвозит меня на вокзал Монпарнас, куда я захожу на минуту. Потом мы едем на Орлеанский вокзал, и по дороге я начинаю дремать. Когда мы у цели, удивленный водитель грузового трехколесного велосипеда, видя, что я не выхожу, будит меня. Какое у меня может быть выражение лица?.. Бог мой, откуда мне знать… Вероятно, не очень «классическое». Конечно, нетрудно заметить, что со мною что-то не так.
Мой возница, немолодой мужчина с умным и симпатичным лицом, склонившись ко мне, спрашивает:
— Может, вам негде переночевать? Тогда, если желаете, поедем ко мне… Но сперва мне надо сделать еще одну ездку…
Я не говорю ему ни слова, но он понимает, что я в затруднительном положении. Как-то сразу я верю в его искренность и предлагаю оплатить недостающую ездку…
Велотаксист живет один в мансарде. Живи он в роскошном дворце, я не был бы более счастлив. Его присутствие придает мне уверенность, успокаивает. Прекратилось одиночество. Вдруг в этой моей тягостной ночи одинокого беглеца неожиданно вспыхнул проблеск дружелюбия и товарищества… К большому моему удивлению, он не задает мне ни одного нескромного вопроса. За скудной трапезой мы болтаем о комендантском часе, о дефиците и продовольственных карточках, о тяжком бремени оккупации…
Совершенно счастливый, я ложусь в постель, чтобы около четырех утра проснуться новым человеком. Мой спутник доставляет меня на Северный вокзал, где мне якобы надо сесть на поезд. Горячо благодарю новоявленного друга, и мы сердечно расстаемся.
Кем я был для него? Скорее всего каким-нибудь провинциалом, заехавшим на пару деньков в Париж и теперь отправляющимся восвояси.
Дорогой добрый человек! Не знаю и едва ли когда-нибудь узнаю, кто ты. Но если ты еще жив и прочитаешь эти строки, знай: до конца жизни я не забуду, что ты сделал для меня в ту трудную ночь…
17 октября. Во мне еще теплится слабая надежда восстановить контакты с друзьями. Сюзанна Спаак организовала мне встречу не только с представителем коммунистической партии, но и с одним из ее друзей, Гру-Радене, принадлежащим к группе Сопротивления, связанной с Лондоном. Я задумал связаться через этого человека с советским посольством в Великобритании. Я должен встретиться с ним в полдень, перед церковью в Отейле. К назначенному времени я двинулся к условленному месту. Очень осторожно — а осторожность в нашем деле никогда не мешает! — подхожу почти к самому входу в церковь и вдруг вижу — перед папертью стоит характерный «ситроен» с приводом на передние колеса, один из тех, на которых обычно разъезжают гестаповцы. Машинально повертываю в обратную сторону и… давай бог ноги! Так я никогда и не узнал, что там произошло, был ли задержан человек, с которым я должен был встретиться…
Вечером того же дня арестовывают Джорджи — в той самой деревушке в провинции Вос, где она пряталась. Мне об этом сообщили, конечно, позже. Ее схватили люди Лафона, которые двумя сутками раньше узнали ее адрес, записанный на листке, врученном ею мадам Мэй. Зондеркоманда выждала два дня и пошла по ее следу.
Паннвиц, видя, что я не возвращаюсь в «белый дом», заключил из этого, что я отправился к Джорджи. Это, между прочим, было бы верхом неосторожности. Многочисленный наряд гестапо окружил деревню. Люди из зондеркоманды затаились и до позднего вечера ожидали моего прибытия. Наконец Паннвиц и Берг с пистолетами наготове двинулись во главе своего подразделения на штурм. Паннвиц когда-то мечтал стать кинорежиссером. Ничего из этого не вышло, и в данном случае — видимо, для самоутверждения — он хотел покрасоваться перед самим собой — «герой с оружием в руке»! Захват Джорджи и ее сынишки он намеревался использовать как средство для еще неслыханного доселе шантажа. Однако этот дипломированный эксперт по нравственным и физическим пыткам не понимал, что шантаж, каким бы «беспроигрышным» он ни казался, иногда бывает совершенно бесполезен.
27. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ВСЕМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ ИНСТАНЦИЯМИ
Я никак не мог взять в толк, как же им все-таки удалось арестовать Джорджи. Вплоть до освобождения Парижа меня мучил этот вопрос. В самом деле, — почему этот арест оказался возможным, когда все, кто готовил ее отъезд, заслуживали полного доверия и когда все они были на свободе? Сколько я не ломал себе голову, сколько не анализировал различные варианты, ответа я не находил. А ведь все дело только в одном: мы не знали о существовании злосчастной бумажки с записанным на ней адресом, находившейся в кармане мадам Мэй. Это стало нам известно только после войны.
Итак, вечером 17 октября новость об аресте Джорджи до меня не дошла. Несостоявшаяся встреча в Отейле — достаточно тревожный сигнал, чтобы моя настороженность удвоилась. Гестапо рыщет по всей округе, пора кончать бродяжничать по парижским улицам. День клонится к вечеру, и начать какое-нибудь серьезное дело уже не имеет смысла. Продолжаю блуждать по городу, высматривая открытое бистро, и на улице Шабане вижу объявление: «Nur fur Deutsche»104. Это один из самых известных публичных домов, обслуживающий офицеров вермахта. «Деятели» из зондеркоманды частенько рассказывали мне о посещаемых ими заведениях этого рода в районе Елисейских Полей.
Уже полночь, и мне необходимо где-нибудь отдохнуть. Хотя бы четыре или пять часов. Из дома доносятся пьяные крики, нестройное пение. В атмосфере продажной любви хмельная солдатня позабыла про войну… Все они наверняка наклюкались и не обратят на меня никакого внимания. А что до всех этих «мамзелей», чье ремесло велит им веселить «победителей» (если так можно выразиться), то для них я буду просто одним из бошей, таким же, как и все остальные. Значит, будь что будет! Толкаю дверь и вхожу. В салоне царит чрезвычайное оживление, я прошу главную распорядительницу отвести меня прямо «на этаж». Обстановка комнаты вполне соответствует ее назначению. Устраиваюсь в удобном кресле. Через минуту одна из «служащих» дома без всяких стеснений спрашивает меня:
— На полчаса или на всю ночь?
Вот уж о чем я не подумал!.. Полчаса? Маловато… Какой же мне тогда прок от этого притона?.. Я ей отвечаю, что совсем не тороплюсь и что бутылка шампанского позволит нам завязать приятное знакомство. Моя «подружка» подчиняется, выходит и вскоре приносит какое-то поило. Я начинаю пить, но едва осушил первую рюмку, как чувствую необычайно сильное головокружение. С трудом встаю на ноги, неверным шагом подхожу к кровати и, не раздевшись, валюсь на нее. Девушка в ужасе смотрит. Примерно через полчаса прихожу в себя… Оглядываюсь и вспоминаю, где нахожусь. Девушка спокойно и терпеливо наблюдала, как я то ли спал, то ли дремал, и ждала моего пробуждения. Теперь я как бы встряхиваюсь и мы возобновляем наш незатейливый разговор. Она отлично поняла, что перед ней какой-то «особый посетитель», явившийся сюда отнюдь не для того, чтобы предаваться утехам, предусмотренным в подобных злачных местах.
Она смотрит мне прямо в глаза и говорит:
— Но зачем вы здесь, лучше бы пошли в какой-нибудь отель… Может, вы чего-то боитесь? Так бояться вам нечего, «Feldgendar-merie»105 никогда к нам не заглядывает… Можете оставаться, сколько захотите, здесь вы в большей безопасности, чем где-нибудь еще…
Я отвечаю, что нет у меня никаких поводов чего-либо опасаться, показываю ей мое удостоверение, но все — напрасный труд, она мне не верит. Потом начинает рассказывать нескончаемые истории про немецких офицеров, посещающих этот дом. Мимоходом я отмечаю про себя, что Паннвицу и многим другим можно бы посоветовать требовать от всех этих «хозяек дома» побольше держать язык за зубами. Я узнаю массу подробностей о «возвышенной» морали чинов вермахта, особенно в эту осень 1943 года. Мораль эта столь же мутна, как и днища бутылок, которые они в эту минуту распивают в салоне первого этажа…
В пять утра я покидаю гостеприимную обитель. Спрашиваю девушку, сколько я ей должен…
— Ничего я от вас не возьму! — говорит она. — Я не сделала ничего, чтобы заработать эти деньги…
— Возьмите просто так, в знак дружбы!
Наконец она соглашается и, прощаясь, советует мне:
— Будьте настороже, не шатайтесь по улицам! Если не знаете, куда деваться, приходите сюда ко мне, здесь вы как у Христа за пазухой…
Может, и так, подумал я, но истинному воину не пристало отдыхать в таком доме вечно!
18 октября. Вот и настал четвертый день моих странствий. Я брожу то тут, то там, толком не зная, как сложится мой маршрут. Сворачиваю из одной улицы на другую, и опять, и опять… и вдруг стою перед зданием, в котором обосновался штаб пронацистской партии Марселя Деа. Вспоминаю знаменитую статью Деа «Умереть за Данциг», напечатанную в его газетенке «Эвр». Этот давний социалистический лидер ныне призывает стадо своих одураченных сторонников умирать за Гитлера. Что ж — это вопрос выбора.
Помимо этих воспоминаний в памяти внезапно всплыла еще одна подробность: да ведь в этом самом доме жила мадам Люси, медсестра, которая когда-то делала мне уколы. И тут мне, беглецу, человеку, затравленному гестапо, приходит на ум довольно сумасшедшая идея — искать прибежище в здании штаба «национального народного объединения» — движения, которое больше всех превозносит прелести коллаборационизма. Больше того: повернув голову, я заметил неподалеку улицу де Соссэ, откуда Паннвиц руководит розыском. Словом — тот еще район!
Да, пришедшая мне в голову идея свидетельствует о полном психическом расстройстве. На первый взгляд эта мысль абсурдна. Но только на первый. Ибо из всех моих знакомых никто не знал о существовании мадам Люси. К тому же Шерлокам Холмсам из зондеркоманды никогда не придет в голову искать меня так близко, никогда они не подумают, что я прячусь в двух шагах от их логова. Но меня удерживает лишь одно: я вижу несколько постовых и решаю подождать, пока они не удалятся. Набравшись терпения, я дотягиваю до двадцати двух часов и уверенным шагом направляюсь к той части здания, которая не занята коллаборационистами.
Поднимаюсь на четвертый этаж, звоню. Мадам Люси открывает мне, вглядывается и становится белее савана.
— Что с вами, месье Жильбер, — восклицает добрая женщина, — уж не больны ли вы?
Я ее легонько подталкиваю за порог, чтобы наше объяснение могло продлиться внутри квартиры.
— Вы страшно изменились! — добавляет она. — Вы уже не тот мужчина, которого я знала…
Мужчина, которого она знала прежде, был бельгийским промышленником, проводившим часть недели в Париже.
— Мадам Люси! Я еврей, я бежал из гестапо, и они меня разыскивают. Можете вы оставить меня в своей квартире на несколько дней? Прошу вас, ответьте мне честно — да или нет? Если это невозможно, я не обижусь и немедленно уйду…
В ее глазах заблестели слезы.
— Как вы могли хотя бы на секунду подумать, что я вам откажу? — отвечает она срывающимся голосом. Она ведет меня в комнату.
— Здесь, — говорит она, — вы будете в безопасности. Живите столько, сколько вам будет угодно. Сейчас принесу вам что-нибудь выпить…
Я раскрываю постель: белые простыни, теплое одеяло. Тут последние силы покидают меня, и я погружаюсь в обморок. Прихожу в сознание в тот момент, когда мадам Люси возвращается. По-видимому, у меня вид кандидата на тот свет, ибо она то и дело повторяет:
— Что они с вами сделали… Что они с вами сделали!.. Немного подкрепившись, я укладываюсь в постель. Напряжение несколько спало, но перед глазами стоит пережитое за последние часы, и я все не могу уснуть. Около полуночи раздается звонок в дверь квартиры. Я машинально привстаю и прислушиваюсь. Кто позвонил? Что, если соседи с улицы де Соссэ пришли сюда с визитом? Быстро достаю ампулу с цианистым калием.
Мужской голос. Неразборчивый, тихий разговор. Шаги в коридоре. Стук в мою дверь. Входит мадам Люси. Сквозь дверную щель пробивается слабый свет из коридора.
— Кто это? — спрашиваю.
Она чувствует мое волнение и, приблизившись к моей кровати, самым доверительным тоном и с какой-то обезоруживающей трогательной наивностью шепчет:
— О, пожалуйста, успокойтесь, месье Жильбер, это один из моих друзей, офицер французской армии. Он участвует в Сопротивлении, и проведет здесь ночь…
Два участника движения Сопротивления под одной крышей, прямо под носом у Паннвица. Это уже слишком… Я осторожно объясняю суть дела мадам Люси и добавляю, что готов покинуть ее дом. Но она и слушать меня не желает. В коридоре снова тихий разговор. Через минуту Люси возвращается. Одновременно я слышу щелчок замка двери на лестницу.
— Дело улажено, — говорит она. — Он ушел по другому адресу… Назавтра, 19 октября, я проснулся с высокой температурой. Не в силах подняться, я остался в постели, и впервые в жизни забылся неспокойным сном, полным галлюцинаций. Из глубин моего подсознания на поверхность всплывали какие-то кинокадры, какие-то кошмарные видения. В общем, фильм о моей жизни. Словно в некоем сумасшедшем калейдоскопе эти образы ударялись, распадались на части, вытесняли друг друга. Сцены из моей юности в Польше, в палестинской тюрьме, сцены моей московской жизни, Париж… И все в беспорядочной последовательности. И все кажется далеким и близким, мрачным и светлым, запутанным и упорядоченным. Я увидел смерть отца. С поразительной силой и реализмом я заново переживал эмоции прошлого, мои радости и горести, чувства печали и любви.
Наконец я вырвался из этого тяжкого сна, избавился от лихорадочных фантазий. Постепенно настоящее вновь утвердилось в моем мозгу. Настоящее, окрашенное черной краской, очень тревожное. Через два дня я должен встретиться с Клодом Спааком у церкви Святой Троицы. 22 октября — с Ковальским в Бур-ля-Рэн, в доме, где временно поселилось гестапо! Меня охватил страх: что со Спааками? В безопасности ли они? Удалось ли Клоду предупредить Ковальского? Измученный этими думами, я вновь провалился в сон и очнулся лишь поздним утром 20 октября.
«Эдгар, почему ты не звонишь мне? Джорджи». Я перелистываю «Пари-Суар», грязный листок коллаборационистов, и вдруг мне бросается в глаза это лаконичное объявление, напечатанное дважды на второй полосе.
Изумленный, перечитываю это «послание» несколько раз. Все стало ясно: Паннвицу удалось наложить лапу на Джорджи. Втайне торжествуя, он предупреждал, что скоро заставит меня «расколоться». Намного позже я узнал, что это была вторая попытка начальника зондеркоманды возвестить о своей победе через прессу.
Арест Джорджи явился страшным и непредвиденным ударом, вынудившим меня снова, и причем немедленно, взять инициативу в свои руки. Вечером 20 октября я вышел из квартиры Люси, чтобы два раза позвонить по телефону. Первый звонок на улицу Божоле — проверить, занята ли квартира Спаака гестаповцами. Никто не снял трубку. Я не мог себе представить, что жилище моих друзей не взято под контроль зондеркоманды. Или они устроили там западню? Тогда молчание телефона понятно.
Затем я позвонил в «белый дом», в Бур-ля-Рэн. Попросил позвать мадам Парран. Голос с иностранным акцентом и отнюдь не мелодичный ответил мне, что в настоящий момент ее нет на месте. Тогда я попросил передать моей тетке, что я не вернусь в Бур-ля-Рэн и увижусь с ней у нее дома в Париже. Мой телефонный собеседник как-то нервно попросил меня повторить это поручение: я последовал его просьбе, медленно и тщательно выговаривая каждое слово. Чего я этим добивался? Хотелось — насколько возможно — отвлечь внимание гестапо от «белого дома», прежде чем Ковальский мог бы попасться в ловушку. Казалось бы, почти безнадежная и отчаянная затея, но я повторял про себя пресловутый девиз: «Отчаянных положений нет, есть только отчаявшиеся люди…»
Тем временем 21 октября, согласно договоренности, я должен был встретиться с Клодом Спааком у церкви Святой Троицы. Чтобы убить время и рассеять всякие страхи, я целый день смотрел, как под моими окнами по улице Соссэ сновали автомашины зондеркоманды. Мне казалось, что этих господ подхватил и крутит какой-то нескончаемый лихорадочный вихрь… Около двадцати одного часа я подошел к церкви Святой Троицы. Было темно, видимость ограничивалась несколькими метрами. Я старался сохранять спокойствие, что после событий последних дней было не так уж и легко. Наконец увидел ожидавшего меня Клода. Мы бросились друг другу в объятия, не в силах вымолвить хоть единое слово.
Мне не терпелось узнать новости. Когда прошел момент особенно сильного волнения, я с трудом произнес:
— Ну так как же?
Мы направились к улице де Клиши, и Клод рассказал мне, что его жена и дети 17 октября уехали в Бельгию. Сюзанна, уточнил он, как и всегда, не могла понять всей серьезности угрожающей опасности и ни за что не хотела покинуть Париж. Ее пришлось чуть ли не силком затолкнуть в поезд. На всякий случай они условились: если она будет подписывать свои письма ласкательным именем «Сюзетта», значит, все в порядке, если же в конце письма будет стоять «Сюзанна», то он не должен верить его содержанию.
Сюзанна Спаак… С каким волнением пишу я эти строки… Через три недели, 8 ноября 1943 года, Сюзанна Спаак оказалась жертвой доноса. Тогда-то и начались ее мучения, завершившиеся лишь смертью в августе 1944 года…
Но 21 октября я был просто счастлив, узнав, что она с детьми далеко от Парижа. Затем мы с Клодом обсудили вопрос о назначенном на следующий день рандеву с Ковальским. То, что он мне сообщил, звучало не слишком утешительно. Доктор Шерток должен был ему позвонить 19 октября, чтобы согласовать час встречи. Клод отправился к себе на квартиру, чтобы ждать там звонка Шертока. Ровно в полдень — как и было условлено — зазвонил телефон. Спаак снял трубку и громко крикнул в нее:
— Горит! Всем стоять смирно! На том конце провода тут же повесили трубку. Понял ли доктор Шерток, в чем дело? Удастся ли ему предупредить Ковальского? Тревожные вопросы… То была моя последняя встреча с Клодом Спааком в военное время. Лишь при освобождении мы увиделись вновь. А тем временем на мостовые Парижа пролилось немало крови…
Я вернулся к мадам Люси озабоченный, весь в мыслях о рандеву, назначенном в Бур-ля-Рэн. Единственным способом отвлечь зондеркоманду от «белого дома» было вызвать огонь на себя, так как для Паннвица я продолжал оставаться самой желанной дичью. Пораскинув умом, я разработал такой сценарий.
Ранним утром следующего дня, 22 октября, я позвонил Клоду Спааку. Мне ответил женский голос. Завязался совершенно невероятный диалог:
— С кем имею честь говорить?
— Я секретарша месье Спаака…
Секретарша Клода? Никогда у него не было никакой секретарши, во всяком случае личной. Значит, там гестапо. Эта мнимая сотрудница моего друга в действительности сообщница палачей.
Я продолжал, стараясь казаться очень серьезным:
— Могли бы вы передать ему, что его друг Анри придет повидаться с ним в четырнадцать часов… Благодарю за любезность, это очень важно…
— Хорошо, обязательно передам…
И я и она повесили трубки.
Конечно, я работал несколько грубо. Но если речь идет о гестапо, то не всегда нужно действовать в белых перчатках с кружевными манжетами. Не стану обобщать, но скажу, что иной раз наспех придуманные ловушки оказывались самыми стоящими. Так или иначе, но мой провокационный маневр в тот день сразу же принес свои плоды: в четырнадцать часов Паннвиц во главе своего подразделения окружил здание на улице Божоле. В это самое время в Бур-ля-Рэн адвокат Ледерман и доктор Шерток встали поблизости от «белого дома» и сумели перехватить Ковальского. Счастье было на нашей стороне!
22 октября — день рождения Клода Спаака. Чтобы отпраздновать торжественную дату, Клод намеревался зайти к себе и прихватить несколько бутылок доброго вина. Но прежде чем отправиться, он позвонил своей экономке, мадам Меланд, с которой согласовал некоторые условности: слова «дорогой месье» означали путь свободен, можно прийти, ничем не рискуя. Если же она скажет просто «месье», — значит, есть опасность.
Итак, Клод Спаак снимает трубку и набирает собственный номер. Мадам Меланд откликаемся на том конце и несколько раз повторяет:
— Месье, месье… — затем очень громко спрашивает: — И это все, что я должна ему сказать?
Если бы Клод Спаак не смекнул, что к чему, все могло бы окончиться очень скверно… Но сразу вслед за последней репликой экономки соединение резко прервалось. Видимо, рассвирепевшие агенты гестапо набросились на бедную мадам Меланд.
В тот же день, 22 октября, в «Пари-Суар» появляется следующее маленькое объявление: «Эдгар, почему ты мне не звонишь?»
Но голос Паннвица так и остался, как говорится, гласом вопиющего в пустыне…
28. ЗОНДЕРКОМАНДА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
Прошло сорок суток со дня моего побега, сорок суток, полных драматизма, непрерывного напряжения и тревоги… Благодаря приютившей меня мадам Люси я впервые мог с ясной, отдохнувшей головой подумать о своих планах, с холодным, почти научным расчетом подвести итог успехам и неудачам.
Сперва о неудачах. Хотя это печальное событие не зависело от моей воли, оно все же случилось. Я говорю о предательстве Денизы, позволившем гестапо напасть на мой след в Сен-Жермене, в Везине и Сюрэне, и повлекшем за собой арест обеих сестер в Сен-Жермене, месье и мадам Кейри и маленького Патрика. Себе в упрек я мог поставить две ошибки: во-первых, я замешкался с отправкой Джорджи, во-вторых, — и эта ошибка серьезнее — я не должен был использовать в качестве связной слишком беззащитную и неопытную мадам Мэй. Через нее немцы сразу узнали о моем присутствии в Бур-ля-Рэн, адрес Джорджи, про мои контакты со Спааком и о предстоявшем рандеву с Ковальским. Ну а успехи? Вместе с друзьями я сумел поставить заградительный огонь для пресечения инициативы и действий Паннвица. Я организовал своевременное предупреждение Спааков, спас Ковальского, едва не попавшего прямо в пасть гестапо. И наконец, я сам все еще на свободе.
Из всех этих событий я сделал важный вывод: любая импровизация обходится слишком дорого. Я понял, что обязан создать организацию, которая избавит нас от драм и трагедий такого масштаба. Я решил сформировать группу охраны и действия, состоящую из опытных бойцов-подпольщиков.
С этой новой точки зрения Алекс Лесовой представлялся мне прямо-таки идеалом.
Лесовой не принадлежал к «Красному оркестру». Русский по национальности, он еще ребенком прибыл во Францию. После нескольких лет службы в Иностранном легионе принял французское гражданство. Будучи техником-стоматологом, до войны имел большую лабораторию на шоссе д'Антен.
Активист коммунистической партии, он побывал на фронтах гражданской войны в Испании, где приобрел грозную для врага специальность: он научился изготовлять небольшие взрывные устройства в форме книг, писем, различных мелких пакетов, которые рассылал палачам испанского народа. В этом смысле он, образно говоря, забил много голов в ворота противника.
Его жену Миру я знал еще со времен ее девичества по Тель-Авиву, где она посещала гимназию. Уроженка Палестины, она уже тогда боролась в рядах коммунистов.
В 1941 году Алекс пришел ко мне и предложил свои услуги. Благодаря отличной военной подготовке, склонности рисковать и активно действовать, он как нельзя лучше подходил для выполнения самых опасных заданий, но, поскольку согласие Центра на его кандидатуру запаздывало, он примкнул к другой боевой группе.
Вскоре после моего ареста зондеркоманда начала интересоваться им, так как его имя фигурировало в расшифрованных радиограммах.
Я сумел ослабить этот интерес, и так могло бы продолжаться и дальше, если бы не испанская разведка, которая передала Паннвицу и его агентам фотографию Лесового и назвала его, как тогда было принято выражаться, «чрезвычайно опасной личностью».
Если бы Алекса арестовали, его тотчас же передали бы франкистам. В течение некоторого времени мне удавалось направлять розыски гестапо в южные районы Франции, поскольку я точно знал, что он прячется в Париже. Но все-таки петля вокруг него стала все больше затягиваться, и как раз в этот период я и сбежал. Моим первым делом после побега было предупредить его. Я посоветовал ему примкнуть к партизанам-макизарам. Со своей стороны он попросил меня пойти к ним вместе, но когда я ему сказал, что подобный вариант исключен, предложил мне следующее:
— Я остаюсь с тобой, обрываю все мои прежние связи (это подразумевалось само собой) и буду тебе помогать в твоей работе…
Я согласился. В дни моего пребывания в «белом доме», в Бур-ля-Рэн, мы наметили план действий, который, в частности, предусматривал сформировать специальную группу наблюдения и охраны.
Для начала Алексу предстояло подобрать шесть — восемь человек. На каждого возлагалась вполне определенная задача, но, согласно абсолютно непреложному правилу, члены группы не могут и не должны знать друг друга. Их главные задачи: следить за действиями зондеркоманды, ходить за ее людьми по пятам, предвосхищать и парировать ее коварные и зловещие удары, предупреждать товарищей, над которыми нависла угроза, и помогать им скрываться или бежать, устанавливать необходимые контакты.
В октябре 1943 года Алекс навестил меня на квартире мадам Люси. Выяснилось, что он не терял время попусту: связи с коммунистической партией были налажены, пять опытных активистов были готовы к действиям. Зная про большие и разветвленные связи Алекса, я попросил его раздобыть для меня документы на имя мифического коммерсанта с Севера Франции. Из них должно явствовать, что его родная деревня разрушена в результате бомбежки, здание мэрии снесено с лица земли, а все записи актов гражданского состояния похоронены под развалинами. Для довершения картины злосчастный бизнесмен должен был лишиться семьи, друзей, собственного дома.
Я договорился с Алексом Лесовым о встрече на новой явке, которую мадам Люси тем временем подыскивала для меня.
После побега главной моей заботой было обеспечить Москве возможность продолжать «Большую игру». Ради этого я и отправил Паннвицу два письма. Допрос, которому шеф зондеркоманды подверг Джорджи де Винтер, укрепил его иллюзию, будто мои намерения именно таковы. Джорджи строго следовала моим инструкциям, согласно которым в случае моего ареста она притворится, что ничего не смыслит во всей этой запутанной истории. Она подтвердила все, что я писал в моих посланиях Паннвицу, добавив, что я с ней неоднократно говорил о сепаратном мире и при этом всегда ссылался на Бисмарка106.
Между тем Паннвиц, который понимал (или, во всяком случае, верил, а это было главным), что «Большая игра» всецело зависит только лишь от моей доброй воли, начал нервничать. Желая использовать это свое преимущество, я написал ему после ареста Сюзанны Спаак третье письмо. В нем я напомнил, что он не отпустил ни одного из арестованных им лиц, и пригрозил: «Если вы не освободите заложников, я поломаю вашу „Большую игру“. Чтобы не оставить и тени сомнения в моей решимости, я позвонил по телефону самому Паннвицу и повторил свое требование. Но начальник зондеркоманды вдруг потерял голову…
В следующую мою встречу с Алексом Лесовым тот показал мне удивительный документ:
— Глянь-ка, — сказал Алекс, — вот тебе подарок от твоего Друга… Подарок?.. Всего-навсего копия телеграммы, разосланная по всем полицейским участкам: «Разыскивайте Жана Жильбера. Проник в полицейскую организацию в интересах Сопротивления. Бежал с документами. Задержать, используя все средства. Докладывать Лафону».
Текст объявления дополнялся моей фотографией, сделанной в гестапо после моего ареста, и подробным описанием моего внешнего облика. За любые сведения обо мне немцы сулили значительное вознаграждение. Во Франции, в Бельгии, в Голландии все отделения гестапо и абвера, все административные, экономические, военные организации Германии одновременно получили приказ об аресте беглого преступника с моей фотографией107, над которой красовалась надпись: «Сбежал очень опасный шпион».
Это было не так уж мало… Паннвиц, несомненно, решил сделать крутой поворот в своей стратегии борьбы против меня.
Мы с Алексом попытались понять — что же все-таки побудило шефа зондеркоманды, как говорят французы, «перебросить ружье с плеча на плечо», то есть перестроиться на ходу. Мы констатировали, что до этого момента Паннвиц и его подручные сохраняли за собой исключительное право охотиться за мной, не прибегая к помощи французской полиции и оккупационной армии. Паннвиц не сомневался, что после побега я никак не мог связаться с Центром, и поэтому старался дискредитировать меня в глазах последнего. Мы получили доказательство подобного намерения, узнав, что Кенту приказали послать Директору радиограмму о моем побеге. Паннвиц рассудил, что в этом случае Директор узнает о самом факте моего ареста и, следовательно, перестанет мне доверять. Выдавая меня за провокатора, обманным путем пробравшегося в полицию, он надеялся нейтрализовать всякий интерес Сопротивления к моей персоне. А имя Лафона должно было, по замыслу Паннвица, еще больше запутать эту и без того темную историю.
Таковы были замыслы Паннвица… Во что бы то ни стало он хотел поймать меня. Ничто не могло бы польстить его самолюбию больше, и я, естественно, не забывал об этом. Теперь вся немецкая солдатня, всевозможные полицейские подразделения, банды наемных коллаборационистов, наконец, любой человек, кого просто привлекала премия за мою голову, — все из кожи лезли вон в попытках найти меня и разоблачить. Теперь моя свобода и жизнь зависели от пристального и внимательного глаза, от хорошей памяти, но, к великому для меня счастью, мой внешний вид стал очень непохож на фотографию, распространяемую гестапо. На лице не осталось ни следа от еще совсем недавней упитанности, я отрастил густые усы и надел очки. Мадам Люси подыскала мне убежище, отвечавшее всем стандартным требованиям безопасности: в ноябре 1943 года я поселился на авеню дю Мэн, у одного из служащих банка «Креди лионнэ» («Лионский кредит»).
Вокруг моей персоны была сочинена легенда, вполне соразмерная с ситуацией. По этой легенде я оказался совершенно одиноким человеком, больным и обиженным судьбой. Все члены моей семьи погибли при бомбежке. Слухи о моих злоключениях разнеслись по всему дому, и соседи по лестнице выражали мне свое самое глубокое соболезнование. Мой хозяин, холостяк по имени Жан (к сожалению, забыл его фамилию), был спокойным и умным человеком, с которым у меня сложились очень хорошие отношения. Он, конечно, и не подозревал, кого пустил к себе на постой, но это мое новое жилище было настолько безопасным и приятным, что я пробыл в нем вплоть до моего отъезда в Москву в январе 1945 года.
Паннвиц прислушался к призыву, с которым я обратился к нему в последнем письме, и, боясь, что я разоблачу перед Центром всю правду о «Большой игре», одного за другим освободил наших заключенных товарищей. Это нисколько не мешало ему одновременно науськивать на меня всех своих гончих и ищеек. 8 января 1944 года он поместил в газете новое объявление. В нем уточнялось: «Патрик жив и здоров, он вернулся домой». Несколько позже семья Кейри была освобождена. А мадам Мэй, уже приговоренная к смертной казни, тоже вышла на волю — чуть ли не по личному распоряжению маршала Геринга.
Инициатива шефа зондеркоманды поистине била ключом. Вместе с тем он пустил в ход новую, хотя и классическую, но очень опасную тактику. Он составил список всех лиц, о которых мог предположить, что я их знаю или знал, и стал угрожать им всем арестом, если они не будут предупреждать его о моих ожидаемых визитах. Едва узнав про этот шантаж, мы с Алексом спешно написали собственный список наших товарищей, кому в этом смысле действительно угрожала опасность, и приняли меры, предупредив их об этом.
От нескольких моих давних знакомых я узнал, что угроза Паннвица оказалась вполне серьезной. Он перешел от слов к действиям. Мы навестили владелицу одной прачечной на бульваре Осман, прямо напротив фирмы «Симэкс». С этой женщиной я был знаком не год и не два. Она нам рассказала о приходе к ней нескольких мужчин, среди которых мы «опознали» Кента (по ее словесному описанию это мог быть только он). Незваные пришельцы с места в карьер поставили ее перед выбором: либо выдать меня, либо сесть за решетку. Насмерть перепуганная, она пообещала известить их, как только я у нее появлюсь, и удержать меня до их прибытия.
Тот же шантаж, те же угрозы были применены и к одной старой учительнице, у которой я снимал комнату близ площади Пигаль в период, когда я считался бельгийским промышленником. Увидев меня на пороге своей квартиры, бедная женщина едва не лишилась чувств. Успокоившись, рассказала, что зашли к ней двое неизвестных (один из них опять-таки Кент), предъявили удостоверения полицейских комиссаров и зачитали ей письмо маршала Петена, призывавшего «добрых французов» выдать властям «ярого врага их страны» по имени «месье Жильбер». Моя бывшая квартирохозяйка заявила, что ссылка на Петена, к которому она по старой памяти питала высочайшее уважение, произвела на нее сильнейшее впечатление, однако в ее голове мелькнуло — а не фальшивка ли это письмо? Кент и его спутник взяли с нее расписку в том, что письмо маршала внимательно прочитано ею. Вспомнив, что в свое время я оставил у нее чемодан, они наказали ей тоже самое, что и хозяйке прачечной, а именно — если я приду, то пусть попросит меня побыть у ней немного, спустится вниз и позвонит им по телефону.
Посещение двух незнакомцев и разговор с ними вверг несчастную в состояние неописуемого ужаса, и я искренне пожалел ее.
— А что если они вернутся… если вернутся, — повторяла она. — Если узнают, что вы были, а я им не сообщила…
Мне, конечно, было ясно, что старая дама рискует из-за меня многим и она чисто физически не выдержит допроса.
— Послушайте, — сказал я ей. — Как только мы уйдем, вы тут же позвоните им и сообщите, что вот, дескать, заходили только что вдвоем. Добавьте, что позвонить раньше вы никак не могли. И тогда все будет в порядке…
Она с отчаянием посмотрела на меня, но мне показалось, мой совет принес ей облегчение…
Я взял свой чемодан. Едва отойдя от парадного, мы увидели, как она выскочила на тротуар и засеменила к телефону-автомату. Алекс недоверчиво посмотрел на меня. Возможно, он был ошеломлен в не меньшей степени, чем эта старая дама. Но он мне ничего не сказал. Я же шел неторопливым шагом.
Наконец я нарушил молчание:
— Я их достаточно хорошо знаю, — сказал я Алексу. — Сегодня воскресенье, к тому же сейчас уже далеко за полдень… На улице де Соссэ в это время почти никого нет, многие торчат в окрестных кафе…
Я не ошибся. После освобождения Парижа мне захотелось узнать конец этой истории. Выяснилось, что люди зондеркоманды, которым помешали предаваться Doice vita108, прибыли на место с трехчасовым опозданием.
Вскоре я послал Паннвицу четвертое и последнее письмо, в котором извещал его, что заболел и поэтому выхожу из дела. В частности, я указал: «…Вы можете продолжать „Большую игру“. Я не стану вам препятствовать при условии, что вы не будете арестовывать невинных людей».
29. ЗА ПАЛАЧАМИ ТЯНУТСЯ СЛЕДЫ
В 1940 году немцы реквизировали на улице де Курсель особняк, принадлежавший месье Вайль-Пикару. Единственным мотивом конфискации была принадлежность Вайль-Пикара к еврейской нации. Имущество всех его единоверцев целыми вагонами отгружалось в Германию, где пополняло частные коллекции «любителей искусств» из числа самых высоких сановников режима. Так, например, Геринг весьма пристально следил за этим организованным грабежом и без промедлений накладывал жирную лапу на ту часть добычи, которая отвечала его вкусам «утонченного эстета». Коллекция картин Вайль-Пикара, одна из самых прекрасных во всей Франции, особенно сильно возбуждала жадность высокопоставленных воров. Однако само по себе здание особняка оставалось незанятым.
Вот сюда-то в апреле 1944 года вселился Паннвиц, чуявший, что это его последняя весна в Париже. Обстановка и убранство интерьеров ошеломляло захватчиков изысканностью и роскошью. Но нацистские нелюди чувствовали неотвратимое и стремительное приближение полного краха «тысячелетней империи». Угнетенные народы Европы в предчувствии освобождения начали распрямлять спину. Во Франции бойцы Сопротивления досаждали врагу как только могли. Умолкли лживые разговоры о «дружески протянутой руке» немцев. Перед зданиями, занятыми вермахтом, установили пулеметы. Кончились устраиваемые прежде под открытым небом выступления так называемых «германо-французских групп дружбы» под эгидой… самого фюрера.
Таким образом, стараниями начальника зондеркоманды особняк месье Вайль-Пикара был превращен в крепость. Перед порталом соорудили баррикаду. Войти в здание можно было только через небольшую дверь, открываемую изнутри при помощи электрического устройства. Перед фасадом поставили пулемет. Со всех остальных сторон меры безопасности были также усилены. Участок парка слева от особняка гитлеровцы использовали как стоянку для автомашин, которые — и в этом тоже заключалась предосторожность — никогда не въезжали во двор. Из этого преображенного до неузнаваемости парка посетители, покинув свои машины, проходили через брешь, проделанную в каменной ограде, внутрь дворика. Заметить кого-либо извне было нельзя. На одном конце строения имелась дверь, ведущая в подвальное помещение, переоборудованное под камеры. Бывшую картинную галерею превратили в камеру пыток. Красота уступила место ужасу. В этом особняке в апреле 1944 года родился сын Маргарет Барча и Кента.
Все меры предосторожности, принимаемые Паннвицем, предвещают неминуемую развязку, и всем ясно — скоро Париж пробудится и его мостовые ощетинятся баррикадами. Совместно с Лесовым я готовлю операцию, поддерживаемую группой движения «Французские франтиреры и партизаны». Смысл операции — в нужный час отрезать личному составу зондеркоманды путь из особняка Вайль-Пикара. Группа Алекса крайне внимательно следит за этим строением, снимает сотни фотографий тех, кто входят на его территорию и выходят оттуда. Фиксируется время выездов Кента и Маргарет, перевозок заключенных, въезда и выезда черных «ситроенов» — все это наблюдается и записывается. Леви, старый заключенный-еврей, которого немцы используют как садовника, передает нам ценную информацию. Наша цель — блокировать членов зондеркоманды, когда Париж будет освобожден, воспрепятствовать их бегству. Для этого намечается выступление вооруженной группы в составе тридцати франтиреров. При посредничестве Французской компартии мы сообщили о нашем плане в Центр, но, не получив от него ответа, отказываемся от этой акции. Преступная авантюра Паннвица вот-вот подойдет к концу, но пражский палач не желает погибнуть вместе с кораблем, идущим ко дну. Теперь его честолюбие обращено к иной цели: ему хочется как-то выгородить себя, отмыться добела, ибо он отлично знает, что придется отчитываться перед судом, и поэтому максимально пытается замести следы бесчинств и злодеяний, лежащих на его совести.
Что касается Москвы, то тут он стремится, образно говоря, расстрелять до последнего патрона весь свой боезапас. Известив Центр о моем побеге с помощью публикации розыскного циркуляра, адресованного всем участкам и подразделениям полиции, Паннвиц решил меня нейтрализовать. Но этой же акцией он как бы признавал, что Большой Шеф был в руках гестапо и что все радиограммы, передаваемые в течение долгих месяцев, были написаны под диктовку зондеркоманды. Следовательно, он рассекретил «Большую игру». Он знает, что в союзническом лагере уже никто не рассматривает всерьез возможность заключения сепаратного мира с Германией, терпящей полное фиаско. И его не переубедят отдельные инициативы некоторых деятелей из окружения Гитлера, еще не расставшихся со своими сумасбродными надеждами и упорно ищущих встреч с англо-американцами. Он понимает: все кончено! Во-первых, после неудавшегося покушения на свою персону — 20 июля 1944 года — фюрер запретил продолжение операции «Медведь», как с некоторых пор стали обозначать операцию «Большая игра».
Во-вторых, личное честолюбие Паннвица. Нацистский режим разваливается. А ведь он, Паннвиц, был одним из самых рьяных его прислужников, обагривший свои руки в потоках человеческой крови, возглавлявший шайку убийц в Праге! А теперь — спасайся, кто может, важно сохранить свою шкуру! Либо он, подобно другим, спасется бегством, скроется где-нибудь в Латинской Америке, либо попадет в ловушку, как кролик, и предстанет перед английским, военным трибуналом как военный преступник (этот вариант конечна же необходимо исключить), либо, наконец, он будет и дальше поддерживать контакт с Центром в надежде, что Советский Союз не забудет оказанные им услуги.
Паннвиц выбирает именно последнее, третье решение. Сегодня мы располагаем доказательствами того, что вплоть до мая 1945 года, в сотрудничестве с верным Кентом, он ведет свою личную игру. До последних минут войны он передает военную информацию. Кент проинформировал Центр о том, что он поддерживает контакт с группой немцев, занимающих очень высокие посты, что в этих обстоятельствах он имеет возможность получать и передавать сведения первостепенной важности. В июле 1944 года, когда союзнические армии приближаются к воротам Парижа, все тот же Кент запрашивает Центр, должен ли он остаться в столице или следовать за своими немецкими друзьями! И он получает ответ от Директора, который советует ему уехать с нацистами, не прерывая связи с Москвой. Эти директивы явно радуют Паннвица: в сотрудничестве с русскими он видит неожиданную для себя возможность выйти сухим из воды. Таким образом, ввиду вмешательства Паннвица «Большая игра» словно приобретает некое третье измерение. Первоначальный план Гиммлера преследовал Цель раскола антигитлеровской коалиции путем одновременной дезинформации и Москвы и англо-американцев. Через радиопередатчики «Красного оркестра» зондеркоманда пытается внушить русским, что союзники готовы начать переговоры с третьим рейхом. В то же время аналогичная дезинформация передается и западным союзникам. Однако эта фаза «Большой игры» не может тянуться бесконечно. Начиная с середины 1943 года вопрос об исходе войны уже явно предрешен, сомнения невозможны. В этот момент нацистские руководители пытаются переориентировать «Большую игру» на реальные поиски возможностей сепаратного мира, причем Гиммлер нацелен на сделку с Западом, чего нельзя с уверенностью сказать о Бормане, курирующем всю эту аферу в целом. Но как бы то ни было, уже слишком поздно. Эта попытка не имеет никаких шансов на успех, ибо ни Рузвельт, ни Черчилль, ни, разумеется, Сталин, уверенные в полной военной победе, не желают вступать в переговоры. Вот в какой обстановке в течение всего 1944 года Паннвиц пытается изо всех сил использовать «Большую игру» в корыстных, личных целях.
Прежде чем двинуться по дороге на Москву, Паннвиц хочет обеспечить себя с тыла, то есть убрать свидетелей своей деятельности на посту шефа зондеркоманды. Убрать с пути, убить — это по его части! Одна за другой летят головы. Одного за другим наших арестованных товарищей пытают и казнят. Это, во-первых, Лео Гроссфогель, которого в мае 1944 года германский военный трибунал приговорил к смертной казни, а ведь он сидел в тюрьме Френ с декабря 1942 года, и все это время судьба его висела на волоске. Тот же приговор положил конец жизни Фернана Пориоля и Сюзанны Спаак, также томившихся в тюрьме Френ.
Узнав о смертном приговоре Гроссфогелю, мы воспринимаем его как сигнал тревоги. Мы уверены в неизбежности дальнейших казней, не сомневаемся, что зондеркоманда решила уничтожить всех заключенных до своего бегства. Та же судьба постигает Максимовича и Робинсона.
Приведение в исполнение всех смертных приговоров происходит в последние недели, предшествующие освобождению Парижа. Фернан Пориоль и Сюзанна Спаак будут расстреляны 12 августа 1944 года в тюрьме Френ. 6 июля Избуцкий обезглавлен в Берлине. Винтеринк расстрелян в Брюсселе. Жанна Пезан — супруга Гроссфогеля — казнена в германской столице 6 августа. После войны Паннвиц неоднократно высказывался по этому поводу (разумеется, всячески пытаясь оправдаться), заявляя следующее:
— Агенты «Красного оркестра», казненные по моим приказаниям, были приговорены к смерти до моего прибытия…
Это неправда, но так или иначе во власти шефа зондеркоманды было отсрочить приведение смертных приговоров в исполнение. И если он не сделал этого, то лишь потому, что перед бегством хотел ликвидировать возможно больше свидетелей своих злодейств.
Теперь мне хотелось бы внести некоторые уточнения относительно конца Фернана Пориоля и Сюзанны Спаак незадолго до освобождения Парижа, о котором они так долго мечтали… Я живо представляю себе, с какой радостью, с каким ликованием они присоединились бы к бесчисленным толпам парижан, высыпавших на улицы, чтобы отпраздновать это великое событие…
В течение долгих месяцев Паннвиц надеялся заставить заговорить Фернана и Сюзанну, зная, что про «Большую игру» им известно все. Он решил расправиться с ними под шумок в обстановке неразберихи и хаоса, царивших перед его отъездом. Наши товарищи были убиты коварно, исподтишка в своих камерах и тайно погребены. В своей безмерной циничной наглости Паннвиц дошел до того, что написал Полю-Анри Спааку, родственнику Сюзанны и в то время министру иностранных дел бельгийского правительства в изгнании, письмо с заверениями, будто он принял все меры для обеспечения безопасности Сюзанны. Теперь Поль-Анри Спаак мог быть спокоен: Сюзанна дождется окончания военных действий в условиях полной безопасности… Зная Паннвица, допускаю, что он отправил письмо в тот день, когда приказал палачам убить Сюзанну!..
27 августа 1944 года, после освобождения Парижа, я отправился с Алексом Лесовым в тюрьму Френ, чтобы попытаться разузнать, что сталось с нашими друзьями. Никто не мог дать нам точных сведений, но, проявив определенную настойчивость, мы, в конце концов, все же установили, что немцы не увезли их с собой. Слишком хорошо зная звериную сущность гестапо, конечно, предположили худшее: если Сюзанна и Фернан не «последовали» за зондеркомандой, значит, их прикончили и, быть может, похоронили где-то рядом. Поэтому мы стали обходить кладбища, находящиеся вблизи тюрьмы Френ, и просматривать списки погребенных. Как всегда точные и аккуратные, немцы обычно регистрировали дату рождения, имя, фамилию и дату казни своих жертв. На это мы и рассчитывали. Но мы не учли холодное, подлое лицемерие Паннвица и его желание замести следы двойного преступления, за которое его осудили бы более сурово, чем за любое другое…
Обследуя одно за другим кладбища в южных предместьях Парижа и, наконец, очутившись в Банье, мы набрели на следы Сюзанны Спаак и Фернана Пориоля. Внизу страницы, относившейся к периоду их предполагаемой смерти, было написано: «Одна бельгийка», «Один француз». Обе пометки, несомненно, касались Сюзанны и Фернана. Тут же мы обратились к кладбищенским сторожам и стали их подробно расспрашивать. Вначале они притворились, будто ничего не знают, но, в конце концов, не выдержав нашего натиска, сдались и сказали правду. В их памяти еще было свежо нашествие гестапо, пригрозившего им страшными карами, если они проговорятся. Но теперь, слегка успокоившись, они сообщили нам, что вечером 12 августа немцы привезли на кладбище два гроба и потребовали показать им какой-нибудь сырой участок. Затем вызвали двух могильщиков, приказали вырыть две ямы, опустили в них два гроба и облили их каким-то химическим составом, ускоряющим разложение.
Паннвиц надеялся, что благодаря стольким предосторожностям его преступление останется тайной…
В марте 1974 года в Копенгагене Элен Пориоль рассказала мне, в какой обстановке она видела Фернана в последний раз, как узнала о его смерти и как, подобно мне и Алексу Лесовому, обнаружила его останки на кладбище в Банье109:
«В начале января 1944 года, по-моему 15 или 16 января, я получила письмо с адресом, написанным рукой мужа. То есть письмо для мадам Элен Пориоль, у мадам Прюнье, авеню де ля Гранд-Пелуэ, № 19, город Ле Везинэ. Письмо содержало лишь несколько строк. Он просил меня прийти 19-го на улицу де Соссэ, где я, возможно, увижусь с ним, и принести ему костюм. Так я и сделала: 19 января пошла на улицу де Соссэ с этим письмом. Взяла с собой нашу маленькую. Но уже очутившись внутри здания, сказала себе: „Я сумасшедшая, не надо было приводить сюда ребенка“. Просто я как-то не сразу сообразила… так хотелось увидеть, жив ли он, увидеть, он ли это… И не поняла я, что ведь это чистое безумие взять с собой девочку, ведь они могли бы забрать и ее, и потом, сами знаете, какие неожиданные реакции могут быть у человека в некоторые моменты. Этого заранее не знаешь. Коли ты чего-то не пережил, то и не можешь знать, как себя поведешь, что сделаешь…
Мне сказали подняться на… уже не помню точно, кажется, на четвертый этаж. Я ждала в комнате на диване вместе с дочкой, и, пожалуй, через пять-шесть минут вошли два немца и за ними мой муж. Он сел рядом со мной, на нем был костюм, в котором его арестовали. На костюме были пятна крови. Он взял чемодан. Вот так мы и посидели, может, минут пятнадцать — двадцать, потом они мне приказали выйти. И тогда я ждала снаружи и увидела, как он уехал в машине гестапо. Вот и все…
Ну а после… Я не имела от него никаких новостей, и тогда я подумала: может, он участвовал… знаете ли… в тюрьме Френ было восстание, какой-то мятеж, и я говорю себе: «Неужели его втянули в это фантастическое дело, все-таки в январе он был жив, потому что с августа по январь его не убили. Не может быть, чтобы он умер». Сами знаете… всегда думаешь, что есть вещи, которые невозможны, что они могут случиться с кем-нибудь, но только не с тобой. Вдобавок он был еще так молод, и я сказала: «Это невозможно, он должен быть где-нибудь, либо его куда-то депортировали, либо он участвовал в этом мятеже». А когда освободили Париж, я пошла в газету «Юманите», потому что там были списки. Они мне сказали: «Нет, ничего нет, нет у нас списков, нет ничего, но надо надеяться…»
Наступает первое воскресенье октября 1944 года. Звонок в дверь, я вижу какую-то девушку. Она спрашивает, я ли мадам Пориоль. Я говорю: «Да». Тогда девушка говорит: «Можно мне войти?» — «Если хотите…» Потом я ее усаживаю, а она мне говорит: «Вашего мужа арестовали?» Я говорю: «Да. Но теперь он, может быть, скоро вернется, я жду известий…»
Она немного растерялась, а потом говорит: «Знаете, у меня печальная новость для вас. Ваш муж…» Тут я ее выставила за дверь, эту девушку. Разве такое возможно? Ни за что на свете!.. Но через два часа она вернулась. Я ей говорю: «Простите, пожалуйста, выслушайте меня…» Но она просто дала мне письмо от моего мужа. Это было его последнее письмо, и там было обручальное кольцо и внутри письма справка на голубой бумаге. Конверт с письмом, кольцом и справкой подобрал священник. Вы знаете, этот немецкий священник, который находился при тюрьме Френ, должен был навещать приговоренных к смерти в их камерах, он должен был оставаться там до конца, потому-то он и добрался до кладбища в Банье, чтобы взять с собой эту голубую бумажку, на которой написал: «Неизвестный француз, расстрелян 12 августа». И только тогда я вынуждена была понять… В определенный момент человек должен посмотреть правде в глаза. И все-таки я продолжала твердить: невозможно, невозможно, может, тут какая-то ошибка, и тогда я вбила себе в голову: надо опознать труп. 14 ноября 1944 года я это сделала в Банье. Там были похоронены двое неизвестных — одна бельгийка и один француз, которые были расстреляны в тот день. И когда открыли гроб… На нем был тот самый костюм, который я ему принесла… Это был серый фланелевый костюм. Это был он…»
Все заключенные члены «Красного оркестра», кроме Сюзанны Спаак и Фернана Пориоля, чьим следствием руководил Паннвиц, были отправлены в Германию. Джорджи де Винтер перевели из Нейи в тюрьму Френ, где ей удалось войти в контакт с Сюзанной Спаак. Потом, 10 августа 1944 года, ее отвезли на Восточный вокзал. На перроне она встретила Маргарет Барча и ее двух детей. Паннвиц лично следил за отправкой и напомнил Джорджи, что в случае ее побега расплачиваться за это будет ее сын, маленький Патрик. Мастер шантажа, Паннвиц оставался до последней секунды верен себе…
Поезд, увозивший Джорджи, сделал первую остановку в Карлсруэ. Райзеру, которого, как я уже упоминал выше, назначили начальником гестапо этого города (после смещения с должности в Париже), доложили о прибытии Джорджи. Он разыскал ее и вместо приветствия повторил угрозы Паннвица…
В дальнейшем Джорджи перебрасывали то в тюрьму, то в концентрационный лагерь. Вслед за Карлсруэ были Лейпциг, Равенсбрюк, Франкфурт, Заксенхаузен — таковы этапы ее пути на голгофу.
Кент тоже попал в отчаянное положение. В какую бы сторону он ни повернулся — отовсюду ему грозила гибель, поражение. Если бы я окончательно выпутался из сетей гестапо, то, конечно, разоблачил бы его предательство перед Центром. Это он знал… Со стороны зондеркоманды, чьим верным загонщиком и послушным исполнителем он стал сразу же после моего ареста, он не мог ждать ничего хорошего: стоило Паннвицу, как говорится, шевельнуть мизинцем, и Кент был бы уничтожен — жестоко и безжалостно. Проржавевшую косу после длительного употребления без сожалений выбрасывают на свалку. Кенту приоткрывалась лишь самая ограниченная возможность заслужить высшее снисхождение: надо было превзойти самого себя, с еще большим усердием выслужиться перед хозяевами, дать им окончательное доказательство своего умения наносить запрещенные удары. Его последняя «находка» в этом смысле оказалась беспримерной по последствиям, которые она повлекла за собой.
В конце 1940 года Директор попросил меня прощупать некоего Вальдемара Озолса — он же Золя, некогда работавшего на советскую разведку. И хотя Центр подозревал этого бывшего латышского генерала, сражавшегося в Испании на стороне республиканцев, в контактах с вишистскими кругами, он все же хотел выяснить возможность сотрудничества с ним. Я ответил Москве, что по наведенным справкам дать стопроцентную гарантию надежности этого человека никак нельзя, и посоветовал воздержаться от его услуг. Кент был полностью осведомлен об этом обмене радиограммами с Центром. Он сам их зашифровывал и расшифровывал110.
Гиринг заинтересовался Озолсом. Заподозрив шефа зондеркоманды в намерении сделать «ход конем», я пытаюсь дать его поискам ложное направление, однако за несколько дней до моего побега Паннвиц все-таки наталкивается на след Озолса. Кенту удается встретиться с ним, и в этом причина настоящей катастрофы. Кент упрашивает Озолса представить его капитану Лежандру, бывшему начальнику сети Митридата111. Лежандр проявляет полную беззаботность: полагая, что перед ним советский агент, он передает Кенту список французских бойцов Сопротивления. Затем по настоянию Кента, который в данном случае действует действительно мастерски, Лежандр соглашается вручить ему собранные своими боевыми группами чисто военные сведения, касающиеся территорий, освобожденных армиями союзников… От радости Паннвиц на седьмом небе и, как мне представляется, поздравляет Кента с большим успехом. А когда Лежандр спрашивает Кента, в чем собственно причина такого «любопытства» с советской стороны, тот ему отвечает, что-де англо-американский генштаб избегает сотрудничать с Красной Армией по части разведки и из-за отсутствия координации в этом деле возможны самые неприятные последствия. Поэтому и делается ставка на капитана Лежандра, который в известной мере помогает компенсировать этот недостаток.
Да, Кент поистине заслужил свои нашивки полноправного члена зондеркоманды и имеет полное право претендовать на благодарность Паннвица. При бегстве из Парижа Кент не будет ликвидирован. В момент укладки чемоданов шеф вспомнит о его последнем блестящем маневре, и он не без оснований — и это видно на фотографии — красуется перед порталом особняка Вайль-Пикара на улице де Курсель буквально за несколько дней до освобождения Парижа…
Париж восстал, надо смываться! Члены зондеркоманды втискиваются в автомобили, забитые багажом… Один из них подбегает к консьержу и бросает ему в лицо:
— Если проболтаешься — берегись! Тогда тебе несдобровать! Это он, это — Кент!
Наконец настает великий день… Рано утром 25 августа 1944 года ко мне на авеню дю Мэн прибегает Алекс Лесовой. Мы очень торопимся поскорее попасть на улицу де Курсель, к особняку, который занимала зондеркоманда.
Мы пересекаем город, пробуждающийся к свободе, и наши сердца бьются учащенно. Мы добираемся до улицы Риволи, где еще идет бой. Вынуждены остановиться. Тут же присоединяемся к партизанам, схлестнувшимся с немцами. Солдаты вермахта пытаются еще как-то сопротивляться, вокруг нас продолжается беспорядочная стрельба, но эти молодые люди с повязкой на руке, в рубашках, распахнутых на груди, с запавшими щеками и глазами, громко провозглашающие свою решимость победить, эти парни, собравшиеся с разных концов города, чтобы сокрушить последние остатки оккупации, располагают большим запасом ручных гранат, которыми… не умеют пользоваться.
Борцы, вышедшие из мрака на свет! Вот кому мы должны пособить! Алекс Лесовой, загоревшийся возможностью сразиться с врагом лицом к лицу, с тем самым врагом, которого он так долго преследовал в подпольной борьбе, теперь пробует себя, в роли военного инструктора. И результат его усилий не заставляет себя долго ждать: заграждение немцев взлетает на воздух.
Потом немного подальше мы участвуем в осаде отеля «Мажестик» — главной штаб-квартиры вермахта. Близ площади Согласия (Пляс де ля Конкорд) — новая схватка у отеля «Крийон»…
Наконец во второй половине дня мы попадаем на улицу де Курсель. Зондеркоманда покинула это место двумя часами раньше.
И вот мы в разбойничьем логове Паннвица и его подручных. Здесь пытали наших товарищей, здесь они пережили чудовищные страдания. От небывалого волнения у меня перехватывает дыхание. Осторожно мы продвигаемся вперед — не из страха, но в предчувствии картин воплощенного ужаса…
Они убрались отсюда, все свидетельствует о поспешности их бегства. Письменные столы завалены документами, которые они не успели сжечь. В подвале, на полу камер, в которых томились заключенные, валяется сгнившая солома. Мы входим в ванную комнату. На самой ванне, на кафельном полу, на стенах — везде следы крови… Здесь их истязали!.. На втором этаже, в помещении картинной галереи, — снова крупно расплывшиеся темные пятна… Поднимаемся на третий этаж. В одной из комнат на столе лежат листы бумаги, заполненные цифрами. Сомнений нет: здесь было рабочее место инженера Ефремова. Консьерж подтвердит нам то, что мы предполагали: Ефремов покинул Париж вместе с зондеркомандой…
Мы собираем все документы, которые только можем найти, делаем фотографии внутри и снаружи этого дома Преступления. Все эти вещественные доказательства, все эти неопровержимые доказательства лютого варварства врага мы отправим в Москву.
III. ВОЗВРАЩЕНИЕ
1. НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В одном из домов на Страсбургском бульваре, на квартире пожилой дамы, служившей связной между мною и Алексом Лесовым, через несколько дней после освобождения Парижа я получил депешу Центра с поздравлениями по поводу моих действий и с просьбой дождаться прибытия первой советской военной миссии.
Вокруг меня парижане дышали воздухом вновь обретенной свободы. Но эта атмосфера всеобщей радости, это возбуждающее чувство облегчения и восторга не могли заставить меня расслабиться, забыть, что разоружаться еще рано. Ведь бывает так: когда ты меньше всего ожидаешь беды, думаешь, что враг разбит и повержен, он, пользуясь твоей беззаботностью, вонзает тебе нож в спину. Я отнюдь не исключал возможности, что герр Паннвиц, пустившийся наутек от правосудия, перед своим бегством заложил пару-другую бомб замедленного действия и вооружил нескольких наемных убийц, поручив им ликвидировать меня.
Подобные опасения вполне обоснованы: группа Алекса, бывшая круглые сутки начеку, обнаружила следы подозрительных субъектов, которые, судя по всему, разыскивали меня. Они побывали на бывшей квартире Каца (на улице Эдмон-Роже) и на ряде других квартир, внесенных в картотеку гестапо. Уцелевшие головорезы банды Лафона, несомненно, получили приказ Паннвица — Алекс тоже был в этом твердо убежден — разыскать меня и «урегулировать» мою судьбу. Вот почему в этой обстановке массового ликования мне не следовало быть на виду, дабы не стать мишенью тех снайперов, что стреляют в последние секунды. Вот почему я оставался в своем жилье на авеню дю Мэн на полулегальном положении…
23 ноября 1944 года первый самолет из Советского Союза приземлился под Парижем. На его борту находились Морис Торез и полковник Новиков, глава советской миссии по репатриации русских военнопленных и гражданских лиц, которых ожидала Москва. Новиков весьма любезно встретил меня и сказал, что я смогу улететь на той же машине, когда она отправится в обратный рейс.
Время ожидания затянулось дольше намеченного, и только 5 января 1945 года я сел в самолет, имея при себе советский паспорт на какое-то вымышленное имя. Нас было двенадцать человек, в том числе Радо, которого несколькими днями раньше я впервые увидел у Новикова, и его помощник Фут.
В Центральной Европе война продолжала бушевать. Маршрут на Москву был разработан с несколькими большими «крюками». Сперва наш самолет взял курс на юг. После Марселя и Италии мы приземлились в Северной Африке на аэродроме, занятом американцами. Они просто великолепно приняли нас, и мы пробыли у них двое суток. Наши беседы с американскими летчиками проходили в духе братской сердечности и открытости.
Затем мы вылетели в Каир. Радо сидел рядом со мной и рассказывал про регион, расстилавшийся под нами (как я уже писал, он был прекрасно образованным географом). Другие пассажиры оказались менее разговорчивыми. Но один из них, человек лет шестидесяти, с седой головой, крепкий и коренастый, с натруженными руками рабочего представился мне:
— Я — Шляпников112. Шляпников? Какая неожиданность!
— Вы — тот самый Шляпников? Руководитель «рабочей оппозиции»?
— Он самый…
Рабочий-металлург, старый большевик, вместе с Александрой Коллонтай в 1920 — 1921 годах он поддерживал в партии установку на независимость профсоюзов от государства и на право рабочих бастовать. Он законно гордился своей принадлежностью к пролетариату, своими «мозолистыми руками», по поводу чего Ленин однажды заметил с добродушным сарказмом:
— Как всегда, этот товарищ выдвигает на передний план свое истинно пролетарское происхождение.
Но вместе с тем именно Ленин, несмотря на свое несогласие с тезисами, которые отстаивал Шляпников, встал на его защиту в ЦК, когда обсуждался вопрос об исключении членов «рабочей оппозиции» из партии. Я был уверен, что впоследствии Шляпникова, как и всех старых большевиков, захлестнула волна репрессий.
— После поражения «рабочей оппозиции», — рассказывалмне Шляпников, — я при содействии Ленина покинул СССР и обосновался в Париже, где работал столяром. После победы Красной Армии, очень скучая по родине, решил вернуться домой. Я написал своему другу Молотову письмо с просьбой помочь мне. Он ответил очень теплым письмом, в котором всячески убеждает меня поскорее вернуться. Уверен, он приедет на своей машине в аэропорт и встретит меня. Горю нетерпением снова послужить партии и стране…
Несколько наивный энтузиазм этого старого большевика, который, вопреки тяжелым испытаниям, полностью сохранил идеалы своей юности, глубоко тронул меня, и я старался не слишком разочаровывать его.
В Каире нас устроили в отеле близ старого города. Назавтра после прибытия вместе с моими спутниками по этому путешествию я посетил советское посольство. Туда пришли все, кроме Радо. Почему же он не присоединился к нам? В тот день я как-то не задумался над этим и вместе с остальными отправился покупать сувениры на выданные нам скромные карманные деньги. Теперь Радо снова был с нами, но — и я опять удивился — почему-то ничего не тратил.
На другой день ранним утром мы собрались перед отелем, чтобы уехать на автобусе в аэропорт. И снова Радо нет среди нас. Общее удивление. Его ищут в номере. Там его тоже нет, постель не тронута, видимо, он не ночевал в отеле. Уж не подвергся ли он нападению в старом городе? Такого рода инциденты случались здесь нередко.
А я еще с вечера накануне знал, что с ним случилось. Знал, но остерегался говорить об этом. Он зашел ко мне в номер и задал несколько вопросов, не оставлявших никаких сомнений о его намерениях. В частности, он спросил:
— Тебе хоть что-нибудь известно насчет условий жизни в Египте? Можно ли, по-твоему, достаточно легко устроиться в этой стране?..
Радо не могли найти нигде, он исчез бесследно… Около полудня наш самолет взлетел и пошел курсом на Иран. Теперь на борту находилось уже только одиннадцать пассажиров. Внезапно погода резко ухудшилась, и я уже было решил, что всем нам суждено погибнуть в этом самолете, уносящем нас в Москву. Вскоре после взлета разыгралась буря. С небес низвергались ливневые потоки, но машина продолжала набирать высоту. Видимость снизилась до нуля. На лицах членов экипажа появилось выражение тревожной озабоченности. Вскоре стало известно, что началось обледенение крыльев. Мы шли в разреженном воздухе, не имея кислородных масок. Постепенно наши конечности налились тяжестью, и мы впали в какую-то полудрему. Первый и второй пилоты непрерывно что-то кричали, чтобы не поддаться одолевавшей их сонливости. Подъем продолжался, и катастрофа казалась неизбежной… «Какой абсурд! — подумал я. — Форменный идиотизм: так много, так долго, так напряженно бороться — и вдруг очутиться в этой летающей скорлупе, грозящей стать твоим гробом!»
Наконец машина выровнялась и начала понемногу снижаться. Спускаясь из одного эшелона в другой, мы достигли оптимальной высоты полета… По прибытии в Тегеран пилоты признались нам, что из-за скверных метеоусловий самолет отклонился от нужного курса, и, ведя машину при полном отсутствии видимости, они всерьез опасались возможной аварии, сулившей гибель всем, кто был на борту. Однако к счастью для меня, судьбе было угодно распорядиться, чтобы мой последний час оттянулся на какой-то срок.
Из-за неблагоприятной погоды мы прибыли в Тегеран с опозданием. Фута — помощника Радо — и меня пригласили к советскому военному атташе, который сказал нам, что Москва уже знает об исчезновении Радо. Он надеялся, что мы, возможно, сумеем объяснить, по какой причине это случилось.
Нетрудно понять, что Фут довольно сильно испугался, боясь быть заподозренным в сообщничестве с его совсем еще недавним начальником Радо.
— Как же я теперь доложу в Москве о нашей деятельности в Швейцарии? — с тревогой в голосе спросил он советского военного атташе. — Меня будут подозревать, не поверят ни одному моему слову!..
На протяжении всего полета в Москву я все не мог отделаться от мыслей о побеге Радо. Я точно знал, что свою миссию он выполнил блестяще, выше всех ожиданий, знал, что ему решительно не в чем упрекнуть себя. За долгие годы своей активной деятельности, с тех пор, когда он, будучи совсем молодым человеком, примкнул к возглавляемому Бела Куном революционному движению в Венгрии, Радо накопил богатый политический опыт. Действуя в Швейцарии, он в большой степени способствовал приближению победы. Однако именно в силу глубокого знания фактов, реализма оценок, присущего ему как ученому, Радо предполагал, что, невзирая на победу, в царстве НКВД никаких перемен не произойдет. Он отчетливо предвидел судьбу, ожидавшую его в Москве. Не испытывая никакого энтузиазма от перспективы закончить жизнь в одном из сталинских застенков, он исчез в Каире, предварительно позаботившись о безопасности своих детей и жены в Париже113.
Должен признаться, что эта столь очевидная истина открылась мне и потрясла меня лишь намного позже. Я был наивен, верил, что по завершении такой грандиозной борьбы, таких тяжелых боев террор прекратится и советский режим переживет новую эволюцию. Подобная легковерность может, конечно, удивить, если учесть, что она исходит от человека, жившего в Москве в период довоенных репрессий. Но все же у меня был решающий аргумент, определивший мое неколебимое намерение вернуться в Советский Союз: ведь речь шла о судьбе моей семьи. Не в пример Радо, у меня не было спокойной уверенности от сознания, что мои самые родные люди в Париже. Я предвидел, что если отклонюсь от «правоверного пути», то расплатиться за это, чего доброго, заставят мою семью…
Мы подлетали все ближе к Москве. Над всеми одолевавшими меня противоречивыми переживаниями господствовало радостное чувство предвкушения встречи с женой и сыновьями после стольких лет разлуки. Когда самолет приземлился на посадочной полосе, меня охватило блаженное сознание исполненного долга. Я гордился тем, что совершил, и мечтал только о честно заработанном отдыхе. Память тянулась к погибшим, несчастным товарищам…
Уже в темноте, спускаясь по трапу на землю, я силился разглядеть среди встречавших своих. Напрасные попытки. Меня, как, впрочем, и остальных пассажиров, никто не ждал. Для встречи прилетевших прибыла группа офицеров. Что ж, подумал я, борцов-антинацистов встречают военные. Это на худой конец еще можно понять.
Высокие чины — полковники — подошли ко мне и с большой горячностью приветствовали меня. Затем пригласили сесть в машину. Вдруг скользящий луч высветил лицо одного из них, и я его узнал. В 1937 году он был капитаном. Значит, его продвижение по службе шло полным ходом. Наконец, не выдержав, я задал вопрос, уже давно готовый сорваться с моих уст:
— Где моя жена и мои дети?
— Не волнуйтесь, — ответил один из моих провожатых. — Они живут очень хорошо, ваша жена проходит курс лечения в доме отдыха. У нас не было времени предупредить ее, потому что мы сами не знали точную дату вашего прибытия. Так или иначе, руководство Центра полагает, что в течение двух или трех недель вы проведете на квартире, где в обстановке полного спокойствия сможете написать свой отчет. Туда мы вас и отвезем.
Для меня подготовили две комнаты в квартире какого-то полковника, убывшего в командировку. Нас приняли его жена и дочь. Прежде чем удалиться, эскортирующие меня оба полковника представили мне капитана:
— Вот ваш офицер-адъютант. Он снабдит вас всем необходимым…
Итак, меня изолируют для написания отчета! Мне дают адъютанта, словно я в нем нуждаюсь! И эти кисло-сладкие речи обоих полковников, и, самое главное, отсутствие моей жены — все это, вместе взятое, вызывает во мне очень странное чувство, больше того — недоверие, настороженность…
Я устраиваюсь в своем новом пристанище. Оно по крайней мере более комфортабельно, чем влажные мостовые квартала Монпарнас, по которым я без конца блуждал, как потерянный, после того как покинул «белый дом»…
Уже во второй вечер ко мне пришли визитеры. Их было трое — двое в форме, третий — в штатском. Последнего я узнал: в 1938 году он ведал политработой в Центре. За официальным титулом скрывалась иная реальность: то был генерал НКВД.
Они принесли с собой роскошный обед, но я прервал гастрономическое действо, чтобы задать один из занимавших меня вопросов:
— Получили ли вы вовремя мой доклад руководству партии, отправленный в январе 1943 года?
— Да, да, мы получили его и учли все, о чем в нем говорилось. — Последовала недолгая пауза, после которой генерал переменил тему разговора: — Скажите, каковы ваши планы на будущее?
Ведь все равно будет так, как решите вы, подумалось мне. Но все же я ответил:
— С разведкой я покончил. Эта глава моей жизни дописана. Но прежде чем уехать в Польшу, я хотел бы объяснить Центру, что происходило во время войны…
И добавил раздельно и четко:
— Я рассчитываю получить разъяснения относительно грубых ошибок руководства!
Лицо генерала-инквизитора помрачнело:
— Вот как? И это все, что вас интересует?
— А вас это разве не могло бы случайно заинтересовать?.. Прежде всего, хотелось бы сделать предложение относительно еще одной, последней операции «Красного оркестра»…
— Согласен, — отрезал генерал. — Завтра мы изучим ваше предложение…
На следующий день меня посетили два полковника. Я сразу понял, что они досконально изучили досье «Красного оркестра».
— Я убежден, — начал я, — что Гроссфогель, Макаров, Робинсон, Сукулов, Максимович еще живы. Их можно и должно спасти. Но тут очень важно, будете ли вы и впредь поддерживать контакт с Паннвицем…
— Он бежал в австрийские Альпы и спрятался там. Об этом мы знаем из надежного источника…
Тогда я предложил направить к Паннвицу двух офицеров, хорошо знакомых с историей «Красного оркестра». Они ему объяснят, что с февраля 1943 года благодаря моей информации Центр подробно осведомлен о «Большой игре» и согласен принять меры, необходимые для спасения заключенных членов «Красного оркестра»114. Я также предложил пообещать Паннвицу, что если он поможет спасти этих людей, то после войны такой поступок будет учтен при решении вопроса о его судьбе. Если же он откажется помочь в этом деле, Гиммлер и Борман будут немедленно проинформированы о нем. А когда эти два высших нацистских сановника узнают, что московская Дирекция уже давным-давно дергает за ниточки, к которым он, Паннвиц, подвешен, то его привлекут к ответственности, и это обойдется ему крайне дорого, поскольку у его начальников пока еще есть полная возможность заставить его расплатиться за измену так, как им только вздумается.
Мое предложение казалось мне вполне отвечающим справедливости и логике. Оба мои собеседника официально обещали мне доложить о нем Дирекции…
Первую неделю в Москве я посвятил составлению и редактированию моего отчетного доклада. В этом мне помогала стенографистка. Но день шел за днем, и мне становилось все яснее, что над моей головой сгущаются тучи. Я понял, что мои мучения не окончились. Усомниться на этот счет мог бы только человек, лишенный последних крупиц здравого смысла или окончательно чем-либо ослепленный.
Я никак не походил на воина, которого по возвращении с войны родина встречает по крайней мере с чувством благодарности за службу, которую он ей сослужил.
После трех суток моего нахождения в отведенной мне квартире офицеры НКВД доставили мне мой чемодан. Дело в том, что, покинув аэропорт, я слишком поздно заметил, что по ошибке прихватил чемодан Шляпникова — он был в точности такой же, как и мой. Шляпников тоже понял свою ошибку. Двум офицерам НКВД было поручено произвести обмен чемоданами.
Поведение обоих «посланников» было более чем однозначным, и я сразу понял, что Шляпников находится в их руках, понял, как именно Молотов, написавший Шляпникову столь «сердечное» письмо с приглашением вернуться, встретил своего «дорогого товарища». Верх цинизма! У меня болезненно сжалось сердце, я испытывал огромную боль и вместе с тем чувство глубокого отвращения, представляя себе ни с чем не сравнимое разочарование старого большевика, с такой радостью вернувшегося на родину социализма, готового отдать ей последние силы и внезапно увидавшего, в какую ловушку он дал себя заманить! Бедняга ожидал, что за ним приедет автомобиль Молотова, его же посадили в машину госбезопасности и отвезли прямехонько на Лубянку!..
Главная обязанность моего «адъютанта» заключалась в том, чтобы не спускать с меня глаз. Если его нет рядом, значит, он проводит время в обществе хозяйской дочери… Как-то во второй половине дня, когда его не было, я вошел в его комнату и обнаружил то, что мгновенно «просветило» меня: этот кретин забыл на столе донесение, в котором весьма точно фиксировал, что я говорил и делал с утра. Я внимательно прочитал донесение и обнаружил много всевозможных нелепостей и ошибок, которые он мне приписал. Стукач и фальсификатор — чем не идеальный компаньон?.. Тут я решил исправить «домашнее задание» этого превосходного доносчика, подчеркнул красным карандашом все неточности и поставил на полях пометку «неверно».
В тот же день мой ангел-хранитель вернулся очень поздно. Назавтра он исчез… Видимо, поспешил доложить начальству о случившемся прежде, чем я, не дай бог, мог бы опередить его.
Теперь мне стало проще простого подвести точный итог: я оказался в положении заключенного. Впрочем, это фактически и не утаивалось от меня…
Мне прислали другого «адъютанта», помоложе первого и с более привлекательными методами «обхождения». Так, он пригласил меня в кино, и я с ним пошел. Кадры мелькали перед моими глазами, лишь на мгновения задерживая мое внимание. Мозг сверлила одна-единственная мысль: что они со мною сделают?
Через десять дней уже знакомая мне «тройка» вновь пришла пообедать со мной. Как и в первый раз, мне не пришлось заниматься какой-либо подготовкой к трапезе, ибо они опять щедро позаботились о яствах и выпивке.
Несмотря на обилие блюд и неиссякаемый поток водки, за столом царила какая-то натянутость.Им, несомненно, поручили допросить меня возможно подробнее. При нашей первой встрече они, видимо, вынесли не слишком благоприятное впечатление обо мне и теперь надеялись привести меня в более приподнятое расположение духа. Генерал НКВД первым попытался сломать лед:
— Что же вы все-таки собираетесь делать в дальнейшем? — спросил он меня.
— Я вам уже говорил: вернуться в Польшу, на мою родину. Но сперва хочу поговорить с Дирекцией!
Он покачал головой. Я и в самом деле вел себя, как неисправимый упрямец.
— Если вы, Отто, действительно так сильно привязаны к вашему прошлому, то с нами вам говорить о нем не придется! — сухо ответил он. — Этот разговор будет происходить в другом месте. (Последние слова он произнес с Особым выражением.) Вы меня поняли?
— Я вас очень хорошо понял и скажу вам откровенно: мне абсолютно безразлично, кто будет со мной беседовать на эту тему!
Это было слишком. Генерал встал и, не откланявшись, вышел, сопровождаемый своими спутниками. Готов биться об заклад, что он тут же доложил «наверх» обо мне. Своим поведением я сам себе как бы вынес приговор: претендовать на получение объяснений от руководства Центра и мечтать только о возвращении в любимую Польшу — вот уж поистине абсурдные, ни с чем не соразмерные и непростительные притязания… Я заметил, что мы почти не притронулись к аппетитным блюдам, украшавшим стол…
Прошла еще одна спокойная ночь. На другой день я стал готовить себя к худшему. «Будь что будет!» — сказал я себе.
Вскоре ко мне явился незнакомый полковник, и я едва не выпалил: «Входите! Я вас ожидал…»
— Вам нужно переменить квартиру, — проговорил он.
Я прикусил язык, чтобы не спросить у него, отапливается ли моя новая квартира и толстые ли там решетки на окнах. Собрав свои вещички, я последовал за ним. Мы сели в машину и поехали, не сказав друг другу ни слова. Уже стемнело, но я достаточно хорошо знал Москву, чтобы определить направление, в котором мы следовали… Мы въехали на площадь Дзержинского, и мои последние сомнения — если они еще оставались — рассеялись: ибо именно на этой площади и возвышается небезызвестное здание «Лубянки»…
За нами сомкнулись массивные створки дверей первого подъезда, и мы очутились перед второй, пока еще закрытой дверью. Мой полковник, не отходивший от меня ни на шаг и по-прежнему молчаливый, нажал на кнопку звонка и сквозь прорезь в двери обменялся с кем-то несколькими словами. Дверь отворилась, и мы вошли в приемную этого благородного учреждения. Полковник достал какую-то бумажку из кармана и предъявил ее дежурному офицеру. Тот сразу подписал ее. Затем полковник повернулся ко мне. К моему изумлению, он простился со мною долгим, сердечным рукопожатием. Несколько секунд он оставался недвижимым. В его глазах блестели слезы (могу подтвердить это под присягой). Наконец он удалился.
Я огляделся. Вдруг мне почудилось, будто я нахожусь в самом центре какого-то огромного, туманного облака. Но сознание реально происходящего быстро возобладало и ошеломило: я был заключенным. Я был арестантом на Лубянке!
2. ЛУБЯНКА
Это название стало знаменитым. Во всем мире слово «Лубянка» являлось символом террора НКВД. В самом сердце Москвы стоит здание, где разместилось Министерство государственной безопасности. В его середине была устроена тюрьма, предназначенная для нескольких сотен «избранных гостей». По длинным коридорам можно было, не выходя на улицу, прямо из министерства пройти в камеры. Таким образом, остаешься «среди своих»…
Я в зале ожидания. По обе стороны открываются небольшие боксы. Их около десяти. Меня вводят в один из них. Стол да стул — вот и вся мебель. Дверь за моей спиной захлопывается.
Внезапно меня одолевает прилив какой-то небывалой усталости, и я опускаюсь на стул. Я инертен, беспомощен, неспособен реагировать на что-либо. Такое впечатление, будто мой мозг испаряется, больше не функционирует, ничего не регистрирует. Дотрагиваюсь до головы, ощупываю руки. Да, это я, это в самом деле я — заключенный на Лубянке.
Звук открывающейся двери вырывает меня из этого полубессознательного состояния. Я слышу голос:
— Почему не раздеваетесь?
Я понимаю, что офицер в белом халате обращается ко мне, и отвечаю:
— А почему я должен раздеваться, я не вижу кровати.
— Раздевайтесь и не задавайте вопросов.
Я подчиняюсь и совершенно голый жду.
Дверь снова открывается, и ко мне входят двое мужчин, тоже в белых халатах. На протяжении часа они с чрезвычайной тщательностью осматривают мою одежду и складывают в кучу содержимое моих карманов. Наконец они покончили с этим, и один из них негромко командует:
— Встать!
Он начинает обследовать меня с головы до пят. Будь у него еще и стетоскоп, я подумал бы, что подвергаюсь осмотру врача. Он проверяет мои волосы, уши, заставляет открыть рот, высунуть язык. Подробно ощупывает меня, приказывает поднять руки.
— Приподнимите пенис. Выше!
— Повернитесь! (Я подчиняюсь.) Возьмите свои ягодицы в руки и раздвиньте их. Шире, шире…
Он наклоняется к моему заду. Я взбешен.
— Вы потеряли там что-нибудь? — невольно вырывается у меня.
— Не провоцируйте меня, иначе будете потом раскаиваться. Теперь можете снова одеться.
Он рыщет в моем чемодане и извлекает из него килограмм непрожаренного кофе, который я купил в Тегеране…
— Что это?
— Ячмень…
С удовлетворением отмечаю, что он кладет кофе к остальным вещам, которые в тюрьмах обычно разрешают держать в камерах. Затем составляет опись оставшихся у него предметов: галстук, шнурки от ботинок, подтяжки и т. д. Я подписываю целую кучу бумажного хлама. Входит лейтенант, со своей стороны подписывает квитанцию о «приемке» и приказывает мне следовать за ним. Долго мы идем по пустынным коридорам. Он открывает какую-то дверь.
Я вхожу в камеру, где стоят две койки. На одной спит мужчина, лежащий лицом к стенке. Его руки вытянуты на одеяле.
— Вот ваша койка. Раздевайтесь и ложитесь!
Я выполняю указание, но уснуть никак не могу. Каждые три минуты открывается смотровой глазок и в нем появляется бдительное око надзирателя. Мои открытые глаза тревожат его. Он стоит, не шелохнувшись, и наблюдает. В эту ночь я усваиваю свой первый урок: «Если не спишь, все равно держи глаза закрытыми, так будет спокойнее»…
Вот и утро. Через «кормушку» чья-то рука протягивает мне завтрак: стакан с черноватой жидкостью, которая, пока ты не пригубил ее, напоминает кофе, немного сахару и ломоть хлеба. Голос за дверью предупреждает:
— Хлеб на весь день.
Я набираю в рот кофе, но проглотить его не могу. Откусываю хлеб, мягкий и вязкий, как пластилин. Но мне все безразлично, я как бы воспарил над всем этим. Мой сосед — офицер — просыпается, говорит «с добрым утром» и умолкает.
Проходят четверо суток. Никто ко мне не является.
На пятое утро, при смене надзирателей, старшина спрашивает меня:
— У вас есть жалобы?
— Да, — говорю я и пытаюсь придать своему голосу энергичное звучание, — я хотел бы увидеть кого-нибудь из тюремной администрации!
Через час в камеру приходит капитан:
— В чем дело?
— Мне необходимо немедленно переговорить с руководством министерства по крайне важному делу, которое не касается меня непосредственно!
Прожито еще двое суток. За мной приходит офицер и предлагает следовать за ним. Мы идем по длинным коридорам до маленькой комнатки, где какая-то женщина выписывает пропуск находящемуся здесь офицеру. Возникает другой офицер, подписывает бумажку — ох уж эта бюрократия! — и ведет меня по новому, прямо-таки нескончаемому, выложенному ковровой дорожкой коридору. Мы поднимаемся на лифте. Офицер распахивает передо мной дверь; впускает меня в большую комнату. На полу — огромный ковер, на стене портрет «отца». Его взгляд серьезен, усы выразительны — «oh» бдит. За широким письменным столом восседает довольно еще молодой человек в штатском. Его роскошный галстук сразу привлекает к себе взгляд. Он встает из-за стола, идет мне навстречу и говорит с южным акцентом:
— Так вот вы какой! Вы — член крупной организации разведывательной службы, созданной контрреволюционной кликой Берзина и его приспешников?
Когда он произносит эти последние слова, его рот искажается гримасой ненависти. Я не отвечаю.
— Вам известно, где вы находитесь?
— Если бы здесь не было так шикарно, я мог бы подумать, что мы в каком-нибудь логове фашистских разбойников!
Мой ответ злит его. Жестом он предлагает мне подойти к широкой остекленной стене, указывает большим пальцем на тюрьму и спрашивает:
— Знаете ли вы, что там такое?
— Предполагаю…
— Почему вы дали этой клике предателей завлечь вас на работу за границей?
— Простите, не знаю, как к вам обращаться.
— Генерал.
— Товарищ генерал, — сказал я. — Я не работал ни на какую клику. Во время войны руководил подпольной организацией разведывательной службы Красной Армии и горжусь тем, что сделал.
Он сменил тему и спросил:
— Почему вы пожелали переговорить с кем-нибудь из министерства?
— После моего прибытия в Москву я изложил некоторые свои предложения двум полковникам разведслужбы, ответа не получил. Речь идет не обо мне, а о том, чтобы спасти жизнь некоторых подпольных борцов. Прошу связать меня с одним из руководителей Центра, чтобы предпринять эту акцию.
— Будет сделано. На данный момент это все?.. Тот же путь в обратном направлении до передней, отделяющей тюрьму от министерства… Снова бумажки, снова подписи, и вот я опять в своей камере.
Через два дня за мной снова приходят и отводят в помещение, где меня ожидают двое в штатском. Принадлежат ли они к армейской разведке или к «Смершу»115? Во всяком случае, о моих делах они информированы точно.
— Поговорим о вашем плане. О спасении людей, которых вы назвали, не может быть и речи. Большая их часть не относится к военным кадрам разведывательной службы.
Я сжимаю кулаки, чтобы не закричать.
— Но разве члены «Красного оркестра» не были кадровыми военными? Разве вам безразлична их жизнь после всего, что они сделали для победы?
— Нас интересует лишь одно: доставить в Москву Паннвица и Сукулова (Кента). Если у вас есть конкретные предложения, мы их используем.
— Хорошо, — сказал я. — Через два или три дня я представлю план действий.
Через несколько дней мы встречаемся вновь. Я спрашиваю:
— Есть у вас радиосвязь с Паннвицем? Если нет, то могли бы вы быстро установить ее?
— Время от времени мы поддерживаем контакт. Мы можем установить с ним связь…
Я опять участник операции, и мне удается забыть, где я. Как-то сразу перестаю чувствовать себя в роли заключенного. Предлагаю своим обоим собеседникам следующий план:
— До моего побега в сентябре 1943 года Паннвиц и его начальство были убеждены, что Центр не разгадал смысла радиоигры. Они боялись, что сразу после моего побега я предостерегу Москву. Поэтому Паннвиц и распорядился повсеместно расклеить листовки насчет поимки шпиона Жана Жильбера. Таким образом, он как бы «расшифровал» меня перед Центром…
— Да, — ответил один из двух офицеров, — тогда Кент отправил нам радиограмму, в которой упоминался этот розыск, а заодно подтверждались и ваш арест, и ваше бегство. Но ради продолжения большой радиоигры мы в Центре решили заявить Кенту, что Отто, по-видимому, предатель…
— Совершенно верно, — продолжал я. — Этот тезис следует поддерживать и дальше. Вы должны через регулярные промежутки посылать Паннвицу радиограммы с одним и тем же вопросом: «Где Отто?» Через несколько недель сообщите ему, что, как вам удалось выяснить, Отто бежал в Южную Америку. Узнав об этом, Паннвиц и Кент серьезно задумаются насчет своей поездки в Москву. Однако если вы осуществите этот план, то тем самым приговорите к смерти всех членов «Красного оркестра», которые еще находятся в руках немцев: прежде чем Паннвиц сдвинется с места, он наверняка уберет всех свидетелей своих преступлений.
К сказанному я отчетливо добавил:
— Одновременно вы обязаны предпринять шаги для спасения уцелевших.
Не дав мне никакого ответа, они встали и ушли… Меня переселили в маленькую камеру, где мне предстояло провести долгие недели. В полном одиночестве… Режим стал намного строже. Постепенно привыкаешь к неизменному ритму распорядка дня: в шесть утра в смотровом оконце появляется голова надзирателя.
— Встать! — рявкает он, вырывая тебя из сна. Сразу встаешь, берешь парашу и направляешься в туалет. Там можно пробыть не более трех минут. Затем следуешь к умывальникам. На мытье — две минуты. В семь утра — завтрак. Кружка кофе (часто это просто кипяток), кусок сахара, хлебная пайка. В камере действует запрет: ни под каким видом нельзя ложиться на койку или становиться спиной к двери. Можно только лишь ходить взад и вперед от стены к стене и время от времени присаживаться на табурет. В общем, шагаешь без конца…
При таком режиме ежедневно покрываешь по нескольку километров…
В обед тебе дают миску супа — чуть жирноватую жижу, в которой плавают комья ячменной крупы. Вечером такое же меню. В эти послевоенные годы, когда вся страна терпела нужду, суточный тюремный рацион все больше сокращался. Часто вместо супа приносили похлебку из вываренных селедочных головок. Только предельно изголодавшись, можно было заставить себя проглотить это варево, издававшее страшную вонь. Но ко всему на свете привыкаешь, и, в конце концов, чтобы не подохнуть с голода, приходилось есть эту бурду.
В десять вечера еще раз открывается «кормушка» и тот же зловещий голос рычит:
— Ложись!
Начинается новый кошмар. Лежать на койке как попало нельзя. Надо лежать на спине, обе руки вытянуты поверх одеяла, лицо обращено к смотровому глазку… Свет горит всю ночь. И невозможно повернуться, чтобы уклониться от этого резкого света, проникающего сквозь веки. Впоследствии я научился некоторым арестантским хитростям, помогающим спать. Например, прикрыть глаза носком.
Цирковое представление возобновляется… Меня ведут к следователю… В углу комнаты поставлен столик и табурет для арестованного. Напротив — письменный стол, за ним — капитан. Сажусь и я.
— Положите руки на стол!
Офицер берет анкету, допрос начинается.
— Фамилия, имя?
— Треппер, Леопольд.
— Национальность?
— Еврей.
— Если вы еврей, то почему вас зовут Леопольд? Это не еврейское имя.
— Жаль, что вы не можете задать этот вопрос моему отцу: он умер.
Капитан невозмутимо продолжает:
— Подданство?
— Польское.
— Социальное происхождение?
— Что это значит?
— Ваш отец был рабочим?
— Нет…
Он записывает и говорит:
— Происхождение: из мелкой буржуазии… Профессия?
— Журналист.
— Партийность?
— Член коммунистической партии с 1925 года. Он громко произносит то, что записывает:
— …и он говорит, что является членом коммунистической партии с 1925 года…
Допрос окончен. Выйдя от него, ощущаю какой-то горький привкус во рту: польский подданный, еврей «мелкобуржуазного происхождения». Таковы, значит, главные личные сведения обо мне после двадцати лет моей политической деятельности. Прямо-таки впору заплакать… Но я сдерживаю слезы, этого удовольствия я ему не доставлю.
Каждый вечер в 22.00 меня отводят на допрос, который продолжается до 5 часов 30 минут утра. После недели без сна спрашиваю себя — сколько еще смогу это выдержать. Вспоминаю свою голодовку в палестинской тюрьме и констатирую, насколько тяжелее переносить эту «бессонную забастовку», к тому же недобровольную. Пока что я еще выдерживаю эти допросы. Впрочем, можно ли назвать это допросами? Скорее некие «сеансы», рассчитанные лишь на то, чтобы довести меня до полного изнеможения… Каждую ночь начинается сызнова одна и та же своеобразная «игра»:
— Расскажите о своих преступлениях против Советского Союза, — повторяет следователь.
И, словно автомат, я отвечаю ему:
— Никаких преступлений против Советского Союза я не совершал!
Следующая стадия: капитан притворяется, будто совершенно не интересуется мною; он читает газеты и время от времени, словно молитву, не поднимая на меня глаз, повторяет свой вопрос. Я механически отвечаю:
— Никаких преступлений…
Промежутки между вопросами возрастают. Уходит время… Я молчу и привыкаю, не шелохнувшись, просиживать по семи часов на маленьком табурете.
Когда забрезжит рассвет, меня отводят обратно в камеру. Через несколько минут раздается голос надзирателя, шагающего от одной двери к другой:
— Встать!
Я еще не ложился, а новый день уже начался. Они хотят доконать меня. Надо ходить, надо выдержать, выдержать, выстоять…
На вторую или третью неделю после начала «допроса» мне дают поспать каждую седьмую ночь. Я замертво валюсь на койку, а наутро все начинается сначала.
Однажды вечером — уже идет четвертая неделя — в комнату допросов входит невысокий коренастый мужчина с болезненно-желтоватым цветом лица. Он в сильном раздражении. Это полковник, начальник следственного отдела, известный по всей Лубянке своей жестокостью и садизмом. Ему действительно доставляет удовольствие собственноручно избивать заключенных. Не переводя дыхания, он спрашивает капитана:
— Каких вы добились результатов?
— Никаких. Он упорно отрицает свои преступления и еще не начал давать показания…
Полковник поворачивается ко мне и разражается тирадой, длящейся по крайней мере полчаса. Это сплошной поток бранных слов, угроз и всевозможных оскорблений, время от времени прерываемых какими-то осмысленными словами обиходного языка. Если хочешь оскорбить кого-нибудь по-русски, то обычно начинаешь с матери. Как опытный специалист, полковник упоминает три или четыре поколения ее предков.
Поначалу его «эрудиция» производит на меня огромное впечатление, но впоследствии я узнаю, что он, словно пономарь, бубнит заранее подготовленную и тщательно затверженную «молитву», входящую в состав основных знаний офицера-следователя.
Я молчу и ни на что не реагирую. Заметив, что расходует свой пыл впустую, он прерывает самого себя и грозит мне:
— Твоей курортной жизни на Лубянке пришел конец! Уж я как-нибудь найду средства и способы заставить тебя заговорить. Ты у меня как миленький признаешься в своих преступлениях.
В следующие ночи меня не вызывали.
3. ЛЕФОРТОВО
Вот уже месяц с лишним как я живу на Лубянке… Однажды вечером входит надзиратель и, как обычно, рявкает:
— Следовать за мной!
Я намереваюсь тут же выполнить это приказание, но он добавляет:
— С вещами!
Значит, мне снова предстоит «смена квартиры»! Несколькими движениями рук собираю свое барахлишко. Под усиленным конвоем покидаю тюрьму. У подъезда стоит хорошо знакомый москвичам «черный ворон». Это небольшой грузовик, внешне ничем не отличающийся от машин, на которых развозят продовольствие. С обоих боков крытого кузова написано: «Мясо, хлеб, рыба». Внутри «черный ворон» приспособлен для транспортировки «товаров» иного свойства. Небольшие боксы устроены так, чтобы пассажиры не могли разговаривать между собой. Меня вталкивают в машину. Поездка длится около получаса.
Мы прибываем в тюрьму Лефортово, известную во всем Советском Союзе. Здание напоминает мне старинную крепость Сен-Жан д'Акр на Средиземноморском побережье Палестины. В Лефортовской военной тюрьме, построенной еще в царские времена, царила настолько жестокая дисциплина, что заключенные покидали ее инвалидами. После Октябрьской революции тюрьму закрыли, но в 1937 году Сталин распорядился задействовать ее вновь, чтобы поместить туда Тухачевского и его коллег. Изнутри тюрьма напоминает цирк: три этажа круговых галерей, вдоль которых располагаются камеры. В середине — большой, пустынный плац, откуда можно наблюдать за всеми этажами.
Снова тщательный обыск. Это откровенно абсурдно — ведь меня просто перевели из одной тюрьмы в другую. Однако этот самоочевидный факт выше понимания тюремной администрации. Всю мою одежду погружают в дезинфекционную ванну, откуда она возвращается ко мне в виде бесформенного тряпья. Меня приводят в камеру-одиночку; ноздреватая поверхность стен покрыта каплями, и вскоре я замечаю, что влага пропитала все мои вещи. Зато в камере есть элемент «роскоши»: сток умывальника соединен трубой с унитазом. Но умывальник засорен, и черпать воду приходится миской для еды.
Назавтра после моего прибытия в камеру является парикмахер. Он бреет меня, потом берется за ножницы.
— А теперь я тебя постригу.
— Но ведь я еще не осужден.
— Неважно,стригут всех, а будешь сопротивляться, выстригу крест на голове!
Надзиратели в Лефортово куда более неумолимы, нежели на Лубянке. Заключенный не знал ни минуты покоя. То и дело они открывали смотровой глазок и в течение часа раз по десять под самыми различными предлогами входили в камеру: «Вы слишком много расхаживаете, вы слишком долго сидите, вы недостаточно много двигаетесь и т. д.» И хотя мне казалось, что я уже знаком с рекордом скверного питания, однако кормежка здесь была еще хуже, чем на Лубянке.
Каждый вечер около десяти часов в тюрьме начиналась весьма оживленная ночная жизнь: непрерывное хлопание дверьми, звуки шагов тех, кого вели на допрос… Через несколько дней дошла очередь и до меня…
Допрашивающий меня капитан задавал мне странные вопросы:
— Не угодно ли вам объяснить мне, как это вы, польский подданный, вообще сумели попасть в Советский Союз? Кто вам помог?
Я называю несколько имен старых большевиков: Юлиан Мархлевский, Будзинский, Фрумкина…116
— Вся эта сволочь разоблачена, все они — контрреволюционеры, вам об этом говорили?
— Что ж, скажу вам прямо, что горжусь своей принадлежностью к этой «сволочи»!
Он замирает и словно превращается в айсберг.
— Жаль, что вы покинули СССР, иначе ваша судьба была бы уже давно решена, и сегодня мне не пришлось бы терять с вами время!
И снова старая шарманка:
— Расскажите о ваших преступлениях против Советского Союза…
В течение всей серии этих допросов мне не задали буквально ни одного вопроса о моей работе во время войны. Равным образом ни разу не спросили про «Красный оркестр». Постепенно у меня сложилось представление, что я сижу в тюрьме единственно потому, что принадлежал к этой «банде» старых коммунистов, уничтоженных еще до войны. А то, что я еще жил, было «противу правила, и мои следователи хотели „исправить“ эту ошибку.
Однажды ночью, точнее, около четырех часов утра, когда я только вернулся после допроса к себе, дверь камеры отворилась и в нее вошли два надзирателя с носилками, на которых лежало безжизненное тело какого-то мужчины. Они сбросили израненного человека на вторую, до сих пор незанятую койку и, не сказав ни слова, удалились. Я подошел и промыл смоченным полотенцем распухшее лицо с многочисленными следами побоев. Человек хрипит и переворачивается на живот. Это офицер Красной Армии, которого подвергли «усиленному» допросу. Позже поутру надзиратели переносят его в другую камеру.
Вечером меня снова вызывают на допрос, его ведет полковник. Первый вопрос сопровождается ухмылкой удовлетворения:
— Что скажете насчет того, что увидели сегодня утром?
— Вы говорите о человеке, которого в весьма плачевном состоянии внесли в мою камеру?
— Конечно. Мы хотели вам показать, что можно сделать и с вами.
— Господин полковник, торжественно заявляю вам, что, если кто-нибудь из вас дотронется до меня хотя бы пальцем, вы никогда больше не услышите звука моего голоса. Если я подвергнусь столь недостойному обращению, то буду рассматривать вас как врагов Советского Союза и вести себя соответственно с этим убеждением, даже если мне придется расстаться при этом с жизнью!
Изумленный моим тоном, полковник с минуту разглядывает меня, затем начинает бушевать. Я вновь наслаждаюсь злобной тирадой, обогащающей мое знание русского словаря. Наконец он выходит, грохнув дверью.
Успокоившись, мой следователь призывает меня быть благоразумным и не провоцировать его. Но подобные увещевания мне ни к чему:
— Я не вижу в вас представителя Советской власти, — говорю я. — Есть у меня надежда, да, впрочем, и силы пережить вас, пусть хотя бы на один-единственный день. Что же до тех членов «банды», о которых вы недавно говорили и которых вы убили — здесь или где-то еще, то не стройте себе никаких иллюзий: вас постигнет точно такая же судьба.
— Почему вы меня оскорбляете? — возмущается капитан. — Я только лишь исполняю свой долг…
— Ваш долг? Вы, видно, считаете меня очень наивным и полагаете, будто я не знаю, что произошло после смерти Кирова? Здесь самая настоящая «чертова мельница», но не забывайте, что в этой «чертовой мельнице» было перемолото великое множество вам подобных, точно так же, как и тех, кто оказались их жертвами!
Он молчит. Вспышка гнева принесла мне какое-то облегчение. Прежде чем покинуть комнату, добавляю:
— Вы можете еще несколько лет говорить мне: «Признайтесь в своих преступлениях против Советского Союза!» Всегда вы будете слышать только один и тот же ответ: «Никаких преступлений против Советского Союза я не совершал!»
То была моя последняя встреча с этим следователем. Несколько недель подряд я провел в своей камере, как говорится, один-одинешенек. Однажды вечером дверь открывается… Сценарий остается неизменным:
— Забирайте вещи и следуйте за мной.
Снова переезд? Куда? К моему большому удивлению, я снова попадаю на Лубянку и не без некоторого удовольствия вновь водворяюсь в моей прежней камере: там я чувствую себя почти как дома. Две недели меня оставляют в покое, а потом, как-то около десяти вечера, меня вновь вызывают на допрос. Мое дело поручено новому следователю — полковнику.
Ему под сорок. Симпатичное лицо. Предлагает сесть. Атмосфера несколько непривычная. Он берет со стола коробку папирос «Казбек» и угощает меня. В годы войны я стал заядлым курильщиком, но вот уже три месяца как не притронулся к сигарете. Я смотрю на него… Смотрю на маленькую белую трубочку из бумаги, к которой меня ну просто безумно тянет, и говорю:
— Нет, благодарю, не курю!
Взять папироску — значит включиться в их игру. Это начало капитуляции. Его первый вопрос как-то странно отдается в моих ушах:
— Как вы себя чувствуете? Не измучились от всех этих допросов?
Так где же я — на Лубянке или в кафе? Давненько уже никто не интересовался моим здоровьем! Начальники следственного отдела явно переменили тактику… Полковник отпускает меня около двух ночи и поступает так и в дальнейшем. Что ж — значительный прогресс налицо! Новая методика продолжается в течение двух месяцев. Мой визави не ведет протокол, а только делает пометки. Часто и долго он говорит о Париже, Брюсселе, Риме и Берлине, я замечаю, что он знает всю Европу, понимаю, что имею дело с бывшим офицером разведки и бывалым «путешественником». Постепенно он начинает проявлять интерес к моей работе во время войны, справляется о развитии моего предприятия в Брюсселе, хочет знать, почему я выписал свою семью, просит рассказать про самый первый день войны на Западе. Любопытство его ненасытно. Во время наших «бесед» я убеждаюсь, что он прекрасно знает всю историю «Красного оркестра», но еще не усвоил, как именно функционировала эта организация, не представляет себе, как можно проворачивать операции такого большого масштаба, имея в своем распоряжении лишь несколько считанных специалистов-разведчиков. Этот вопрос буквально преследует его: «Красный оркестр» не укладывается ни в какие известные ему рамки организации разведывательной сети. Несколько ночей он не беспокоит меня. Я снова немного отсыпаюсь, снова начинаю на что-то надеяться. В конце концов, моя история окончится хорошо, утешаю я себя. Ведь мечтать не запрещается, даже в четырех стенах на Лубянке.
Меня терзают думы о семье. Я слишком хорошо знаю, как поступают с семьями арестованных, но я все же не в состоянии вообразить, что мою жену и детей сослали в Сибирь. Принадлежность к семье заключенного — страшный позор… Однажды ночью я уже не могу сдержаться и говорю полковнику, что опасаюсь, как бы мою семью не постигла участь еще более трагичная, чем моя. Он ничего не отвечает, но через несколько дней сообщает, что повидал моих родных. Он отнес им подарки, купленные мною в Каире и взятые им в тюремной канцелярии. Моей жене он якобы сказал, будто я только что вернулся из-за границы, и передал ей от меня большой привет…117
— Значит, их не отправляли в Сибирь?
— Не беспокойтесь, с ними ничего плохого не случится.
И хотя я не до конца поверил ему, все же немного пришел в себя, мне стало как-то легче сносить мое положение арестованного. Однажды июньской ночью около двух часов меня вызывают. Улыбаясь, полковник спрашивает:
— Угадайте-ка, кого я привез из аэропорта?
— Паннвица и Кента!
Тут у меня никаких сомнений не было. Он рассмеялся.
— Не только их. Паннвиц приехал со своей секретаршей, с радиостанцией и пятнадцатью чемоданами! В своем крайнем усердии он привез с собой списки немецких агентов, действующих на советской территории, и даже код расшифровки переписки между Рузвельтом и Черчиллем.
В тот же вечер Паннвиц и компания засыпают на Лубянке. Вот уж поистине ирония судьбы: начальник «Красного оркестра» и начальник зондеркоманды находятся в одной и той же тюрьме, в нескольких метрах друг от друга!
В эту ночь меня расспрашивают о Паннвице, о длинном перечне его преступлений. Я сообщаю полковнику об убийстве Сюзанны Спаак и Фернана Пориоля, о попытках Паннвица «убрать» всех перед тем, как бежать.
За эти четыре месяца мы подробно переговорили обо всем, что касалось «Красного оркестра»: о большой радиоигре, о встрече с Жюльеттой, об отношениях с Берлином и т. д. На пятый месяц допросы прекращаются. Основываясь на своих кратких записях, мой следователь составляет протокол.
Как-то вечером он вызывает меня и передает мне этот документ.
— Вот вам протокол, прочитайте его и, если сочтете все правильным, подпишите.
Я прочитываю. Затем перечитываю и на какое-то время лишаюсь дара речи. Он записал все наоборот, то есть противоположное тому, что я ему говорил.
— Товарищ полковник, кто-то из нас лишился рассудка. Этот протокол фальшив от первой до последней строки.
— Значит, не хотите подписать?
— Послушайте, ведь не можете вы всерьез ожидать, что я поставлю свою подпись под этими четырьмя страницами сплошной неправды…
Он сохраняет невозмутимое выражение лица.
— Так не подпишете?
— Наверняка нет!
Он берет у меня «документ» и кладет его на стол. И, словно ничего не случилось, переводит разговор на самые невинные темы… Эта комедия продолжается целые две недели. «Подпишете?» — «Нет». — «Значит, не подпишете?» — «Нет!» — «Почему вы не хотите подписать?»
Однажды ночью приходит начальник следственного отдела по-прежнему с желчным и дергающимся лицом. Он спрашивает полковника:
— Ну, так сколько же это еще будет продолжаться?
Отвечаю я:
— До последнего дня моей жизни!
Следует шквал брани. Затем полковник грозит мне:
— Не забывайте, что у вас есть семья. Ваше упрямство может вам дорого обойтись…
Через двое или трое суток в середине ночи меня опять вызывают. В коридоре, вдоль которого расположены комнаты допросов, тихо. Меня приводят не в ставшую привычной комнату, а в другую, в самом конце коридора. Следователь ждет меня. Я уже было двинулся к моему маленькому столику, но он требует, чтобы я сел за его письменный стол, на котором, как я замечаю, протокола нет.
— Я отказываюсь продолжать следствие. Передаю ваше дело моим начальникам, — заявляет он.
Эта новость настраивает меня на скептический лад.
— Если вы могли написать такой лживый протокол, то для меня это все равно. Просто придет другой следователь. Все вы одинаковы. Он смеется.
— Уж не считаете ли вы всех нас слугами дьявола?
— Да, считаю. Формы меняются, но цель остается той же: от верхушки министерства и вниз, до самого маленького служащего этого дома — все вы преследуете одну и ту же цель: уничтожить лучшие кадры партии!
— Мне хотелось бы поговорить с вами доверительно… Не будь у меня к вам доверия, я не стал бы этого делать. Допустим, вы передадите моему начальнику то, что я вам сейчас скажу. Тогда уже сегодня вечером я окажусь вашим товарищем по камере.
И после короткой паузы:
— Прежде всего, хочу вам сказать, чтобы в предстоящие вам долгие годы тюремного заключения вы сохранили свою непоколебимую стойкость и решимость. И прежде всего — не делайте глупостей…
— Глупостей? Вы что думаете, руки на себя наложу? О нет! Я буду бороться до конца. Вся моя решимость направлена только на одно: пережить вас.
Он смотрит на меня и грустно улыбается.
— Я надеялся, что вы мне ответите именно так. Я решил отказаться от вашего дела, потому что моя совесть человека и коммуниста запрещает мне продолжать его. Знаю, что у меня будут серьезные неприятности, но я иду на это. Прежде чем мы расстанемся, мне все же хотелось бы объяснить вам то, чего очень многие заключенные, подобные вам, не понимают. Они думают, будто всю ответственность за трагедию, которую мы переживаем, несет НКВД. Ошибка! Мы лишь исполнители политики Сталина и партийного руководства.
— Послушные исполнители…
— Конечно, но НКВД не есть институт, стоящий над партией. Он подчиняется партии. Конечно, может случиться, что руководство НКВД, выполняя планы Сталина, переусердствует и зайдет слишком далеко. Сталин утверждает, что при строительстве социализма классовая борьба непрерывно усиливается, а НКВД ликвидирует все больше и больше врагов, чтобы доказать правильность такой политики.
— Почему большинство следователей проявляет такую жестокость к заключенным, невиновность которых им точно известна?
— Нельзя стричь под одну гребенку всех, кто здесь работает. Молодые не имеют опыта, они действуют в полной уверенности в том, что уничтожают врагов партии, Сталина и Советского Союза. Другие делают свое дело без такого внутреннего убеждения, то есть не верят в правильность того, что делают. Террор — это двигатель системы. Наконец, есть карьеристы и просто садисты.
— Меня занимает один вопрос, — говорю я. — Когда я еще был в Париже, генерал Голиков посетил лагеря для военнопленных в освобожденных районах и от имени партии и Сталина торжественно заявил, что все русские, попавшие в руки врага, будут встречены на родине с распростертыми объятиями. А когда сотни тысяч военнопленных возвращались в Советский Союз, их немедленно арестовывали и ссылали. Почему?
— Сталин не исключает возможности близкой войны с нашими вчерашними союзниками; поэтому он приказывает проводить в гигантских масштабах «чистки» во всех слоях населения, которые, по его мнению, угрожают безопасности государства. В первую очередь это касается тех, кто во время войны сражались в Европе. Это и солдаты, и офицеры, и тайные агенты. Кроме того, Сталин заявил, что в длинной цепи национальностей Советского Союза есть «слабые звенья». После войны он провозгласил здравицу только за русский народ. Тем самым он как бы намекнул НКВД на «подозрительных»: украинцев, белорусов, азиатов, узбеков, евреев, все национальные меньшинства. Когда-нибудь все это прекратится. Появится новое руководство партии, но уже сейчас я больше не желаю быть соучастником этих преступлений. Ваша судьба, как и судьба всех бывших кадров группы Берзина, была предрешена еще до вашего первого допроса.
Он снова отчетливо повторяет:
— Но моя совесть коммуниста не позволяет мне продолжать в том же духе…
Покуда он говорил, я взял со стола коробку папирос, достал одну и закурил. Удивленный, он остановился на полуслове:
— Разве вы курите?
— Я страстный курильщик!
— И пять месяцев подряд не притронулись ни к одной папиросе, потому что считали меня своим противником. Я не сожалею, что открыто поговорил с вами; вы мне дали еще одно доказательство вашей выдержки, вашего умения выстоять. Уверен, что вы не кончите, как те, кто, потеряв всякую надежду, медленно угасают.
Было семь часов утра, уже светало. Мы сцепили ладони в долгом рукопожатии. В момент, когда я выходил из комнаты, полковник добавил:
— Надеюсь, мы с вами еще встретимся, но уже вне тюрьмы118. Этот разговор между мной и полковником НКВД, призванным перехитрить заключенного, долгие недели всецело занимал мои мысли. Он был для меня источником утешения, позволял мне вновь на что-то надеяться. Я убедился, что даже в царстве лжи и фальсификации правда все-таки может победить, и хотя эта победа и временная, но она словно излучала какой-то свет, проникавший и в мою камеру…
Между тем НКВД старался стереть все следы моего присутствия на Лубянке. Впрочем, я был не единственный, на кого распространялся принцип, так сказать, «несуществования» и замалчивания. Моя жена Люба получила официальное письмо из разведуправления, в котором ей сообщили, что во время войны я пропал без вести. А прийти из своей квартиры к этому «пропавшему без вести» она могла бы за какие-нибудь двадцать минут! И поскольку, мол, о моей судьбе ничего определенного неизвестно (за выражением «пропал без вести» скрывалось множество различных вариантов), то моей семье пенсии не полагается. И все-таки подобная ситуация предохранила ее от ссылки в Сибирь. Моя жена приобрела жалкую хибару на окраине Москвы и поселилась в ней вместе с нашими детьми, и если бы из Франции или другой страны приехал кто-то из моих друзей, чтобы справиться обо мне, то вполне можно было бы доказать, что мои родные на свободе, что они живы и здоровы. После возвращения в Польшу в 1957 году я узнал от одного человека из числа моих прежних знакомых, что во время его пребывания в Москве ему поручили «случайно» встречаться с людьми, обеспокоенными моей судьбой, и успокаивать их.
«Треппер? Ах, знаете ли, он сейчас за рубежом, с особым заданием, — доверительно сообщал он им. — Но, пожалуйста, не говорите об этом никому! Однако если желаете повидать его жену и детей…»
В 1948 году еврейский писатель Исаак Пфеффер был арестован вместе со всеми членами Еврейского антифашистского комитета. Вскоре после этого негритянский певец Поль Робсон, прибывший из США в Москву, захотел повидаться со своим старым другом Пфеффером.
«Само собой разумеется, вы увидите его, только потерпите недельку, он сейчас отдыхает на Черноморском побережье», — сказали ему.
Целую неделю сотрудники НКВД пичкали Пфеффера едой и медикаментами, чтобы «перегриммировать» землисто-серый цвет лица заключенного. Затем его одели во все новое и привезли в отель к Робсону. В августе 1952 года Пфеффера расстреляли…
В начале 1946 года меня снова переселили в Лефортово. Там я провел почти целый год. Новый следователь, майор, начал мое дело с нуля. Зная, что моя судьба предопределена, он и не пытался «выуживать» из меня какие-то сенсационные «признания». Зато он стал применять другую тактику — фантазия заплечных дел мастеров не знает границ: с ревностным усердием он следил за тем, чтобы условия моего содержания были возможно более тяжелыми. Вначале я делил камеру с одним русским офицером, объявленным платным шпионом на службе Соединенных Штатов, поскольку лагерь для военнопленных, в котором немцы продержали его в течение всей войны, был освобожден американскими войсками. Семья этого несчастного человека была полностью уничтожена нацистами в его родном белорусском селе, но это не вызывало никакого сочувствия, да и вообще не учитывалось. Нас обоих «осчастливили» еще одним товарищем по камере. «Новенький» представился нам. Его служебная карьера была поистине поучительна: в качестве одного из главных уполномоченных гестапо по Белоруссии — какое совпадение! — он, в частности, отличился по части истребления населения в окрестностях Минска.
— А угрызения совести вас никогда не мучают? — спросил я, наслушавшись воспоминаний этого преступника.
— Никаких угрызений совести! — ответил он. — Ведь я только выполнял приказы начальства. Но, знаете ли, иногда во сне я вижу жуткие сцены, при которых присутствовал. Так что не удивляйтесь, если другой раз я вскрикиваю по ночам.
Советский офицер, который слушал эти страшные признания, не проронив ни слова, сидел на койке, окончательно расстроенный и мертвенно-бледный. По вздрагиванию его тела и неподвижности взгляда я понял, что он сдерживается из последних сил. Тихо, почти неслышно, он то и дело повторял:
— Может, он-то как раз и убил мою семью!
Нациста увели на допрос. Через надзирателя мы вызвали дежурного офицера и попросили избавить нас от присутствия этого типа. Он смерил нас презрительным взглядом и сказал:
— Вероятно, вы забыли, что вы такая же мразь, как и он! О переводе его в другую камеру не может быть и речи.
И он вышел, резко хлопнув дверью.
Около часу ночи гестаповец вернулся с допроса, лег на койку и сразу уснул. У меня же сна ни в одном глазу. Не спал и офицер, я видел, как он лежит с широко раскрытыми глазами. Вдруг нацист начал кричать. Все это было очень страшно и невыносимо.
И вдруг офицер встал, схватил нациста за шкирку и грохнул головой об стенку. От удара тот, естественно, проснулся. И прижал ладони к голове, видимо, не понимая, что же с ним произошло.
— Вы нас предупредили, что кричите по ночам, — сказал я, — но мы не знали, что вы вдобавок еще и дергаетесь всем телом, кидаетесь в разные стороны. Вот только что во сне вы ударились о стенку…
Эта сцена сопровождалась немалым шумом, и надзиратели ворвались к нам в камеру. Все было ясно без слов. Увидев нашего сокамерника, они все поняли и удалились, не задав ни одного вопроса. Вечером, когда я явился на допрос, полковник встретил меня со смехом:
— Значит, вы уже не чувствуете себя заключенным? Вошли в роль судьи?
— Что вы хотите этим сказать?
— Не притворяйтесь дурачком… Кто отделал гестаповца — вы или ваш товарищ?
Я посмотрел ему прямо в глаза:
— Мы оба! И предупреждаю вас, если мы не будем избавлены от общества этого индивида, я не беру на себя ответственность за его безопасность: сегодня вечером все могло окончиться куда хуже.
Вернувшись в камеру, я увидел, что нациста в ней уже нет.
Несколько позже его место занял бывший капитан Советской Армии. Во время войны осколком снаряда ему снесло часть черепа. Он еще страдал от последствий этого ранения и только что вышел из психиатрической больницы, в которой провел много месяцев.
На другой день после его прибытия в обед нам принесли суп из капусты. Капусты в нем почти не было, лишь какие-то огрызки, плавающие в неаппетитной баланде. Мой новый однокамерник с убитым видом поглядел на эту скудную еду, отвел взгляд в сторону, немного помолчал и вдруг выпалил:
— Ох уж мне эти жиды! Грязные жиды! Вот кто виноват во всех наших бедах!
Я схватил его за плечо, чуть встряхнул и сказал:
— Послушай, друг, давай-ка успокойся и замолчи, ибо — предупреждаю! — перед тобой еврей…
Он сразу успокоился и извинился: мол, болен и не может владеть собой… Постепенно я понял, что так оно и есть, и привык к присутствию этого полусумасшедшего, который в любую из наших «трапез» проклинал евреев почем зря.
А затем настала очередь полковника Пронина… Едва он переступил порог камеры, как я сразу же узнал его, хотя он заметно изменился. На первых порах существования «Красного оркестра» Пронин, работавший в аппарате Центра, должен был заниматься решительно всеми проблемами, которые нас касались.
Он постарел, и по его лицу можно догадаться о пережитых им страданиях. Мы обнимаемся, удивляемся встрече в этаком месте.
— Как? И ты тоже? И ты здесь?!
— А ты-то что здесь делаешь? Этот несколько глуповатый диалог длится считанные секунды. Дверь снова открывается, входит офицер, хватает Пронина за руку, тащит его и говорит:
— Произошла ошибка, вы не должны быть в этой камере. Ошибка? Нисколько! Наша встреча была организована преднамеренно, чтобы показать нам, что репрессии в отношении бывших сотрудников разведывательной службы продолжаются. Та же ситуация возникает несколько позже с Клаузеном, бывшим радистом Рихарда Зорге. Он прибывает из Владивостока, где долго пролежал в больнице. Сильно отощавший, с искаженным и болезненным лицом, согбенный болезнью, он лишь с трудом может вытянуться во весь рост. Сломленный морально и «потерявший голову», он не понимает, почему после долгих лет, проведенных в японских тюрьмах, сразу же по возвращении в Советский Союз он был вновь арестован. Честно говоря, для любого здравомыслящего человека, не уловившего логику НКВД, дела такого рода действительно непостижимы. От Клаузена я узнал, что Рихард Зорге, которого арестовали в 1941 году, был казнен японцами лишь 7 ноября 1944 года. Вот как долго он сидел!..
Потом я делил камеру с человеком, разменявшим седьмой десяток, но еще вполне бодрым. Его спокойствие и самообладание производили впечатление. Он был последним резидентом советской разведки в Китае. Когда вернулся, его арестовали. Он довольно безучастно рассказывал о своей работе, как о чем-то безвозвратно ушедшем в прошлое. Что касается меня, то я при таких разговорах воздерживался от рассказов о моей прежней деятельности. Разве я мог знать, не подсаживает ли ко мне в камеру администрация под видом «сожителей» каких-нибудь стукачей? Я также не знал, был ли в моей камере микрофон. Сколь бы толстыми ни были тюремные стены, но и сквозь них иногда проникали тайны. С очень большим опозданием до меня дошли обрывки истории Венцеля. Один офицер, арестованный в 1945 году, рассказывал, что сидел с немецким офицером, ранее находившимся в заключении вместе с Венцелем. Таким образом я узнал, что Венцель испытал все ужасы жестокого обращения. Сломленный, почти уже совсем обессиленный, он все же надеялся, что этому кошмару когда-нибудь придет конец. Однако ни Кента, ни Паннвица я не видел119.
4. ДОМ ЖИВЫХ ТРУПОВ
Прощай, Лефортово…
На этот раз «черный ворон» выехал из Москвы и покатил по дороге, ведущей в лес. После нескольких часов мы остановились, перед спрятанным за деревьями зданием, вид которого вообще ничем не напоминал тюрьму. Об этом весьма особом заведении я уже слышал, заключенные называли его между собой «дачей», но и по сей день его настоящее название мне неизвестно. Ко мне подходит надзиратель и шепчет на ухо:
— У нас разговаривают только шепотом!
Во избежание каких бы то ни было шумов здесь обращено внимание даже на самые, казалось бы, незначительные мелочи. Двери не скрипят, тихо проворачиваются ключи в замках, в коридорах полная тишина…
Меня не стали обыскивать, а прямо провели в камеру. Удивительная камера: три шага в длину, два в ширину; койка откинута кверху, к стене. Меблировку довершает узкая дощечка и табурет. Стены обиты звукопоглощающим материалом. Высоко вверху — маленький люк, сквозь него в помещение проникает немного воздуха. Какая тишина! Я ее слышу, эту тишину! Абсолютная, глубокая, гнетущая, прямо-таки мучительная тишина. Я прибыл посреди ночи. В других тюрьмах шум не прекращается с вечера до утра. А здесь наоборот — царство тишины. Ослепленный светом, горящим всю ночь напролет, я пытаюсь уснуть и тщетно пытаюсь уловить хоть какие-нибудь звуки или шумы, способные хоть слегка возмутить этот океан спокойствия.
Просыпаюсь в испуге. Кто-то что-то шепчет мне на ухо. Надзиратель требует, чтобы я встал. А я и не слышал, как он вошел. Это понятно: он обут в войлочные тапочки, а дверь отворилась совершенно бесшумно.
Уже утро. Время тут проходит незаметно, тогда как в других тюрьмах почти непрерывно раздающиеся звуки и шумы придают времени какой-то особенный, своеобразный ритм.
Дни, недели проплывают в мертвой тишине. Уж и не знаю — день теперь или ночь. Ощущение времени утрачено. Никто не требует меня, никто со мной не говорит. Через кормушку мне протягивают еду — без единого слова, бесшумно. Моя камера подобна могиле, и постепенно я начинаю думать, что погребен заживо. Порой какой-то нечеловеческий, отчаянный рев разрывает тишину, проникает через звуконепроницаемые стены и заставляет меня вздрагивать от испуга. Где-то рядом, в нескольких метрах от тебя, какой-то заключенный уже дошел до ручки, рехнулся. Он кричит, как безумный, ибо чует смерть, крадущуюся вокруг «места его захоронения», он кричит, чтобы по крайней мере услышать звук какого-то голоса, пусть даже собственного. Как же сопротивляться этому удушающему нас страху? С утра до вечера нам нечем заняться, разве что ходить от стенки к стенке, три шага туда, три обратно. И требуется прямо-таки чудовищное стремление выжить, чтобы избавиться от этого смертельного невроза. И все же после года, проведенного в Лефортово, этот, я бы сказал, тотальный покой странным образом представляется мне чем-то целительным. Спать! Можно спать сколько угодно, спать, не опасаясь внезапных побудок или неожиданных допросов. Я понемногу привыкаю жить со своими мыслями, не имея никаких собеседников, кроме моих вопросов, моих опасений и моего разума. Эти постоянно присутствующие при мне партнеры успокаивают меня, я выстою. И вдруг, вопреки всем ожиданиям, меня забирают и отводят в комнату, где находятся следователь и двое гражданских. Это специалисты, коим поручают исследовать состояние живого трупа.
Офицер обращается ко мне:
— Скажите, как вы себя чувствуете?
— Благодарю, очень хорошо, я очень доволен.
Мой ответ, кажется, озадачил их:
— Вы очень довольны? Но что вы делаете весь день в полном одиночестве, никого не видя, ничего не читая?
— Вы про чтение? А я пишу книгу. Они многозначительно переглядываются. «Обработка», видимо, все-таки дает свои результаты…
— Книгу?.. Но как же вы можете писать книгу?
— Я пишу ее в голове.
— Можно ли узнать тему?
— Конечно: она о вас. И о вам подобных. Такова тема моей книги.
— Значит, вы не требуете перевода в нормальную тюрьму?
— Это мне совершенно безразлично; я могу остаться и здесь. Меня отводят обратно в мой склеп. И вновь я погружаюсь в тишину, время от времени прерываемую звериными криками заключенных, доведенных до умопомешательства. И мне кажется: достаточно какой-то мелочи, чтобы этот рев стал заразительным, как у волков. И я ощущаю неодолимую потребность открыть рот, закричать… Проходит еще какое-то время, но я ни разу не позволяю себе поддаться этому искушению. Тогда меня снова приводят к тем же лицам.
— Итак, как вы чувствуете себя после двухмесячного пребывания здесь?
Два месяца? Значит, я здесь уже целых два месяца! Два месяца они пытаются довести меня до точки! Надеются, что я паду пред ними ниц, стану их просить, умолять выпустить меня. Ожидают, что я капитулирую. С уверенностью, издевательски посмеиваясь, думают, будто время работает на них, что от монотонной смены дней и ночей помутится мой разум, а я сам превращусь в жалкого червя, который будет ползать перед ними в пыли. Таков, мол, логический результат подобного обращения, неизбежный исход такой строгой изоляции. Ну так нет же! Я должен поколебать их оптимизм. Пока что они еще не «сделали» меня, и я громко заявляю им:
— Если вы хотите, чтобы я тут подох, то это будет нескоро, очень нескоро: я все еще чувствую себя отлично!
Они ничего не отвечают. Только поглядывают на дурня, который вносит путаницу в их систему. По представлениям бюрократа из НКВД, человек, заключенный в тюрьму, рассчитанную на сведение с ума, обязан сойти с ума. Логично, неоспоримо! Но доконать можно лишь тех, у кого нет больше сил или воли бороться. А покуда я чувствую в себе эту волю, я буду бороться.
Через несколько дней меня опять доставили обратно на Лубянку, и мне показалось, что самое трудное уже позади. Допросы прекратились, меня оставили в покое. Лишь однажды мне вновь оказали честь быть «приглашенным» в наркомат. В длинном коридоре, по которому я шел, висел плакат, который в этой обстановке показался мне не лишенным юмора: он извещал, что в офицерском клубе состоится вечер отдыха с участием ленинградского артиста Райкина. Девиз вечера гласил: «Приходите на дружеское собеседование».
Когда я вошел в кабинет генерала Абакумова, который после нашей последней встречи стал министром государственной безопасности, я все еще смеялся по поводу этого приглашения на вечер отдыха.
Абакумов, которого и на сей раз украшал великолепнейший галстук, спросил меня:
— Почему вы так довольны?
— Заключенному в некоторой степени смешно, когда он видит плакат, приглашающий на «дружеское собеседование»! Вы приучили заключенных к дискуссиям совершенно иного характера.
На это мое замечание он не ответил, но задал новый вопрос:
— Скажите, почему в вашей разведывательной сети так много евреев?
— В ней, товарищ генерал, находились борцы, представляющие тринадцать национальностей; для евреев не требовалось особое разрешение, и они не были ограничены процентной нормой. Единственным мерилом при отборе людей была их решимость бороться с нацизмом до последнего. Бельгийцы, французы, русские, украинцы, немцы, евреи, испанцы, голландцы, швейцарцы, скандинавы по-братски работали сообща. У меня было полное доверие к моим еврейским друзьям, которые мне были знакомы давным-давно. Я знал — они никогда не станут предателями. Евреи, товарищ генерал, ведут двойную борьбу: против нацизма, а также против истребления своего народа. Даже предательство не могло стать для них выходом из положения, каким оно стало для какого-нибудь Ефремова или Сукулова, которые ценой измены пытались спасти свою жизнь.
Абакумов уклонился от этой темы, но снова заговорил о том, чего коснулся еще во время нашей первой встречи:
— Есть, знаете ли, только две возможности отблагодарить агента-разведчика: либо увешать его грудь орденами, либо сделать его на голову короче…
В голосе Абакумова послышалось некоторое сожаление, когда он продолжил:
— Если бы вы не сотрудничали с этой контрреволюционной кликой Тухачевского — Берзина, то были бы сегодня высокоуважаемым человеком, но вы повели себя так, что сегодня годны только для тюремной камеры… Знаете ли вы, что в данный момент вас разыскивают американская и канадская секретные службы? Одна из наших разведывательных сетей в Канаде накрылась. В нескольких североамериканских газетах напечатаны статьи экспертов, которые увидели в действиях этой сети почерк Большого Шефа. Развеселясь и восхищаясь своей шуткой, Абакумов цинично добавил:
— Понимаете ли вы, какой опасности вы подвергались бы, будучи на свободе? Здесь же можете ни о чем не беспокоиться, здесь вы в безопасности!
Прежде чем ответить, я постарался придать своему лицу серьезное выражение озабоченного функционера НКВД:
— Я благодарю вас, господин министр, за вашу заботу о моей безопасности.
— Не за что, не за что… Ах, я знаю, что дисциплина, которой вы должны подчиняться, быть может, не идеальна… К сожалению, мы не располагаем возможностями короля Англии, который лично принимает тайных агентов, возводит их в сан лордов и дарит им роскошные поместья; мы бедны… Но что у нас есть, так это тюрьмы. Эта тюрьма не так уж плоха, вы не находите?
Движением руки он отпускает меня.
Я вернулся в свою камеру. Теперь я понял все: дело было отнюдь не в моей деятельности в «Красном оркестре». Нет, они не могли мне простить, что Берзин выбрал именно меня. Следователь, которому достало мужества отказаться от ведения моего дела, сказал мне чистую правду: уже с 1938 года меня считали подозрительным.
5. УРОКИ ИСТОРИИ
Следствие по моему «делу» закончилось, но я отлично знал, что еще до начала допросов меня признали виновным… 19 июня 1947 года «тройка» в составе представителя Министерства государственной безопасности, прокурора и судьи приговорила меня к пятнадцати годам «строгой изоляции». По решению подручных Сталина я, подобно множеству других, оказался и «подозрительным» и «виновным». Я обжаловал этот произвольный приговор и несколько позже был вызван к помощнику прокурора.
— Приговор крайне несправедлив, — сказал я, — и вы едва ли удивитесь, узнав, что я оспариваю его.
— В СССР, знаете ли, предатели и шпионы подлежат смертной казни; вас же, исходя из государственных интересов, приговорили всего лишь к изоляции.
— Тогда я должен предположить, что вы не знаете, что я делал во время войны.
— Что ж, подайте заявление прокурору.
В условиях господства обскурантизма заключенным оставлялась маленькая надежда: дважды в месяц они могли в письменном виде представлять свои возражения прокурору, министерству. Центральному Комитету, даже самому Сталину. Следовательно, я должен был использовать эту возможность. Очень мелким, убористым почерком я взялся излагать историю «Красного оркестра» и, по мере завершения очередного раздела, частями отсылал рукопись Генеральному прокурору СССР. В заброшенных медвежьих углах Сибири, в полумраке подвалов исчезали миллионы заключенных, я же безгранично верил в любовь сталинской бюрократии к бумаготворчеству. Люди гибли, а папки с бумагами оставались, архивы разбухали, и я считал небесполезным тоже оставить в этих архивах какие-то следы. 9 января 1952 года «тройка» сократила мне тюремный срок с пятнадцати до десяти лет, но к этому известию я отнесся равнодушно. Я понимал, что если не будет смены руководства, то все надежды на перемены в моей судьбе останутся иллюзорными: после освобождения из заключения меня сошлют в какую-нибудь затерянную сибирскую глубинку.
Много позже я узнал, что мое сообщение не было напрасным. В 1964 году, когда я уже несколько лет жил в Польше, мне позвонил журналист из агентства печати Новости.
— Ты помнишь меня? — спросил он. — В 1935 году мы с тобой работали в «Правде». Мне и двум другим писателям предложили написать историю «Красного оркестра», но у нас нет сведений о группе «Единство», которой ты руководил в Палестине.
— А все остальное вы знаете? — спросил я его.
— Да, знаем, и, надеюсь, скоро мы с тобой сможем поговорить обо всем.
Прошло несколько месяцев. Настал апрель 1965 года. Этот журналист прибыл в Варшаву в составе делегации, приглашенной на празднование 22-й годовщины восстания в Варшавском гетто. Он рассказал мне, при каких обстоятельствах ему довелось познакомиться с историей «Красного оркестра».
«В 1964 году я посетил заместителя Генерального прокурора Советского Союза по поводу статьи о Рихарде Зорге, которую я должен был написать по заданию АПН. В то время имя Зорге было у всех на устах. Узнав причину моего посещения, заместитель Генерального прокурора встал и подошел к сейфу. О Рихарде Зорге, — сказал он, — известно уже все, но здесь у нас есть материал о деятельности одной разведывательной сети, которая сослужила Родине столь же большую службу. Он открыл сейф и достал оттуда папку с множеством бумаг. Вот эти документы, продолжал он, но должен вас предупредить, что без санкции Центрального Комитета их опубликовать нельзя. Я спросил его, кто же был начальником этой разведывательной сети. Ты легко представишь себе, до чего я был изумлен, услышав: „Треппер“. Я очень заинтересовался всем этим и обратился в Центральный Комитет, который назначил комиссию из трех писателей, включая меня, для написания книги о „Красном оркестре“. К сожалению, этот труд не вышел в свет, ибо руководители ГДР считали, что заводить разговор о берлинской группе преждевременно».
Таким образом, листки, которые я посылал Генеральному прокурору, не пропали. В Советском Союзе архивные материалы хранятся вечно, и в день, когда доступ к ним будет открыт…
Но время моего освобождения еще не наступило. Началась моя жизнь в сталинских застенках. Я побывал в нескольких из них, но относительно лучшее воспоминание у меня осталось от Бутырской тюрьмы — перестроенной бывшей казармы времен Екатерины Второй — с ее просторными, хорошо проветриваемыми и светлыми помещениями. Нас перевели туда, когда на Лубянке стало тесно. То был весьма многозначительный признак усиления репрессий. Старинную русскую поговорку «Свято место пусто не бывает» Сталин своеобразно применил для своих целей. Министерство госбезопасности работало по стахановским нормам. За высокими стенами и заграждениями из колючей проволоки томилась элита страны. Волны репрессий, следовавшие одна за другой, наполняли тюремные камеры инженерами, офицерами, писателями и профессорами. С началом «холодной войны» — в 1947 году — Сталин начал наносить удары по тем, кто, как он полагал, будут слишком равнодушны в случае нового всемирного конфликта. Особенно тяжкой оказалась участь национальных меньшинств, являвшихся, по мнению этого деспота, пресловутым «слабым звеном». По армии тоже вновь прокатилась волна арестов.
Правда, генералиссимус Сталин — «гениальнейший стратег со времен Александра Великого» — все тяжелее переносил блеск славы маршала Жукова — «победителя Берлина». Когда при посещении Москвы Эйзенхауэр пригласил Жукова приехать в Соединенные Штаты, Сталин воспринял это как невыносимое личное оскорбление. Жуков стал соперником, конкурентом, во всяком случае, «опасностью». Осыпанный похвалами и почестями, он был назначен на пост командующего… Одесским военным округом. Всех офицеров из его окружения арестовали и отправили в тюрьмы.
В 1948 году евреи, эти самые подозрительные элементы «слабого звена», подверглись репрессиям. Общее число репрессированных увеличилось за счет так называемых «рецидивистов» — инженеров и ученых, которых в начале войны изъяли из лагерей, чтобы использовать в военной промышленности.Ну, а кроме того, все остальные, чья вина состояла единственно в том, что они были невиновны!
Были, конечно, среди заключенных и виновные — ничтожное меньшинство: например, Власов и его штаб, перебежавшие к немцам, чтобы сформировать так называемую «Русскую освободительную армию», гестаповцы, творившие злодеяния на территории Советского Союза, белогвардейцы, вставшие под ружье для борьбы с Красной Армией. Все они, прислужники фашистов, однозначно виновны в сотрудничестве с врагом, которых судили непосредственно на местах их преступлений.
После этих оговорок могу сказать, что заключенные, с которыми встречался я, были абсолютно ни в чем не виноватыми гражданами. О каждом из них можно написать книги, повествующие о том, как самопожертвование, преданность партии и Советскому Союзу «вознаграждались» десятью, пятнадцатью или двадцатью пятью годами тюрьмы. Каждая такая история — единственна в своем роде для пережившего ее, но какими же сходными были эти судьбы в великой сумятице и хаосе репрессий.
Я благодарен «отцу народов» за то, что мне довелось пообщаться с духовной элитой Советского Союза. На Лубянке, в Лефортове, в Бутырках я видел чаще всего таких людей, чья образцовая и удивительная жизнь помогла мне узнать очень многое из истории нынешнего столетия.
Расскажу теперь о некоторых необычных встречах в сталинских тюрьмах.
6. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В СТАЛИНСКИХ ТЮРЬМАХ
Немало поучительных подробностей о кризисе в Красной Армии в начале войны я узнал из разговоров с заключенными старшими офицерами. Советский солдат дает клятву никогда не сдаваться живым в плен, последний патрон он должен приберечь для себя самого. Но вести войну на клятвах невозможно: уже с начала наступления вермахту удавалось окружать целые дивизии. Многим солдатам посчастливилось бежать, другие попадали в плен. Эти последние оказывались «виновными» в том… что не совершили самоубийства. Другие, сумевшие преодолеть линии противника и вернуться в расположение частей Красной Армии, обвинялись… в шпионаже. И в том и в другом случае полагались тяжелые тюремные наказания.
Несколько месяцев я провел в одной камере с тремя генералами120. Один из них состоял в рядах Красной Армии еще с гражданской войны, в которой участвовал в свои юные годы; в начале второй мировой войны он командовал казачьей частью, которую противнику удалось отрезать и окружить. Несмотря на тяжелое ранение, он сумел бежать. Его спасли какие-то крестьяне, несколько месяцев они тайно выхаживали его. Когда его силы восстановились, он проделал долгий, полный приключений путь и пробился к своим. Здесь его тут же спросили: «Почему вы возвратились? Какие вы должны собрать сведения для немцев? Каково ваше задание?» Ошеломленный, он словно онемел, но ему и не дают опомниться и ответить. Его арестовывают. Направление — Лубянка…
Мой второй сокамерник, коммунист со времен гражданской войны, в момент начала военных действий был командиром дивизии. Застигнутая врасплох наступлением немцев, его часть оказала сопротивление и храбро сражалась, но понесла значительные потери. Вскоре дивизия была перемолота. С небольшим отрядом солдат генерал отошел в лес, где создал партизанскую группу, которая несколько месяцев подряд наносила удары по противнику. Немцы разведали расположение группы и атаковали ее. Вместе с двумя спутниками генерал, прикрываемый партизанами, вернулся в расположение войск Красной Армии. Его арестовали, заподозрив в шпионаже. Он остался в живых и тем самым допустил «большую ошибку»… Направление — Лубянка…
Третий из этого генеральского трио был посажен за решетку вообще без каких бы то ни было оснований. Его «преступление» в том, что во время войны он работал в штабе маршала Георгия Жукова… Направление — Лубянка.
Все три генерала не падали духом. Оставаясь убежденными коммунистами, они не обращали внимания на ругань наших церберов. У них все еще сохранялись папахи, украшенные пятиконечными красными звездочками. Помню, как они убивали время бесконечными партиями в домино, которое изготовили из хлебных остатков…
Однажды в камеру вошел новый надзиратель в чине старшины и потребовал от присутствующих встать и приветствовать его. Три генерала невозмутимо продолжают партию. Один из них, не обернувшись, бросает: «С каких это пор генерал Красной Армии должен вставать при появлении старшины?»
Старшина не настаивает. Этот урок он будет помнить и в дальнейшем…
Между партиями домино пространно и дотошно обсуждаем события. Самый политически грамотный из моих трех товарищей по камере твердо знал, что его история — отнюдь не единичный случай, произошедший по вине не в меру усердного гэпэушника. Тоном человека, глубоко убежденного в верности своих слов, он говорил мне: «Все, что творят заплечных дел мастера и их помощники из министерства госбезопасности, одобряется и Сталиным и соответствует его желаниям. Он сам это направляет, сам способствует этому».
Слишком большое число свидетельств подтверждались и складывались в ужасающую картину планомерных, методических репрессий, практикуемых в массовых масштабах. В частности, это видно на примере судьбы двух еврейских врачей-братьев, о которых мне поведал генерал. Проходя службу в военном госпитале в Белоруссии, они задавались вопросом, как вести себя при таком стремительном продвижении немцев. Наконец один из них — главврач госпиталя — понял, что он не вправе, да и просто не может бросить своих пациентов на произвол судьбы, и решил остаться на месте, чтобы защитить их от оккупантов. Таким образом, он спас жизнь многих людей. Его брат, ни за что не желавший попасть в руки нацистов, бежал вместе с другими врачами госпиталя и присоединился к партизанам. После войны обоих еврейских врачей арестовали, главного врача обвинили в сотрудничестве с врагом, а его брата в том, что тот покинул пациентов…
Да здравствует диалектика!
Один румынский коммунист рассказал мне о довольно диковинном приеме в Кремле. До своего ареста, свободно владея русским языком, он служил переводчиком. И вот делегация его страны приехала в Москву. Ее возглавлял сам Георгиу-Деж, генеральный секретарь Румынской компартии, прибывший для того, чтобы встретиться лично с советским руководством. После долгого дня переговоров Сталин пригласил румынскую делегацию на неофициальный обед, во время которого этот толмач выполнял свои обязанности. Под конец трапезы установилась веселая, раскованная атмосфера. Сталин приветливо подошел к Георгиу-Дежу и положил ему руки на плечи.
— Послушай-ка, Георге, — сердечным тоном сказал он ему, — ты хороший парень, но ты застрял где-то в начальной школе. Ты многого не знаешь, хотя и правишь целой страной; ты в положении маленького лейтенанта, которому приходится командовать армией. Короче, тебе надо еще много учиться, чтобы быть на высоте положения!
Гости, сразу отрезвевшие от этой разносной тирады, больше не осмеливались открыть рот. Они приписали заявление Сталина юмору этого «большого и неулыбчивого ежа», одинаково хорошо владевшего и шуткой, и марксистско-ленинской теорией. Ох уж эти дружественные отношения между братскими партиями!
Другой человек, сидевший со мной в одной камере, старый активист польской партии, чудом избежавший репрессий 1938 года, тоже сообщил мне об одном приеме у Сталина. В 1945 году вождь международного коммунистического движения принял в Кремле делегацию польских коммунистов, желавших посоветоваться о новом политическом направлении партии.
Сталин обменялся рукопожатием с членами делегации, поговорил с ними о том о сем и сказал: «До войны в руководстве польской партии была женщина по фамилии Костржева, очень интеллигентный человек. Что с ней сталось?»
Члены делегации растерянно переглянулись: в 1938 году товарищ Костржева, как и все польское руководство, была ликвидирована по приказу Сталина. «Великий ликвидатор коммунистов» частенько разыгрывал из себя этакого незнайку, чтобы получше замаскировать свою тяжелую ответственность за акты насилия.
Так же обстояло дело и с психиатром, которому было поручено лечить сына Сталина.
В 1949 или, возможно, в 1950 году со мной в камере сидел один из крупных психиатров Советского Союза, уроженец Вильнюса, выходец из глубоко религиозной еврейской семьи; его отец был служкой в синагоге. Совсем молодым он покинул родительский дом и с течением времени полностью ассимилировался, то есть во всем, что касалось языка, обычаев и культуры, чувствовал себя русским. Мобилизованный во время войны, он назначается начальником санитарной службы войск, участвующих в освобождении Прибалтики. После освобождения этот получивший широкую известность психиатр стал лейб-медиком младшего сына Сталина Василия (своего старшего сына, попавшего в немецкий плен, Сталин бросил на произвол судьбы). Василий, посредственный летчик, получивший в двадцать три года генеральское звание, широко славился хроническим алкоголизмом. Психиатру была поручена трудная задача исцелить его. Через некоторое время товарищи из НКВД решили, что, поскольку этот врач слишком много знает, его необходимо арестовать. На допросах никто даже не заикался о сыне Сталина. Но зато психиатра обвинили в «еврейском национализме». Доказательства? Когда Красная Армия вошла в разрушенную Ригу, сотни голодных и заброшенных сирот объединялись в шайки малолетних преступников. Генерал, ответственный за данный район, поручил психиатру организовать сборный лагерь для бродячих детей. Тот энергично взялся за дело и добился успехов, причем собрал главным образом еврейских ребят. Вот это НКВД и поставил ему в укор, обвинив его в действиях, продиктованных «еврейским национализмом».
— Вполне очевидно, — говорили ему, — что вы отдавали предпочтение именно этим детям.
— Никоим образом. Если евреи оказались более многочисленными, то это лишь потому, что их родители пострадали от оккупантов больше остальных.
Антисемитский тон при допросах проявлялся все больше и сильнее. При установлении личных данных психиатра спросили:
— Национальность?
— Русский, — ответил он.
— Никакой вы не русский, вы — грязный еврей! Почему скрываете свою национальность?
Психиатр, который сделал столько добра для других, оробел. И только потому, что он лечил скандально известного сына Сталина, его осудили без права апелляции.
При поступлении в тюрьму ему пришлось повторить свои анкетные данные.
— Национальность?
На этот раз он ответил: «Еврей».
Чиновник разразился обычным потоком брани:
— И вам не стыдно выдавать себя за еврея, тогда как вы русский!
— Здесь, в тюрьме, я понял, что я именно еврей, — возразил психиатр. — Я нисколько не стыжусь своей принадлежности к народу, подарившему человечеству Иисуса Христа, Спинозу и Маркса. Если вы не позволите евреям ассимилироваться в социалистической стране, то тем хуже для вас! В день, когда обитатели земного шара отменят различия между народами, расами и национальностями, евреи будут первыми, кто покажут вам, что такое интернационализм!
Он вернулся после допроса в камеру, и лицо его светилось гордостью. Эта сцена напомнила ему день, когда он послал отцу свою первую научную книгу. Отец ответил ему: «Твой успех очень радует меня. Надеюсь, он будет длительным и тебе никогда не дадут почувствовать, что ты сел в сани, не предназначенные для тебя, еврея».
Его здоровье все больше расшатывалось. Он перестал бороться внутренне и покорился своей судьбе. Из камеры его увезли в тяжелом состоянии, и позже я узнал от одной докторши с Лубянки, что он умер от болезни сердца.
В 1948 году мне повезло: моим сокамерником стал военно-морской врач, чудесный весельчак лет пятидесяти. Отличаясь отменным здоровьем, он был полон оптимизма, замечательным чувством юмора, так и сыпал остротами. Он принес с собой в камеру какую-то атмосферу разрядки, я бы даже сказал — радости. Излюбленной темой его рассказов была история собственной жизни.
Прилично владея английским, во время войны он попал на службу в Наркомат военно-морского флота, где его использовали как офицера связи с группой американских медиков. А после войны его арестовали. Причина? Американский шпион — что же еще?! Доказательства? На первом же допросе следователь предъявил арестованному «вещественную улику», помахав перед его лицом письмом, полученным от одного коллеги из США. Письмо начиналось традиционным обращением: «Dear friend».
— Dear friend! — грозно проговорил следователь. — Что это означает?
— Дорогой друг.
— Так это ли не доказательство шпионажа?! Разве мне кто-нибудь напишет из Соединенных Штатов «дорогой друг»? Никак нет! Следовательно…
Неопровержимая логика!
Когда абсурд доводится до крайнего предела, реагировать на него можно только с позиций юмора. Мой товарищ без конца и удачно острил, правда ни на что не надеясь, но по крайней мере получая какое-то внутреннее удовлетворение.
От вновь прибывающих мы слышали, что Советский Союз признал государство Израиль и направил туда офицеров на предмет службы в израильской армии. Военно-морской врач, о котором речь, и тут не удержался. На очередном допросе он заявил:
— Вместо того чтобы охранять меня здесь, лучше отправьте-ка меня в Палестину. Я мог бы послужить этой стране.
— Послать контрреволюционного пса в Палестину?! Туда мы посылаем только лучших офицеров, выдержавших все испытания…
На мрачном фоне тюремного бытия смешные эпизоды такого рода были для нас единственным источником развлечения. Они помогали нам продержаться, выстоять, и поэтому сокамерники вроде этого военврача ценились очень высоко. В унылом, нескончаемом однообразии томительных дней уже одна улыбка такого человека словно вливала в тебя новые силы, новое желание жить. В 1956 году я снова встретил его в Москве. Он сохранил чувство юмора, и если вообще выжил, то в значительной мере благодаря именно этому своему свойству.
Увы, по тюрьмам сидели не только «приятные гости». Я уже говорил, что наряду с потоками невинных в сети НКВД попадались также и всевозможные негодяи. По счастливой случайности среди множества вчерашних врагов мне повстречалось несколько интересных людей, оказавшихся в том же положении, что и я.
Однажды около пяти утра дверь отворилась и надзиратели впустили ко мне какого-то военного. В полумраке нельзя было разглядеть, китаец это или японец. Но неожиданный пришелец тут же представился: «Генерал Томинага». Он служил в главном штабе японской армии в Маньчжурии и под конец войны попал в плен. Генерала привезли из лагеря с целью использовать его как свидетеля на процессе японских военных преступников. Уже в первый день, едва взглянув на еду, он потребовал вызвать начальника тюрьмы.
— У меня острое желудочное заболевание, — заявил он, — и вот это я есть не могу…
Будучи военнопленным генералом, он имел право получать питание из офицерской столовой, где меню и приготовление пищи, естественно, не шли ни в какое сравнение с тем, что приносили нам. Но и эта пища не устраивала его. Томинага жаловался:
— Все это мне не нужно, и ничего особенного я не прошу — только несколько бананов в день…
Он все никак не мог взять в толк, почему это мы вдруг так расхохотались. Бананы в Москве! После войны! Да еще вдобавок в тюрьме!! С таким же успехом можно было бы искать апельсины на Северном полюсе.
Томинаге пришлось отказаться от банановой диеты, но все же ему подавали особые кушанья.
Японского языка мы, конечно, не знали. Тюремная администрация полагала, что мы равным образом не имеем представления об английском, и, опасаясь, что Томинага захочет делиться своими впечатлениями о ходе процесса, его поместили именно к нам. Но расчеты тюремщиков не оправдались: офицер, находившийся тогда со мной в камере, да и я тоже — оба мы понимали язык Шекспира, хотя и не очень-то бойко говорили на нем. Через несколько дней Томинага, к моему вящему удивлению, заговорил по-французски, и я узнал, что он был военным атташе в Париже. С этой минуты все проблемы взаимопонимания окончательно отпали.
— Вам известно что-нибудь о Рихарде Зорге? — спросил я его.
— Конечно, известно. Когда возникло дело Зорге, я занимал пост заместителя министра обороны.
— Как получилось, что Зорге был приговорен к смертной казни в конце 1941 года, а казнили его только 7 ноября 1944 года? Почему его не предложили для обмена? Ведь тогда Япония и Советский Союз еще не находились в состоянии войны121… Кроме того…
— Это совершенно неверно, — оживленно перебил меня японский генерал. — Трижды мы обращались в русское посольство в Токио с предложениями обменять Зорге и всякий раз получали один и тот же ответ: «Человек по имени Рихард Зорге нам неизвестен».
Рихард Зорге неизвестен?! А ведь у японской прессы были более чем достаточные контакты с советским военным атташе! Неизвестен человек, предупредивший о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз! Неизвестен человек, сообщивший Москве, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило советскому генеральному штабу перебросить свежие войска из Сибири на русский западный фронт!..
Они предпочли допустить смерть Рихарда Зорге, чем после войны иметь дело еще с одним свидетелем обвинения. Решение вопроса исходило, конечно, не от советского посольства в Токио, а непосредственно от Москвы. Рихарду Зорге пришлось поплатиться жизнью за свое близкое, доверительное знакомство с Берзиным. Взятый под подозрение после исчезновения Берзина, он стал для Москвы «двойным агентом», к тому же еще и… троцкистом! Его донесения не расшифровывались месяцами, вплоть до дня, когда Центр — наконец-то! — понял неоценимое военное значение поставляемой им информации. После того как его арестовали в Японии, московское руководство выбросило его как обременительный балласт. Такова была политика новой «команды», пришедшей на смену группы Берзина.
По милости Москвы Рихард Зорге был казнен 7 ноября 1944 года. Я счастлив, что сегодня имею возможность разоблачить нагромождения лжи вокруг имени этого человека и перед лицом всего мира выступить как обвинитель. Рихард Зорге был одним из наших людей. Те же, кто дали его убить, не вправе присваивать его себе.
А вот еще один свидетель мировой истории… К нам в камеру привели низкорослого, тощего мужчину. Его худоба придавала еще больше резкости и без того выразительным, энергичным чертам лица. Войдя, он назвался, но я запамятовал его имя. Сперва он не произвел на меня никакого впечатления, но потом, едва он начал рассказывать о себе, я вздрогнул и насторожился: напротив меня сидел помощник Власова!
Для молодого офицера царской армии Октябрьская революция явилась полной неожиданностью. Фанатик, ненавидевший большевиков, он все же подавил свое чувство к революции и примкнул к Красной Армии. Годы не умерили его озлобления против советского строя. Терпеливо он выжидал наступления своего часа. Нападение Германии воспринял с чувством радости и в самом начале войны поспешно перебежал на другую сторону. И когда Власов, следуя указаниям германского командования, приступил к формированию знаменитой «Русской освободительной армии», он записался одним из первых.
И… горькое разочарование! Поклонник бывшего царского режима, ставший на сторону нацистов из идеологических симпатий, вдруг обнаруживает, что армия Власова — чистый блеф, что она служит главным образом целям фашистской пропаганды. Назначенный на должность «политического уполномоченного» при власовских частях, он напрасно пытается втемяшить в головы людей, которых жестокий голод вынудил перейти на сторону врага, какие-то начатки национал-социалистской «идеологии». Поставленные перед выбором — либо помереть с голоду в концлагерях, либо надеть на себя форму «власовской армии», некоторые пленные советские солдаты выбрали то, что сулило им хоть какой-то шанс выжить.
Помощник Власова рассказывал, как в первом же серьезном бою началось массовое дезертирство его людей, стремившихся пробиться через передний край к своим. Авиаэскадрилья, с огромным трудом укомплектованная пленными советскими летчиками, поднялась в воздух и направилась прямиком… к родным аэродромам — на посадку.
Даже штабные офицеры Власова скорее примкнули лично к нему, нежели перебежали к противнику. Бутылку водки они ценили выше книги Гитлера «Майн кампф». Постепенно штаб «Русской освободительной армии» превратился в шайку наемников, которым не было никакого дела до «освобождения родной земли». «Добровольческое войско» Власова явно не обладало настоящими боевыми качествами, и германское верховное главнокомандование использовало его лишь как вспомогательный элемент при проведении карательных операций в оккупированных районах.
Помощник Власова оставался у нас в камере в течение всего времени разбирательства военным трибуналом дела его шефа и офицеров штаба РОА. Каждый вечер этот власовец, столь же фанатичный, сколь и циничный, рассказывал нам об очередном дне процесса. О заседаниях трибунала он говорил с каким-то отстраненным юмором, словно присутствовал на них в качестве наблюдателя, а не обвиняемого.
В первый же день процесса, сообщил он нам, Власов пожелал сделать торжественное заявление. Встав в позу героя, он на высоких нотах бросает в лицо своим судьям:
— Каким бы ни оказалось ваше решение, но я войду в историю! Трибунал выслушал его. И в тишине, наступившей после окончания велеречивой декларации Власова, со скамьи подсудимых послышался хрупкий голосок:
— Да, ты войдешь в историю, но через задний проход.
Это сказал наш сокамерник, бывший помощник Власова, который решил забавляться до самого конца…
После оглашения приговора о казни через повешение председатель трибунала спрашивает обвиняемых, хотят ли они что-либо сказать.
Наш сокамерник поднимается и с серьезнейшим видом обращается к судьям:
— Есть у меня просьба: я настоятельно ходатайствую перед трибуналом не вешать меня рядом с Власовым.
— А почему, собственно? — удивляется председатель.
— Это будет слишком комичным зрелищем. Власов очень высок, а я очень маленького роста. Возникает риск лишить эту церемонию той серьезности, которой она заслуживает…
Когда за ним пришли, чтобы увести его в камеру смертников, он пожал нам руки и заявил:
— Я был и остаюсь непримиримым врагом советского режима. Сожалею лишь об одном: не надо было марать себя в этой дерьмовой армии Власова!
Видимо, он хорошо знал, о чем говорил.
После помощника Власова и многих других мир невольников снова и снова ошарашивал меня неожиданностями. Схема, по которой я знакомился со своими новыми «сожителями», нисколько не менялась: распахнутая дверь, лицо, силуэт новичка, несколько секунд напряженного внимания, чтобы попытаться как-то обозначить его про себя, запомнить что-то… Затем его первые шаги, первые жесты в нашем обществе. Мгновенно и точно улавливаемые черты характера. Потом вопросы. Откуда он? Не из наших ли?..
И вот еще один. Преклонный возраст еще не согнул его высокую фигуру, не изменил интеллигентное выражение лица. Одежда явно контрастирует с элегантностью манер: короткие брюки выше щиколоток, слишком просторная рубаха, наброшенная на плечи… И, словно в великосветском салоне, он подходит к каждому из нас и каким-то подобострастным тоном представляется, чуть наклоняя при этом голову.
И вот он передо мной, и я слышу:
— Виталий Шульгин122… Оторопело гляжу на него:
— Виталий Шульгин, предводитель «Черной сотни»?123
— Он самый. Вижу, вы прочли брошюру обо мне, изданную в Москве. Но внимание! Она далеко не точна…
— Считаю нужным сразу же заявить вам: я еврей, — заметил я.
— В тюрьме нам нечего скрывать друг от друга, поэтому докладываю вам, что прошло уже немало лет, как я перестал быть антисемитом. В 1935 году, в Париже, я выступил перед масонской ложей со специальной лекцией на тему: «Почему я больше не антисемит».
Шульгин устроился на койке рядом со мной и в течение долгих часов рассказывал мне историю своей жизни…
В начале войны нацисты пригласили его в Берлин и предложили ему принять участие в антибольшевистском крестовом походе. Однако он, фашиствующий реакционер, антикоммунист до мозга костей, отказался; он полагал, что немцам неважно, какова Россия — красная или белая, что они стремятся только лишь к завоеванию обширных территорий. Годы войны Шульгин прожил незаметно, уединившись в маленькой югославской деревушке. После поражения гитлеровских орд он решил вернуться в Советский Союз, победа которого льстила его великодержавным чувствам. Привязанный к родимой земле, он желал закончить на ней свою жизнь, пусть даже в тюрьме.
Он явился в советскую военную миссию в Белграде. Молодой офицер НКВД, дежуривший в это время, с удивлением разглядывал этого человека, словно бы добровольно пришедшего в заключение. Он просмотрел списки разыскиваемых лиц. Шульгина среди них не было:
— Можете идти, мы вас не знаем, — сказал ему офицер.
Но Шульгин стоял на своем. Назавтра пришел снова. За письменным столом сидел полковник. Едва Шульгин назвал себя, как полковник вскочил, быстро подошел к нему и, теряя контроль над собой, заорал:
— Так вы и есть Шульгин, организатор погромов в царской России?
— Наконец хоть кто-то узнает меня! — сохраняя самообладание, воскликнул бывший главарь черносотенцев.
Его посадили в самолет, который летел в Москву; и он, всю жизнь мечтавший стать летчиком, получил свое воздушное крещение на маршруте Белград — Лубянка…
Началось следствие.
— Зачем вам терять со мной время? — сразу же сказал он следователю. — Поместите меня в отдельную камеру, и я напишу историю моей жизни и моих преступлений против Советского Союза.
Он исписал несколько сотен страниц. Всякий раз, когда его вызывали на допрос, зал был битком набит офицерами, пришедшими послушать его очередную «лекцию». На этот раз следствие было весьма поучительным. Шульгин как бы вносил свой, еще неопубликованный вклад в дооктябрьскую историю России. Как вожак «Черной сотни» он, вместе с представителями других партий, вошел в состав делегации, отправившейся к царю с просьбой отречься от престола. Николай II как раз играл в шахматы и не хотел отвлекаться от партии; узнав о цели визита делегации, он радостно вскричал:
— Наконец-то это окончилось!
— Что ж вы хотите, — добавил Шульгин, — ведь это был самый большой кретин всех династий российских самодержцев!
Политическое мышление Шульгина было поистине уникальным. Часто он распространялся на излюбленную им тему величия России:
— Под руководством Сталина наша страна стала мировой империей. Именно он достиг цели, к которой стремились поколения русских. Коммунизм исчезнет, как бородавка, но империя — она останется! Жаль, что Сталин не настоящий царь: для этого у него есть все данные! Вы, коммунисты, не знаете русской души. У народа почти религиозная потребность быть руководимым отцом, которому он мог бы довериться. Ах, если бы Сталин не был большевиком!
Шульгин возлагал все свои надежды на величие сталинской империи.
— Я не хочу, чтобы меня освободили, — говорил он, — потому что повсюду меня будут принимать так, как вы меня приняли. Надеюсь, мне дадут камеру, где я смогу продолжать писать книги по истории нашей страны.
Ярый антисемит, вдохновитель еврейских погромов, Шульгин был освобожден намного раньше, чем освободили заслуженных коммунистов. Ему предоставили дачу в деревне, где этот деятель, куривший фимиам сталинскому режиму, по сей день продолжает свои труды…
Подобные встречи в ходе моего долгого путешествия сквозь потемки хочется сравнить с желанными заходами в интересные порты во время непомерно долгого плавания, с передышками, отвлекающими от монотонности жизни в неволе. На немногих страницах я попытался описать долгие годы, когда попусту растрачивалась моя жизнь… В воспоминаниях о пребывании за решеткой прочно удерживается лишь необычное. Остальное — тысячи однообразных дней — растворяется в памяти. Как бы застывшая хроника жизни заключенного складывается из несчастных часов, когда ты во власти чувства полной безнадежности, из повседневных, стократ повторяющихся слов и дел, из тревожного ощущения безвозвратно утраченного времени. Что тут расскажешь? В это время, навечно наложившее на нас свой отпечаток, мы не жили. Мы довольствовались тем, что просто выжили.
7. СВОБОДЕН!
В начале марта 1953 года тюремный режим на Лубянке внезапно стал строже. Форточки на окнах замаскировали и на десять дней отменили прогулки. Надзиратели ходили с угрюмыми лицами. Мы спрашивали себя: уж не разразилась ли новая война?
Однажды утром мы услышали грохот орудийных залпов. Однокамерники-офицеры сразу определили: так стреляют только при официальных церемониях. Так что же это было — праздник или траур? Глядя на надзирателей, мы склонились ко второму предположению. Затем все вновь вошло в обычную колею. Прошло несколько недель… Но вот в один прекрасный день к нам пришел новый заключенный и сообщил, что Сталин умер. Мы отреагировали на эту весть по-разному. Никому не было жалко Сталина, но кое-кто опасался, как бы наш режим не стал вдвое строже. Это беспокойство усилилось, когда нас перевели в Лефортово.
В мае меня вызвали к начальнику тюрьмы…
— Можете обратиться в высшие инстанции, — сказал он мне, — с просьбой о пересмотре решения «тройки».
Свое заявление, которое я написал тут же, в кабинете начальника, я адресовал секретарю Центрального Комитета, товарищу Берия, ибо именно он курировал органы государственной безопасности. Прошли два месяца. В июле посылаю письмо начальнику тюрьмы с просьбой объяснить, почему я не получил ответа. На следующий день он снова вызывает меня к себе. В руках у него мое заявление…
— Я поддерживаю ваше заявление, но зачем адресовать его Берии?
Непонимающе смотрю на него:
— Но разве не так принято? Кому же еще писать?
— Министру госбезопасности или в Секретариат Центрального Комитета…
С этой новостью я возвращаюсь в камеру. Берия впал в немилость, он больше не руководит органами! Заключенные строят разные гипотезы и догадки насчет ближайшего будущего…
В августе нас возвращают на Лубянку. Проходят еще два месяца. В конце 1953 года меня вызывают в министерство. Вновь я проделываю уже знакомый мне путь, ведущий в кабинет Абакумова.
И снова сюрприз.
За столом сидит старый генерал, лысый и усатый. Он поднимается и очень сердечно приветствует меня:
— Садитесь, Лев Захарович!
Я с трудом удерживаюсь на ногах — уже много лет никто не обращался ко мне по имени-отчеству. Генерал любезно спрашивает меня:
— Читали ли вы газеты в последние годы?
— Газеты?.. Нет… Точно — не читал!
— Сначала разрешите представиться: несколько недель назад меня назначили заместителем министра госбезопасности. Я был близким сотрудником Дзержинского, но потом оставил эту работу, не имею к ней склонности. Я приготовил для вас несколько газет, прочитайте их и скажите, что вы об этом думаете, причем забудьте, что вы заключенный… Генерал заказывает чай с бутербродами и протягивает мне газету, датированную 13 января 1953 года. На первой полосе заголовок: «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров врачей».
Под заголовком — редакционная статья, а на последней полосе напечатано сообщение ТАСС о «Заговоре людей в белых халатах»:
«Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Следовали девять имен, из которых шесть принадлежали широко известным в Советском Союзе профессорам-евреям. «Большинство участников террористической группы… были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией…» — уточнялось в сообщении. Генерал следит за мной и, когда я кончаю читать, говорит:
— Скажите откровенно, что вы думаете на сей счет?
— Это просто смешно. Если бы кто-то захотел ликвидировать руководителей, он обратился бы к специалистам, но никак не к врачам.
— Это точно! Нам удалось выяснить правду, но, увы, с опозданием!..
Он протягивает мне «Правду» от 4 апреля 1953 года. На второй полосе, в коммюнике Министерства внутренних дел, сообщается:
«Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия».
Генерал забирает у меня газету и показывает мне другой номер, где в траурной рамке объявлено о смерти Сталина. Я отстраняю газету, не читая: эту новость мы уже знаем.
Тогда мой собеседник достает один из номеров «Правды» за июль 1953 года. Здесь можно прочитать, что Берия, этот «враг народа», был исключен из состава Центрального Комитета, исключен из рядов КПСС и лишен всех своих полномочий по части Министерства внутренних дел.
— Вы внесены в первый список заключенных, в отношении которых руководство министерства решило провести доследование. Мы знаем, что вы невиновны…
Всю камеру охватывает необычайное возбуждение, когда я сообщаю об этом. Каждый — и по праву — загорается новой надеждой. Несколько дней спустя сидящего вместе со мной генерала тоже вызывают к следователю, который также сообщает ему о предстоящем пересмотре его дела…
Между тем полным ходом идут «чистки». Их проводит Серов, новый министр госбезопасности, близкий к Хрущеву.
После ареста Берии (26 июня) взят под стражу Абакумов — любитель галстуков кричащих расцветок. Арестовывают также и Рюмина — «изобретателя» так называемого «заговора белых халатов».
В декабре 1953 года за мое дело берется новый следователь. Теперь допросы ведутся уже не ночью, а, так сказать, среди бела дня, и это более чем символичная подробность! Полностью изменился лексикон. Следователь, подробно знающий всю историю «Красного оркестра», говорит уже не «про агентов сети», но о «героях борьбы с нацизмом»…
В январе пересмотр моего дела закончен. Следователь информирует меня, что направил свои выводы в Верховный военный трибунал Советского Союза и что в скором времени я буду освобожден.
В феврале, вместе с другими заключенными, чьи дела были пересмотрены, меня перевели в больницу Бутырской тюрьмы. В течение нескольких недель врачи старались восстановить наше здоровье, подорванное годами заключения и лишений. Когда мы вернулись назад в тюрьму, наши камеры напоминали номера гостиницы: обильное питание, книги, газеты, а надзирателей будто подменили — они услужливы, как лучшие официанты в кафе… Времена изменились!
23 февраля 1954 года меня вызвали в министерство, где какой-то генерал поздравил меня с пятидесятилетием и праздником Красной Армии. Через три месяца, 23 мая, новый вызов в министерство. Меня принимают в атмосфере большой торжественности. Офицер оглашает решение Верховного военного трибунала: я полностью реабилитирован, все обвинения, выдвинутые против меня в прошлом, объявлены лишенными всякого основания.
Я с трудом вникаю в смысл этих слов. Они означают, что я могу уйти отсюда, вновь быть свободным, увидеть жену и детей. И вдруг словно чья-то рука сжала мне сердце и, заикаясь, я спрашиваю:
— А моя семья?.. Что с ней сталось?..
— Не беспокойтесь. Один из наших сотрудников доставит вас домой.Вас уже ожидают в бюро информации, чтобы вместе с вами урегулировать все вопросы материального порядка. В награду за ваши огромные заслуги перед Советским Союзом вы и ваша семья будете жить вполне достойно.
Мне вручают документ о моем освобождении. Я подписываю протокол, смотрю на старого генерала и спрашиваю:
— Надо подписать еще что-нибудь?
Я знал, что освобождаемый обычно подписывает документ, обязывающий его хранить полное молчание обо всем, что происходило с ним в тюрьме.
Генерал краснеет до ушей.
— Нет, больше ничего! Вы имеете право, вы даже обязаны рассказывать обо всем, что вы пережили в эти печальные годы. Мы больше не боимся правды. Она нам нужна, необходима, как кислород…
Но эта кампания типа «пусть расцветают сто цветов» длилась недолго, и освобожденным вновь было предписано молчание. Но в том мае 1954 года я был счастлив услышать эти слова, всегда определявшие линию моего поведения в жизни. Они прозвучали довольно поздно, эти чудесные тирады, призывавшие к правде, только к правде и ко всей правде, но если твое царство построено на лжи и фальши, то путь к правде отыскать нелегко…
Итак, с этим покончено! В сопровождении полковника я покидаю тюрьму, порог которой переступил впервые девять лет и семь месяцев назад.
Как странно это первое соприкосновение с ярким дневным светом. Я чувствую себя так, словно выпил маленько. Мне трудно ходить. Мой взор затуманен, мне трудно воспринимать такое огромное пространство, не огороженное решеткой.
Мы садимся в машину, которая сразу же трогается. Я одержим одной-единственной мыслью, от которой прямо-таки дыхание перехватывает: в каком состоянии я увижу своих? Узнают ли меня мои дети? А Люба? Известили ли их о моем освобождении?
Мы едем довольно долго. Вот и Бабушкино, расположенное примерно в двенадцати километрах от центра Москвы. Останавливаемся на Напрудной улице перед домом 22.
— Приехали, — обыденным голосом произносит полковник. Я выхожу, машина разворачивается и уезжает. С минуту стою неподвижно — надо глотнуть воздуха, страшно волнуюсь. Пытаюсь посмотреть на себя самого со стороны. С узелком в руке, в брюках и пуловере, подаренных мне товарищами по заключению, я похож на настоящего бродягу. Костюм, который я носил со времени моего ареста, постепенно обтрепался, превратился в лохмотья. От той поры осталось только старое пальто, очень выручавшее меня в зимние ночи… Вхожу в дом № 22, спрашиваю у какого-то жильца, где проживает семья Треппер-Бройде.
Тот недоверчиво оглядел меня с головы до ног и полураздраженным, полувраждебным тоном бросил:
— На заднем дворе, в бараке…
В бараке… Значит, ничего лучше барака для них не нашлось… Обхожу дом и оказываюсь перед деревянной хибарой. Один ее вид — воплощение большой бедности и нужды… Вот и входная дверь. Стучусь. Мне открывает молодой человек — мой сын Эдгар. Он не узнает меня, как-то подозрительно смотрит, и мне сразу становится ясно, что возвращение в родной дом будет не из легких…
Я свободен, но мне никогда не приходило в голову, что даже свободу, даже когда она уже есть, и то приходится с трудом завоевывать.
Справившись с внутренним волнением, говорю:
— Я друг вашего отца, пришел передать от него привет… Он пристально смотрит на меня и отрицательно качает головой:
— Ошибаетесь! У нас нет отца, он умер во время войны. Мои ноги подкашиваются. Ценой какого-то неимоверного, сверхчеловеческого усилия удерживаюсь в вертикальном положении.
— А где твой старший брат? Дома?
— Нет, в Москве. Вечером будет.
— А твоя мама?
— Она в отъезде.
На меня обрушивается усталость, огромная, многопудовая усталость. Мой сын принимает меня как назойливого чужака.
— Я еле держусь на ногах, — говорю я. — Можно мне немного отдохнуть?
— Если хотите, прилягте на кровать в соседней комнате. Эдгар приносит мне чашку кофе и исчезает. Я в полном, жутком и беспредельном отчаянии.Я, выдержавший столько испытаний, никогда не терявший надежды, вдруг упал духом. Неведомый по силе стресс выворачивает меня наизнанку, по щекам текут слезы. Я чужой для самых близких мне людей. Эта горькая мысль разрывает сердце, и в груди такая острая, такая колющая боль! Несколько часов я плачу, как ребенок. Время от времени пытаюсь успокоиться, взываю к собственному разуму, цепляюсь за какие-то надежды. Ничто не помогает. У меня больше ничего нет. Я потерял все…
Так я и лежу… Вдруг слышу — открывается входная дверь. За стенкой шепот. Встаю и толкаю дверь, соединяющую обе комнаты, Мишель, мой старший сын, вернулся домой.
Кое-как бормочу:
— Здравствуй! Узнаешь меня?..
Он долго вглядывается, силится что-то припомнить. Наконец отвечает:
— Нет. Извините, не могу вспомнить, чтобы мы когда-нибудь встречались.
Значит, и он тоже… Со всей настойчивостью, на какую я способен, говорю ему:
— Попробуй вспомнить свое детство
— Да, верно… Теперь мне кажется, что я вас где-то видел… Позже Мишель скажет мне, что незваный пришелец смутно напомнил ему отца, но все-таки старый седой господин болезненного вида лишь очень отдаленно походил на тот образ, который он пытался воссоздать в своей памяти. Впрочем, разве моей семье не было официально объявлено, что я исчез во время войны?..
Теперь я стараюсь собрать всю свою выдержку, стараюсь быть спокойным и говорю Мишелю:
— Я твой отец… Вот уже десять лет как я вернулся в Россию и в течение этих десяти лет находился в тюрьме… Только что меня освободили и доставили сюда к вам… Может, у тебя есть ко мне вопросы?
— Только один, — ответил он. — Скажите, за что вас осудили. У нас невинных людей не сажают за решетку на десять лет…
Невольно я опустился на стул. Кажется, я был очень бледен. Я достал документ и протянул его сыну. Это было решение Верховного суда Советского Союза о том, что все выдвинутые против меня обвинения необоснованны и что я реабилитирован.
Мишель прочитал текст и молчит. На его лице появилось совершенно иное выражение.
— Думаю, сейчас можно обняться, — говорю я. Он подходит ко мне, и я заключаю его в свои объятия. Наконец-то!
Меня пронизывает сладостное, необычайно светлое чувство радости, и я быстро спрашиваю:
— Где мама?
— Два дня назад уехала в Грузию. Она фотограф-одиночка.
Периодически выезжает туда недели на три, чтобы подзаработать. Я пошлю ей телеграмму…
«Отец вернулся. Приезжай немедленно».
КогдаЛюба получила эту телеграмму, то сначала сочла ее за какую-то непонятную провокацию Министерства госбезопасности. Никак не могла поверить в мое возвращение. Но не исключая такую возможность на все сто процентов, она одолжила деньги на обратный билет. Поезда шли переполненными до отказа. Люба показала проводнику телеграмму, тот проникся к ней сочувствием и пустил в служебное купе…
Наконец Люба приехала…
И вот мы молча, после пятнадцати лет разлуки, смотрим друг другу в глаза, и для нас это больше многочасовых бесед. К слезам радости примешиваются чувства глубокой печали. Ведь самый факт моей реабилитации никак не может вернуть нам утраченные десять лет. Сознание этого только усиливает наше горе.
И каким же хрупким кажется мне теперь мое вновь найденное счастье. Эти мгновения я ощущаю как некий сон, который неумолимая действительность может рассеять в один миг…
«Муж Любы приехал!» — эта весть быстро разносится по всей улице. В распространении новости усердствуют любопытные соседи и неизбежные когорты осведомителей. Ко мне тянется множество рук, и я объясняю, рассказываю, рассказываю…
Через несколько дней к дому подъехал роскошный лимузин. Какой-то полковник поздоровался со мной и сказал, что по поручению Главного разведывательного управления он обязан доставить меня в Центр.
И вот я снова в кабинете, где в 1937 году меня принимал Берзин…
Довольно немолодой генерал долго пожимает мне руку, приговаривая: «Наконец-то! Наконец-то!»
Удивленный его поведением, я не без волнения спрашиваю:
— Почему же за все эти годы вы не сделали ничего, чтобы защитить меня?
В ответ он смеется:
— Да кто же мог бы вас защитить? Мы находились в тех же местах, что и вы. Лишь после смерти Сталина удалось убрать клику, повинную в репрессиях, которым подвергались наши сотрудники после возвращения в Советский Союз. Считайте годы вашего пребывания в тюрьме годами борьбы с врагом. Забудьте прошлое. В свои пятьдесят лет вы еще молоды. Мы сделаем все необходимое, чтобы восстановить ваше здоровье, и обеспечим вас квартирой в Москве. Мы уже вошли в правительство с ходатайством о назначении вам пенсии за ваши заслуги… А вы-то сами что собираетесь делать дальше?
— То же, что и в 1945 году, то есть вернуться на родину, в Польшу. Моя работа в разведывательной службе окончилась в день освобождения Парижа. А то, что последовало вслед за этим, было против моей воли.
После недолгого раздумья генерал отвечает:
— Но ведь ваши дети выросли в Советском Союзе. Не будет ли разумнее остаться в нашей стране, где вы будете в полной мере пользоваться почетом и уважением, которых заслуживает такой человек, как вы? Работу по вкусу подыщете себе без труда.
— Нет, я остался польским гражданином. На моей родине в годы войны были загублены три миллиона евреев. Мое место в небольшой общине моего народа, уцелевшей после такого огромного истребления.
Генерал желает мне счастья, и я откланиваюсь.
Это был мой последний контакт с разведывательной службой. С этого дня я начал вытеснять из памяти свое прошлое сотрудника советской разведки. Этот период моей жизни стал для меня чем-то «доисторическим».
Директор сдержал слово. На несколько недель меня поместили в санаторий, несколькими месяцами позже нам дали квартиру, а в 1955 году мне определили пенсию «за заслуги перед Советским Союзом». В моей трудовой книжке годы, проведенные в тюрьме, были засчитаны в стаж моей работы в разведке.
Да, то была поистине совершенно особая миссия!
8. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ВАРШАВУ
На собственном опыте я понял, как трудно завоевать свободу. А в моем случае, чтобы жить спокойно, недостаточно обрести ее заново. В годы войны я боролся против нацизма. Но, едва пройдя сквозь широко распахнутые ворота тюрем сталинского режима, я также понял, что причины, которые побуждали нас к активной борьбе и оправдывали приносимые нами многочисленные жертвы, все еще продолжают действовать. Несмотря на негодование по поводу нацистского варварства, несмотря на широкую информацию о гитлеровских концентрационных лагерях и погибших в них миллионах людей, все же всеобщее отречение от антисемитизма еще не наступило, причем в Советском Союзе это яснее, чем где-либо еще.
Находясь в заключении, я узнал, каким преследованиям подвергались здесь евреи. Мне рассказали, что в 1948 году все члены Антифашистского еврейского комитета, кроме Ильи Эренбурга, были арестованы и что всех солдат и офицеров, которые в 1948 — 1949 годах сражались за Израиль124, бросили в тюрьму по обвинению в измене родине.
На Лубянке я услышал от одного высокопоставленного лица, что в конце войны Сталин созвал в Кремле совещание в узком составе. На нем присутствовали Берия, Маленков, Щербаков, начальник Главного политуправления Вооруженных Сил и другие. На этом совещании строго доверительно Сталин сам изложил проблему: как в послевоенной обстановке сократить число евреев в государственных учреждениях? Как предотвратить возвращение тысяч евреев, эвакуированных во время войны в Сибирь, в их родные места на Украине и в Белоруссии, где население якобы плохо примет их? Щербаков спросил Сталина: «Касаются ли эти ограничительные меры также и армии?» Диктатор ответил: «Прежде всего армии».
Кроме того, в тюрьме я узнал, что всем партийным работникам разослан совершенно секретный циркуляр, требующий от них применять на практике эти новые директивы. 12 августа 1952 года были казнены двадцать пять еврейских писателей и других представителей еврейской интеллигенции125, а в последние месяцы жизни Сталина началось крымское дело. Старые и заслуженные коммунисты-евреи, предложившие организовать в Крымской области еврейскую национальную коммуну, были арестованы и обвинены в намерении отделить Крым от Советского Союза. После смерти Сталина положение евреев фактически не изменилось.
В начале 1955 года я решил обратиться к Хрущеву с памятной запиской на эту тему. Я писал, что сохранение такого положения дел после смерти Сталина и смещения Берии ненормально. Не получив ответа, я написал вторую, а затем и третью и четвертую памятные записки в таком же духе. Не без горечи я вынужден был убедиться, что ряд старых коммунистов-евреев не пожелали поддержать меня в этом смысле.
Бывший руководитель еврейской секции, а затем профессор истории в коминтерновском университете, где я учился, прочитав мою памятную записку, громко расхохотался:
— Что это вы вдруг вздумали, дорогой друг! Вы только что вышли из тюрьмы. Уж не хотите ли сесть в нее опять?
— Но тогда я по крайней мере буду знать, за что меня посадили, — совершенно серьезно ответил я.
В 1956 году меня принял заведующий отделом пропаганды Центрального Комитета партии, который одновременно был главным редактором теоретического партийного журнала.
— Могу вас заверить, — сказал он, — что Никита Сергеевич прочитал ваши четыре меморандума. Но вместе с тем он получил многочисленные письма от лиц еврейского происхождения, не разделяющих ваш взгляд на необходимость оживления еврейской культурной жизни в области театра, прессы, школьного образования и так далее. Евреи в Советском Союзе полностью ассимилировались, и восстановление их прежнего положения явилось бы шагом назад. Возможно, что мы развернем дискуссию по данному вопросу на страницах партийного журнала. На следующем заседании Центрального Комитета будет выработана соответствующая установка.
Не знаю, проводилась ли такая дискуссия. Знаю лишь то, что антисемитизм продолжался…
Вновь увидеть Польшу, вновь шагать по любимой, родимой земле, приехать в Новы-Тарг — колыбель моих предков! В годы заключения я жил этой надеждой. Сразу после освобождения я изъявил желание уехать, но мне ответили, что, мол, следует еще подождать (а первых репатриантов отпустили сразу же после войны). Мне же добрая весть была сообщена лишь в апреле 1957 года: я получил разрешение вернуться на территорию Польши. Я был счастливым человеком.
Мои контакты с польскими партийными руководителями оказались весьма обнадеживающими. Осенью 1956 года в стране по инициативе Гомулки повсеместно ощущалась либерализация общественной атмосферы. Говорили о «польском Октябрьском переломе». Партийные функционеры, с которыми я встречался, уверяли меня в своей доброй воле в смысле сохранения национальной еврейской общины, и 7 апреля секретарь Центрального Комитета разослал во все партийные инстанции циркуляр, в котором говорилось о строгом требовании исключать из партии антисемитов, приравнивать их к контрреволюционерам. Партийное руководство обязалось всемерно помогать еврейской общине в деле поддержания ее существования как национального меньшинства. Одновременно ассимилированным евреям было сказано, что им незачем опасаться каких бы то ни было дискриминационных мер. Такая политика была мне, естественно, очень по душе.
И тот факт, что на мемориальной торжественной церемонии по случаю годовщины восстания в Варшавском гетто присутствовали партийные функционеры, я истолковал как положительный признак этой новой доброй воли. Когда хор Войска Польского вместе с хором еврейской общины исполнил гимн еврейских партизан, то это совместное музыкальное действо показалось мне чем-то большим, чем просто символ.
Потом я поехал в Москву за семьей. Осенью 1957 года все мы уже находились в Варшаве. Одна из моих первых поездок была в Новы-Тарг. Читатель легко поймет, с какими сложными чувствами отправился туда.
Новы-Тарг изменился. Здесь построили крупнейшую в стране обувную фабрику, на которой были заняты тысячи рабочих. Но улочки и переулки моего района сохранились, и я встретил нескольких пожилых людей, еще помнивших семейство Треппер. Я пошел на кладбище, и там совсем уже старенький могильщик рассказал мне про уничтожение евреев. Это было летом 1942 года. На железнодорожную станцию прибыл товарный состав, из которого вывалилась свора убийц-гестаповцев. Казалось, их было несколько сотен. Всех евреев мужского пола согнали на вокзал и запихнули в вагоны. Поезд поехал в Освенцим… С полсотни молодых людей отправили на какую-то лесопилку, где не хватало рабочей силы. Женщин и детей погнали прямо на кладбище…
— Вот смотрите, — сказал мне старик, — на этом месте нацисты заставили свои жертвы самим откопать себе общую могилу, затем перестреляли их из пулеметов. Иные, падая в яму, еще были живы — хорошо это помню. Но они быстро задохнулись под падавшими на них новыми и новыми трупами…
Могильщик точно назвал мне членов моей семьи, отправленных в Освенцим, и тех, что нашли смерть в общей могиле.
По окончании войны небольшое число евреев, чудом уцелевших во время этой бойни, вернулось в Новы-Тарг. Их приканчивали банды, выступившие против нового польского режима и, в частности, совершавшие еврейские погромы.
Несколько недель я оставался под страшным впечатлением от рассказа старого могильщика, но вернувшись из поездки в родной городок, я преисполнился еще большей решимостью посвятить свое время и свою дальнейшую деятельность небольшой еврейской общине Польши.
Я стал руководителем «Идиш бух» — единственного еврейского издательства во всех социалистических странах. Позже меня избрали председателем социально-культурного союза польских евреев. Наша деятельность была разнообразна. Мы издавали ежедневную газету и литературный еженедельник, по нашей инициативе возник еврейский государственны? театр и институт истории. В тридцати девяти городах появились молодежные клубы и союзы потребительской кооперацни.
Из двадцати пяти — тридцати тысяч евреев, живших тогда в Польше и частично полностью ассимилированных, девять тысяч вступили в наш союз. Партия и правительство поддерживали нас не только политически и морально, но и в финансовом отношении.
Однако ликвидировать за короткий срок следы былого антисемитизма оказалось невозможным… Некто Пьясецкий. до войны возглавлявший одну из самых реакционных партий и о котором теперь говорили, будто он советский агент, вновь поднял знамя старых фанатиков. И все же в общем и целом дела пошли на лад. Молодежь не реагировала на старые лозунги, церковь боролась с рецидивами антисемитизма в католических кругах.
Эти годы, прожитые мною в кругу моей наконец-то воссоединившейся семьи, относятся к самым счастливым годам моей жизни. Работа в еврейской общине отнимала все мое время, но мне показался дурным предзнаменованием рост влияния генерала Мочара в партийном руководстве. Постепенно при выполнении своих задач я начал сталкиваться с определенными трудностями. Нам, польским евреям, стало ясно, что наше положение останется ненадежным, покуда в Кремле не произойдут радикальные перемены.
Иногда в те спокойные дни — увы, спокойствие это было недолговечным — меня охватывало желание ознакомить широкую общественность с историей «Красного оркестра» в форме книги. Я, правда, располагал материалами о нашей разведсети, но они не имели ценности, ибо исходили из враждебных нам источников и могли считаться образцом фальсификации. В 1964 году я прочитал книгу о Рихарде Зорге, чью богато одаренную и сложную личность японскому автору удалось довольно полно осмыслить и отразить. И теперь мне захотелось заняться чем-то подобным. Появилось искушение окунуться самому в эту авантюру. Но когда я изложил свой план руководящим польским инстанциям, мне дали понять, что мой замысел преждевремен и что я буду подвергаться цензуре. Чем больше я размышлял над этим, тем яснее мне становилось, что, живя в Варшаве, я не смогу быть подлинно свободным писателем. Разве мне позволили бы, например, правдиво описать ликвидацию Берзина или советско-германский пакт?
И вот тут я познакомился с Жилем Перро.
В пятницу 15 октября 1965 года я, как обычно, работал в своем издательском кабинете, когда мне сообщили, что со мной желает поговорить какой-то французский писатель. Поскольку наше издательство «Идиш бух» выпустило несколько книг, написанных французскими евреями, я предположил, что посетитель — один из них.
Слегка робея, мне представился симпатичный молодой мужчина с открытым, прямым взглядом.
— Господин Треппер, я как раз пишу книгу о «Красном оркестре», — объявил он мне.
Я весело поглядел на него:
— Если вам больше нечего делать, пожалуйста! А про себя я с уверенностью подумал, что такому молодому человеку просто не под силу осмыслить и переработать в своей голове столь разностороннюю и сложную историю. По моей реакции он понял, что я заранее отношусь крайне критически к его задумке.
Затем он вручил мне книгу с его именем на обложке и с явным намерением произвести на меня впечатление сказал:
— Вот моя последняя книга — прочитайте ее!
Она называлась: «Тайна дня».
Мы договорились о встрече в следующий понедельник.
На субботу и воскресенье я уехал из города, чтобы в спокойной обстановке прочитать это произведение. Тексту было предпослано своеобразное изречение Черчилля: «На войне правда должна быть затуманена». Речь шла о деятельности английской секретной службы в период подготовки вторжения в Нормандию. Я прочитал книгу за один присест, не отрываясь. Мне стало ясно, что автор, несомненно, сможет написать великолепную историю «Красного оркестра».
В нашу вторую встречу, прошедшую в духе откровенности и во всех отношениях положительно, Перро подробно рассказал мне о своей двухлетней подготовке к этому труду. Очень скоро я понял, что он знал про нас буквально все, что только мог знать человек, находившийся вне организации. Неутомимо он отыскивал свидетелей наших дел и наших уцелевших товарищей, копался в архивах, кроме того, исколесил всю Европу в своем стремлении возможно точнее реконструировать всю историю «Красного оркестра». Мы с ним проговорили целых два дня обо всем, что ему удалось разузнать. Но было очевидно, что его любознательность была далеко еще не удовлетворена.
— Рассказали бы вы мне все остальное, — попросил он. — Все, чего я еще не знаю.
— Для этого еще не пришло время, — ответил я. — Потом я смогу рассказывать все. Но не скрою от вас, что хочу это сделать сам.
Еще я добавил, что, живя в Польше, вынужден подчиняться известным ограничениям. При прощании я спросил себя: а не слишком ли я был с ним болтлив?
Через некоторое время Жиль Перро попросил меня прочитать его рукопись. Я отказался, ибо не хотел брать на себя ответственность за его произведение. Все же я пригласил его посетить меня в Варшаве, когда книга выйдет в свет. И он действительно явился ко мне с новеньким изданием в руке.
Я уже знал, что книга «Красный оркестр»126 (она вышла в 1967 году) сразу привлекла к себе самое широкое внимание. Несколькими днями раньше директор представительства авиакомпании «Эр-Франс» в Польше позвонил мне и сказал: «Вы только представьте себе: я купил эту книгу за час до моего отлета из Парижа в Варшаву. Но я просто не мог вылететь, покуда не дочитал ее до конца!»
Я разделял его восторг. Читая эти страницы, я вновь с большим эмоциональным подъемом пережил все наши драматические приключения, с удовлетворением убедился в правдивости повествования, написанного человеком, который, подобно бойцам «Красного оркестра», отличался мужеством, великодушием и чувствами солидарности и товарищества. Небольшие неточности, касающиеся моего детства в Польше, жизни в Палестине и первых месяцев пребывания во Франции, не меняли общего впечатления.
Жиль Перро беседовал со мною, когда зазвонил телефон.
— Говорит главный редактор «Политики»127. Вам известно, что во Франции недавно вышла книга о «Красном оркестре» и что она считается бестселлером?
— Известно.
— Мы охотно побеседовали бы с вами о ней.
— Но мне не хотелось бы лично говорить с вами на эту тему.
— А как же иначе?
— Очень просто. Автор как раз у меня.
Назавтра мы приехали в редакцию «Политики» и приняли участие в дискуссии о «Красном оркестре». Редактор, желавший написать рецензию на книгу, заболел, и соответствующий материал «Политика» опубликовала лишь в номере от 17 июня 1968 года. За несколько дней до этого Гомулка начал свою антисемитскую кампанию, и, вопреки сложившейся традиции, статья не была перепечатана ни одной польской газетой.
Публикация книги Перро, безусловно, является новой главой в истории нашей сети. Посвятив этому произведению три года жизни, Перро как бы извлек «Красный оркестр» из полицейских архивов, из мрака забвения. Благодаря ему весь мир узнал о драматичной эпопее наших людей, принесших себя в жертву человечеству.
Я еще расскажу про успех, выпавший на долю этой книги на Западе. Менее известен резонанс, который она получила в странах Восточной Европы, где ее никогда не публиковали (в Чехословакии, в месяцы «Пражской весны», ее издание уже было намечено, но русские танки пришли слишком рано!). В самой Польше я видел, как французское издание переходило из рук в руки, а читателей было так много, что каждый экземпляр постепенно распадался на отдельные страницы.
Главная заслуга книги Жиля Перро заключалась в том, что как специалисты-разведчики, так и самая широкая публика узнавали правду о «Красном оркестре», вопреки всей беспардонной лжи нацистов, вопреки мрачной тени «холодной войны», вопреки отсутствию сведений о нашей одиссее в канонизированных мифах о движении Сопротивления.
В Германской Демократической Республике свои свидетельства о наших делах опубликовали выжившие члены группы Шульце-Бойзена. В частности Генрих Шеель, вице-президент Академии наук, и Грета Кукхоф. 26 августа 1969 года в журнале «Вельтбюнэ» под заголовком «Пианисты „Красного оркестра“ была напечатана весьма хвалебная статья Генрика Кайша о книге Жиля Перро. 18 марта 1970 года программа школьного радиовещания ГДР провела передачу, посвященную сети „Красного оркестра“. Передача называлась:
«Красный оркестр» радирует из Парижа. — Большой Шеф дурачит гестапо». В Советском Союзе история «Красного оркестра» излагалась в различных вариантах. В декабре 1968 года я встретил в Москве одного очень известного писателя, который хотел написать книгу на этом материале128. Моя жена прочитала его рукопись в конце 1969 года, но она никогда не была опубликована. Другие книги, написанные опытными и знающими литераторами, разошлись тиражами в несколько сотен тысяч экземпляров, например «Забудь свое имя» и «Дом без ключа»129. Журнал «Огонек» несколько месяцев подряд печатал серию материалов на эту тему.
Наконец и в Польше вспомнили о «Красном оркестре». В конце 1969 года там была организована выставка в честь Адама Кукхофа, одного из руководителей берлинской группы.
Когда в сентябре 1970 года мы с женой отдыхали у моря, я как-то увидел броский газетный заголовок: «Жан Жильбер информирует Директора». Это были избранные отрывки из книги Перро, которые заканчивались вопросом: «Что стало с Жаном Жильбером? Где он сегодня?» Этот текст, распространенный каким-то агентством печати, впоследствии, как мне стало известно, был напечатан в различных газетах. Польские инстанции согласились рассеять некоторые неясности вокруг имени Жана Жильбера, однако продолжали засыпать землею некоего Леопольда Треппера, который благодаря книге Жиля Перро стал известен во всем мире. Правда, Треппер — еврей, тогда как Жан Жильбер, напротив…
9. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
17 июня 1967 года, выступая на съезде Объединенных профсоюзов, Гомулка, Первый секретарь Польской объединенной рабочей партии, взял слово и выступил с разнузданной речью против евреев. Как раз окончилась шестидневная война на Ближнем Востоке, и Гомулка воспользовался этим случаем, чтобы заявить: «Еврейская община — это пятая колонна!» Министр внутренних дел генерал Мочар, пресса, телевидение и ораторы на рабочих собраниях развернули антисемитскую кампанию неслыханной резкости. Манифестации польских студентов весной 1968 года в Варшаве дали правителям страны новый предлог для продолжения этой травли. Утверждалось, что именно еврейские студенты спровоцировали столкновения между полицией и польскими студентами. Нападки были обращены главным образом против возглавляемого мною социально-культурного союза. Сотни еврейских студентов были отчислены из университета, старых заслуженных коммунистов исключали из партии. Мочар организовал «стихийную» демонстрацию с выкриками: «Отправьте этих свиней к Даяну!» При таком истерическом разгуле еще немного — и произошел бы маленький погром.
Да, через двадцать пять с лишним лет после окончания войны в стране Варшавского гетто, где евреи страдали больше чем где бы то ни было от нацистского варварства, гидра антисемитизма вновь восстала из пепла. Враждебное отношение к Израилю и сионизму переросло в открытую враждебность к польским евреям. Становилось все яснее, что правительство просто-напросто хочет покончить с нашей общиной.
Уехать! Это было для нас единственно возможным решением, причем мы знали, что оно вполне соответствует желаниям правительства (к своему стыду, я впоследствии узнал, что должен был оказаться исключением из правила…).
Подай я в этот момент заявление о выдаче мне выездной визы, Мочар наверняка был бы счастлив разрешить председателю еврейской общины эмигрировать из Польши. Мой старший сын Мишель, оставшийся без работы, уехал первым. Второй по старшинству сын, Петер, по профессии инженер-электрик, был объявлен зачинщиком студенческих беспорядков. Он вернул партии свой членский билет, заполучил себе визу и эмигрировал со своей женой Анной. Парализованный отец Анны, боевой коммунист с молодых лет, следил за событиями по экрану телевизора. Чувствуя приближение конца, он сказал своей жене: «Я убежден, что на Ближнем Востоке евреи и арабы в конце концов поймут друг друга. У нас победит истинный социализм, но на это потребуется, пожалуй, еще много лет. В настоящий момент положение бесперспективно. Составьте список польских друзей, которые в случае чего спрятали бы вас, и затем поскорее смывайтесь!»
Эдгару, моему младшенькому, получившему степень доктора наук по специальности русская литература, пришлось дожить до того, что все двери университетов закрылись перед ним. Испытав немало трудностей, он тоже отправился в изгнание.
У меня же не оставалось выбора — я должен был возобновить борьбу. Я представил Гомулке меморандум относительно антисемитской кампании. Разумеется, он остался без ответа, но, полагаю, им все же могли бы воспользоваться, чтобы навесить на меня ярлык «сионист»… прежде чем отправить меня в темницу. Без детей, не имея возможности защитить еврейскую общину, я стал на собственной родине этаким подозрительным типом. Весной 1968 года я отказался от поста председателя Культурного союза польских евреев. Все члены правления, кроме двух, последовали моему примеру. В августе 1970 года я обратился в польские инстанции с просьбой разрешить мне эмигрировать в Израиль. Ответ пришел через восемь месяцев, в марте 1971 года: согласно параграфу 7 статьи 2 моя просьба отклонялась. С марта 1971 года я шесть раз писал министру внутренних дел, пять раз Первому секретарю ПОРП и шесть раз другим секретарям Центрального Комитета с просьбой дать обоснование отказа. Наиболее значимый ответ я получил 15 марта 1972 года от министра внутренних дел: он ссылался на статью 9, параграф 4, согласно которому государственные учреждения не обязаны давать обоснования своим решениям!
Мое упорство разозлило политических руководителей, и они воспользовались первым же случаем, чтобы потрепать мне нервы.
В июне 1971 года в Польшу приезжает группа бельгийских кинематографистов130, чтобы снять документальный фильм о «Красном оркестре». Моя жена и я сопровождаем участников этой группы в Закопане. Когда 8 июня пополудни съемки в самом разгаре, нас внезапно окружает около дюжины полицейских чиновников в штатском. Операцией руководили два полковника госбезопасности, которые, судя по всему, мнили себя на настоящем поле сражения. Они доставили всех нас в закопанский комиссариат, где подвергли многочасовому и крайне бездарному допросу. После конфискации заснятого материала бельгийских телевизионщиков увели, но они еще успели увидеть, как меня и Любу отправили на какой-то машине неизвестно куда и зачем. Уверенные, что нас арестовали, они сразу же по прибытии в Брюссель оповестили об этом мировую общественность. Однако нас через несколько часов освободили. Правда, в дальнейшем мы остаемся под полицейским надзором.
Наши неприятности только начинались, мы стали излюбленным предметом всякого рода полицейских дознаний…
Во время наших допросов квартиру, снятую нами в Закопане, посещали какие-то люди, почти не старавшиеся замести следы своего пребывания в ней. В соседней квартире, на верхнем и нижнем этажах, во всем доме и даже в доме напротив, в каждом закоулке на улице — короче, везде и всюду за нами круглосуточно следили агенты безопасности. Когда мы выходим, за нами сразу же устремляется и следует по пятам внушительная «команда». Если едем в Новы-Тарг131, на кладбище, полиция безопасности уже тут как тут. После десяти суток, прожитых в таком состоянии, мы возвращаемся в Варшаву в полной уверенности, что по прибытии туда будем арестованы. Перед отъездом Любе удается обмануть этих бдительных наблюдателей и отправить открытку нашим зарубежным друзьям. В поезде наш вагон охраняется с обоих концов. На варшавском вокзале я мгновенно узнаю новую сменную «команду». Мы направляемся к очереди на такси, к нам подходит один из этих господ и, словно лифтер, обращается к нам:
— Мне вас высадить у самого дома?
— Нет, спасибо, мы поедем одни.
Но едва мы садимся в такси, как тут же возникает какой-то человек, усаживается с видом «уполномоченного лица» рядом с водителем и называет ему наш адрес. Потом он помогает нам поднять чемоданы наверх. Ясно, что в наше отсутствие квартиру основательно обыскали. Все это уже слишком, я перенервничал, я просто заболеваю от сознания, что слежка в доме и вокруг него еще больше усилилась. В этот же вечер я почувствовал недомогание. Звоню моему врачу. Он предписывает мне покой и постельный режим, но, как только я повесил трубку, к подъезду с ревущей сиреной подкатывает полицейская карета «скорой помощи».
Это положение затягивается на целую неделю, затем наши «ангелы-хранители» исчезают. Я иду в Центральный Комитет, чтобы заявить протест. Меня принимает работник, ответственный за госбезопасность.
Он пытается успокоить меня поддельным тоном сочувствия:
— Вам незачем волноваться. Все это обращено не против вас. Просто бельгийские кинематографисты не попросили разрешения на съемки.
Скверная шутка бюрократа…Сам усилил надзор и всю эту суетню и сам же советует нам не принимать все это близко к сердцу!
Тем временем наши друзья встревожились за нас. Жиль Перро спешит в Варшаву, но ему удается только лишь установить, что я на свободе. Польские инстанции снова делают хорошую мину при плохой игре, но меня им не провести. В глазах банды Мочара я — подозрительное лицо, враг, контрреволюционер (список подобных определений можно продлить).
В декабре 1971 года министр внутренних дел вновь отклоняет мое заявление о выездной визе. Об этом я извещаю своих друзей, и они решают начать действовать. На совещании у парижского адвоката Матарассо пришедшие к нему Жиль Перро, адвокат Суле-Ляривьер, Веркор, Владимир Познер, Жак Мадоль и супруги Фанфани учреждают комитет содействия моему выезду из Польши. 12 января 1972 года этот «трепперовский комитет» проводит пресс-конференцию, получившую широкий резонанс. Вскоре подобные комитеты создаются в Швейцарии, Бельгии, Великобритании и Дании; в Голландии в польское посольство поступает соответствующая петиция, подписанная всеми депутатами парламента, кроме коммунистов, и множеством различных выдающихся деятелей. Это массовое движение солидарности и протеста глубоко трогает меня…
В Женеве мои друзья обращаются к представителям Польши в Лиге по правам человека, в Международную комиссию юристов и к социалистическим депутатам парламента. Брюссельский комитет, возглавляемый председателем Лиги по правам человека, состоит из депутатов парламента, министров, из организаций Сопротивления. В Париже меня поддерживают такие фигуры, как Андре Мальро и архиепископ парижский Марти. Они обращаются с призывом поддержать меня в образованный здесь комитет широкого политического диапазона — от представителей крайней левой до сионистов. Устами Франсуа Миттерана Социалистическая партия Франции выражает свою озабоченность моей судьбой. Из Лондона Майкл Стюарт, бывший министр иностранных дел, Патрик Гордон Уокер и Элвин Джонс, бывший генеральный прокурор Великобритании, обращаются с письмом к Эдварду Гереку, Первому секретарю Польской объединенной рабочей партии:
«…Леопольд Треппер принимал участие в затяжных и опасных битвах против фашистских держав. Он внес единственный в своем роде вклад в дело уничтожения нацистского господства и, следовательно, ликвидации нацистской тирании в оккупированных странах, к которым относится и Польша…»
Это письмо подписывают двадцать один депутат-лейборист, семь консерваторов и пять либералов.
К польскому правительству обращаются также американские сенаторы. Совместную петицию подписывают профсоюзы Бразилии, Австрии, Австралии, Колумбии, Великобритании, Коста-Рики и Израиля.
Под натиском движения, развернувшегося в мою поддержку, осаждаемые множеством корреспондентов телеграфных агентств польские власти в конце концов выступают с заявлением. 29 февраля 1972 года министр информации Янюрек заявляет представителю агентства Франс Пресс следующее: «Причины, побудившие польские инстанции принять определенное решение в отношении Леопольда Треппера, не носят ни идеологического, ни национального характера. Леопольд Треппер не может покинуть страну по соображениям государственного порядка. Что касается госпожи Треппер, то она вольна воссоединиться со своими детьми».
Польское правительство прячется за «соображениями государственного порядка», чтобы не отпускать меня. Люба воспользовалась данным ей разрешением и уехала в апреле 1972 года. Мой сын Мишель объявил в Копенгагене голодовку, а Эдгар последовал его примеру в Иерусалиме. Кампания солидарности со мной ширилась как в Европе, так и в Америке…
Однако в Париже нашелся человек, которому мероприятия в поддержку меня не нравились. То был Роше — руководитель французской разведки. 13 января 1972 года, то есть назавтра после пресс-конференции, он позвонил по телефону адвокату Суле-Ля-ривьеру и предостерегающе заявил:
— Есть и другие евреи, которых надо защищать.
Как бы случайно французский министр иностранных дел отказался выдать моей жене въездную визу, и, чтобы оправдать это решение, Роше опубликовал в газете «Монд» письмо под заголовком «Дело Треппера», в котором выдвинул против меня довольно тяжкие обвинения. Руководитель французской разведки упрекал меня в «крайне подозрительном поведении после ареста абвером в конце ноября 1942 года» и обвинил в… выдаче нескольких членов моей сети. Далее Роше писал: «Никто не может отрицать, что Треппер ради спасения своей жизни вступил, по крайней мере, в некоторое сотрудничество с врагом».
К этой подлой клевете я, естественно, никак не мог отнестись безучастно и по совету друзей подал жалобу. Авторитет господина Роше как главы французской разведки придавал его утверждениям неоспоримую достоверность, и было бы просто опасно допустить, чтобы общественность приняла их за чистую монету. Вдобавок польские инстанции не преминули немедленно использовать статью Роше для торпедирования кампании солидарности со мной: пресс-атташе польского посольства в Дании передал местной прессе эту порочащую меня статью. Это вышло ему боком: редакции датских газет заявили, что не желают участвовать в новом «деле Дрейфуса»132. Но всякого рода инциденты продолжались…
23 июня 1972 года адвокат Суле-Ляривьер, который вместе со своим коллегой Матарассо вызвался защищать меня, прибыл ко мне в Варшаву, чтобы подготовиться к предстоящему процессу. О переговорах у меня на квартире не могло быть и речи, и поэтому мы устраивали длинные прогулки по паркам, далеко от любопытных ушей. Как только поблизости появлялся пешеход, мы меняли тему разговора и начинали высказывать свои соображения о погоде.
26 июня я решил проводить Суле-Ляривьера в аэропорт. «Случайно» подъехавшее к дому такси не имело счетчика. В зеркале заднего вида я заметил несколько следовавших за нами однотипных автомобилей. Значит, бдительное око госбезопасности продолжало интересоваться мною. Едва я простился с моим другом, как его схватили семь дюжих «молодцов». Они затащили его куда-то, где раздели донага и произвели «личный досмотр» с головы до ног. Тщательной проверке подверглись и его чемоданы. «Молодцы» опустошили тюбики с зубной пастой и бритвенным кремом, конфисковали фотопленки. Суле-Ляривьер уселся на свой портфель, словно на спасательный буй, и упрямо отказывался открыть его. Но под угрозой силы ему все же пришлось подчиниться. Польская полиция завладела документами, содержавшимися в портфеле. Через несколько часов моему адвокату наконец разрешили сесть в самолет.
Узнав об этом, я немедленно послал ноту протеста в Центральный Комитет, который, разумеется, и без того был полностью информирован о приключениях Суле-Ляривьера в Варшаве. Но там, конечно, притворились незнающими, и какой-то дежурный бюрократ послал мне прямо-таки обезоруживающий по своей «наивности» ответ: «Это просто обычный таможенный контроль…»
В конце июля 1972 года упрямый Суле-Ляривьер снова приехал в Варшаву. Мы с ним тотчас заметили, что теперь за нами следят еще строже, чем прежде, и стали объясняться при помощи маленьких записок, которые, прочитав, бросали в унитаз.
— Да как же можно так жить?! — в отчаянии спросил меня мой адвокат и написал на бумажке великолепное, отличное проклятие, которое я решил не уничтожать, а оставить перед отъездом «на память». Вскоре Суле-Ляривьер беспрепятственно выехал из Польши на родину. Мои парижские друзья обещали и впредь поддерживать меня. Когда 2 октября 1972 года Первый секретарь ПОРП прибыл с официальным визитом в Париж, его встретили транспаранты с вопросом: «Господин Герек, а как же Треппер?» Их заготовили по инициативе комитета поддержки. В коммюнике руководства социалистической партии говорилось о «неприятном деле Треппера».
Процесс против Роше был назначен на конец марта, и поэтому мои адвокаты попросили французского министра внутренних дел снабдить меня охранной грамотой. В знак поддержки этой просьбы Жиль Перро, а также сотрудники журнала «Нувель обсерватер» Бернар Гетта, Рут Валантини и Кристиан Желен объявили голодовку. Министерство внутренних дел удовлетворило их ходатайство, однако польское правительство не разрешило мне выехать из страны.
Вот почему 27 октября 1972 года, когда Роше предстал перед судом, меня в зале заседаний не было. В числе свидетелей, дававших показания в мою пользу, могу назвать своих друзей: Элен Пориоль, Сесиль Кац, адвоката Ледермана, Клода Спаака, Жака Сокола. Но были среди поддерживавших меня свидетелей и незнакомые мне люди. В своем обращении к суду писатель Веркор, в частности, писал:
«Я считаю Леопольда Треппера великим героем движения Сопротивления против нацистской Германии. Будучи во время второй мировой войны дирижером „Красного оркестра“, он содействовал окончательной победе над врагом в бесконечно большей степени, чем это было возможно, например, для такого человека, как я…»
Полковник Реми, участник боев за освобождение Парижа, тоже поддержал меня. На одном из судебных заседаний было оглашено его письмо в суд. В нем, в частности, говорилось: «Если бы я служил в рядах „Красного оркестра“, то мог бы гордиться тем, что так ощутимо способствовал победе союзников, а следовательно, и освобождению Франции».
Жиль Перро в своих показаниях обрисовал путь «Красного оркестра». Защитник Матарассо произнес четко обоснованную и глубоко убедительную речь. Адвокат Суле-Ляривьер в своей блистательной заключительной речи подчеркнул поистине скандальный характер этого процесса:
«Я спросил себя, куда девались все гестаповцы? Я много размышлял по этому поводу, производил расследования. Выяснилось, что Редер, эта ищейка Гитлера, хваставший тем, что отправил на эшафот сорок бойцов Сопротивления из „Красного оркестра“, сегодня является общинным советником в местечке Гласхюттен в Таунусе. Пипе, человек, добывавший показания только под пыткой, умер два года назад в качестве президента „Ротари-клуба“ в Гамбурге. Райзер стал пенсионером и живет в Штутгарте. Паннвиц — пражский палач — получил правительственную пенсию и служит в банке. Для всех этих людей война была не бог весть каким уж важным событием, и воспоминания о ней — словно пепел, который можно сдуть с ладони. И я подумал обо всех этих людях. А потом подумал о Треппере».
Процесс еще не закончился, когда Роше был снят со своего поста руководителя французской разведки и назначен префектом департамента Мерт-э-Мозель. Все это было так странно, что Марселен, тогдашний министр внутренних дел, счел нужным сделать заявление, адресованное суду: «Само собой разумеется, что между этим назначением и процессом Треппера нет никакой взаимосвязи, здесь просто случайное совпадение…»
«Само собой разумеется…» И все-таки суд вынес приговор префекту Роше, а не руководителю ДСТ133.
Затем в течение некоторого времени кампания солидарности со мной как бы топталась на месте. В марте 1973 года в Лондоне под председательством господина Шора, члена Французской социалистической партии, собрались представители «трепперовских комитетов» Франции, Англии, Дании, Голландии и Швейцарии…
Далекий от борьбы, разыгравшейся из-за меня, я жил в Варшаве в полном уединении. Начиная с 23 января 1973 года я находился «под охраной» и был в уникальном положении заключенного в своей собственной квартире. Впрочем, мне официально сообщили, что я никоим образом не состою под контролем полиции и что принимаемые в отношении меня меры служат исключительно делу «моей безопасности». Но кто же мне угрожал? Кому я был опасен? Чего от меня хотели? В чем упрекали?.. Шла нескончаемая вереница дней, я без конца задавал себе эти вопросы, поворачивал их и так и этак, однако никаких вразумительных ответов на них не находил. Но одно мне было ясно: если я буду сидеть сиднем и никак не реагировать на происходящее, то такое положение дел продлится до того самого дня, когда польское правительство устроит мне пышные похороны с цветами и венками. В сентябре 1973 года я тяжело заболел. После телефонного разговора с Жилем Перро, который посоветовал мне прибегнуть к крайним мерам, я обратился в Центральный Комитет ПОРП с письмом, которое переслал также и агентствам печати.
Вот это письмо:
«Поскольку мне хорошо известно, что все, о чем я говорю по телефону, записывается польской полицией, то я решил впервые рассказать всю правду о той жизни, которую меня заставляют вести в Варшаве.
Меня стерегут днем и ночью. Они везде — надо мной, подо мной, на улице. Я как раз вышел из больницы, куда меня доставили, полагая, что настал мой последний час. Но они оказались и в больнице, где стерегли меня и изолировали. Никто не может себе представить степени моего одиночества. Это не жизнь, а существование. Нервное напряжение стало невыносимым. Моему терпению пришел конец. Меня загнали в тупик, и я твердо знаю, что мне остается только одно: умереть. Однако я умру стоя, как оно и положено дирижеру «Красного оркестра».
Если в течение четырнадцати дней не произойдут перемены, я начну голодовку, которая прекратится только с моим выездом из Польши или с моей смертью.
Своим самоубийством я совершу акт человечности по отношению к моей семье, которую мое положение действительно ввергло в горе. Моя жена и мои дети имеют право жить нормальной жизнью, а не в сплошном аду. Я живу как заключенный. Но я покину эту тюрьму так или иначе».
Через несколько дней чиновник из министерства внутренних дел и представитель ведомства здравоохранения сообщил мне, что польские инстанции разрешают мне выехать в Лондон на лечение… Ворота свободы распахнулись предо мной… Я приехал в английскую столицу, где с несказанным волнением снова встретился со своей семьей. Миссис Мэнтл, председательница английского «трепперовского комитета», взяла на себя заботу обо мне. Благодаря ей и всем остальным, благодаря замечательному движению международной солидарности я одержал верх в моем последнем и самом горестном для меня сражении, ибо в нем мне противостояли «свои».
И еще несколько слов: я принадлежу к поколению, ставшему жертвой мировой истории. Люди, которые в ходе октябрьских боев присягнули коммунизму, которых понес вперед сильный ветер революции, не могли даже подозревать, что спустя десятилетия от Ленина не оставят ничего, кроме его забальзамированного тела на Красной площади. Революция выродилась, и мы присутствовали при этом.
Через полстолетия после штурма Зимнего дворца, после всех «отклонений», после преследований евреев, после того, как Восточная Европа была «приведена в норму» этой насильственной системой, кое-кто еще решается толковать о социализме!
Но разве этого мы хотели? Разве стоило бороться ради такого извращения идеи? Разве мы не принесли свою жизнь в жертву поискам какого-то нового мира? Мы жили мыслями о будущем, и так же, как мечта о рае для верующего, так и наша мечта о будущем оправдывала то неопределенное настоящее, в котором мы жили…
Мы хотели изменить человека и потерпели неудачу. Этот век породил два чудовища — фашизм и сталинизм, и наш идеал потонул в этом апокалипсисе. Абсолютная идея, придававшая особый смысл нашей жизни, обрела черты, исказившие ее до неузнаваемости. Наше поражение запрещает нам давать уроки другим, но поскольку история наделена слишком большим воображением, чтобы повторяться вновь, то нам все же дозволено на что-то надеяться.
Я не жалею о выборе, сделанном мною в двадцатилетнем возрасте, не жалею о путях, по которым шел. Осенью 1973 года в Дании в ходе политического собрания какой-то молодой человек спросил меня: «Разве вы не пожертвовали своей жизнью впустую?» Я ответил: «Нет». Нет, не зря, но при одном условии: чтобы люди извлекли урок из моей жизни коммуниста и революционера, чтобы не отдавали себя без остатка ради обожествления партии. Я знаю — молодежь добьется успеха там, где мы потерпели неудачу, что социализм восторжествует и что он не будет окрашен в цвета русских танков, введенных в Прагу.
А. И. Галаган,
кандидат военных наук, капитан 1-го ранга в отставке
ПОСЛЕСЛОВИЕ
I
Разведку называют тайной войной. Действительно, это так. Она является тайной, потому что действует скрытно, применяя при этом свои организационные формы, способы и методы действий, суть и содержание которых вмещаются в одно емкое понятие «конспирация». Она является тайной, потому что у нее есть свой противник — контрразведка, которая также использует свои, и тоже тайные, способы и методы борьбы с разведкой. В постоянной борьбе разведки с контрразведкой побеждает ум. Поэтому часто разведку называют войной умов. Подтверждает это и предлагаемая советскому читателю книга Леопольда Треппера «Большая игра».
Путь Леопольда Треппера в советскую военную разведку был длинным и сложным. Но каждый этап этого пути закалял его политически и морально, вырабатывал качества, необходимые для работы в экстремальных условиях.
Первое задание по линии военной разведки Леопольд, Треппер (Отто) получил в декабре 1936 года. Его нелегально направили в Бельгию, а затем во Францию с целью ликвидации последствий провала одного из звеньев советской военной разведки в Париже, который произошел в 1933 году, и освобождения из тюрьмы наших людей. В его функции входил также сбор доказательств о непричастности ФКП к работе советской разведки, в чем было заинтересовано руководство Коминтерна. Л. Треппер успешно выполнил задание и в мае 1937 года вернулся в Москву.
Во время этой командировки он проделал также большую работу по добыванию паспортов, необходимых для легализации советских разведчиков в зарубежных странах. В этих целях он воспользовался услугами своего старого знакомого Лео Гроссфогеля (Андре), который ранее был связан с крупным дельцом по скупке и продаже паспортов Райхманом (Фабрикант). Учитывая перспективность этой работы, которой Центр придавал большое значение, в июле 1937 года он снова командируется в Бельгию с задачей организации прикрытия «паспортного дела».
Л. Трепперу удалось завербовать Гроссфогеля, который договорился с Райхманом о постоянной работе по добыванию паспортов для советской разведки. В мае 1938 года Л. Треппер вернулся в Москву и представил Центру свой план создания в Бельгии паспортной резидентуры, который сводился к следующему:
— в качестве прикрытия и опорной базы для развертывания работы по закупке паспортов и других документов используются магазины фирмы «Руа де Каучук» («Король каучука»), в которой Л. Гроссфогель занимал пост одного из директоров;
— в качестве легализационной базы для советских военных разведчиков и пункта связи используется фирма по экспорту-импорту индустриальных отходов КОДИ. Главным директором фирмы Л. Треппер предлагал назначить Лео Гроссфогеля.
Рассмотрев этот план, Центр, исходя из изменившейся международной обстановки, возрастания угрозы начала войны в Европе, принял решение об использовании фирмы «Король каучука» в качестве базы для резидентуры связи. Это решение было обусловлено тем, что Центр имел в ряде стран Западной Европы довольно сильные разведывательные группы, располагающие реальными возможностями добывать необходимую информацию о военно-экономическом положении Германии, ее планах и намерениях, однако эти группы не имели автономных линий связи с Центром и в случае войны могли оказаться бездействующими.
По замыслу Центра на базе фирмы «Король каучука» создается сеть филиалов в Скандинавских странах (Стокгольм, Копенгаген, Хельсинки), возглавляемых советскими разведчиками, которые используются в качестве пунктов связи.
Основное требование, которое предъявлялось к создаваемой организации, заключалось в том, чтобы она выдержала испытания военного времени и обеспечила надежную связь Центра с разведывательными группами в европейских странах, и прежде всего в Германии.
По предложению начальника Разведывательного управления Красной Армии армейского комиссара 2-го ранга Яна Карловича Берзина, который особое внимание уделял подбору руководящих кадров для зарубежных звеньев разведки, резидентом создаваемой резидентуры связи был назначен Л. Треппер, а его помощником — Л. Гроссфогель. Центр всесторонне оценивал положительные и отрицательные качества и того и другого, учитывал все их плюсы и минусы. Обращает на себя внимание нестандартный подход к оценке подбираемых для разведки людей, четкое описание их качеств. Л. Треппер, например, так характеризовался его руководителем:
«…На основании проделанной Отто работы, а также впечатления от личной беседы с ним считаю, что он заслуживает доверия. Считаю его человеком с революционным „нутром“, близким нам и по политическим убеждениям, и по национальным мотивам… Несмотря на ряд отрицательных анкетных данных, оснований для политического недоверия нет… По деловым качествам — способный разведчик, энергичен, инициативен, находчив, умеет выпутываться из трудных условий, умеет подходить к людям… Недостаток — не всегда хватает терпения и настойчивости, чтобы начатое дело довести до конца, чтобы каждый шаг закрепить организационно». Л. Гроссфогель характеризовался положительно. «Мы, конечно, не можем рассматривать его как полностью „нашего“ человека, но он относится к той категории иностранных товарищей, которым можно доверять. Он для нас является надежным агентом, работающим, правда, и по материальным соображениям, но у которого, несомненно, превалируют идейные мотивы. Активный, инициативный человек. Имеет определенный опыт конспиративной работы и в то же время весьма сведущ в коммерческих делах. Сочетание этих двух качеств делает Андре ценным агентом. Его положение в фирме „Король каучука“, большие торговые связи представляют собой несомненную ценность для нашей работы».
II
В середине 1938 года Леопольд Треппер по канадскому паспорту прибыл в Брюссель.
Первые шаги Треппера и Гроссфогеля по решению поставленной Центром задачи показали, что возможности фирмы «Король каучука» по открытию отделений в Скандинавских странах были ими переоценены. Фирма не была приспособлена для оптовой торговли и проведения экспортно-импортных операций. Требовались дополнительные организационные мероприятия, включая открытие в рамках фирмы экспортного отделения, ведающего деятельностью фирмы за границей, а также отделений, складов, работу коммивояжеров и т. п. Центр одобрительно отнесся к этим предложениям, и они были претворены в жизнь.
К концу 1938 года в качестве базы для бельгийско-скандинав-ской линии связи было создано экспортное общество (условное название ЭКС). Насколько прочным было положение этой базы, читатель узнает из книги. Здесь же следует заметить, что ее наиболее уязвимым местом было то, что все директора фирмы «Король каучука», под эгидой которой была создана эта база, принадлежали к лицам еврейской национальности, что вызвало серьезные осложнения после оккупации Бельгии немецкими войсками всвязи с антисемитскими законами гитлеровцев.
Следующим шагом было создание отделений ЭКСа в Скандинавских странах. Этот весьма сложный и важный этап в реализации замысла Центра описан в книге не совсем точно. По книге «Большая игра», этим делом занимался директор ЭКСа Жюль Жаспар, известный делец из семьи политических деятелей (его брат был премьер-министром Бельгии, а сам Жюль — бельгийским консулом в различных странах). Фактически же директором ЭКСа был Гроссфогель, и он занимался скандинавскими делами, выезжая на место. Кроме того, в книге процесс организации филиалов ЭКСа в Скандинавских странах представлен автором как проходящий без каких-либо осложнений, легко и просто. «Он (Жаспар) быстро основывает филиалы в Швеции, в Дании, в Норвегии. В своей родной Бельгии заручается поддержкой официальных инстанций, которые в этот период стремятся оживить сократившийся экспорт». В действительности же дела обстояли далеко не так.
Лео Гроссфогель после подготовительной работы в Бельгии посетил столицы всех Скандинавских стран. Благоприятные перспективы для деятельности ЭКСа были выявлены в Финляндии. Что касается Швеции, то обнаружилось, что в этой стране не разрешено иностранцу заниматься коммерческой деятельностью или открывать промышленные предприятия без получения на этот счет специального разрешения короля. Чтобы обойти это юридическое препятствие, было решено оформить бюро ЭКСа в Стокгольме в виде местного акционерного общества (Гольдингбалагет).
Параллельно с работой Гроссфогеля в Скандинавских странах Центр проводил работу по подготовке и засылке в эти страны своих людей в качестве руководителей отделений ЭКСа. В распоряжение Л. Треппера в Бельгию были направлены Гуревич (Сукулов, Кент) и Макаров (Аламо, Хемниц). Они были молодыми офицерами Красной Армии, прошедшими школу гражданской войны в Испании. Первый был переводчиком на подводной лодке, а второй — переводчиком авиаэскадрильи. Оба они имели уругвайские паспорта и были легализованы в качестве уругвайских граждан, прибывших в Европу для занятия коммерческими делами. Сукулов устроился под крышей ЭКСа, а Макаров перекупил магазин фирмы «Король каучука» в Остенде.
Параллельно с работой по созданию ЭКСа и его отделений Треппер и Гроссфогель много внимания уделяли созданию вспомогательных пунктов связи в самой Бельгии (конспиративные и радиоквартиры, почтовые ящики, конспиративные адреса и т. п.). Это было поручено Избуцкому (Бобу), привлеченному к работе в апреле 1939 года по идейным мотивам. Он располагал хорошими связями среди надежных людей и был подходящим человеком для этого дела. При его содействии было завербовано четыре человека в качестве хозяев конспиративных квартир и адресов: Морис Пепер (Вассер-ман) — голландец, проживал в Антверпене; Безицер (Собственник) — по происхождению поляк, профессия — портной; Турист (фамилия неизвестна) — моряк; Вилли Малек (Колонист) — еврей, профессия — парикмахер.
Наиболее слабым местом в работе группы Л. Треппера на ее первом этапе была связь как внутри резидентуры, так и резидентуры с Центром. Прямой радиосвязи с Центром не было из-за отсутствия радиста. В это время Треппер и Сукулов поддерживали оживленные контакты с работниками советских официальных учреждений в Бельгии, подвергая риску как себя, так и их. Часто встречались работники резидентуры между собой. Все знали друг друга, хотя в этом не было никакой необходимости. Здесь явно сказывалось отсутствие профессиональной разведывательной подготовки у Леопольда Треппера.
Другим слабым звеном в работе резидентуры была паспортная группа Райхмана. Кто он такой и почему представлял такую большую опасность? По этому вопросу надо дать разъяснения, потому что этот человек часто встречается в книге и играл не последнюю роль в разведывательной организации Л. Треппера.
Райхман по национальности еврей, родился в 1902 году в Польше. В Бельгию прибыл в 1925 году из Австрии и с тех пор проживал в этой стране, не имея на это никакого юридического права. Формального занятия не имел, занимался различными аферами, главным образом скупкой и перепродажей паспортов и других личных документов. В 1937 году по просьбе Л. Треппера и Гроссфогеля имел группу скупщиков этой продукции, и всегда существовала опасность провала кого-нибудь из них. Первый такой провал произошел в июле 1938 года. Один из скупщиков сообщил полиции, что он скупает паспорта для Райхмана, и тот был арестован. Несколько месяцев он провел в тюрьме, затем с помощью Избуцкого был освобожден. После этого случая Центр принял правильное решение — прекратить с ним всякие отношения.
Однако это решение не было выполнено, так как одновременно с запрещением работы с Райхмаиом давалось указание Леопольду Трепперу договориться с ним о передаче советской разведке за определенное вознаграждение всех своих связей, не затронутых провалом. В ходе переговоров по этому вопросу связь Райхмана с резидентурой еще более укрепилась, ему стали известны ее основные работники. В июле 1939 года Центром было принято решение возобновить с ним работу. Л. Треппер предлагал связать его с Избуцким, который лично знал Райхмана. Однако Центр настоял, чтобы с последним встретился лично Л. Треппер и впредь поддерживал с ним связь. В сентябре 1939 года он в соответствии с указанием Центра был передан на связь Сукулову. В октябре 1939 года Райхмана снова арестовывают. Он находится в тюрьме до ноября месяца. Спустя полтора месяца после освобождения его передали на связь Макарову. Таким образом вместо изоляции Райхмана в течение года познакомили с Треппером, Сукуловым, Макаровым. Кроме того, он знал Гроссфогеля и Избуцкого.
В марте 1940 года Центр дает Трепперу указание установить прямую связь с рядом источников Райхмана, и прежде всего с Ф. Гофштаджеровой (Мальвиной) — любовницей и помощницей Фабриканта по паспортным делам. Она имела свою сеть скупщиков и была по натуре такая же авантюристка, как и сам Райхман. В том же месяце связь была установлена, а в середине апреля 1940 года она провалилась (один из ее скупщиков, с которым она порвала связь, лишившись заработка, решил отомстить ей и донес в полицию).
После провала Мальвины Центр принял решение изолировать ее и Райхмана от резидентуры, но это решение не было выполнено. В конце мая 1940 года Райхман был интернирован французами и отправлен в концлагерь в районе Тулузы, где находился до ноября месяца, затем вернулся в Бельгию, где был арестован и находился в тюрьме до мая 1941 года. Несмотря на это, было принято решение перевезти его во Францию и связать с французской группой резидентуры, а в декабре того же года он был передан на связь резиденту другой бельгийской резидентуры, которая действовала самостоятельно, независимо от Л. Треппера. К этому времени гестапо подставило Райхману своего агента — полицейского комиссара Матье, и эта резидентура была провалена.
III
Начало второй мировой войны застало разведывательную организацию, возглавляемую Л. Треппером, в стадии становления. Правда, иначе и быть не могло. Ведь прошло всего около года, как он прибыл в Бельгию. Группа не была еще готова к выполнению тех задач, которые перед нею ставились Центром в области создания линий связи, равно как и новых задач, поставленных с началом войны по вербовке агентуры, способной добывать интересующую Центр информацию по Германии.
В апреле 1940 года Дания и Норвегия были оккупированы немецкими войсками, что явилось серьезным ударом по ЭКСу. Торговля со Скандинавскими странами прекратилась из-за невозможности транспортировки товаров на Север. Приближалась оккупация Бельгии. Л. Треппер очень обеспокоен этим, так как его собственное положение и положение его людей было непрочным.
10 мая гитлеровские войска вторглись в Бельгию. Обстановка резко ухудшилась, и Трепперу пришлось принимать срочные меры, чтобы спасти людей и хотя бы часть средств ЭКСа. Несмотря на введенный мораторий и запрещение всяких банковских операций, ему удалось снять со счетов ЭКСа 300 тысяч франков и перевести их в Париж. «Молодой человек», Назарин Драйи и жена Гроссфоге-ля были направлены в Париж. Последней было поручено контролировать финансовые средства и поддерживать связь с Бельгией. Гроссфогель 16 мая 1940 года был укрыт в советском посольстве в Брюсселе, так как французы при отходе забирали всех мужчин в возрасте 16 — 45 лет. Избуцкий был арестован бельгийцами и находился в заключении до занятия немцами Антверпена. Сукулову удалось удержаться на своем месте. Макарову была поставлена задача с началом военных действий эвакуироваться вместе со своим магазином в Париж и там связаться с представителями ЭКСа, но его магазин сгорел при бомбардировке Остенде, и он вернулся в Брюссель. Морис Пепер и Безицер находились на резервных квартирах в Кнокке. Там же находилась радиостанция. С началом войны бельгийские власти пытались интернировать Леопольда Треппера как гражданина Австрии (напомним, что, по легенде, он родился в австрийском городе Самбор), но ему удалось избежать ареста.
С середины июля 1940 года обстановка резко изменилась. Фирма «Король каучука», под эгидой которой находился ЭКС, была взята под контроль немцами, так как все ее владельцы были евреями. Немецкая полиция проявляла большой интерес к Гроссфогелю. Одновременно она разыскивала Треппера как канадца с целью интернирования. Чтобы избежать ареста, и тот и другой 16 августа 1940 года на машине советского посольства были переброшены в Париж. Руководителем бельгийской группы был оставлен Сукулов.
Несмотря на трудности легализационного порядка, Л. Треппер энергично взялся за реорганизацию прикрытия, так как ЭКС в условиях оккупационного режима уже не мог служить этой цели. Юридическое оформление нового коммерческого предприятия в Бельгии было завершено в марте 1941 года. Оно получило название «Симэкско». Его основателями были Назарин Драйи, Сукулов, Шарль Драйи и четыре бельгийца (два коммерсанта, один издатель и один чиновник).
Устав этого предприятия давал ему право открывать филиалы, агентства, склады и конторы не только на территории Бельгии, но и за границей. Его сфера деятельности была шире, чем у прежнего ЭКСа, что давало возможность устанавливать полезные для разведки связи в промышленных и деловых кругах, а также в органах снабжения немецкой армии.
Аналогичное общество под названием «Симэкс» было создано и во Франции Его основными акционерами были Гроссфогель, Альфред Корбен и Робер Брейер. Территориально оно размещалось в Париже с филиалом в Марселе, во главе которого находился «Молодой человека.
Вскоре «Скмэхско» в Бельгии стало поставщиком немецкой интендантской службы, а «Симэкс» во Франции — поставщиком «организации Тодта», которая занималась военным строительством в гитлеровской Германии и оккупированных ею странах. Деловые связи с этими организациями использовались для получения информации по военно-экономическим вопросам, а также для приобретения пропусков в Бельгию, Германию и неоккупированную зону Франции, что имело важное значение для решения стоящих перед Л. Треппером задач. Кроме того, проведенная последним реорганизация прикрытия расширяла возможности для организации линий связи на Скандинавские страны.
В целом можно сказать, что к началу 1941 года группа Л. Треп-пера преодолела в основном кризис, возникший в связи с оккупацией Бельгии и Франции, укрепила базы своего прикрытия и могла решать задачи по сбору экономической и военной информации по Германии. За сравнительно короткое время был привлечен ряд источников и установлены доверительные связи с информированными лицами. К ним прежде всего можно отнести следующих:
а) Гилель Кац (Андре Дюбуа, Рене) — польский еврей, привлечен к разведывательной работе Треппером. К работе на разведку была привлечена также жена Каца, которая выполняла роль связистки. В дальнейшем он стал одним из ближайших помощников Треппера и играл видную роль в его организации;
б) Джени Лерой (Пфегерин) — француженка. С начала войны была руководителем группы Красного Креста в Париже, участвовала в работе «франко-германского содружества», имела связи среди офицерского состава;
в) Жорж Стофель (Аматер) — профессор физики и химии, имел связи в ВВС и 2-м бюро штаба французской армии;
г) Люсьен Раппель (Директор) — директор коммерческого банка, занимал видное положение в деловых кругах.
Кроме того, в Бельгии Сукуловым был привлечен к нашей работе Шпрингер Исидор (Ромео) — бельгиец, который добывал информацию по дислокации немецких войск в Бельгии.
Опираясь на прикрытия и используя названные связи, Л. Треппер начал добывать информацию о мероприятиях фашистской Германии по подготовке войны против Советского Союза.
Кроме донесений о передвижении немецких войск и военной техники он сообщал также в Центр о возможных вероятных сроках нападения Германии на Советский Союз, которые не расходились со сроками, указываемыми в донесениях, поступавших в Центр из других стран. Наиболее ценным было сообщение, полученное от Л. Треппера в середине мая 1941 года. В нем говорилось о том, что немцами переброшено в Финляндию через Швецию и из Норвегии не менее 500 тысяч солдат, что все крупные руководители «организации Тодта» переброшены в Польшу. Далее сообщалось о том, что последние восемь дней к советской границе с запада идут эшелоны с войсками, а гарнизон, ранее находившийся в Бордо, переброшен через Кенигсберг к литовской границе. В заключение Л. Треппер предупреждал, что военные действия против СССР могут начаться 20 — 25 мая и что к наступлению все подготовлено.
Справедливости ради следует отметить, что в целом от него поступало не так много ценной военной и военно-экономической информации. В своей книге он несколько преувеличивает как масштабы своей деятельности в этой борьбе, так и военно-стратегическую ценность направляемых в Центр разведывательных сведений. Много надуманного и в описании им чрезвычайно активной деятельности многочисленных связников, которые, по его словам, буквально сновали между странами и доставляли информацию. Вызывает сомнение рассказ Л. Треппера о некой манекенщице, которая якобы осуществляла связь между Бельгией и Германией. Л. Треппер не имел своих людей в Германии, действовавшие там разведгруппы ему не подчинялись, и незачем было посылать туда связников.
IV
В связи с приближавшимся нападением фашистской Германии на СССР снова приобрели остроту вопросы связи резидентуры Л. Треппера с Центром. Больше всего Центр был озабочен отсутствием по-прежнему прямой линии радиосвязи. Найти радиста на месте не удалось, а заслать его из Союза Центр не мог. Сложилась чрезвычайно сложная ситуация, которая на практике означала, что в случае разрыва правительством Виши дипломатических отноше-ший с СССР резидентура лишится последней возможности связи с Центром.
В этих, по существу, безвыходных условиях Центр принял решение поручить радисту параллельной и не связанной с ним резидентуры «Паскаля» оказать помощь Л. Трепперу в установлении радиосвязи с Центром.
В Центре понимали, что такой шаг был нежелателен. Резидентура, о которой идет речь, была работоспособной разведывательной организацией, возглавляемой офицером Красной Армии с высшим академическим образованием капитаном Ефремовым. Она имела группы в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии и Германии, в ее составе был радист высшей квалификации Иоганн Венцель (Герман) с большим опытом конспиративной работы в Германии и других странах. Но другого выхода не было, мирное время для нашей страны исчислялось уже не месяцами, а днями.
Обучение радиоделу Сукулова и Макарова началось только 23 июня 1941 года, то есть после начала войны. 7 июля радиосвязь была установлена. На рации, которая находилась в специально снятом для этой цели доме по улице Атребатов, 101, работал Макаров.
В августе 1941 года заговорила вторая радиостанция — из Парижа. На ней работали супруги Сокол — Герш и Мира (Руэско и Мадлен), привлеченные к этой работе Л. Треппером по рекомендации советского военного атташе в Виши Суслопарова. Эта станция была хорошо законспирирована, с ней был связан только Гроссфогель.
С началом Великой Отечественной войны создавались благоприятные возможности для приобретения новых источников информации среди людей, симпатизирующих Советскому Союзу и поддерживающих его борьбу с фашизмом. Треппер использовал эти возможности, привлек ряд ценных агентов, имевших связи в военных кругах. Но все-таки, как и раньше, его основные усилия направлялись на привлечение вспомогательных, технических, если можно так сказать, работников, вследствие чего его организация быстро разбухала, но не за счет ценных источников информации.
Из ценных агентов, которые были привлечены Л. Треппером с началом войны, можно назвать прежде всего русского эмигранта Василия Максимовича (Профессор) и его сестру Анну (Врач), которые имели хорошие связи в русских эмигрантских кругах, среди французской аристократии, в кругах католической церкви и среди немецких офицеров. Максимович женился на немке, некой Гофман Шольтц, работавшей секретарем военного советника доктора Ганса Куртмана. Она рассказывала мужу все, что знала по своей работе. Максимович имел также связи среди офицеров и генералов немецкого штаба. Используя эти связи, он добывал информацию об общем положении в Германии, политико-моральном состоянии немецких войск, по другим вопросам.
Наиболее ценным источником Анны Максимович была Кете Фелькнер, работавшая секретарем начальника отдела немецкой комендатуры доктора Крекфельда, а ее муж Подсиальдо работал в бюро труда комендатуры. Через них добывались необходимые документы, пропуска, а также разведывательные сведения.
Кроме того, в сентябре 1941 года по указанию Центра Л. Треппер установил связь с Робинсоном (Гарри), который располагал ценнейшими источниками информации. Был преданным нашему делу человеком, стойким и мужественным борцом против фашизма. Созданная им сеть агентов добывала ценную информацию по авиационной технике и электронному оборудованию западных стран. Материалы Робинсона, по заключению экспертов, отвечали острейшим потребностям оборонной промышленности и экономили миллионы инвалютных рублей.
В 1940 году Робинсон и его сеть были полностью переориентированы Центром на работу против Германии. Ему ставилась задача установить, в какой мере и как Германия использует Францию, французскую промышленность, сырьевые и людские ресурсы страны. Кроме того, ему необходимо было заняться вербовкой надежных лиц среди французов, подлежавших отправке на заводы Германии.
За несколько месяцев до нападения фашистской Германии на СССР Робинсон начал давать ценную информацию о подготовке немцев к войне против Советского Союза. Вот несколько из его многочисленных сообщений:
5 апреля 1941 г. — «По железным дорогам Франции на восток отправляется большое количество санитарных машин»;
17 апреля 1941 г. — «Ближайшие помощники Гитлера считают, что завоевание Украины — одна из задач готовящейся войны»;
27 апреля 1941 г. — «70-тонные танки заводов Рено перебрасываются в Катовице (Польша). С 21 по 23 апреля на восток отправлено 800 легких танков»;
7 мая 1941 г. — «В Польшу отправлено 350 французских 12-тонных танков с заводов Гочкис»;
10 июня 1941 г. — «Не позднее чем через два месяца немцы займут часть территорииСССР (источник — беседа французского полковника с одним из высших чинов немецкой армии)».
К началу войны группа Робинсона была хорошо подготовлена к работе в условиях военного времени. Она была негромоздкой, хорошо законспирированной, состояла из надежных людей, имела в своем распоряжении две рации.
Хотя Центром и предполагалось, что после восстановления связи с Робинсоном он сохранит автономию и будет иметь самостоятельную связь с Центром, этого не произошло. Л. Треппер вскоре после восстановления с ним связи свел его с Кацем и Гроссфогелем, о нем стало известно даже Райхману. Позже произошло переплетение группы Робинсона с организацией Треппера и бельгийской группой Ефремова.
В общем плане мероприятий по подготовке военной разведки к действиям в условиях военного времени важное место отводилось разведывательным группам советской разведки в самой Германии. Эти группы имели в своем составе весьма ценные источники информации, некоторые из них уже известны советскому читателю по книгам, которые изданы у нас и в ГДР. Это Ильза Штёбе (Альта), работавшая в министерстве иностранных дел Германии, Рудольф фон Шелия (Ариец), служивший в восточном департаменте МИД, англофил, завербованный до войны от имени английской разведки во время его работы советником германского посольства в Варшаве, Харро Шульце-Бойзен, офицер военно-воздушных сил Германии, и ряд видных общественных деятелей-антифашистов (ученые, писатели и др.). Эти группы не входили в разведывательную организацию Л. Треппера, и до октября 1941 г. он не был связан с их деятельностью.
После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз связь с вышеуказанными группами была прервана. Центр неоднократно пытался связаться с ними, но безуспешно. Центр, учитывая реальную обстановку и в то же время сознавая известную степень риска, предпринимает попытку восстановить связь с берлинскими группами через рацию Сукулова.
24 августа 1941 года ему направляется указание выехать в Берлин и установить связь с Ильзой Штёбе, передать ей свой шифр и договориться о регулярной связи с Центром. Через Сукулова предлагалось также установить связь с Адамом Кукхофом и просить его организовать встречу с X. Шульце-Бойзеном и Харнаком. Ему сообщались явки и адреса всех лиц, с которыми надлежало установить связь.
Сукулов выехал в Германию и находился там с 26 октября по 5 ноября 1941 года. Ему удалось связаться с X. Шульце-Бойзеном и А. Харнаком, радистом Альты Куртом Шульцем (Бергом), передать последнему свой шифр и научить его, как им пользоваться. В дальнейшем Центр поставил задачу Сукулову организовать радиосвязь берлинских групп через Бельгию по линии Берлин — Брюссель — Москва.
Надо отдать ему должное, что он в сложнейших условиях блестяще выполнил важнейшее задание Центра. Открывались большие перспективы получения ценной информации непосредственно из Берлина. Однако этого не произошло. Решение Центра оказалось роковым для немецких групп.
Таким образом, к декабрю 1941 г. получили возможность возобновить работу берлинские группы; в Бельгии действовали две самостоятельные группы — группа Гуревича с радиостанцией в Брюсселе и группа Ефремова — Венцеля, имевшая три линии радиосвязи с Центром; в Париже, как уже говорилось ранее, развернула работу по добыванию информации группа Треппера. Она имела две линии радиосвязи с Центром.
V
В деятельности советской военной разведки в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны были и победы и поражения, как и на войне в целом. Крайне отрицательно сказались на деятельности зарубежных звеньев советской военной разведки сталинские репрессии и истребление опытных разведывательных кадров во главе с начальником военной разведки Я. К. Берзиным, замена их малоопытными и недостаточно сведущими в тонкостях этой сложной работы офицерами. Особенно это проявилось с началом провалов, когда требовался глубокий анализ сложных и противоречивых событий.
13 декабря 1941 года явилось днем начала трагического конца разведывательной организации Л. Треппера и тех резидентур, с которыми его связал Центр. В этот день гестапо сделало налет на радиоквартиру Сукулова в Брюсселе, захватило рацию, документы и арестовало радиста Макарова, шифровальщицу Софи Познанскую, а также некую Риту Арну, приятельницу Шпрингера, который снимал для Сукулова эту квартиру, и Ками — радиста-стажера из парижской группы Треппера, проходившего здесь подготовку по радиоделу. На квартире была сделана засада. Вскоре сюда приходит Л. Треппер, но, предъявив документ от «организации Тодта», ему удается уйти.
Провал радиостанции Сукулова поставил перед угрозой раскрытия и ликвидации берлинские разведывательные группы и группу Робинсона, поскольку указания о восстановлении связи с ними с адресами и явками передавались Центром через эту радиостанцию. Не было уверенности в том, что арестованные будут на допросах молчать и не выдадут всех, кого они знали. Макаров знал Сукулова, Треппера, Райхмана, ему было известно почти все о действительном предназначении коммерческих фирм, используемых в качестве прикрытия разведывательной деятельности. Фактически этот провал мог повлечь за собой ликвидацию всей сети.
Естественно, возникает вопрос, каковы причины провала радиостанции? Почему, проработав лишь пять месяцев, она замолчала, кто в этом повинен? Причин много, и они крайне противоречивы. Известно, что к тому времени немецкая контрразведка располагала современными по тому времени передвижными радиопеленгаторными станциями, и рация Сукулова могла быть запеленгованной. Такой версии, например, придерживается французская контрразведка, которая после войны занималась анализом деятельности сети советской военной разведки в западноевропейских странах.В их докладе по этому вопросу говорится, что в ночь с 12 на 13 декабря 1941 года пеленгаторная машина немецкой контрразведки точно засекла местонахождение радиоустановки. Квартал был окружен значительным числом полицейских, которые арестовали Макарова, работавшего на рации, польку Софи Познанскую, шифровавшую телеграмму, и Риту Арну. Эта версия подтверждается и английской контрразведкой, которая также провела исследование, аналогичное французскому.
По сообщению Ефремова от 24 апреля 1942 года, провал Макарова был вызван не пеленгацией рации, а плохой конспирацией радиоквартиры. 24 июня 1942 года Паскаль дополнительно сообщил Центру, что, по новым данным, причиной провала был один бельгийский капитан, убежавший из плена и скрывавшийся на радиоквартире у ее хозяйки Жюльетты (видимо, Риты Арну). В поисках этого капитана полиция случайно вышла на наших людей. Из отчета И. Венцеля, который он представил после возвращения в Советский Союз, следует, что этот бельгийский капитан не только скрывался у Жюльетты, но и обучал наших радистов. «Тот преподаватель, который орудовал до меня, — капитан бельгийской армии — был неопытен, болтун и начинен целой кучей всяких неверных теорий и формул», — писал Венцель.
Л. Треппер в своем отчете отмечает, что наиболее вероятной причиной провала было неосторожное поведение Жюльетты, привлекавшей внимание к своему дому со стороны соседей, которые потом сделали донос в полицию. Позже, уже находясь в гестапо, на основании сведений, полученных в ходе допросов, он приходит к выводу, что причиной провала была радиопеленгация. Арестованный Главным управлением «Смерш» в 1945 году начальник зондеркоманды гестапо в Париже Паннвиц, который руководил ликвидацией нашей сети, показал на допросе: «Аламо проживал в Брюсселе и вел легкомысленный образ жизни, что дало повод политической полиции заподозрить его в спекуляции. При обыске, произведенном на квартире у Аламо, у него был отобран радиопередатчик. В связи с тем что Аламо выполнял обязанности радиста, шифровальщика и использовался в качестве инструктора, он знал многих агентов резидентуры Отто».
Характер провала требовал от Центра и Л. Треппера выяснения и глубокого анализа всех его обстоятельств, и прежде всего возможных последствий ареста Макарова и других лиц. Необходимо было исходить из того, что в руки гестапо попал советский разведчик Макаров, знавший истинное предназначение коммерческих прикрытий, значительную часть работников резидентуры, а также шифр. Кроме того, ему, Ками и Познанской были известны все технические условия работы (волны, радиопрограммы) парижской рации «Оскол» и рации Венцеля. Вряд ли можно было ожидать, что все арестованные будут молчать.
Однако провалу на улице Атребатов не было придано серьезного значения ни Треппером, ни Центром. Например, после провала Макарова Треппер отправил Сукулова в Марсель, но последний обосновался там по старым документам, по которым он проживал в Бельгии. Кроме того, переправка его любовницы или невесты Барчи во Францию была поручена Мальвине. Таким образом ей, а следовательно, и Райхману стало известно новое местопребывания Сукулова. Впоследствии они и выдали его гестапо. Далее, Л. Треппер считал, что «Симэкско» не затронута провалом, и передал руководство фирмой Н. Драйи. В действительности арестованный Макаров знал назначение фирмы и ее руководителя Гроссфогеля. В своей книге Л. Треппер пишет, что для наблюдения за арестованными направил в Брюссель Гроссфогеля и Фернана Пориоля, а на самом деле он поручил это дело Райхману — самому ненадежному агенту. Центр, не дожидаясь выяснения возможных последствий провала Макарова, поспешно принимает решение о передаче остатков группы Сукулова резиденту Ефремову, ставя его таким образом под удар.
Одним из первых последствий провала Макарова явилась ликвидация гестапо радиостанции «Оскол», на которой работали в Париже супруги Сокол. Технические данные этой станции, как уже упоминалось, знал Ками, который обучался радиоделу на радиоквартире Макарова и был арестован вместе с ним 13 декабря 1941 года. Немцам удалось заполучить эти данные и в ночь с 9 на 10 июня 1942 года запеленговать станцию и арестовать радистов. Они были схвачены во время работы.
При занятии радиостанции «Оскол» гестапо преследовало цель не только напасть на след парижской группы Л. Треппера, но и получить возможность работы на этой станции с Центром от имени арестованных. Стойкое поведение радистов супругов Сокол сорвало эти планы. Даже сотрудники гестапо признавали, что через них не удалось найти следы других людей в Париже.
В ночь с 29 на 30 июня 1942 года во время работы Венцеля на рации гестапо сделало налет на его радиоквартиру в Брюсселе. Он пытался бежать, но безуспешно, был арестован и на допросе признался, что является советским разведчиком и что его настоящая фамилия Венцель.
Узнав об аресте Венцеля, Ефремов направил в Центр сообщение об его аресте, захвате немцами рации и шифров, которое было получено Центром в ночь с 14 на 15 июля. В ответ Центр настойчиво требовал принятия надлежащих мер по локализации провала, подчеркивая, что он может привести к полному разгрому резидентуры.
Однако гестапо к этому времени уже располагало достаточными данными, чтобы приступить к ликвидации бельгийской, а затем и французской группы резидентуры Леопольда Треппера.
7 августа 1942 года на встрече с Матье, которая была обусловлена Райхманом, был арестован Ефремов, а через три дня — Избуцкий и Морис Пепер.
Не выдержав пыток (а они были жестокими), Венцель к августу 1942 года выдал гестапо шифр и согласился работать на рации с Центром под контролем гестапо. Позже в своем отчете он подчеркивает, что пошел на это, будучи полностью убежденным, что Центру известно о его аресте. Центру действительно было известно об этом из совершенно определенного и недвусмысленного донесения Ефремова от 15 июля 1942 года.
11 августа 1942 года Венцель впервые вышел в эфир под немецким контролем. Центр ошибочно воспринял это сообщение как подтверждение того, что он находится на свободе, и начал с ним радиообмены, в ходе которых раскрывались другие разведчики.
Узнав из телеграмм Центра, что Ефремов сообщил об аресте Венцеля, гестапо предпринимает ряд мер, чтобы доказать Центру, что и тот и другой находятся на свободе.
25 сентября 1942 года Гарри сообщил в Центр, что «21 сентября 1942 г. Паскаль (Ефремов. — Прим. авт.) в сопровождении двух агентов гестапо остановил мужа Паулы (Франца Шнайдера. — Прим. авт.) возле его дома. Паскаль попросил затем Паулу (Жермену Шнайдер. — Прим. авт.) явиться и предложил ей быть двойником. Паскаль арестован, радист-голландец тоже. Гестапо сосредоточило все усилия на розыске нашей французской группы».
1 ноября 1942 года специальной телеграммой Л. Треппер предлагал Центру «прекратить немедленно все радиосвязи с бельгийской группой Паскаля и с голландской группой, которую знал Паскаль, предупредить, если возможно, голландскую группу о серьезном предательстве в Бельгии».
Однако, несмотря на это предупреждение, Центр продолжал радиообмены с арестованными, от имени которых работали немцы. Телеграммой от 20 ноября 1942 года Леопольд Треппер еще раз подтверждал, что Венцель арестован 29 июня, а Ефремов — 7 августа 1942 года (эта телеграмма была получена Центром 4 декабря, то есть после ареста самого Л. Треппера), но позиция Центра не изменилась.
4 февраля 1943 года Центр направляет Ефремову телеграмму, в которой обвиняет его в том, что он дезинформировал Центр о положении Венцеля и нанес этим вред работе. «Вашу июньскую информацию о положении Германа считаю несерьезной, а потому вредной», — указывает ему Центр. Как говорится, комментарии излишни.
Таким образом, неспособность разобраться в обстановке, проанализировать факты в их совокупности и сделать правильные выводы привели к тому, что радиоигра гестапо с Центром от имени Ефремова и Венцеля принималась им за действительную работу.
20 августа 1942 года в Голландии был арестован Антон Винтеринк. Арест произошел вследствие провала и ареста связника Мориса Пепера. Несмотря на то что голландские товарищи сообщили Центру об аресте Винтеринка, его рация также была задействована гестапо в целях радиоигры.
В результате провалов Макарова, Венцеля, Ефремова и Винтеринка гестапо к ноябрю 1942 года располагало достаточными данными о сети советской разведки во Франции, чтобы приступить к ее ликвидации. К этому времени гестапо удалось расшифровать значительную часть радиотелеграфной переписки между Центром и резидентурами Сукулова и Ефремова в Бельгии и Винтеринка в Голландии, а также получить при допросах арестованных ранее агентов важные сведения об агентурной сети во Франции. В частности, Макаров, арестованный 13 декабря 1941 года, знал основной состав французской группы и с мая 1942 года, не выдержав пыток, начал давать показания. В руках гестапо находились Райхман и его подруга (арестованные в сентябре 1942 года), которые сразу же после ареста, став на путь предательства, согласились помогать гестапо в ликвидации французской группы, что подтверждается материалами судебного процесса над Райхманом, состоявшегося после войны. Они знали весь состав французской группы, включая Робинсона, а также ряд конспиративных квартир. Кроме того, в аппарате «Симэкса» работала Лихонина — провокатор и агент гестапо, которая также помогала гестапо в розысках и арестах советских разведчиков.
Гестапо поставило перед собой задачу не только ликвидировать нашу сеть во Франции, но и вести от ее имени радиоигру с Центром, наподобие того, как это удалось сделать в Бельгии и Голландии. Поэтому оно стремилось захватить одновременно весь руководящий состав французской группы и во что бы то ни стало лишить его возможности предупредить Центр об арестах.
9 ноября в Марселе был арестован Сукулов и все сотрудники марсельского отделения «Симэкса». Он сразу же после ареста стал на путь предательства, что облегчило аресты остальных членов группы.
В течение 18 — 20 ноября были арестованы все сотрудники парижского «Симэкса», кроме провокаторши Лихониной. Об этих арестах Л. Треппер и Гроссфогель узнали на второй день и успели предупредить о них руководителя бельгийского «Симэкско» Драйи, которому удалось скрыться. Остальные сотрудники этой фирмы были арестованы.
Таким образом к 23 ноября фирмы-прикрытия в Брюсселе, Париже и Марселе были ликвидированы. Шли поиски Л. Треппера, Гроссфогеля, Каца и других советских разведчиков.
В своей последней телеграмме от 22 ноября 1942 года Л. Треппер докладывал Центру, что положение сделалось более тяжелым, все лица парижского «Симэкса» арестованы, идут поиски его и Гроссфогеля.
В этой труднейшей ситуации Леопольд Треппер принимает конкретные меры, чтобы предотвратить дальнейшие аресты. 24 ноября на совместной встрече Л. Треппера, Гроссфогеля и Каца принимается решение: а) Каца отправить в Тулузу, где он должен ожидать указаний; б) Гроссфогелю оставить свою квартиру, оборвать все связи, кроме связника Жиро; в) Л. Трепперу никаких связей, кроме связи с Андре, не поддерживать. Но никто из участников этой встречи принятое решение не успел выполнить.
24 ноября 1942 года был арестован Л. Треппер, 30 ноября — Гроссфогель (во время ареста были захвачены шифр и радиограмма, что облегчило гестапо организацию радиоигры с Центром), 1 декабря арестовывается Кац. В декабре были арестованы Василий Максимович и его сестра Анна, в январе 1943 года взяты все их агенты, а 21 декабря арестован Робинсон. Французская группа прекратила свое существование. С 25 декабря 1942 года начала работать под контролем гестапо радиостанция Л. Треппера, а 3 марта 1943 года — станция Сукулова. Из восьми радиостанций, захваченных в течение 1941 — 1942 годов в Бельгии, во Франции и Голландии, гестапо удалось задействовать для радиоигры с Центром шесть станций.
VI
Большая игра началась.
Какие цели ставили немцы перед этой игрой, чего они добивались? Они сводились к следующему:
1. Арестовать остальных агентов советской разведки и получить сведения о самостоятельных группах, которые могли действовать в странах Западной Европы.
2. Дезинформировать советское командование относительно положения в Германии и в оккупированных ею странах, а также снабжать его ложной информацией о передвижениях немецких войск и об их оперативных планах на Западном и Восточном фронтах.
3. Вбить клин междуСССР и его союзниками по антигитлеровской коалиции. По мере приближения конца войны этой задаче придавалось все большее и большее значение.
После ареста Л. Треппер, будучи хорошо осведомленным о полном провале всей нашей сети в Бельгии, Голландии и во Франции, а также о планах, замыслах и целях затеваемой гестапо радиоигры с Центром и понимая последствия этой игры, принимает решение во что бы то ни стало предупредить Центр о действительном положении вещей и дать ему возможность взять инициативу в свои руки, повернуть игру в обратную сторону в целях дезинформации немецкого командования.
Чтобы решить эту задачу, он разыгрывает сотрудничество с гестапо, завоевывает определенное доверие и ведет двойную игру во имя достижения поставленной цели. Первым его шагом в этом направлении была попытка предупредить представителя ФКП Мишеля о своем аресте в надежде что последний сообщит об этом в Центр. Ему удалось это сделать
29 декабря 1942 года Центром была получена телеграмма по линии ФКП, в которой», я говорилось, что дней 12 тому назад исчез Лео (еще один псевдоним.»Л. Треппера, которым он пользовался во время первой командирован в Бельгию и во Францию. — Прим. авт.), и человек, который его дублировал, и один товарищ — женщина, которая работала с ними. В телеграмме указывалось, что эта информация получена от агента связи Лео. Однако эта телеграмма также осталась в Центре без внимания.
После этой операции Л. Треппер убеждает гестапо в необходимости проведения с той же целью второй операции с использованием кондитерского магазина Жюльетты. В результате этой весьма рискованной для него операции он сумел передать Жюльетте написанное им в гестапо подробное и чрезвычайно важное сообщение, которое она переправила в нужный адрес. В нем говорилось, что в результате заговора немецкой контрразведки Треппер, Гроссфогель, Кац, Робинсон и другие находятся в течение пяти месяцев в тюрьме. По радиостанциям Ефремова и Венцеля в Бельгии, Винтеринка в Нидерландах, Шульце-Бойзена в Германии, Гроссфогеля и Сукулова во Франции, а возможно, и по другим станциям, связанным с этими группами, под той или иной подписью с Центром работает германская контрразведка, а не советские разведчики, которые заключены в тюрьму, о чем никому не известно. Контрразведке удалось получить коды и радиопрограммы. Заговор грозит распространиться на Швейцарию, Италию и другие страны. При таком отчаянном положении Л. Треппер принимает решение уничтожить заговор всеми способами изнутри и любой ценой добиться контакта с Центром. Он воспользовался последним и единственно возможным средством борьбы — симулировал согласие с предложением контрразведки хранить в тайне свой арест с перспективой работы после войны на контрразведку. Далее Л. Треппер подробно описывает, как проходили аресты его людей и их причины, и дает список лиц, которым угрожает арест, с просьбой предупредить их об опасности, а также дает ряд рекомендаций о продолжении игры с гестапо. В конце его доклада французские товарищи сделали следующую пометку:
«Этот доклад Отто передал через одну коммерсантку, с которой он был связан и с которой одна наша разведка имела контакт… Неизвестны детали и условия, при которых Отто передал этот документ таким образом, чтобы стража не заметила. Эту коммерсантку изолировали».
О получении доклада Л. Треппера Центр был информирован телеграммой от 7июня 1943 года.
После получения доклада Л. Треппера Центр взял инициативу в свои руки и начал вести радиоигру с гестапо в своих интересах. Таким образом, Леопольд Треппер в труднейших условиях, рискуя жизнью, достиг поставленной цели, ликвидировал заговор гестапо и информировал об этом Центр. В этом его большая заслуга. В связи с изложенным вызывает серьезное сомнение утверждение Отто о том, что Центр 23 февраля 1943 года условной телеграммой, содержание которой было оговорено в докладе, переданном через Жюльетту, уведомил его о своем согласии продолжать радиоигру с гестапо.
В середине августа 1943 года Л. Треппер узнает об аресте работника ФКП Фернана Пориоля (Дюваля), через которого, как он полагал прошел доклад, переданный им в Центр. Опасаясь, что Дюваль может не выдержать пыток и сообщить гестапо об этом фак те, он в сентябре 1943 года совершает побег из гестапо и скрывается до освобождения Парижа. Совершил побег из гестапо и Венцель.
Таким образом, в этой жестокой схватке с гестапо, несмотря на известные сложности и трудности, многие ошибки, победила все же советская разведка. Гестапо держало инициативу в своих руках и дезинформировало нас лишь в течение б — 7 месяцев. Наша же разведка вела радиоигру с гестапо до конца войны.
Неудачей окончилась и попытка гестапо проникнуть в подпольный руководящий орган ФКП. Гестапо, как это видно из книги «Большая игра», что подтверждается и имеющимися документами, предпринимало усиленные попытки при помощи Л. Треппера установить связь с подпольным руководством ФКП и захватить ее радиостанцию. С этой целью оно настойчиво пыталось организовать его встречу с представителем партии Мишелем. Центр по просьбе Треп-пера, то есть гестапо, несколько раз назначал ему встречи с Мишелем, но ни одна из них не состоялась, так как между ним и Мишелем имелась личная, никому не известная договоренность о том, что независимо от того, кем и когда назначаются встречи, они должны состояться на два дня и на два часа позже. Таким образом, благодаря предусмотрительности и стойкости Л. Треппера гестапо не удалось проникнуть в руководящие органы ФКП, которые находились в подполье.
VII
В процессе ликвидации разведывательных групп в Бельгии, Нидерландах и во Франции было арестовано свыше 100 человек, из них около 70 человек принимало непосредственное участие в разведывательной работе в пользу Советского Союза. Кроме того, в результате провала радиостанции Сукулова в Брюсселе в декабре 1941 года были арестованы многие участники берлинских разведывательных групп.
Большинство из арестованных подверглось жестоким пыткам в тюрьмах и лагерях гестапо, многие были казнены или умерли, не выдержав пыток. Л. Треппер проделал большую работу по выяснению судьбы своих соратников по борьбе с фашизмом, которые были арестованы и брошены в тюрьмы и лагеря. Их имена стали известны всему миру благодаря благородной миссии, которую взял на себя Леопольд Треппер, написавший свою книгу «Большая игра».
Ее герои — люди, принадлежавшие к разным нациям и разным странам, боролись и отдали свои жизни во имя общей цели — спасения человечества от фашизма. Они верили в правоту дела, за которое боролись. Ярким примером в этом отношении является Робинсон, который, несмотря на пытки, не выдал гестапо ни своего шифра, ни каких-либо других важных сведений о своей работе на советскую разведку. Он держался стойко и мужественно до последнего часа своей жизни.
До нас дошла записка Гарри, которую он сумел передать из тюрьмы через узника, находившегося в соседней камере. Вот текст этой записки:
«Французский товарищ Анри Робинсон (Гарри) был арестован в декабре 1942 г. в своем доме. Он был выдан лицом, которое получило его адрес в Москве (видимо, Гарри имеет в виду Отто, которого гестапо вывозило на машине к месту ареста Гарри, и он мог его видеть. Действительно, Отто на допросе назвал адрес Гарри, но при этом он учитывал два обстоятельства: во-первых, он за день до своего ареста предупредил Гарри, чтобы тот на квартире больше не появлялся, а во-вторых, гестапо могло узнать адрес Гарри из расшифрованных телеграмм, которые передавались через радиостанцию Кента в Брюсселе, поскольку указания Центра о восстановлении связи с Гарри с указанием адреса были переданы через эту станцию, захваченную немцами 13 декабря 1941 года. — Прим. авт.). Жена его и сын были подвергнуты пыткам и заключены в тюрьму, а затем казнены. Сам Гарри был заключен в одиночку и впоследствии отвезен в Берлин, Гауптзихерхайтсат (Главное управление государственной безопасности), Принцальбертштрассе, где его содержат в большом секрете в камере 15 в ожидании смертного приговора. Пишущий настоящие строки видел его последний раз в день выхода из соседней камеры 1 б и обещал передать его сообщение (переписано с его записки)». Далее следует описание подробностей ареста и поведение отдельных лиц и просьба о предупреждении тех, кто остался на свободе. Записка заканчивается словами: «Отрубят голову или расстреляют — победа будет все равно наша. Ваш Гарри».
Поведение Робинсона вызывало восхищение даже у английской контрразведки, которая после войны занималась расследованием деятельности советской разведывательной сети в Европе. В ее докладе можно прочитать; и такие строки: «Робинсон (Гарри), который был необычайно умным и разносторонне образованным человеком, мало дал немцам сведений во время его допросов после ареста в 1942 году. Ему удалось спасти большое количество агентов. Гарри давал мало показаний и утверждал, что он был только курьером, который немного знал о людях, с которыми находился в контакте».
Среди советских разведчиков, арестованных в 1942 году, оказался только один человек, предательство которого не вызывает сомнений. Им был Сукулов, который имел все возможности предупредить Центр о действительном положении дел в резидентуре Л. Треппера через Озола на первой же встрече с ним, но не сделал этого. За это он понес суровое наказание. Особым совещанием при МГБ СССР 18 января 1947 года Сукулов за сотрудничество с немецкими контрразведывательными органами, предательство и передачу секретных сведений, составляющих государственную тайну, осужден на срок 25 лет.
В книге «Большая игра» Л. Треппер называет капитана Ефремова (Паскаля) предателем, не подтверждая это какими-либо фактами и аргументами, за исключением того, что он выдал немцам свой шифр. Причем о предательстве Ефремова говорится в книге больше и чаще, чем о действительном предательстве Кента. Видимо, здесь Л. Треппер в чем-то заблуждается. Его утверждения, что Ефремов не подвергался пыткам, опровергаются Венцелем, который находился вместе с Ефремовым в крепости Бреендонк (Бельгия). В одной из записок, переданных Венцелю во время прогулки, он писал: «Я прошел через ад Бреендонка и испытал все. У меня есть только одно желание — увидеть свою мать».
Ефремов сумел при исключительно сложных обстоятельствах, под надзором агентов гестапо, предупредить Л. Треппера о выдаче им шифра. Имеются достоверные доказательства, что Ефремов не рассказал гестапо о действительном предназначении фирмы «Симэкско», которая служила прикрытием советской разведывательной организации. По данным английской контрразведки, работа гестапо на рации от имени Ефремова успеха не имела, так как он оказался непригодным для такой работы, и, вероятно, был посажен в камеру одиночного заключения.
В 1943 году Ефремов был приговорен военным трибуналом Германии к смертной казни.На вопрос Ефремова, как будет приведен приговор в исполнение, председатель трибунала ответил: «На открытый солдатский вопрос последует открытый солдатский ответ — расстрел». Данных, подтверждающих приведение приговора в исполнение, не имеется.
Суровые испытания выпали на долю автора этой книги Леопольда Треппера и Венцеля, которые, бежав из тюрем гестапо, попали в сталинские застенки, где терпели тяжелые унижения и мучения. Поистине трагическая судьба. Вдвойне трагическая, потому что Леопольд Треппер перенес еще и сложную психологическую драму, видя несоответствие теории и практики. Это причиняло ему неизгладимую душевную боль, так как до конца своих дней он верил, что социализм восторжествует.
VIII
После окончания войны на Западе было опубликовано много материалов о деятельности сети советской военной разведки, возглавляемой Леопольдом Треппером. Кроме того, специальные службы ряда стран, в частности Англии и Франции, преследуя свои цели, сделали глубокий научный анализ ее деятельности.
В целом во всех этих материалах дается высокая оценка деятельности советской военной разведки в предвоенные и военные годы. По заключению французской спецслужбы, «результаты… достигнутые советской разведкой… были значительными». По мнению англичан, «разведывательные группы добывали те разведывательные сведения, которые они искали».
Резидент Л. Треппер, который рассматривается как «агент международного класса», характеризуется как «чрезвычайно изобретательный и способный разведчик». Что касается его поведения после ареста в 1942 году, то как французы, так и англичане считают, что он не сотрудничал с немцами, а вел двойную игру, чтобы выиграть время и бежать. «Весьма вероятно, — говорится в английском докладе, — что с самого начала своего ареста Треппер намеревался вести двойную игру». В аналогичном французском докладе по этому поводу указывается, что «вполне возможно, что Треппер выдал немцам только то, что могло быть вскрыто на основе логических рассуждений».
Что касается радиоигры гестапо с Центром, то, по заключению спецслужб этих двух стран, она не имела успеха. «Во всяком случае, — говорится в одном из докладов, — немцам не удалась эта игра, так как, если бы даже русские и не получили предупреждения об обмане, у них все же должны были возникнуть подозрения в отношении того, что вдруг внезапно была установлена связь после целого ряда трудностей, которые испытывали обе группы в прошлом в восстановлении связи».
По мнению другой спецслужбы, «руководству советской разведки должно было быть известно о радиоигре немцев». «До сих пор непонятно, — говорится в докладе, — почему советская разведка, которая была своевременно предупреждена о происшедших в то время арестах ее агентов, продолжала поддерживать связь с ними и давать им задания».
Нам это понятно. В процессе сталинских репрессий опытные работники Центра были уничтожены, пришедшие же на их замену неопытные офицеры не смогли разобраться в сложившейся обстановке.
Что касается публикаций о «Красном оркестре», появившихся на Западе, то в целом можно сказать, что они носят тенденциозный характер, преследуя при этом явную цель — дискредитировать компартии западных стран, которые в годы войны помогали всем движениям Сопротивления, советской разведке в их борьбе против общего врага — фашизма.
В целом история разведывательной деятельности Леопольда Треппера и членов его резидентуры полна отваги и трагизма. Она сыграла свою положительную роль в борьбе с фашизмом. Но нет сомнения в том, что труднейшая обстановка, ошибки, допущенные Центром, а также Треппером и его сотрудниками, не позволили более эффективно выполнить поставленные задачи. Эти ошибки стали причиной гибели и разгрома разведывательных организаций в других странах.
Большинство членов подпольных организаций выполнили свой долг до конца — вели себя в руках гестапо мужественно и стойко. Однако оказались и слабые духом люди, ставшие на путь предательства. Но таких было немного.
Примечания
1
В 1918 году Советская Россия еще не имела дипломатических отношений с большинством стран Европы. Ленину пришлось переправить это письмо через Швейцарию. А в описываемое время, благодаря вмешательству руководителей австрийской социал-демократии, его вскоре освободили. Человек, которого в 1914 г. обвинили в «шпионаже», стал вождем Октябрьской революции. — Прим. авт.
(обратно)2
У евреев — особо «чистая» еда, которую по религиозным законам можно употреблять в пищу. — Прим. перев
(обратно)3
То есть германского Вильгельма и австрийского Франца Иосифа. — Прим. перев.
(обратно)4
Львов в то время находился на территории Польши. — Прим. ред.
(обратно)5
Гистадрут — Всеобщая федерация трудящихся, основанная в Хайфе в 1920 году. — Прим. авт.
(обратно)6
Социалистическая рабочая партия Палестины была основана в 1919 году. В 1921 году была переименована в Коммунистическую партию Палестины. — Прим. ред.
(обратно)7
Левая сионистская партия, чье заявление о приеме в III Интернационал было отклонено, так как она пропагандировала создание отдельного еврейского государства. — Прим. авт.
(обратно)8
Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн), международное объединение революционных профсоюзов в 1921 — 1937 годах. — Прим. перев.
(обратно)9
Штокштиль. Он участвовал в гражданской войне в Испании, был ранен. Во время оккупации Франции вступил в ряды Сопротивления. Умер в Тулузе в 1943 году. — Прим. авт.
(обратно)10
Впоследствии Анна стала бойцом Сопротивления во Франции. Ее арестовали и отправили в Освенцим, где она погибла. — Прим. авт.
(обратно)11
Британская полиция предложила Л. Трепперу оставить Палестину, в противном случае ему грозило интернирование на один из британских островов. Л. Треппер выбрал первое. В английском докладе о «Красном оркестре» содержатся следующие данные палестинской полиции: «Л. Треппер был впервые отмечен полицией в августе 1926 года. В то время он был внесен в список как известный член клуба союза МОПРа в Тель-Авиве… 14 июня 1929 года был арестован во время обыска в Тель-Авиве и находился в заключении пятнадцать дней. Позднее, в том же году, стал членом Коммунистической партии Палестины». — Прим. ред.
(обратно)12
ИРС — Иностранная рабочая сила. Эта организация состояла из различных национальных секций зарубежных коммунистов, живших во Франции. Деятельностью ИРС руководил специальный отдел ЦК ФКП. — Прим. авт.
(обратно)13
Жорж Куртелин (1858 — 1929), французский комедиограф. — Прим. перев.
(обратно)14
Справедливости ради следует отметить, что такой подход к союзу с социал-демократами был выработан на VI конгрессе Коминтерна в соответствии с линией Сталина. — Прим. ред.
(обратно)15
Воронцово Поле — недалеко от Курского вокзала, там находился Дом политэмигрантов. Сейчас улицаОбуха. — Прим.перев.
(обратно)16
Коммунистический университет трудящихся Востока. — Прим. перев.
(обратно)17
Здесь автор ошибается. В этой статье, опубликованной 2 марта 1930 года в газете «Правда», наоборот, осуждался принцип насильственного объединения в колхозы. Другое дело, что статья носила явно декларативный характер. Опубликовав ее, Сталин прибег к своему обычному маневру: свалить собственную вину за перегибы в колхозном строительстве на послушных исполнителей его воли. — Прим. ред.
(обратно)18
С декабря 1922 года по март 1923 года В. И. Ленин диктовал свой дневник, свои последние письма, и в частности «Письмо к съезду», которое впервые было опубликовано только после XX съезда КПСС. — Прим. ред.
(обратно)19
Видимо, автор имеет в виду известное высказывание Сталина о том, что партия должна быть чем-то похожа на «орден меченосцев». Это, кстати, лишь повторение мысли Троцкого: партия должна быть похожа на касту самураев, где верность и лояльность, дисциплина являются ценностями самостоятельного порядка. Для В. И. Ленина партия — это добровольный, сплоченный союз единомышленников. — Прим. ред.
(обратно)20
События тридцатых годов приобрели такой оборот, что партия сама оказалась заложницей культа и жертвой творившегося беззакония. Тем не менее законы политической жизни таковы, что ответственность за политику несет партия, взявшая на себя бремя руководства страной. В. И. Ленин не раз подчеркивал, что «партия ответственна» как за свои действия, так и за действия тех, кем она руководит. — Прим. ред.
(обратно)21
О ликвидации Бела Куна и польских коммунистов я узнал от уцелевших товарищей, находившихся со мной в камере на Лубянке после войны. — Прим. авт .
(обратно)22
С 1936 по 1938 год Ежов был наркомом внутренних дел. — Прим. авт.
(обратно)23
11 июня 1937 года в «Правде» было опубликована сообщение об окончании следствия и предстоящем судебном процессе по делу М. Н. Тухачевского и других. — Прим. ред.
(обратно)24
По подсчетам, сделанным генерал-лейтенантом А. И. Тодорским, сталинские репрессии вырубили: из пяти маршалов — трех (А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер); из пяти командармов 1-го ранга — трех; из 10 командармов 2-го ранга — всех; из 57 комкоров — 50; из 186 комдивов — 154; из 16 армейских комиссаров 1-го и 2-го рангов — всех; из 28 корпусных комиссаров — 25; из 64 дивизионных комиссаров — 58; из 456 полковников — 401. — Прим. ред.
(обратно)25
Ян Карлович Берзин (Петерис Кюзис — 1889 — 1938). Активный участник Октябрьской революции и гражданской войны, ближайший соратник Ф. Э. Дзержинского. С 1924 года — начальник Главного разведывательного управления РККА, выдающийся организатор и руководитель советской военной разведки. — Прим. ред.
(обратно)26
Л. Треппер ошибается, Я. К. Берзин не принимал участия в подавлении контрреволюционного заговора Р. Локкарта в 1918 году. — Прим. ред На сасамом деле это был Э.П. Берзин (1894-1938), командир 6-го дивизиона латышских стрелков, пиком его карьеры было руководство трестом «Дальстрой» (организация, начавшее промышленное освоени Колымы, подчинялась НКВД) в 1932-1938, расстрелян как враг народа. — Евгений Немец
(обратно)27
Эта встреча не могла состояться в 1938 году, так как Рихард Зорге находился в то время в Японии. — Прим. ред.
(обратно)28
Эта версия встречи Рихарда Зорге и Я. К. Берзина во многом противоречит фактам. Еще до поездки в Японию Р. Зорге в течение ряда лет руководил советской разведывательной сетью в Китае, поэтому он хорошо представлял себе эту работу. — Прим.ред .
(обратно)29
Рихард Зорге устраивался корреспондентом указанной газеты самостоятельно. — Прим. ред.
(обратно)30
Французская контрразведка. — Прим. ред.
(обратно)31
Так же как и многие соратники Я. К. Берзина, полковник Стигга был расстрелян в 1938 году, — Прим. ред.
(обратно)32
Эта встреча могла произойти в начале 1935 года, до отъезда Я. К. Берзина на Дальний Восток, куда он был назначен на должность заместителя командующего Особой Дальневосточной армией, которую возглавлял В. К. Блюхер. Затем Я. К. Берзин находился в Испании в качестве главного военного советника и вернулся в Советский Союз летом 1937 года. Вплоть до своего ареста Я. К. Берзин был начальником разведуправления Красной Армии. После страшных пыток и истязаний он был расстрелян в июле 1938 года. — Прим. ред.
(обратно)33
Это не совсем верно. От агентов поступала в основном объективная информация. Видимо, здесь имеется в виду информация, поступавшая по официальным каналам. — Прим. ред.
(обратно)34
Глава разведывательной группы в какой-либо стране. — Прим. авт.
(обратно)35
«Юманите» имела на сотнях предприятий своих рабкоров. Они присылали в газету репортажи об условиях труда, о забастовках и т. д. Более доверительные сообщения с предприятий, работавших на национальную оборону, ие публиковались, а посылались другим адресатам. — Прим. авт.
(обратно)36
После этой авантюры, из которой Рикье вышел совершенно незапятнанным, руководство Коминтерна решило, что советская разведка в дальнейшем не будет использовать актив коммунистических партий. Намечалось четкое отграничение партийных органов от разведки. Запоздалое, но оправданное решение. Эффективность деятельности рабкоров была в общем очень ограниченной. Вместо этой «мозаичной» работы, состоящей в сборе крупиц информации, следовало отдать предпочтение людям, поставленным на «невралгические» наблюдательные пункты. — Прим. авт.
(обратно)37
Один из работников Разведупра того времени характеризовал Л. Треппера следующим образом: «…Заслуживает доверия. Считаю его человеком с революционным нутром, близким нам по политическим убеждениям и но национальным мотивам. По деловым качествам — способный разведчик, энергичен, инициативен, находчив, умеет выпутываться из трудных условий. Умеет подходить к людям». — Прим. ред.
(обратно)38
Лео Гроссфогель родился в 1901 году в Страсбурге. После возвращения Франции Эльзаса и Лотарингии стал гражданином Франции. В 1925 году дезертировал из армия, в связи с чем потерял французское гражданство. Уехал в Палестину, а затем в Бельгию. — Прим. ред.
(обратно)39
Создание филиалов в других странах было затруднено правовыми нормами, ограничивающими деятельность иностранных коммерческих предприятий на территории этих стран. — Прим. ред.
(обратно)40
Михаил Варфоломеевич Макаров в Испании был переводчиком. — Прим. ред.
(обратно)41
Виктор Сукулов (Анатолий Маркович Гуревич) был в Испании переводчиком на подводной лодке. — Прим. ред.
(обратно)42
Мало вероятно, чтобы Л. Треппер был так хорошо осведомлен о деятельности Р. Зорге, тем более об отношении к нему Центра. — Прим. ред.
(обратно)43
Здесь Л. Треппер несколько сгущает краски. На самом деле были указания Центра на случай усложнения ситуации в связи с началом военных действий. — Прим. ред.
(обратно)44
Рихард Зорге не предупреждал Центр о готовящемся нападении японцев на Пёрл-Харбор. — Прим. ред.
(обратно)45
Была выдвинута гипотеза, будто Ф. Рузвельт не обращал внимания на предупреждения разведслужб о том, что готовится нападение японцев на Пёря-Харбор, дабы создать повод для вступления США в войну. — Прим. авт.
(обратно)46
По русским лагерям был разослан циркуляр, запрещавший надзирателям обзывать политических заключенных «фашистами». Это слово относилось к запрещенному лексикону. — Прим. авт.
(обратно)47
Фриц Тодт, немецкий генерал и инженер (1891 — 1942), в 1940 году — гитлеровский министр вооружений. С его именем связана организация, выполнявшая строительные и фортификационные работы (автострады, линия Зигфрида, Атлантический вал и т. д.). — Прим. перев.
(обратно)48
Эту информацию дает сам Жаспар в письме, которое он послал в 1957 году Роберу Корбену, брату Альфреда. — Прим. авт.
(обратно)49
Группа молодых евреев, руководимая Гербертом Баумом, решила поджечь геббельсовскую выставку. Выданные гестапо провокатором, двадцать восемь товарищей по борьбе были схвачены и обезглавлены. — Прим. авт.
(обратно)50
Полного текста «плана Барбаросса» Центр не получал. Были донесения, освещающие отдельные аспекты этого документа. — Прим. ред.
(обратно)51
Ф. И. Голиков с июля 1940 года по февраль 1942 года возглавлял Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии. — Прим. ред.
(обратно)52
Советскими источниками подлинность данной записки не подтверждается. — Прим. ред.
(обратно)53
В своем документальном повествовании «Накануне, или Трагедия Кассандры» советский писатель О. Горчаков приводит отрывок из радиограммы генерала И. А. Суслопарова, советского военного атташе в Виши (Франция): «21 июня 1941 года. Как утверждает наш резидент Жильбер, которому я, разумеется, нисколько не поверил, командование вермахта закончило переброску своих войск на советскую границу и завтра, 22 июня 1941 года, внезапно нападет на Советский Союз». Резолюция Сталина красными чернилами: «Эта информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор этой провокации, и накажите его». — Прим. ред.
(обратно)54
Мой псевдоним. — Прим. авт.
(обратно)55
«Омаха» — кодовое наименование одного из двух участков высадки американских войск на побережье Нормандии в июне 1944 года. — Прим. перев.
(обратно)56
Возглавлял советскую разведывательную сеть в Швейцарии. — Прим. авт.
(обратно)57
«Красный оркестр» был не единственной разведывательной организацией. Существовали разведсети также в Польше, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Швейцарии, в Скандинавских и других странах. — Прим. авт.
(обратно)58
То есть радисты, которых мы называли «пианистами». — Прим. авт.
(обратно)59
Здесь и далее Л. Треппер, говоря о потоке информации, включает сюда и данные, поступавшие от группы Ш. Радоиз Швейцарии. — Прим. ред.
(обратно)60
Предсказание, сбывшееся шесть месяцев спустя. — Прим. авт.
(обратно)61
Следует подчеркнуть особую ценность информации Р. Зорге, который заверил советское командование, что Япония не станет нападать на СССР. Свежие дивизии, высвободившиеся на Востоке, могли, таким образом, сыграть решающую роль в победоносной битве Красной Армии за Москву. — Прим. авт.
(обратно)62
Международная организация помощи борцам революции. — Прим. авт
(обратно)63
В 1935 году Робинсон по указанию Я. К. Берзина был привлечен к работе на советскую военную разведку. Он добывал исключительно ценную информацию по авиационной технике. К началу войны имел во Франции две рации, хорошую сеть, которая была лучше подготовлена к работе в условиях военного времени, чем группа Л. Трейдера. Передача его на связь последнему была ошибкой Центра. — Прим. ред.
(обратно)64
Впоследствии фирма «Симэкс» перевела свою контору на Бульвар Осман. — Прим. авт.
(обратно)65
Атребаты — народность, жившая в Бельгийской Галин. — Прим. перев.
(обратно)66
С 1946 года город Зеленоградск Калининградской области. — Прим. ред.
(обратно)67
Здесь я сошлюсь на книгу В. Шелленберга «La chef du contreespionnage naziparle» (Paris, 1957, p. 353 ff.), который писал, что «в конце 1941 г. Гитлер приказал покончить с русским шпионажем в Германии и на оккупированных территориях. Гиммлеру было поручено обеспечить тесное сотрудничество моей разведки со службой Мюллера (гестапо) и контрразведкой Канариса. Эти операции, получившие название „Красный оркестр“, координировались Гейдрихом. После убийства Гейдриха1942 г. Гиммлер вновь взял на себя обязанности по руководству и координации действий по „Красному оркестру“. — Прим. авт.
(обратно)68
Видимо, имеется в виду Гамбургское восстание в октябре 1923 года. — Прим. ред.
(обратно)69
Л. Треппер доложил о провале радиоквартиры в Брюсселе 1 февраля 1942 года. — Прим. ред.
(обратно)70
Кент не был в Чехословакии. — Прим. ред.
(обратно)71
Константин Лукич Ефремов был единственным членом группы, имевшим военное академическое образование, хорошо разбирался в военных вопросах. Вместе с Венцелем, который был его заместителем и радистом, была создана компактная и хорошо законспирированная сеть агентов (в Бельгии, Голландии и других странах). Включение в эту сеть группы агентов из провалившейся резидентуры до выяснения последствий провала было серьезной ошибкой Центра. Подробнее об этом и всем, что касается Ефремова, см. Послесловие, — Прим. ред.
(обратно)72
по другим данным, Кент был арестован 9 ноября 1942 года. — Прим. ред.
(обратно)73
По-французски «L'ours de I'URSS» — здесь шуточное созвучие произносится: «ль урс де ль юрсс». — Прим. перев.
(обратно)74
Встать (нем.). — Прим. перев.
(обратно)75
«Было очень важно войти в контакт с русскими в момент вступления в переговоры с Западом. Растущее соперничество между союзными державами укрепило бы наши позиции», — вспоминал в своих мемуарах Шелленберг. — Прим. авт.
(обратно)76
И. Венцель в отчете после возвращения в Советский Союз дает другую версию своего побега. Гитлеровцы обычно имели привычку оставлять ключ от радиоквартиры с наружной стороны двери. Воспользовавшись удобным моментом, он закрыл гестаповцев в квартире и, пока они ломали дверь изнутри, успел бежать. После побега он пытался установить связь с Центром через самодельный радиопередатчик, но безуспешно. — Прим. ред.
(обратно)77
В действительности Робинсон был арестован позже — 21 декабря 1942 года. — Прим. ред.
(обратно)78
Жена Гарри Робинсона Клара Шаббель, член антифашистской организации X. Шульце-Бойзена и А. Харнака, была казнена в берлинской тюрьме Плетцензее 5 августа 1943 года. Посмертно награждена орденом Отечественной войны 2-й степени. Их сын Лео в настоящее время проживает в ГДР. — Прим ред.
(обратно)79
Об этом сообщил еженедельник «Шпигель» в серии очерков под названием «Структура „Красного оркестра“, опубликованных в 1968 году. — Прим. авт.
(обратно)80
Пьер Броссолет (1903 — 1944), социалист, историк и журналист, с 1942 года был в политическом штабе генерала да Голля в Лондоне. Несколько раз его сбрасывали с парашютом над территорией оккупированной Франции для выполнения политических поручений. Арестованный, не выдержав истязаний, он выбросился из окна пятого этажа здания гестапо на авеню Фош. — Прим. перев.
(обратно)81
Непременное условие (лат.). — Прим. перев.
(обратно)82
Упоминаемая автором радиограмма Центра архивными документами не подтверждается. Доклад Леопольда Треппера, переданныйим с помощью Жюльетты, был получен в Центре лишь в июле 1943 года. — Прим. ред.
(обратно)83
Один из них добавил, будто Винтеринк сбежал при содействии охранников. — Прим. авт.
(обратно)84
Якоб Хильболлинг и его жена также были доставлены в Бреендонк. Якоба казнили в январе 1943 года, судьба жены неизвестна.
(обратно)85
После ареста Избуцкого Саре Гольдберг удается исчезнуть и примкнуть к движению Сопротивления. Впоследствии ее схватили и отправили в Освенцим. — Прим. авт.
(обратно)86
М. Макаров в Советский Союз не вернулся. — Прим. ред.
(обратно)87
Палач решил замаскировать это убийство. В германских архивах Герш Сокол значится как расстрелянный. Его могила, вместе с могилами трехсот других борцов Сопротивления, находится в «Национальном тире» в Брюсселе. Писатель Хайнц Хёне в книге «Кодовое слово „Директор“ отмечает, что „Сокола ликвидировали!“. Выражение, характерное для бывшего члена нацистской молодежной организации „гитлерюгенд“. — Прим. авт.
(обратно)88
Один из его сокамерников после войны напишет Жермене Драйи: «Он мне сказал, что по прибытии в лагерь Бреендонк его подвергли жестоким пыткам, а майор Шмитт натравил на него свою собаку, которая изгрызла обе его ноги». — Прим. авт.
(обратно)89
Имеется в виду не позднее 1975 года, то есть даты выхода в свет книги Л. Треппера. — Прим. ред.
(обратно)90
Следует прибавить двадцать восемь расстрелянных из группы еврейской молодежи, арестованных в дни выставки «Советский рай» в Берлине. — Прим. авт.
(обратно)91
Часть архива зондеркоманды гестапо попала в руки советского командования. — Прим. ред.
(обратно)92
«Огненные кресты» («Круа-де-фэ») — организация бывших воинов, основанная в 1927 году под председательством Ля Рока и распущенная в 1936 году. Антипарламентская и националистическая по своей ориентации, она приняла участие в профашистских демонстрациях б февраля 1934 года. — Прим. перев.
(обратно)93
Райзер утверждает, что, начиная с этого момента, Москва перестала участвовать в «Большой игре», ибо Центр разгадал германскую стратегию; впрочем, начальники Райзера в Берлине не разделяли это мнение. — Прим. авт.
(обратно)94
А. А. Власов, командующий 2-й ударной армией, генерал-лейтенант, сдался в плен гитлеровцам в июле 1942 года. — Прим. ред.
(обратно)95
«Русская освободительная армия» (РОА) — антисоветское военное формирование, созданное в составе вооруженных сил фашистской Германии во время войны из предателей Родины, а также насильственно мобилизованных военнопленных. — Прим. ред.
(обратно)96
Середина южной половины территории Франции. — Прим. перев.
(обратно)97
Роза Б. — это Маргарита Болли. См. подробнее об этом эпизоде книгу Шандора Радо «Под псевдонимом Дора».М., 1978. С. 149 — 150. — Прим. ред.
(обратно)98
Гейдрих был назначен исполняющим обязанности имперского протектора Чехии и Моравии 28 сентября 1941 года. — Прим. ред.
(обратно)99
В своих мемуарах Шелленберг пытается доказать, что Мюллер постепенно превратился в поклонника Сталина и его режима. Вместе с Борманом он его подозревает даже в том, что тот вел собственную игру с Москвой, хотя ничем не доказывает этого. — Прим.aвm.
(обратно)100
Французские партизаны. От слова maquis (маки) — заросли, чаща. — Примперее
(обратно)101
Насмешливое и презрительное обозначение женщин, которые во время оккупации сотрудничали в административных службах вермахта. Эти женщины носили серую форму. — Прим. авт.
(обратно)102
Административный центр общины О-де-Сен. — Прим. перев.
(обратно)103
Франтиреры — вольные стрелки. — Прим. перев.
(обратно)104
«Только для немцев» (нем.). — Прим. перев.
(обратно)105
Полевая жандармерия (нем.). — Прим. перев.
(обратно)106
Бисмарк считал победу Германии над Россией принципиально невозможной. — Прим. перев.
(обратно)107
Позже к ней прибавится фотография Клода Спаака. — Прим. авт.
(обратно)108
Сладкая жизнь (ит .). — Прим. перев.
(обратно)109
Рассказ Элен Пориоль, по-видимому, был записан на пленку. Редакция сочла возможным передать его именно в таком виде. — Прим. ред.
(обратно)110
В марте 1943 года Центр направил Кенту указание о восстановлении связи с Озолсом. В это время Центр знал, что Кент арестован и находится в руках гестапо. Фактически Озолс и его группа были выданы Кентом гестапо. Видимо, руководитель зондеркоманды скрыл эти факты от Л. Треппера. — Прим. ред.
(обратно)111
Условное название однойиз крупнейших разведывательных групп французского Сопротивления. — Прим. ред.
(обратно)112
Автор явно ошибается. Шляпников Александр Гаврилович — член РСДРП с 1901 года, участник трех революций, нарком труда в первом Советском правительстве, один из руководителей «рабочей оппозиции» в 1921 году — во время чистки в партии в 1933 году исключен из ВКП(б), арестован в 1935 году, расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в 1937 году. Перед арестом работал экономистом в управлении Нижне-Волжского пароходства. Дело Шляпникова А. Г. было рассмотрено Военной коллегией Верховного суда СССР 31 января 1963 года и за отсутствием состава преступления прекращено. Реабилитирован посмертно. — Прим. ред. И в правду, мутная какая-то история. Шляпников вернулся из Франции в 1925 (там он начальником торгпредства был), потом тихо-мирно прожил несколько лет, а потом началось: в 33-м вылетел из партии, в 35-м — ссылка, в 37-м — расстрел. Кого встретил Треппер в самолете — черт его знает. Вообще все члены того первого совнаркома поголовно поумирали в 1937-39 гг, повезло только матросу Железняку (который «шел на Одессу, а вышел к Херсону») погибнуть в гражданскую, Луначарскому в 1933, ну и председателю — Ленину, конечно (кто-то еще, не помню, до 42-го в лагерях протянул, но войну совершенно точно никто не пережил). А если в 37-м не Шляпникова расстреляли, то кого? На самом деле его фотографий почти не сохранилось, несколько хороших, как говорят, книг по истории революции он написал после возвращения, что странно для рабочего-металлурга и на первый взгляд вызывает мысль о какой-то подставе. Короче, детектив. — Евгений Немец
(обратно)113
Свобода Ш. Радо была недолгой. Он спрятался в одном английском лагере, но Москва немедленно и энергично потребовала его выдачи. Добрые отношения между Великобританией и Советским Союзом были намного важнее судьбы Радо. Через несколько месяцев после его «побега» за ним прибыли агенты НКВД, и вскоре рука дьявола раздавила его. — Прим. авт.
(обратно)114
Чтобы не оставалось никаких сомнений, повторю: Паннвиц, начальник зондеркоманды, обладал всеми полномочиями для отсрочки казни заключенных, если эти заключенные были ему нужны для «работы». Понятно, что в описываемое время я не мог знать о судьбе моих товарищей. — Прим. авт.
(обратно)115
«Смерш» — «Смерть шпионам», официальное название органов советской военной контрразведки в 1943 — 1946 годах. — Прим. ред.
(обратно)116
Руководительница «Бунда», после революции вступившая в большевистскую партию, ректор Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Мархлевского (КУНМЗ). — Прим. авт.
(обратно)117
Семья Л. Треппера узнала о его судьбе лишь после его возвращения из тюрьмы в 1954 году. — Прим. ред.
(обратно)118
В 1955 году я вновь встретил его в Москве у входа в баню. После нашей «истории» его переместили по должности и понизили в звании, а двумя годами позже ему удалось выйти из кадров НКВД. — Прим. авт
(обратно)119
Паннвиц был отпущен на свободу в 1955 году на основании соглашения между ФРГ и СССР. — Прим. авт.
(обратно)120
Поскольку они еще живы, то по понятным причинам я не называю их имен.-Прим. авт.
(обратно)121
СССР официально объявил войну Японии 8 августа 1945 года. — Прим. авт.
(обратно)122
Шульгин Василий Витальевич (1878 — 1976), русский политический деятель, монархист. Один из лидеров правого крыла 2 — 4-й Государственной думы, член Временного комитета Государственной думы. После Октябрьской революции один из организаторов борьбы против Советской власти. Белоэмигрант. В 1944 — 1956 годах находился в заключении по приговору советского суда за контрреволюционную деятельность. В 1960-х годах призвал русскую эмиграцию отказаться от враждебного отношения к СССР. Написал воспоминания: «Дни», «1920 год». — Прим. ред.
(обратно)123
Вооруженные банды деклассированных элементов, боровшиеся против революционного движения в 1905 — 1907 годах, организаторы еврейских погромов. — Прим. ред. Примитовное определение, но вцелом верное —Евгений Немец
(обратно)124
Советский Союз был одним из первых государств, которое в 1948 году признало Израиль и оказало ему военную помощь в войне, инспирированной правительством Великобритании. — Прим. авт.
(обратно)125
В их числе известные писатели Исаак Пфеффер, Перец Маркиш, Бергельсон, Добрушин, Нусинов и бывший генеральный секретарь Профинтерна С. Лозовский. — Прим. авт.
(обратно)126
Собственно, эту книгу выпустили нынче в ЭКСМО как приложение к сериалу. Хотя Треппер и хорошо отзывается о ней, его заявления о том, что для чего-то время еще не пришло и что ответственность он брать не хочет, вызывают у меня сомнения в ее полноте и достоверности. — Евгений Немец
(обратно)127
Журнал ЦК ПОРП. — Прим. перев.
(обратно)128
Л. Треппер имеет в виду известного советского писателя Юрия Королькова, который в течение многих лет встречался с ним в Москве и Варшаве, хотел написать книгу о нем и его товарищах по «Красному оркестру». К сожалению, это ему не удалось осуществить. — Прим. ред
(обратно)129
Имеются в виду книги А Азарова, В. Кудрявцева «Забудь свое имя» (М, 1972) и «Дом без ключа» (М., 1973). — Прим ред
(обратно)130
Как мне говорили, через несколько месяцев неприятности были устроены также и представителям французского телевидения, которые хотели снять интервью со мной. Режиссером этой группы был Жан-Пьер Элькабах. — Прим. авт.
(обратно)131
Там от памятника замученным евреям осталась только зияющая дыра в земле. — Прим. авт.
(обратно)132
Сфабрикованное в 1894 году дело по обвинению офицера французского генштаба еврея А. Дрейфуса в шпионаже в пользу Германии. Суд приговорил Дрейфуса к пожизненной каторге. Под давлением общественного мнения в 1899 году Дрейфус был помилован. В 1906 году — реабилитирован. — Прим. перев.
(обратно)133
Во французском законодательстве предусмотрена особая процедура, по которой можно привлечь к судебной ответственности на уголовно-правовой основе префекта (высшего административного чиновника департамента). Так как на свою последнюю должность Роше был назначен между двумя судебными заседаниями, апелляционный суд через несколько месяцев отменил приговор и заявил, что после этого назначения прокурору следовало действовать через отделение по уголовным делам кассационного суда, в чью компетенцию входит данный случай. В январе 1975 года кассационный суд согласился с этим решением, однако указал, что провести новое судебное разбирательство правомочен только Версальский суд. Поскольку мои отношения с французским государством нормализовались на мирной основе, то я считал излишним вновь затевать тяжбу по делу, в отношении которого уже был вынесен приговор. — Прим. авт.
(обратно)



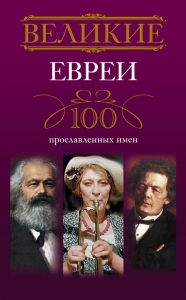

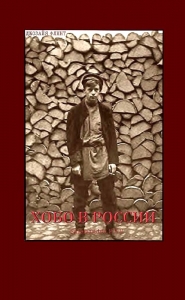

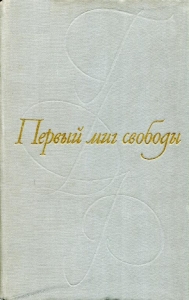
Комментарии к книге «Большая игра», Леопольд Треппер
Всего 0 комментариев