Сергей Николаевич Голубов Когда крепости не сдаются
… Венец жизни — подвиг.
ЭнгельсЧасть I
Горе государству, которое в руках капиталистов, это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах.
БелинскийГлава первая
Мужики с окрестных болот и песчаных бугров — из Скоков, Кобылян и Добрыни — все как один косматые, до глаз заросшие густым волосом, в широких синих зипунах, были главной рабочей силой на форте VII, а бабы — силой подсобной. Работали мужики и бабы по вольному найму. Распоряжался ими гражданский десятник Василий Иванов, а расчеты вел табельщик Жмуркин.
— Где же, наконец, Жмурлькин?
Инженерный офицер, появившийся на пороге конторы, обычно не картавил, но стоило ему потерять самообладание, рассердиться, взволноваться — картавинка вдруг прорывалась и даже довольно резко. Десятник угодливо захлопотал.
— Сейчас тут был, ваше благородие, да убег куда-то, раздуй его горой, — не докличешься. Жму-уркин!!!
Производитель работ на форте VII капитан Карбышев принялся ходить по конторе нетерпеливо-быстрыми шагами. За распахнутым настежь окном, в серо-белых облаках жаркой пыли громоздились черные курганы насыпной земли, неоглядные развалы извести, камня и бревен, горы свежеобтесанных кольев, бочки с цементом, мотки колючей проволоки, — гигантская мешанина из грязи и сокровищ. В пучине кажущегося хаоса крохотный домик конторы был единственным островком бьющей в глаза чистоты. И его аккуратной миниатюрности приходилась подстать строго подтянутая фигура инженерного капитана. В узком кителе и длинных, хорошо отутюженных брюках Карбышев был похож на механического человечка, — ловкого, верткого, с тугим, круто пружинящим заводом. Справа на кителе — академический знак; в петлице — владимирский крест с мечами; на шашке — «клюква»[1] с анненским темляком: бывалый капитан. Его живые яркочерные глаза смотрели так широко и открыто, что, казалось, будто они без ресниц. Карбышев шагал по конторе, а десятник, почтительно примечая его волнение, думал: «Ну, теперь Жмуркина дело — швах…»
Собственно, давно к этому шло. Уже не раз старший писарь из хозяйственного комитета по строительной части говорил о Жмуркине прямо: «В делах мошенник из первых, — хвалить не буду». Да и капитан без настоящей причины не стал бы нервничать и «обижаться», — «Жмуркина дело — швах…»
Табельщик вбежал в контору и по-солдатски замер перед Карбышевым. В затасканной кумачовой рубахе и пестрых штанах из грубой холстины, он глядел безгласным вахлаком. А между тем не было на форте человека оборотливей и речистей. «Ахтер», — в сотый раз подумал о нем десятник. Неподвижность и немота будто вовсе одолели Жмуркина. С его загорелого, потного лица неудержимо сползала живая краска, и коричнево-смуглой бледностью все резче заливалось лицо. Карбышеву бросился в глаза его рот: совершенное дупло. Так похож, что хоть сейчас бросай туда какую-нибудь дрянь.
— Вор!
Табельщик судорожно передвинул ноги. На языке у него вертелось что-то дерзкое и наглое. Но язык одряб до того, что не шевелился, и табельщик молчал. В воскресенье он выдавал рабочим «зажитое». На столике поблескивали в ровных стопках рубли и полтинники. Пачки разноцветных ассигнаций топырились, хрустя под кирпичным гнетом. Водя пальцем по страницам платежных ведомостей, Жмуркин называл имена.
— Степан Бука… Михал Пятух…
Мужики в праздничных белых свитках один за другим подходили к столику. На тех, что помоложе, были белые рубахи, выпущенные из-под жилетов.
— Марилька Арол… Фронька Пуга…
Подходили бабы, кивая высокими каланчами кичек, зелеными и красными, плотно насаженными на обожженные солнцем лбы.
— Вот что, Бука, — говорил табельщик, — работал ты кое-как, — правду скажу: еле работал. И по этой причине, Бука, многовато тебе рупь в день. Получай по шесть гривен и ходи с миром!
Степан протягивал руку, получал и кланялся. Жмуркин ставил в ведомости крест.
— А тебе, Фронька Пуга, причитается по восемь гривен, — за шесть дней четыре рубля восемьдесят копеек. Что с тобой делать? Получай трешку, и хватит!
Но Фронька вздрогнула и разинула звонкий рот.
— Святы дзень! Да такого воука пайскаць! Давай за рытье, что мне положено, — все четыре рубля восемь гривен…
Табельщик крякнул.
— Вишь ты… Ну, бери все. А только потом не жалься, коли мужик твой узнает, как ты на разливе с солдатом под козырьком…
Фроньку качнуло. По круглому лицу ее расплескалось пламя, из синих глаз брызнуло слезой. Голос Фроньки оборвался, и слова еле слышно сползли с языка:
— Яки казки выговаруешь над старэй бабэй! Бог с тобой, — давай хоть и три рубля, чтобы ты сяводни умер!
Вот, собственно, и вся вина табельщика. А капитан…
— Нашел у кого воровать, мерзавец!
Жмуркин уже не сомневался: конец. О непримиримом бескорыстии капитана Карбышева знал в Бресте каждый воробей. Чиновники из хозяйственного комитета боялись не коменданта крепости, не начальника инженеров, а капитана с форта VII. Карбышев никогда не писал ни кляуз, ни доносов. Но не только в тесном офицерском кругу, а и на больших совещаниях в инженерном управлении не раз случалось ему насмерть резать казнокрадов своевременно и громко сказанным словцом.
— Да, еще и нашел когда воровать!
Жмуркин понял: это о войне. Строго говоря, войны еще не было, но, по сути дела, она уже была. Недавно в каком-то городишке Сараеве какие-то сербы убили какого-то герц-шмерц-герца с супружницей. И от этого австрияки сдуру навалились на сербов. Кто такие сербы, кто австрияки, почему немцы полезли в чужое дело, — ничего этого Жмуркин не знал и не понимал. Но знал и понимал, что, когда офицеры говорят об австро-сербских происшествиях, — их речь о войне. История уже бросила в оборот страшное слово: ультиматум, а питерские рабочие уже встретили знатного иностранца господина Пуанкарэ свистками с баррикад. Война…
Тридцать лет тому назад форт VII был вынесен на четыре версты к западу от брестского крепостного ядра. Теперь капитан Карбышев заканчивал перестройку этого форта. С работой торопились. К системе старых укреплений присоединялась перволинейная позиция из четырнадцати новых фортов. Их пояс местами выдвигался почти на десять верст от цитадели, а по окружности растягивался на сорок. Каждому из будущих фортов предстояло вмещать по роте пехоты и по нескольку противоштурмовых орудий. Отвесный ров трехсаженной глубины… Надежные убежища под брустверами… Вся одежда — бетонная… И трудиться над созданием этой мощной линии передовых фортов должны те самые мужики и бабы из Скоков, Кобылян и Добрыни, которых бессовестно обкрадывал табельщик Жмуркин.
Капитану Карбышеву с давних пор была известна разница между опытным рабочим и новичком. Стоит сказать опытному рабочему: «Делай окоп полного профиля „, — и он без промаха даст окопу нужный размер. Скажи опытному рабочему: «Делай блиндаж“, — и он сам не только выберет, но еще и рассчитает материал. Карбышев ценил опытных рабочих и старательно поддерживал в их глазах свой начальнический авторитет. За четырнадцать лет военно-инженерной службы он убедился: авторитет офицера в русской армии держится на трех китах — на доверии, на уважении и на любви. Доверие завоевывается профессиональными качествами — знаниями, распорядительностью, находчивостью, осторожностью. Уважение достигается честностью и высокой добросовестностью. А любовь — заботами о подчиненных и защитой их интересов. И никогда еще Карбышев не сходил с этих верных путей…
Бывает у людей пронзительность во взгляде; бывают, как огонь, горящие глаза. Но взгляд, под которым терзался и трепетал сейчас вор, не только ранил и жег, а еще и давил, цепенил фанатической силон своей правдивости.
— Василий Иваныч, — сказал десятнику Карбышев, — примешь от Жмуркина деньги. Ведомости сдай письмоводителю.
Твердые слова капитана обгоняли друг друга, — в минуты сильного возбуждения его речь, и без того всегда скорая, делалась чуть пулеметной. Жмуркин знал эту пулеметность и по ней догадался: «Без волчьего пачпорта не выпустит, эх!» И, как человек, которому терять больше нечего, выговорил первое и последнее, что смогла выродить в таких трудных обстоятельствах его разбойничья душа:
— Из-за напрасна человека губишь, ваше благородие, ей-ей! Гляди, как бы не… Бывает так-то…
Но Василий Иванович уже выпроваживал табельщика за дверь конторы.
* * *
На велосипеде Карбышев чувствовал себя прекрасно. Рукоятка руля становилась продолжением его чутких и сильных пальцев; педаль срасталась с неутомимой ногой. Легкая и послушная машина не мешала думать, зато тело переполнялось приятными ощущениями здоровья и правильной слаженности внешних и внутренних пропорций.
Капитан жил в городе, верстах в шести от форта VII, и ежедневно по два раза, с никогда не притуплявшимся удовольствием, покрывал это расстояние на своем стальном коне. Сейчас он катился в город. До выезда на Тереспольское шоссе его преследовало поганое воспоминание о Жмуркине; но здесь оно вдруг оторвалось и растаяло позади. Карбышев задумался о предстоящей поездке в Петербург, — ему часто приходилось бывать там по проектным делам. Он любил Петербург за связанное с ним хорошее прошлое, за раннюю пору своей жизни, за училище, за академию… Карбышев кончил академию первым по баллам в своем выпуске: проектирование крепости — 11,5; фортификационный проект старшего класса — 12; строительный проект — 11,9; архитектурный — 12…[2]. Вспоминать как будто бы даже не стоит, а и забыть — невозможно…
Его трудолюбие и трудоспособность многим казались тогда необыкновенными. Офицеры дополнительного класса не спали ночей перед экзаменами — проектировали и приходили на экзамены с красными глазами. А Карбышев появлялся свежий, гладко выбритый, вынимал из папки не один, а шесть чертежей к своему проекту. Спрашивается: достаточно ли одного трудолюбия для шести самостоятельных решений?
Подъезжая к цитадели, капитан оглядел давно знакомую картину: люнеты, фланкирующие постройки… Впереди — цепной мост через Буг, и на обоих берегах реки — старая крепость… Когда весной одиннадцатого года Карбышев приехал сюда на службу, его поразило отсутствие у брестских фортов круговой обороны. Нет ее и теперь. Как не были разделены средства ближней и дальней обороны, так и… Однако, господа, это много похуже Жмуркина. И неужели никогда не будет этому конца?.. Опустив голову, он принажал на педали. По сторонам шоссе все чаще вставали кривые старые вербы, сплошь облепленные гнездами. Черные тучи хриплоголосого воронья густо вились над вербами. Карбышев въехал в цитадель по висячему мосту, свернул, близ башни направо к гауптвахте с караулом у фронта и дальше по плацу, между комендатурой и церковью, мимо инженерного управления, мимо красивого, как дворец, офицерского собрания, — на Муховецкий мост. Сколько раз видел он эти ворота, мосты и башни, и красное кольцо бесконечной оборонительной казармы, и склады в подвалах древних кляшторов[3], и огромные пороховые погреба… Как крепостное сооружение цитадель давным-давно отжила век. И все-таки, глядя на чистенькие кирпичные стены старинной боевой игрушки, Карбышев читал на них небывалое — кровавую эпопею подвигов, мужества и геройского терпения, историю заново преодоленной севастопольской судьбы. Не было здесь этого? Не было. Но кто поручится, что не будет?..
За Муховецким мостом — офицерские флигеля. Карбышев быстро миновал это скучное место и выехал из крепости через Александровские ворота. До города оставалось около версты. Дорога шла вдоль железнодорожной насыпи. За нею — слобода Граево и казармы саперного батальона. А впереди направо — город. Отсюда он уже хорошо виден. Однако несколько человеческих фигур, тесно сбившихся в кучку, заслоняли его сейчас собой. Что за люди? Зоркий глаз Карбышева определил без ошибки: шестеро рядовых пехотинцев при ефрейторе и унтер-офицере. Это караул возвращается в крепость с вокзала. Солдаты были чем-то заняты так, что ни один не приметил подъезжавшего капитана. Они стояли кружком и разглядывали винтовку, казавшуюся прутиком в руках высоченного детины. У тех, которые разглядывали, были явно смущенные затылки и спины, а у верзилы мелко и часто дрожал подбородок. Примкнутый к винтовке штык был сильно погнут на сторону; ружейная ложа разбита в щепу. Скверно!
— Что случилось, ребльята?
При слове «ребята» солдаты вздрогнули и вытянулись, — так по-офицерски скартавил его удивленный Карбышев. Они угрюмо смотрели на капитана, узнав его по велосипеду и по невысокой, хорошего мужского склада, широкой в плечах, узкой в тазу, фигуре. И он смотрел на них немигающим взглядом, — спрашивал. Унтер-офицер выступил вперед.
— Так что полное несчастье, ваше благородие…
* * *
Стоя на часах у вокзальной водокачки, рядовой Романюта смотрел на дальний лес, синевший у горизонта, и думал о доме. Ему ясно представлялась худая изба из тонких кругляков, прибившаяся с боку к тесной деревушке, между частым бором и глубокой петлистой речкой. Здесь-то и вырос он — возле сохи и бороны, и труд пахаря был его первой школой. Эта школа разбудила в нем душу. Здесь-то и высмотрел он своими молодыми ясными глазами то, что казалось ему тогда главным в жизни. А затем. — военная служба. Но не пашут, не боронят в полку. Между тем именно полк должен был переучить Романюту, показать ему мир с той стороны, о которой его упрямое сознание никогда до сих пор и знать не хотело. Трудная задача! Чем ближе подходила к концу военная служба Романюты, тем слаще мечталось ему о доме. И чем ярче рисовалась в памяти скудость родного гнезда, тем вернуться в него казалось желанней. Редкий месяц не получал Романюта письма от жены. Почти каждое из этих писем было таково, что, прочитав его, он долго сидел с каменной тоской в широкой груди и внезапно осунувшимся лицом. То дедушка Костусь пошел побираться; то дядя Викентий вдруг упал на улице скорчен, да уж так и не расправился; то кум Калошка бросил жену и вовсе пропал с глаз. «Злая жизнь, — стоя у водокачки, думал Романюта, — злая…» Однако люди, как видно, привыкли к тому, чтобы она была такой. Во всяком случае, злая деревенская жизнь манила к себе Романюту, как свет, звала, как радость. И он с жадностью высчитывал недели и дни, оставшиеся до увольнения в запас…
Шли солдаты с караула весело — беззаботно зубоскалили и смеялись. Весь наряд состоял из старослужащих, а караульный начальник бывал строг только с молодыми. Присутствие начальства никого не тяготило.
— Ох, и надоела эта самая жизнь на цыпочках!
— Да, нашего брата, жеребцов стоялых, только из конюшен выведи… Разве это возможно, чтобы без упряжки!..
— Известно! Год служи, а девять тужи!
Унтер-офицер остерег, для порядка:
— Смейся, ножки свеся, а говори, так подбери!
Когда проходили мимо Граевской слободы, Романюта попросил унтера:
— Дозвольте, господин отделенный, в лавочку за бумагой сбегать!
Унтер глянул искоса, предупреждающе.
— Можешь! Однако свое дело делай, а нашего не порть, — чтобы без задержки!
— Я — духом…
И Романюта пустился к слободке напрямик через линию железной дороги.
Покупателей в лавочке не было. Торговка сидела у двери и вязала чулок. Отложив вязанье, она впустила солдата в полутемный чулан и первым делом так переставила на полочке товар, что из-за бумажных картузов с махоркой, ссохшихся кусков серого мыла и банок с ядреной солью, известной под названием «бузун», прямо на Романюту глянули ясные бутылки с водкой, залитые по головкам красным сургучом. Но Романюта отвел глаза и спросил про бумагу.
— И то есть, — сказала торговка, — письма писать?
— Письма.
— Домой?
— Домой.
— А почему, кавалер, мало берете? Возьмите пачечку или две — бумага гомельская, первый сорт, поискать такой бумаги, ей-ей, и в городе не найдется. На такой бумаге письма писать, особенно жене, это, знаете… Две, что ли?
— Не надо двух, — радостно возразил Романюта, — мне и служить-то осталось всего два месяца.
Торговка внимательно оглядела великана черными грустными глазами.
— Ой, кавалер, чтобы по-вашему было, а домой вы скоро не попадете.
— Почему?
— Увидите.
— Болтай…
Торговка вздохнула.
— Водки давно не пили?
— Давно.
— У шинкарей казенная на четвертак подорожала, к рублю идет. А вы — домой!
Романюта не понимал, о чем она толкует. Но чуял в ее словах неладное.
— Только я одна еще не сошла с ума, — говорила торговка, — отпускаю за штоф по полтиннику. Налить, что ли?
Солдат кивнул головой. Он с удивлением видел, что не только слова, но и поступки этой странной, похожей на гадалку женщины мало-помалу перестают зависеть от его согласия или несогласия. Отказываться просто не стоило: она все равно налила бы.
— Присядьте, кавалер. Рибка, грыбки…
— Сидеть время нет. Живо плескай! Не до баликов…
Как и хозяйка, он выговаривал по-русски не чисто. В роте его дразнили: «Ватние бруки»… Взводный высокомерно осуждал: — «Акцент… А что у тебя за акцент? И беларусь у тебя, и хохлатчина, и Азия самая дикая…»
От тревожных разговоров с торговкой Романюта чувствовал себя скверно: опостылевшая брестская цитадель вдруг надвинулась на него сыростью своих душных, склизких стен, придавила, заслонила далекий вольный свет. Он выпил, крякнул и закрыл глаза, чтобы, сосредоточившись нутром, лучше чуять, как разливаются по жилам горячие струи огненной жидкости из опорожненного стакана. Хотя Романюта и стоял с закрытыми глазами, но почему-то ясно видел в эту минуту маленькую лодку с поникшим парусом, одиноко качавшуюся на бугской волне. И от того, как она качалась, одинокая, родилась в Романюте жалость к себе, а под веками зажглись слезы. Тогда он раскрыл глаза и решительно приказал:
— Еще!
— Дай же бог, кавалер, чтобы всегда так было!
Выскочив из лавки после второго стакана, взобравшись на полотно и увидев, что его товарищи успели довольно далеко подвинуться вдоль линии, Романюта зашагал по шпалам. Ему было очень не по себе. Ноги дрожали, сердце ухало, и какой-то мучительный кавардак царствовал в мыслях. Тоска по дому заволакивала мозг, камнем заваливала грудь, хомутом повисала на могучей шее. Лесное звериное отчаяние ворочалось в Романюте. Еще два, целых два месяца… А старуха из лавки гадает, что и через два не… Романюта споткнулся и чуть не упал. Ружейный ремень соскользнул с его плеча, винтовка тяжело ударилась оземь. Слепая ярость сдавила Романюте горло. Не зная, что делает, зачем делает, он сунул винтовку штыком под рельс и потянул кверху за приклад. Штык подался без сопротивления. Ложа издала суховатый треск. Романюта опомнился. Выхватив винтовку из-под рельса, он поднял ее на уровень лица. Штык — набок; ложа сломана пополам. Итак: оружия, за которое солдат отвечает головой, больше не существовало. Романюта оторопело глядел на дело своих рук. Он это сделал? Когда? Зачем? И вдруг, взревев, как кабан под дулом охотника, кинулся бежать за товарищами в полный размах длинных ног…
…Солдаты стояли вокруг Романюты и обсуждали его беду.
— Да зачем ты это? Зачем?
— Али силу в себе забыл? Это, брат, не капусту для щей крошить!
— Дурак лопоухий! — гневно сказал унтер-офицер, багровый от досады и страха, — олух царя небесного! Уж теперь тебе штрафа не миновать, — еще и в дисциплинарный запрячут!
И опять заговорили все вместе, каждый — свое. Молчал один Романюта, притаив выражение жадного испуга в остановившихся глазах. Тут-то и подъехал капитан Карбышев.
— Полное несчастье, ваше благородие!
* * *
Шоссе, ведущее из крепости в город вдоль болотистой реки Муховец, мимо эллинга, — красивое, удобное, обсаженное тенистыми деревьями, — добежав до города, превращалось в Шоссейную улицу. При въезде в эту улицу, налево, можно было видеть небольшое торговое заведение под вывеской: «Книжный магазин Э. Фарбенковского». Кроме обозначенного на вывеске товара, магазин торговал репродукциями знаменитых картин на почтовых открытках, альбомами для семейных фотографий и еще всевозможными офицерскими принадлежностями: погонами, портупеями, пуговицами, кокардами и перчатками. Выполняя эти чисто коммерческие функции, магазин Э. Фарбенковского не без успеха играл также роль клуба. Карты, буфет и крупные скандалы — это относилось к компетенции офицерского собрания в крепости; а жгучий интерес ко всем видам флирта, энергичнейшее распространение сплетен и стремительные фонтаны пустой болтовни составляли сферу общественной деятельности госпожи Оттилии Фарбенковской и ее очаровательной дочки Брони. Покупателей в магазине всегда бывало гораздо меньше, чем посетителей, но заведение процветало, и все были довольны. За прилавком гостей приветливо встречали хозяйки — розовые, свежие, приятно остроумные, разодетые не хуже иных варшавских дам. Из-за прилавка дверь с круглым отверстием, вроде тюремного «глазка», вела в квартиру, где обретался сам владелец заведения. Господина Э. Фарбенковского никто никогда в глаза не видел; но многим удавалось слышать его глухой, как из бочки, голос: «О, да», «О, нет…»
У окна стоял красивый столик с шахматной доской и костяными фигурами, всегда готовый служить полем для благородного соревнования. И сейчас столик был занят. За ним сидели два капитана: один — усатый пехотинец, другой — Карбышев. Третий офицер, начальник крепостного искрового телеграфа, любезничал через прилавок с хорошенькой Броней.
— Ох-хо-хо!.. — говорил Карбышеву пехотный капитан, — видали вы, Дмитрий Михайлович, как лошади со скуки жуют удила? Вот и мы — точь-в-точь. Тихая гарнизонная заводь…
Карбышев быстро расставил фигуры, с видимым аппетитом прислушиваясь к их костяному стуку.
— Прошу!
— Сделайте одолжение!
Несколько долгих минут игроки напряженно молчали, с величайшей осмотрительностью двигая фигурами по доске. Вдруг, как бы подстегивая ход партии наскоком затаенных мыслей, пехотный капитан сказал:
— Не жизнь, а пустопорожняя хлябь какая-то, ей-ей!
И глубоко вздохнул. В этот момент центральная пешка его противника выдвинулась, и слон собрался выходить.
— А вы не пробовали почитать что-нибудь? — спросил Карбышев.
— Конечно, пробовал. Брался за Тургенева — не могу; на десятой странице от зевоты в скулах треск. Да, и какой тут Тургенев? При моих-то заботах…
Капитан занес руку над ладьей, которая, как известно, сильнее коня и двух пешек, но забыл опустить руку, и рука повисла в воздухе. Голос его неожиданно осип.
— Вот я — Заусайлов, Николай Иванович, капитан российской армии, из дворян, — все — так, все — отлично, а женат я или на женат? Вопрос — неразрешимый. Согласитесь, пожалуйста, — трагический вопрос, а? Какой же тут Тургенев?
С тех пор, как жена Заусайлова бросила его, убежав из Бреста с поручиком-понтонером, приезжавшим в крепость на месячную практику, капитан чрезвычайно обеднел силой духа. Лысый, по-русски красивый, с чистым, спокойно-добродушным лицом, с усами вразлет, длинными и пушистыми, но не падавшими вниз, а торчавшими в стороны из густых подусников, Заусайлов вдруг исхудал и полинял, как это бывает иногда с петухами. Усы его печально опустились. Он совершенно перестал появляться в собрании. Да и нигде не показывался, кроме роты, которой командовал. В первое время после катастрофы его единственным развлечением был непробудный сон. Два-три стакана грога[4], опрокинутые быстрыми кидками под размокшие усы, почти мгновенно усыпляли Заусайлова. Зато к бодрствованию он возвращался с величайшим трудом. Денщик, давно уже обученный разным смешным выходкам, стаскивал с него одеяло, брызгал на его голую грудь холодной водой, вопил над самым ухом: «Ваше благородие, вставать пора, — небесный рефлектор горит!» Лишь после множества подобного рода воздействий Заусайлов открывал мутные глаза, произносил хриплым голосом: «Опять обоспался», и, зарядясь грогом, отправлялся в роту. Впоследствии к развлечению сном присоединились унылые часы на городской судоходной пристани — здесь Заусайлов подолгу слушал ругань грузчиков, свистки, плеск воды под колесами буксиров и тяжелый скрип разбухших шаланд. Еще позже он стал захаживать в адресный стол. Заполнив бланк с запросом о месте жительства своего субалтерна и своем собственном, он получал ненужную справку и угрюмо качал головой: «Вишь, бестии, — верно. И ведь не ошибутся!» В дождливые дни — только грог, рота и река. «Д-да… Погода нынче — подлец!» Жизнь Заусайлова жестоко разъедалась скрытой язвой одиночества. И сегодня пришло время этой язве обнажиться.
Очутившись ни с того, ни с сего в магазине Э. Фарбенковского, встретив здесь Карбышева, присев с ним к шахматному столику и вдруг заговорив о своих грустных делах, Заусайлов испытал невыразимое облегчение, словно выскочил из-под воды на солнце и начал обсыхать в его теплых лучах. Оба офицера давно знали друг друга, еще с японской войны. Заусайлов всегда считал Карбышева очень умным, вполне хорошим человеком. Свойственная Дмитрию Михайловичу отзывчивость, готовность помочь, вывести из затруднения были хорошо известны Заусайлову. И еще одно: Карбышев до такой степени сторонился всякой сплетни, что в офицерском собрании его можно было увидеть только на рефератах. По всем этим причинам, раз начав откровенничать, Заусайлов уже никак не мог застопориться на полпути…
— Манны небесной люди так не ждали, — простонал он, машинально двигая пешку под удар, — как я — войны! В безвыходном моем положении только одна она, матушка, спасти меня может… война!
— Этак не играют, — поправил его Карбышев, — а война даже Наполеона не спасла. Да, кроме того, безвыходных положений и не бывает!
— Не бывает? Совсем, знаете, от мыслей своих оцепенел я. А вам, как на исповеди, расскажу, — посоветуйте!
И Заусайлов, забыв про шахматы, уныло свесил голову между двумя веерами из растопыренных пальцев. Началом его горестей было, конечно, бегство жены. Выражался он об этом постыдном факте весьма деликатно: «Когда моя законная супруга переехала на жительство в город Псков…» Дальнейшие события развертывались не в лучшую сторону. Она «переехала», а он остался в дураках, — живая пища для голодного гарнизонного остроумия. И вот комендант крепости, почтенный, добрый, но уж очень старосветский генерал-лейтенант, зовет к себе командира полка, в котором Заусайлов командовал ротой, и говорит: «Что за анекдот у вас, полковник, с капитаном, который жену проморгал? Этакий ротозей! Очевидно, и офицер никудышный. Весь гарнизон над ним потешается. Конфузное дело…» Вместо того, чтобы оградить подчиненного от инсинуаций, поддержать его, доложить, что жена капитана Заусайлова уехала от него не совсем, а лишь до рождества, или что-нибудь в таком роде, — вместо этого полковник спраздновал труса и — руки по швам. «Так точно, ваше превосходительство! Очень некрасивое дело. И для молодежи — соблазнительное». — «Да, да… Для подпоручиков, поручиков… Смеются над старшим, — недопустимо. Думается мне, что не годится нам, полковник, смотреть сквозь пальцы на такой эпизод». — «Как прикажете, ваше превосходительство». — «Стало быть, первый же грешок капитана, вы ему, полковник, так поставьте на счет, чтобы он тут же и рапорт подал о переводе…»
— От кого вам это известно? — деловито осведомился Карбышев.
— От командира полка. Перед генералом стоял с поджатым хвостом, а со мной распустился, как павлин. Вот, мол, как я благороден, — что было, то и говорю, — все, как есть. Выслушал я. Куда податься? «Слушаю-с!» А кого — слушаюсь? В чем? Неизвестно. И отправился в роту. Настроение — хоть за наган хватайся. Однако думаю: «Спешить не стану. А покамест из кожи вон буду лезть, чтобы под служебную мою репутацию подкопаться никак нельзя было. Уж теперь, думаю, так за работу возьмусь, что хоть к господу богу на последний смотр…» Прихожу. Фельдфебель докладывает: «Ваше высокоблагородие! Рядовой Романюта винтовку изломал». — «К-как? Ч-что?» Я еле на ногах устоял. «Где винтовка? Показывай, сукин сын!» Гляжу: штык, ложа… все — вдрызг. И понимаю: тот самый грех, о котором комендант полковнику говорил, — он уже тут, готов, вот он — налицо.
— Историю с винтовкой рядового Романюты я знаю, — тихо сказал Карбышев.
Заусайлов не удивился, может быть, он даже и не расслышал. Именно в этот момент ему до крайности понадобилось куда-нибудь спрятать свои сыроватые от слез глаза, и он старательно отводил их от Карбышева.
— Дмитрий Михайлович! Об одном прошу: посоветуйте!
— Вы доложили командиру полка?
— Не докладывал. Сперва с вами хотел…
Карбышев положил маленькую сухую руку на его широкий рукав.
— Тогда странно, что вы сами не видите, где выход. Дело совсем простое. И, кроме того, полностью в ваших руках!
* * *
Саперный батальон, инженерная команда, телефонная рота находились в прямом распоряжении начальника инженеров крепости. Подразделения эти состояли как бы на особом положении: за ними признавались некоторые права «интеллигентности». В трех минутах ходьбы от казарм телефонной роты, в огромном здании старого костела, помещалось солдатское собрание с буфетом, отпускавшим пиво и бутерброды. Кроме буфета, зрительного зала и комнаты для танцев, был здесь еще и солдатский карцер. По вечерам собрание до отказа набивалось нижними чинами из инженерных команд, а карцер — рядовыми из пехотных частей. Но, если говорить по самой правде, то интеллигентность даже и в телефонной роте не очень-то поощрялась. Вот что случилось, например, недавно с рядовым этой роты Елочкиным.
По причине воскресного дня Елочкин лежал с газетой на койке. Проходивший мимо фельдфебель ощерился: «Опять лежишь! Я тебя от этого дела отучу. Графы у нас завелись…» — «За что графом-то лаетесь, господин фельдфебель?» — «С газетой валяешься — за то…» — «А что в газете плохого?» — «Помещики да бездельники газету читают. А твое дело, как ты есть солдат, военную обязанность исполнять…»
Кряжистый тяжелоход Елочкин и высокий, худой молодой человек, с бледным лицом и черными усиками, в погонах вольноопределяющегося, шли по Шоссейной улице. Елочкин рассказывал вольноопределяющемуся историю с фельдфебелем.
— Вот и судите, Глеб Александрович, — говорил он, — ну, что с таким оболтусом делать?.. А ведь начальство!
Вольноопределяющийся нервно подвинтил усики.
— Осел задел копытом. Чувствуете, Елочкин, как больше становится от этого в вас смелости и силы?
— Пожалуй, — нерешительно отозвался Елочкин.
— Хорошо! Скоро понадобятся вам и смелость и сила…
— На войне?
— Опять вы — не с того конца…
Вольноопределяющийся живо повернул к солдату свое красивое, тонкое лицо и энергично замахал руками. Погоны с пестренькой выпушкой запрыгали на его острых плечах.
— Война начнется, Елочкин, не для защиты отечества, как полагают эсеры и меньшевики, а для захвата чужих земель, для ограбления чужих народов. Где капитализм, там и война. И эксплуатация рабочего класса и завоевания одинаково нужны капитализму — необходимы ему как воздух. Во всем мире империалисты хлопочут о переделе барышей. А если так, Елочкин, то… война империалистической войне! И понадобится возмущение ваше не для участия в грабительской войне, а для войны с грабежом…
— Слыхал я от вас про то, Глеб Александрович, — тихо сказал солдат и боязливо оглянулся, — да ведь это у нас в России такое мнение. А насчет, скажем, Германии, никак нельзя знать, что они там думают и…
— Кто — они? Поймите, Елочкин, война — это такой этап капиталистического развития, на котором буржуазия с наибольшей полнотой, с самой крайней жестокостью использует рабочий класс для своих интересов. Заставить рабочий класс идти умирать за интересы буржуазии — это высшая форма гнета и насилия. И революционер, который во время войны вдруг возьмет да и откажется от борьбы со своей буржуазией, который вдруг начнет, как ее верный подголосок, звать рабочих на смерть за ее выгоды, — такой революционер есть самый гнусный предатель и изменник делу рабочего класса. В России ли, в Германии — это одинаково так, и одинаково понятно всякому рабочему человеку…
— Допустим. Ну, а Сербию-то надо защищать?
— Сербия? Освободительная война Сербии против Австрии? Начнись эта война независимо от общей войны, начнись она сама по себе, я бы всячески желал победы сербам. Но ведь ничего подобного не будет. Война Сербии с Австрией готова вспыхнуть только для того, чтобы потонуть затем в пучине гигантской общеевропейской бойни. И для исхода этой бойни она роено ничего не будет значить. Общеевропейская бойня будет продолжением политики мирового империализма. А мы с вами знаем, что мировой империализм способен не на освобождение наций, а лишь на их обман и порабощение…
— Так, — задумчиво проговорил Елочкин, — очень хорошо, что сплеснулись мы с вами. Любопытно для меня в высшей степени. Но почему же других, которые бы тоже как и вы думали, нет во всем нашем гарнизоне? Ведь нет?
— Может быть, и нет, — сердито ответил вольноопределяющийся, — по крайней мере, я не знаю.
— Видите… А ведь не одно же у нас тут дурачье…
— То есть?
— Есть весьма и весьма умные.
— Например?
— Ну хоть капитан Карбышев, Дмитрий Михайлович. И умен, и учен, и с солдатом прост, и за справедливость, — верно?
— Да.
— А как откроется война — без слова за Россию умрет.
Вольноопределяющийся перестал сердиться и даже рассмеялся.
— Из вас, Елочкин, недурной агитатор может выйти…
— Что я за агитатор? Плету еле-еле…
— Нет, не плетете. Но Карбышев — не довод. Ни вы, ни я не можем заглянуть в его мысли. Даже просто не можем его ни о чем спросить. Доводы надо черпать из других источников, открытых для всякого, кто хочет знать правду… Вот мы с вами прочитали в газете «Путь правды» статью «В. И.» о развращении рабочих утонченным национализмом[5]. Статья — клад. Сейчас, накануне войны, каждое слово ее жжет, бьет в самое сердце шовинизма…
— В чье сердце?
— Вечером объясню. Хм!.. Карбышева вы давно знаете?
— С одиннадцатого года. В Питере. Я тогда слесарем на строительстве Охтенского моста Петра Великого работал, а он…
— Так. Очень хорошо. До свиданья, Елочкин. Приходите вечером в солдатское собрание, — поглядим кинематограф и еще кой о чем потолкуем.
— Приду.
Они расстались неподалеку от магазина Э. Фарбенковского. Вольноопределяющийся оправил на себе длинную защитную рубаху и зашагал к магазину, мурлыкая студенческую песенку:
Медленно движется время,
Веруй, надейся и жди.
Зрей, наше юное племя, —
Путь твой широк впереди!
На пороге он задержался ровно настолько, чтобы растаял звук последнего слова, и затем — вошел.
* * *
— За-ту-шить! — повторял Заусайлов, откинувшись на спинку стула и глядя на Карбышева круглыми, как пуговицы, изумленными глазами, — за-ту-шить!
— Именно. Не в войне ваше спасенье, а в том, чтобы эта история сегодня же кончилась, не получив огласки.
— За-ту-шить! То есть вы хотите, чтобы я, капитан Заусайлов, спасая собственную шкуру, обманул командира полка, начальника дивизии, коменданта крепости и… самого государя императора? Значит, присяга — под каблук и… все такое прочее. Нет, Дмитрий Михайлович, не смогу!
Карбышев внимательно и серьезно слушал Заусайлова. Только так Заусайлов и должен был рассуждать.
Вот он молодым юнкером военного училища стоит на часах с ружьем у ноги. Душа его священнодействует, а тело — прекрасно отделанная, неподвижная статуя, модель для этюда к картине Коцебу. Вот он в день производства сияет новенькими эполетами на широких плечах. Кто-то — брат, сестра, приятель — дотронулся до эполета: он — за шашку: «Не сметь прикасаться к офицерскому знаку!» Такие случаи бывали, — Карбышев знал о них. Интеллектуальная малограмотность Заусайлова ясна. Мысль его прямолинейна и тупа, но зато она — его собственная. Можно было бы оставить Заусайлова во власти этих мыслей, предоставить его собственной судьбе…
Карбышев был добр и отзывчив, но беспричинного тяготения к так называемым симпатичным людям никогда не испытывал. Инстинктивную слабость к этаким людям он даже признавал, про себя, вреднейшей вещью. Он думал: «Симпатичные люди — вроде десерта, вроде сладкого на обед. Приятно, но сыт не будешь. Главное в жизни — вовсе не сладко. А правда жизни похожа на черный хлеб…» С академических времен Карбышев привык сдерживаться, изменяя этой привычке только в обществе самых близких людей, да еще в горячке фортификационных споров. Заусайлова он знал давно, но вовсе не считал близким человеком. Стараясь спасти его, он думал не столько о нем, сколько о длинноногом деревенском парне в солдатской шинели, которому предстояло жестоко ответить за невольную провинность. Однако что же отсюда следовало? Неужели солдат Романюта был Карбышеву ближе, чем капитан Заусайлов?..
…Опершись о прилавок и молодцевато изогнув спину, поручик-искровик употреблял отчаянные усилия, чтобы раздуть в Броне искру интереса к своей незаурядной личности. Но ни байронические жалобы на гарнизонное безлюдье, ни парадоксы из недавно прочитанного «Дориана Грея» не действовали на хорошенькую девушку. Впрочем, она сразу оживилась до блеска в огромных темных глазах, когда незаурядный поручик с мрачным пафосом заговорил о скорой войне.
— Секрет победы — в авиации…
— А разве у нас есть авиация? — спросила Броня, ласково поблескивая глазами.
— Как вы думаете? — воодушевился поручик, — у нас дивная авиация. До перехода на искровой телеграф я был прикомандирован к воздухоплавательной школе. Я знаю… В августе прошлого года я снаряжал «Ньюпор» для штабс-капитана Нестерова, когда он первый в мире описал мертвую петлю над Куреневским аэродромом. А два месяца назад Нестеров перелетел из Киева в Гатчину за двадцать три с половиной часа, считая все остановки…
— Это — так, — задумчиво сказала Броня, — у нас есть Нестеров, у нас есть вы — множество прекрасных офицеров. Но есть ли у нас авиация? Есть ли у нас в действительности искровой телеграф?
Поручик снисходительно улыбнулся.
— Библейская наивность!
Броня с детской шаловливостью высунула розовый кончик языка.
— А вот я не верю!
— Так-с! Тогда приезжайте завтра на станцию к трем часам дня. Это — учебный час. Вы все увидите и услышите. Будете присутствовать при отправке радиотелеграммы и получении ответа. Хотите?
— Очень! — радостно прошептала любознательная Броня, — очень. Неужели можно?
— Для прелестной Бронички? Возможно все. Приедете?
— Непременно…
— Эдуард! — крикнула в дверной «глазок» госпожа Оттилия Фарбенковская, — алло! У нас не хватает открыток Ундервуда. Ты слышишь?
— О, да! — ответил Эдуард таким глухим голосом, как будто сидел где-нибудь под диваном.
Трудно сказать, почему Броне не нравился любезный и красноречивый поручик Печенегов, а нравился сосредоточенный в себе и неразговорчивый вольноопределяющийся Наркевич. Во всяком случае стоило только черненькому вольноопределяющемуся переступить порог магазина, как все внимание девушки устремилось именно к нему. Глаза Брони затуманились и перестали блестеть. Зато на матовых щеках вспыхнул нежный румянец. Она протянула вперед тонкую ручку в кольцах.
— Почему вы так давно у нас не были, Глеб?
Сбитый таким внезапным маневром с позиции, поручик Печенегов предпринял отходное движение на госпожу Оттилию Фарбенковскую. Направление это было взято им с досады и от растерянности, но оказалось совершенно правильным. Поручик был обижен, и госпожа Оттилия Фарбенковская тотчас поняла это. Настоящая хозяйка дома высоко несет знамя гостеприимства. Все ошибки и промахи по этой части немедленно устраняются ее опытной рукой. Броня вела себя необдуманно. Поручику надлежало возвратиться к ней. И в самом деле, уже через минуту все были на своих местах.
— Приедете, Броня? — снова спрашивал поручик Печенегов.
— Непременно…
С точки зрения хорошего, умного гостеприимства все было так, как надо, кроме румянца, вдруг сбежавшего со щек девушки. А Наркевич очутился у окна, возле шахматного столика. После проигранной Заусайловым партии на поле здешней битвы царствовал покой. Офицеры глухо переговаривались вполголоса, стараясь в чем-то убедить друг друга.
— У каждого из нас свои взгляды и привычки, — настаивал Заусайлов, то вынимая из кармана брюк, то пряча туда большой серебряный портсигар с накладной монограммой, — я, например, так считаю: если офицер в бою не строг с солдатами, он боится либо их, либо самого себя и, следовательно, во всяком случае — трус. Я не могу отступить там, где обязан стоять во всеоружии. И требовать от меня…
— Никто от вас ровно ничего не требует. Не хотите — не надо. Вам виднее.
— Ну, а как же все-таки быть?
— Как? Очень просто: плыви, моя гондола…[6]
Заусайлов тяжко вздохнул. Твердость, которую он до сих пор проявлял в споре с Карбышевым, мало-помалу начинала сдавать. И уверенность в том, что, найдя один выход, Карбышев без особого пруда отыщет и другой, еще более подходящий, тоже постепенно испарялась. Четверть часа назад он просил у Карбышева только совета. Потом ожидал от него спасения. А теперь вдруг ясно почувствовал глупую преувеличенность своих надежд. Карбышев не без раздражения догадывался об этих колебаниях партнера. Заусайлов уже вовсе не вызывал в нем сочувствия. Однако, не будучи человеком упрямым, Карбышев был упорен и во что бы то ни стало хотел спасти солдата.
— Напрасно вы полагаете, — сказал он Заусайлову, — что дело только в вас.
— То есть?
— Дело в том, что нельзя накануне войны губить из-за пустяков хорошего солдата. В бою — одно, перед боем — другое. Но как аукнется, так и откликнется…
Заусайлов молчал, думая. Тень трудных мыслей медленно проходила по его лицу.
— Понимаю, — наконец, проговорил он, — конечно, дело не только во мне…
И вдруг принялся дрожащей рукой торопливо расставлять фигуры по клеткам шахматной доски.
— А не довольно?
— Нет! Еще партия… Еще… Видите ли: я не могу кривить душой… но судьбе послушен… Я фаталист. Не будем ничего решать сами, а просто сыграем… на Романюту! Даю слово, Дмитрий Михайлович: не повезет мне — покрою солдата; а повезет — нынче же пойдет солдат под арест, завтра подам рапорт полковнику, и тогда, как вы говорите, — плыви, моя гондола…
— На Рльоманюту? — быстро переспросил Карбышев, — на человека сыгрльаем?
И грубо, по-солдатски, добавил:
— А вы не объелись мыла, капитан?
Сказав это, он вскочил, словно собираясь куда-то бежать, но сейчас же снова сел. Действительно, легонькое слово «игра» до безобразия не подходило к серьезному смыслу дикой заусайловской затеи. А между тем только такая «игра» и могла бы еще спасти солдата. Карбышев никогда не понимал людей, которые делают что-нибудь серьезное без верного и точного расчета на успех. «Играть на Романюту» так, как предлагал Заусайлов и как, вероятно, его дедушка разыгрывал когда-то в банк своих крепостных, было бы подло и глупо. Тут нельзя рисковать — «пробовать» или «пытаться». Тут надо действовать наверняка. Выигрыш вовсе не обязателен. Но проигрыш должен быть невозможен. И тогда Карбышев сумел бы сломать сопротивление Заусайлова. «Игра на Романюту» может спасти солдата. Однако где ж гарантия, что проигрыша не будет?..
Заусайлов нетерпеливо ждал, грызя мундштук с потухшей папиросой.
«Как лошадь — удила», — вспомнил Карбышев. Он отвел от капитана свой немигающий взгляд и сразу наткнулся им на стоявшего у стены вольноопределяющегося. Лицо Наркевича было еще бледнее, чем обычно. Глаза колюче поблескивали, словно острия графита в хорошо отточенных карандашах. Сжатые в болезненно-кривой усмешке губы заметно вздрагивали. Карбышеву до сих пор никогда не случалось говорить с Наркевичем. Как-то давно, приметив его еще в первый раз, он подумал: «Из тех младенцев, для которых радикализм — все: и надежда, и идеал, и цель, и будущее…» Почему так подумал, и сам не сумел бы объяснить. Теперь же вдруг стало ясно еще и другое: «А ведь этому мальчику до зарезу необходимо что-то сказать мне…»
— Эх, молодой человек, — без улыбки пошутил он, — кабы знать да ведать, где лучше пообедать…
Заусайлов нервничал и ломал холодными от нетерпения пальцами спичку за спичкой. Вот и последняя не зажглась… Он отошел к прилавку — к Печенегову.
— Дайте, поручик, огня.
В этот самый момент Наркевич еле слышно выговорил:
— Положитесь на меня, господин капитан… Проигрыша не будет… Играйте!
Карбышев пожал плечами. Но, взглянув на Наркевича еще раз, кивнул головой.
* * *
Кони скакали с белого на черное, стремясь вторгнуться в пешее войско противника. Вяло и бессильно проиграв первую партию, Заусайлов действовал теперь совсем по-иному — смело и дальновидно. Еще и ферзями не обменялись, а слабая клетка на королевском фланге Карбышева уже грозила ему бедой… Партия быстро шла к концу, — развертывалась игра пешками. Ни уменье, ни ловкость мысли, понаторевшей на математических расчетах, почему-то никак не помогали Карбышеву. Он проигрывал, досадуя и злясь на себя. Заусайлов тоже досадовал и злился. Кто знает, не хотелось ли даже ему проиграть еще больше, чем Карбышеву выиграть? Однако выигрывал все-таки он, добросовестно завоевывая победу. Оба игрока волновались. Выхватив из кармана серебряный портсигар, Заусайлов с жадной торопливостью потянул из него ко рту свежую папиросу, но… не донес. Портсигар выскользнул из неловкой руки и. звонко ударился о пол. Заусайлов и еще кто-то разом нагнулись, чтобы его поднять. Как случилось дальнейшее, Карбышев не уловил. Ладьи, ферзи, слоны и пешки — вдруг все сразу подскочили на доске и посыпались к портсигару под стол.
— Виноват, — сказал Наркевич, разгибаясь и показывая красное до висков и ушей лицо, — я хотел, господин капитан…
В течение нескольких мгновений у шахматного столика было тихо, как у свежей могилы. Наркевич не договорил извинения. Карбышев молчал. Заусайлов швырнул портсигар на столешницу.
— Идите вы, вольноопределяющийся, к лешему с вашими дурацкими услугами, — наконец, рявкнул он, — виноваты… хотели… Черт вас знает, чего вы хотели! Вести себя прилично не умеете, — вот что! Кто вас сюда звал? Кто вам позволил у игры вертеться? Распущенность… Студенческие эти замашки карцером из вас вышибать надо…
Наркевич безответно подбирал шахматы. Карбышев положил руку на его плечо.
— Не обижайтесь, молодой человек. Известно: двое бьются — третий не приставай…
Голос его смеялся, и слова — тоже, однако лицо было серьезно.
— Да и сердится капитан не столько на вас, сколько на самого себя…
Молодец Наркевич: он знал, что говорил и что делал. Выигрыша не было. Но не было и проигрыша. Солдат спасен…
Дверь шумно распахнулась. Пыль и ветер ворвались с улицы в магазин, предшествуя высокому, плотному офицеру в гвардейских погонах, в шпорах, с белым адъютантским аксельбантом у правого плеча. Еще с порога он раскланивался с хозяйкой и улыбался Броне — румяный, красивый и в высшей степени благовоспитанный. Потом живо оглядел гостей, мгновенно оценивая и взвешивая каждого и всех вместе.
— Здравия желаю, господа!
Его красноватое от избытка здоровья, круглое, гладкое лицо, холодные и светлые, под ровными, низкими бровями, глаза, прямой нос, тугие, подкрученные усы и жесткий, твердый подбородок удивительно цельно складывались в тип. При таких глазах, как у этого офицера, человек никак не мог иметь ни другого носа, ни другого подбородка. Отчасти по этой причине комендантский адъютант Брестской крепости, поручик лейб-гвардии саперного батальона фон Дрейлинг не только был всегда совершенно доволен собой, но не сомневался и в том, что им все довольны. Увидев его на пороге, госпожа Оттилия Фарбенковская воскликнула счастливым голосом:
— Оскар Адольфович! Как я рада!
Броня прищурила свои чудесные глаза, словно блеск чего-то неотразимо-привлекательного ослепил их. И фон Дрейлинг устремился к дамам. Однако возле Заусайлова он на секунду придержал разбег. Сконфуженный вид капитана напомнил ему и забавное бегство его жены с понтонером, и пуританское отношение коменданта к этому опереточному происшествию, и неприятнейший сюрприз, ожидавший капитана в самом недалеком будущем. Все это было очень смешно. И фон Дрейлинг спросил, чуть улыбаясь и несколько по-заговорщически подмигивая, но совершенно вежливо:
— На Шипке все спокойно, господин капитан?
Заусайлов вздрогнул, как от укуса. Ответить, однако, он не успел, потому что госпожа Оттилия Фарбенковская громко закричала в дверной «глазок»:
— Эдуард! Алло! У нас вышли все ученические тетради. Внимание, Эдуард!
— О, да! — донеслось из-под пола.
Так и не ответив ничего на ядовитый вопрос адъютанта, Заусайлов угрюмо сказал Карбышеву:
— Не любит судьба фаталистов, Дмитрий Михайлович. Ей больше нравится тот, кто над ней смеется. Я же не мастер улещивать, вот она и шлепает меня по загривку. Э-эх!..
Он метнул горячий взгляд в сторону фон Дрейлинга.
— Зато теперь все будет, как вы скажете. Идемте!
Глава вторая
Как и всегда, бывая в городе, Елочкин обошел несколько офицерских квартир и к вечеру возвращался в крепостной палаточный лагерь, где, стояла телефонная рота. Елочкин был хорошим слесарем. Попав на военную службу, он не переставал заниматься мелкими слесарными работами. На задах ротного лагеря то и дело постукивал молоток и шипел примус — это Елочкин чинил замки, гнул ведерную жесть, паял чайники, лудил кастрюли. В городе он обходил свою клиентуру: принимал заказы от хозяев, сдавал денщикам готовые поделки, рассчитывался за сработанное. Водились у него не только зеленые и синие, но даже и красные бумажки. Удовольствия солдатского собрания — пиво, бутерброды с колбасой, Макс Линдер и краковяк — были для него за обычай.
Сегодня он намеревался отужинать в роте, а затем по увольнительной записке дежурного офицера отправиться в солдатское собрание, где должен был поджидать его Наркевич. Усталость? Еще ни разу в жизни Елочкин не думал ни об усталости, ни об отдыхе. И ничто не мешало ему пытливо рассматривать громоздившийся вокруг мир.
Солдат твердо шагал по гладким городским тротуарам, изредка поглядывая на часы — ужин в девять. Мысли его бродили по бурливому свету. Днем, когда он говорил с Наркевичем, еще не было известно, а в вечернем выпуске местной газеты уже сообщалось: австрийская артиллерия бомбардирует Белград. Политический воздух сгущался, как газ в лабораторной реторте. Елочкину часто приходилось дежурить на крепостной телеграфно-телефонной станции. За последние дежурства в его руках перебывало несметное количество открытых телеграмм с таким содержанием, словно земля дымилась. Да и шифрованные телеграммы, обычно очень редкие, передавались теперь десятками…
Елочкин вышел на окраинную улицу. Он был так погружен в свои размышления, что она показалась ему совершенно пустой. Поэтому он очень удивился, вдруг увидев прямо перед собой полную спину высокой, красиво одетой женщины, в большой соломенной шляпе на блестящих черных волосах. Он взглянул на часы и ускорил шаг: надо было поторапливаться. Появление дамы, шедшей в одном с Елочкиным направлении, было ему на руку. Спеша куда-нибудь, он любил помогать ходу, назначая вехи впереди — человека, животное, неодушевленный предмет — все равно. Добрался до первой вехи, наметил вторую и пошел еще прытче. «Сейчас я ее догоню, — сказал он себе мысленно, — а там еще пять домов и городу — конец…» Он уже собирался опередить даму в шляпе, когда она неожиданно остановилась и странно, словно изумляясь чему-то или чего-то не понимая, развела руками. в длинных шелковых перчатках. Однако все было понятно. Между Елочкиным и дамой, посреди тротуара, лежал только что оброненный ею небольшой бумажный пакет. Он поднял его. В то же мгновенье дама живо повернулась к Елочкину лицом и оказалась очень хорошо известной ему хозяйкой книжного магазина на Шоссейной улице.
— Пожалуйста, мадам, — сказал солдат, — это вы потеряли.
Он протянул пакет. Но сделал это не совсем ловко, потому что из пакета выпала какая-то фотография. У госпожи Оттилии Фарбенковской было болезненно серое, как зола, лицо. Отпрянув от Елочкина, точно от привидения, она сделала такое отчаянное движение, как если бы хотела отогнать, оттолкнуть от себя нечто ужасное. Однако ничего ужасного перед ней не было, — солдат, пакет и — все.
— Пожалуйста, мадам, — повторил Елочкин, наклоняясь, чтобы поднять фото.
Не страдала ли госпожа Оттилия Фарбенковская болотной лихорадкой? Брест стоит на трясине. Мелкие, острые, белые зубы Оттилии били тревогу, «Что за притча?»
— Вы ошиблись, солдатик, — еле выговорила она, — это не мой пакет…
Тут уж и Елочкин вздрогнул.
— Как же ошибся, когда…
Сильно открытая грудь госпожи Оттилии Фарбенковской поднималась высокой волной.
— Я сам говорю: это не мой пакет… Я ничего не теряла. Оставьте меня… Не приставайте… Я сейчас закричу…
— Чудеса в решете, — в полной растерянности и отчасти даже испуганно пробормотал Елочкин.
Однако недоразумение было так очевидно, что он чувствовал себя обязанным рассказать во всех подробностях, растолковать со всей ясностью, как случилось, что пакет оказался на тротуаре, а он, Елочкин, чуть на нем не оступился и поднял… Ведь это же все вот здесь — на глазах… Но солдат не успел и слова выговорить, как госпожа Оттилия Фарбенковская отскочила от него с нечеловеческой, с собачьей прыткостью. Он все еще стоял на месте, а она уже уходила в заросший густой зеленью узенький переулок. Он сделал шаг, а она уже бесследно растаяли в далекой перспективе зеленого тоннеля. «Вот это — номер!» — удрученно подумал Елочкин. Давно не случалось ему так неприятно и тревожно удивляться, как сейчас. «Однако и баба смекает, как ребенка качают…» И он начал оглядываться по сторонам, отыскивая глазами городового на посту. Известно, что, когда постовые городовые не нужны, они так и лезут на глаза. Но сейчас ни одного не было видно по всей длине пустынной улицы, ни направо, ни налево. Тогда Елочкин, даже и не взглянув на фото, сунул его в пакет, а пакет — в карман и со всех ног пустился в роту…
…В лагере было суматошно. Проходя через расположение пехотного полка, Елочкин заметил, как офицеры гурьбой вышли из дежурного помещения, громко говоря и возбужденно жестикулируя. Было еще светло, а в полковой канцелярии уже горел огонь. Откуда-то доносился гулкий топот множества марширующих солдатских ног, гремели слова команды, подвывала труба и чуть ли не по всему лагерю, — так по крайней мере показалось Елочкину, — звонкой трескотней раскатывалась неумолчная барабанная дробь. «Это в воскресный-то вечер», — подумал Елочкин. Фельдфебель набросился на него с энергией привязного пса.
— Где шалаешься? Где пропадаешь, так-пере-так, я тебя спрашиваю, так-рас-так… Беги на центральную поддежуривать! Живо! Марш!
— Господин фельдфебель, — начал было Елочкмн, — случай со мной вышел… Вот-с… Дозвольте вручить!
— Я т-тебе вручу, каналья, — все неудержимее разлаивался фельдфебель, — я тебе что приказал? На станцию, так-пере-так! Мобилизация, округ на военном положении… На станции от работы спасу нет, дежурство управиться не в силах, а ты… случай! Марш помогать! Живо!
Потрясенный Елочкин повернулся кругом.
* * *
Дежурить на центральную телефонную станцию назначали командами по трое. Дежурство было круглосуточное; смена — через восемь часов. Жили я спали в дежурной комнате и в обычное время нарядом этим не очень тяготились. Телефонный коммутатор из ста пятидесяти номеров обслуживал весь гарнизон, все части, все форты, пороховые погреба, склады, отдельные укрепленные пункты и много генеральских и офицерских квартир. Однако большой загрузки переговорами почти никогда не бывало. Иной раз дежурный по десять-пятнадцать минут сидел перед коммутатором без дела, изучая на свободе просторную чистую комнату с ярко навощенным красным полом и громоздким сундуком на двух замках под печатью в углу. В этом окованном железом сундуке хранился секретный архив — мобилизационные документы телефонной роты и планы кабельных проводок к фортам. За сохранность архива дежурный отвечал, как часовой за пост. Кроме сундука и коек со спящей сменой, в комнате решительно ничего не было. Так проходило дежурство в обычное время и особенно тихо — по воскресеньям.
Но когда Елочкин прибежал на станцию, он увидел совсем другую картину. Его тотчас посадили за коммутатор. Вся дежурная команда работала как один человек. Клапаны падали, и лампочки зажигались так часто, что в глазах мелькало. Что ни минута, — вызовов тридцать. Самый спокойный из красных номеров, 21-й — личный номер коменданта крепости — действовал без передыха. От него не отставали и прочие красные генеральские номера — начальника артиллерии, начальника интендантского управления, начальника инженеров. То и дело переговаривались командиры отдельных частей. Сердце Елочкина гулко билось и замирало, когда он ловил обрывки этих разговоров: запретить отпуска, проверить списки… В полночь послышался голос Варшавы и уже не умолкал до рассвета: речь шла о частичной мобилизации войск округа.
Под утро стало заметно тише. И только теперь, выпустив из рук шнур и поведя вокруг осовелыми глазами, Елочкин вспомнил о таинственном пакете. Он осторожно вынул его из кармана, раскрыл и с любопытством извлек содержимое. По широким коленям солдата рассыпались цифровые сводки и любительские фотографии. Вот общий вид крепости, — хорошо, даже удивительно, как похоже, если смотреть с Варшавской дороги… Вот мост, ворота… Вот старый форт VII, где начальствует над работами капитан Карбышев, — тоже нельзя не узнать… Вот форт IX, тот, что неподалеку от вокзала… Вот новые форты Ж и Л… Вот планы укреплений от Тересиоля до Буга и у деревни Заки, от речки Муховец до железной дороги на Ковель… Да что же это такое лежало на коленях у Елочкина? По мере того, как он догадывался, волосы начинали колко ерошиться на его голове, и ужас захватывал дух. Вот таблица каких-то расчетов — орудия, калибры, — цифры, цифры… Вот сведения о крепостном воздухоплавательном отряде, об искровом телеграфе… Елочкин беспомощно опустил руки. Товарищи его спали. Он один сидел у коммутатора. Впрочем, что могли сказать ему его товарищи? Он позвонил на квартиру командира телефонной роты. Никто не ответил. Как же быть?
Во время дежурств на станции Елочкину часто приходилось передавать по телефону различные распоряжения капитану Карбышеву и для этого звонить ему и на форт и на квартиру. Если распоряжения бывали спешными, а время вечернее или ночное, случалось и подолгу разыскивать Карбышева, прежде чем он отзывался по какому-нибудь телефону из гостей. Капитан сразу узнавал Елочкина по голосу: «А, слесарь Петра Великого…» У Карбышева была своеобразная манера говорить с солдатами. Он говорил им обыкновеннейшее «ты», а солдатам почему-то чудилось за этим словечком необыкновенное в казарменном обращении «вы». Почему? Знал ли об этом сам капитан? Вернее всего, что это ему даже и в голову не приходило. «И умен, и учен, и с солдатом прост», — думалось о нем Елочкину. В телефонной роте вздыхали: «Эх, нам бы такого в командиры!» Елочкин вздрогнул и схватился за шнур. Сперва, он позвонил Карбышеву на форт. Нет. Позвонил на квартиру. Тоже нет. Денщик бормотал сонным голосом: «А кто ж их знает… Сулились дома быть…» Разыскивая Карбышева в ночные часы, Елочкин чаще всего обнаруживал его в гостях у инженерного полковника Лошкеита. Почти все воскресные вечера капитан проводил там. Но сегодня на квартире Лошкеита не только гостей, а и самого хозяина не оказалось. Дело шло к рассвету…
Еще невидимое солнце уже слало своих веселых гонцов в просыпавшийся мир. Прозрачные потоки холодного утреннего огня вливались в широкие окна дежурной комнаты, и птицы поднимали звонкую перекличку за их решетчатым переплетом. Голубые охвостья ночи стремительно убегали из всех углов. Пол комнаты был так красен, словно его только что вымыли и натерли свежей кровью. День стоял на пороге, лучезарный и сияющий. Было около пяти часов. Елочкин позвонил коменданту крепости.
Довольно долго никто не отзывался. В аппарате булькало, шелестело, хлюпало. Елочкин ждал. Но вот, наконец, комендантская квартира ожила. Что-то задвигалось, задышало возле трубки.
— Кто? — старчески шамкая, хрипя и спросонья откашливаясь, спросил комендант, — а? Кто? Повторите!
— Рядовой телефонной роты, ваше превосходительство… Елочкин…
— Как? Елочкин? Кто вы такой?
— Рядовой теле… Осмеливаюсь беспокоить ваше превосходительство по чрезвычайному делу…
Только теперь комендант уразумел, что с ним говорит солдат.
— Ты что же, любезный, взбесился?..
— Никак нет, ваше превосходительство. По долгу солдатской присяги…
Елочкин коротко доложил о своей находке: пакет… важные документы… Сказать о документах точней и подробней он остерегся.
— Дур-рак! — шамкнул комендант зевая, — давно в армии?
— Два года, ваше превосходительство!
— Дважды дур-рак! Старый солдат и не знаешь порядка, понятия не имеешь о том, как положено…
Комендант опять зевнул — еще и еще. Елочкин слышал, как поскрипывали его скулы и губы тихо шептали какие-то слова. Он почти видел, как крестит при этом комендант свой беззубый рот.
— Если каждый солдат будет звонить мне, старому человеку, по телефону в пять часов утра, я к шести часам вытяну ноги.
Генерал в последний раз зевнул и добавил:
— Когда сдашь дежурство, явись к моему адъютанту поручику фон Дрейлингу и вручи ему свой дурацкий пакет. Доложишь при том, что я приказал тебя арестовать на неделю за глупость и незнание службы.
— Слушаю, ваше превосходительство!
— Повтори!
— Приказано арестовать за глупость…
* * *
Сдав дежурство, Елочкин побежал в комендантское управление. Но поручика фон Дрейлинга там не было. Знакомый писарь Головленков сказал Елочкину, что поручик на квартире у коменданта, и посоветовал, ввиду очевидной важности дела, не ждать его здесь, а немедля идти прямо туда. Елочкин так и сделал. Поручик фон Дрейлинг довольно скоро вышел в переднюю из внутренних комнат генеральской квартиры, красиво звеня шпорами и ловко поигрывая аксельбантом. Несмотря на ранний час, фон Дрейлинг был свеж, гладко выбрит и образцов по всей форме.
— Ну-с? — спросил он тиховатым, неторопливым голосом, каким говорят в церкви, — понимаешь ли ты, какое совершил преступление? Пфуй! Ты будешь за него гнить под арестом. Понимаешь ли ты?
— Так точно, ваше высокоблагородие, — сказал Елочкин, начиная жалеть, что еще вчера не разделался по-свойски с проклятым пакетом, — прикажете вручить?
— Давай…
Действуя с уверенной быстротой ловкими канцелярскими пальцами, фон Дрейлинг раскрыл пакет. Фотографии и таблицы брызнули из него широким веером и, как карты в большой игре, легли на стол. Поручик наклонился и несколько минут разглядывал их. Потом выпрямился и посмотрел на Елочкина. Его лицо, густорозовое, почти меднокрасное от прилива крови к наклоненной голове, вдруг сделалось белым, как вата. Затем побелели губы. Он смотрел на Елочкина вытаращенными, тоже белыми глазами и силился что-то выговорить. Но это ему не удавалось. Тогда он метнулся к столу, сграбастал обеими руками фотографии и документы, прижал их в охапке к груди и уже сделал два-три шага из передней по направлению к внутренним комнатам генеральской квартиры, когда вдруг раскорячился и присел в крайне неграциозной и немужественной позе. Впрочем, присел и Крепконогий Елочкин. Старый дом комендантского управления со стенами саженной толщины и сводами вековой прочности дрогнул, екнув всем своим нутром. Фон Дрейлингу почудилось, что оглушительный удар свалился сверху. А Елочкину — будто он пришелся со стороны, через окно. И это было вернее, так как блестящий мелкий бисер из битого оконного стекла вдруг покрыл пол передней, а пустая рама широко распахнулась настежь. За первым взрывом неимоверной силы грянул второй, за вторым — третий. Но эти были слабее…
* * *
Взрыв произошел на складе артиллерийского снаряжения, в крепостной лаборатории, где в это раннее утро уже работали сто двадцать человек. Склад занимал десять кирпичных зданий, а лаборатория представляла собой длинный деревянный сарай, выходивший на городское шоссе близ Михайловских ворот. В лабораторном сарае хранилось очень много пороха. Сто тысяч готовых снарядов были сложены кругом в штабелях; тут же — горы дистанционных трубок. Все это взлетело кверху и градом осколков вернулось вниз. Дистанционные трубки брызнули огнем Вспыхнули пожары. За первым взрывом последовали второй, третий: детонация. Это означало, что расстояния между хранилищами были неверно определены. Дорогостоящее открытие! Взрывы произошли на территории, обнесенной крепостным валом. Сила их была такова, что далеко за валом, на вербах и ветках, в вороньих гнездах, долго спустя после диверсии, все еще отыскивались головы, руки и ноги на куски раздерганных людей. Грохот был ни с чем несравним. Из города Холма тотчас запросили Брест по телефону: что случилось? А между Холмом и Брестом — девяносто верст…
* * *
На вечерней поверке фельдфебель телефонной роты выкатил колесом крутую грудь и с передней линейки, громко и торжественно, зачитал благодарность, объявленную комендантом Брест-Литовской крепости рядовому Елочкину в приказе по гарнизону. С этого момента Елочкин стал главным героем местного «Солдатского вестника», — так офицеры окрестили солдатскую болтовню. В послеобеденные и вечерние часы, когда «вестник» действовал особенно энергично, по всем частям гарнизона только и разговоров было, что о Елочкине. На его крупную, приземистую фигуру и смуглое лицо с горбатым носом, освещенное доброй улыбкой, как фонарем, показывали пальцами: «Вон он…» Почти все заметные события, совершавшиеся в городе и крепости после взрыва, так или иначе оказывались связанными с Елочкиным. Сняли вывеску с книжного магазина Э. Фарбенковского, а окна забрали досками, — ясно. На искровом телеграфе взяли под домашний арест поручика Печенегова, — ясно. Впрочем, в этом последнем событии не менее важную, чем Елочкин, роль сыграл сам «Солдатский вестник». В тот роковой день, когда байронический поручик привез в шарабане на искровую станцию тоненькую девушку с бледными щеками под густой синей вуалью, водил ее по станции, показывал ей действие телеграфа и при ней принимал радиотелеграмму, — о Фарбенковских тогда никто ничего дурного еще и не думал, — «вестник» с чертовской проницательностью уже произнес свое первое, бесповоротно осуждающее Печенегова слово: «измена». И с того дня до сегодня слово это не смолкало в солдатских разговорах. Хотел того поручик или не хотел, но он стал предателем и должен был пострадать.
В соответствии с такими чрезвычайными обстоятельствами можно было бы Елочкину покичиться, почваниться, наддать себе спесивостью цену. Известно: чем больше кота гладишь, тем он выше хвост дерет. Но Елочкину спесь на ум не шла. Попрежнему на лагерных задах постукивал молоток да шипел примус — это он слесарил, паял, лудил. На следующий день после взрыва он уже выправил для капитана Карбышева погнутый штык от трехлинейной винтовки, а по заказу поручика фон Дрейлинга изготовил три железных кольца по рисунку и точному размеру — для неизвестной надобности. Карбышев был доволен штыком, Дрейлинг — кольцами. Но выдавая Елочкину три рубля за работу, поручик вместе с деньгами вернул и одно кольцо. «Не надо, — односложно сказал он, — это — лишнее…» Зачем же было заказывать три, коли не все три нужны? «Писарь у начальства человек присный», — подумал Елочкин и, проходя мимо комнат комендантской канцелярии, завернул туда, где сидел его знакомец Головленков. Писарь этот, как и все писаря, любил щегольнуть осведомленностью; а в разговоре с главным виновником последних исключительных событий он охотно распустил язык. Под сухие перестуки пишущей машинки сиплым шепотом, с оглядками, с недосказками Головленков выложил все, что знал:
— Утром военный суд приговорил, а ночью будем шпионов вешать, — шептал он, самодовольно относя себя к тем, кому принадлежало страшное право возмездия, — конец — делу венец…
— Кого — вешать? — спросил Елочкин, чувствуя, как сердце его сжалось и замерло.
— Оттилию с Бронькой… На болоте за кладбищем. Не был там? Как же. Уже и вешалка стоит. Тебе побывать надо. Для того и кольца тебе заказаны были…
Наблюдая действие своих слов, Головленков раздувался пузырем от полноты удовлетворенного самолюбия. Елочкин отвел от него взгляд и вдруг увидел свои руки. «Вот они — руки. Много, очень много сделали они на своем веку разного товару. Но чтобы кольца для…» Невольным движением он быстро спрятал руки за спину. А Головленков все шептал:
— Еще и третий у них был: граф, что ли, какой… Бредероде. Сидел за лавочкой в подвале и, покамест господа офицеры болтали, все, что ему требуется, на запись брал. Вроде как Оттилин муж был. а на практике германский генерального штаба капитан. Вот, брат, как!
— Его тоже взяли?
Головленков присвистнул.
— Черта с два! Сбежал, сволочь… Да так сбежал, что и следу нет. Камнем в воду…
Елочкин молчал, опустив голову…
* * *
Первого августа с раннего утра над Брестом клубились густые тучи болотного тумана, заполняя все видимые глазу расстояния между землей и небом. Туман — обычное для осени явление в тех местах. Но первое августа еще не осень. Сквозь мокрую серую мглу, в которой тонула Петровская улица, продирался высокий худощавый человек с длинным, завернутым в мешковину, предметом подмышкой. У красивого одноэтажного домика под № 14 он остановился. Подумав, обошел дом со двора к черному ходу и постучал. Дверь открыл солдат.
— Столяр? Заходи. Напрасно, брат, ожидать себя заставляешь.
— Вишь, на дворе-то…
Городская квартира капитана Карбышева состояла из трех комнат, обставленных не случайной, хозяйской, а своей, по вкусу и средствам, простой, прочной и свежей мебелью.
— Селезнев? — крикнул Карбышев из кабинета. — Ну как, готово?
— Так точно, Дмитрий Михайлович, — отвечал столяр, отбивая на кухне с сапог глину, песок и снимая руками мокрые травинки.
Столяр Селезнев был редкостный мастер, долго живший на выучке в Москве и года три назад осевший в Бресте по семейной необходимости. Состоя на вольном положении, он, однако, работал главным образом на военное ведомство, то есть делал грубую, примитивную, для такого искусного краснодеревщика, как он, «обидную» работу. Когда Карбышев и Заусайлов решили скрыть проступок Романюты, оказалось, что прежде всего надо починить сломанную им винтовку. Штык без хлопот выпрямил Елочкин. Но ложу надо было точить заново. Карбышев вызвал Селезнева. «Можете сделать из ореха такую, чтобы была точь-в-точь как старая?» — «Могу-с». — «А орех есть?» — «Ореха, Дмитрий Михайлович, нет. Но знаю, где достать. Беда другая, — с деньжонками тощо…» Карбышев вынул бумажник. «Сколько?» Селезнев взял деньги и ушел. И вот он выточил новую ложу и сегодня принес ее.
— Извольте взглянуть, Дмитрий Михайлович. Ложу вынули из мешка, и Карбышев взял ее в руки. Славная работа!
— А-сь? — спросил Селезнев, щуря глаз и любуясь своим произведением.
Карбышев рассмеялся.
— Сперва примерим!
Денщик уже держал ствол наготове. Вложили.
— А-сь?
Новая винтовка ничем не отличалась от прежней. Полная удача!
— Спасибо, Селезнев!
— Рад стараться!
— Теперь получайте что следует.
— Ни в коем разе!
— Как так? Почему?
Селезнев отступил в сторону и, пристально глядя на Карбышева, решительно подтвердил:
— Получить, Дмитрий Михайлович, я никак не могу, и тому есть причины.
— Что за дичь! Ну?
— Первая: вся гарниза знает, что вы солдата спасли. И теперь посудите: вы его спасли, а я с вас за то деньги брать буду?
— В гарнизоне знают? — насторожился Карбышев. — Откуда?
Он не мог, да и не хотел скрывать, что селезневская новость ему неприятна. Глаза его сердито вспыхнули; под темными пятнами на тронутых оспой щеках зажегся тяжелый румянец. Уменье и привычка все делать наверняка редко изменяли Карбышеву. А между тем из-за глупой расхлябанности «Солдатского вестника» предприятие с Романютой грозило провалиться. Селезнев попытался сгладить впечатление.
— Вы о солдатах, Дмитрий Михайлович, плохо не думайте, — котелки у них варят. Коли за своего, так солдат лишнего ничего не произнесет. Да и к вам они с сердцем — лучше нельзя. Стало быть…
Рассыпчатый бой электрического звонка оборвал речь Селезнева. Денщик кинулся к парадной двери.
— Пожалуйста, ваше благородие… В самый раз угадали-с.
Через гостиную быстро шел, почти бежал Заусайлов. При первом взгляде на него было видно, как он сильно взволнован: глаза его прыгали, щеки дергались, усы торчали вениками. Человек спокойного темперамента, благодушно медлительный, он и в кабинет войти не успел и не поздоровался как следует, а уже замахал руками.
— Финита комедиа![7] К черту! Прав я был, прав! А теперь к вине за самый факт еще и другую пристегнут, за сокрытие… Вот так за-ту-шили! Благодарю вас!
Он бегая по гостиной между столиком с недопитой чашкой кофе и угловатыми диванчиками, бегал, то натыкаясь на стулья, то вдруг останавливаясь с выпученными глазами, и тогда крупные горошины пота скатывались с его крутого лысого лба.
— В чем дело? — крикнул Карбышев. — О чем вы?
Попробуйте громко назвать лунатика по имени — он тотчас очнется и упадет. Так случилось с Заусайловым. Он вытер кулаком потный лоб и, обрушившись в кресло, заговорил довольно вразумительно:
— Был я сейчас у командира полка. Затея наша ему известна. Уж чего я не наслушался, — одному богу ведомо. Лететь мне теперь из полка, как из бутылки пробке. И все это вы наделали… вы… вы… вы!
«Дело — дрянь, — подумал Карбышев, — солдаты гомонят, унтера переносят, — сорвалось…» Он знал заусайловского полковника: человек рыхлый, точно слепленный из сыпучего песка, — только притронешься к нему, а уж он и рассыпается. Заусайлов еще будет, пожалуй, барахтаться. Романюте же один ход — под дисциплинарный устав, глава восьмая. Между тем Заусайлов и в самом деле начинал барахтаться.
— Проклятый вольнопер! — опять бушевал он, подпрыгивая в кресле, — его болтовня… Не я буду, если эту каналью…
— Какой вольнопер?
— А тот самый, что подслушивал нас с вами в шпионской лавке, когда мы над шахматами потели… Я все заметил… Я…
Надо было сейчас же отвести злую мстительность Заусайлова от Наркевича, а подозрительную мысль его направить мимо «Солдатского вестника». Второе было, пожалуй, еще нужнее первого. Карбышев ясно представлял себе размеры безобразия, которое может учинить Заусайлов, если доберется до виновных солдат. «На версту бурбоном[8] завоняет…»
Оглушительная дробь электрического звонка разлилась по квартире.
— Дома капитан?
— Не могу того знать. Как доложить прикажете?
На пороге передней стоял бледный, криво усмехавшийся Наркевич. Он никогда до сих пор не бывал у Карбышева и зачем появился, было непонятно. «Нашел время!..» Заусайлов повел плечами, как делают люди, когда им все настолько очевидно, что уже и говорить не о чём.
— Вышел пасьянс!
— Что вы хотите сказать, капитан? — сухо спросил Карбышев.
— Эх, Дмитрий Михайлович! Мы с вами — не маленькие дети…
— Здравия желаю! — задыхаясь, точно после быстрого бега, сказал Наркевич, — извините; господа… Я…
— Что вам надо, вольноопределяющийся?
— Мне? Извините, господин капитан… ничего. Не знаю, почему я к вам… Я ведь не хотел… Я думал… Словом — война!
— Ч-т-то?
— Война! Я с телефонной станции… Сперва от господина коменданта звонили всем начальникам частей: немедленно прибыть в штаб. Через четверть часа полковник Лошкейт позвонил своей супруге: «Могу сказать: объявлено!..» А потом — манифест… Война!
В маленькой карбышевской квартире стало тихо, тихо. Наркевич, выговорившись, молчал и думал о том, как круто меняется сейчас мир. Как прочные столетние связи между европейскими биржами натягиваются и рвутся, чтобы исчезнуть в ближайшие часы и дни. Как рынки один за другим выключаются из оборота. Как договоры между государствами повисают в воздухе. Как падает курс ценностей. Как живая человеческая кровь превращается по стоимости своей в обыкновенную воду. И о том, что из всего этого может выйти для… революции. Война!
Карбышев тоже молчал. Неподвижно стоя посреди кабинета, он думал о том, как по всей России застонала сейчас деревня, завыл город, зашагали запасные на призывные пункты, заерзала и зашипела штабная трясина военных округов, заворочались маховики корпусов и дивизий, запрыгали на слабых комариных ножках вынутые из нафталина седые военачальники, и о том, что из всего этого получится для России. Война!
Заусайлов перекрестился, лицо его просветлело и он проговорил неожиданно спокойным, ровным басом: — Слава тебе, господи!
Глава третья
Катятся, грохоча, бесчисленные поезда с пушками, лошадьми, повозками и людьми, людьми — множеством людей в желто-зеленых рубахах. Солдаты видят границу: канава, пустая сторожевая будка, опрокинутые наземь столбы с гербами и сломанный шлагбаум. Дальше — Галиция. По сторонам дорог — черные, толстые, раскидистые ветлы с лысинами на макушках. Дороги изрыты, избиты, исхожены, превращены в непроходимую преграду. Русские рабочие части с саперами днем и ночью гладят их полотно, и путь наступающим войскам открывается. В болотистых долинах Лип — Золотой и Гнилой — закипают бои. Австрийцы хотят остановить здесь русских. Но остановить трудно. Ощетинясь штыками, русские бегут вперед…
Дерево на лесной опушке коряво-дуплистое, старое, с двойным сучковатым стволом. И солдат, приникший к одному из стволов, тоже коряв и сучковат. Солдат на разведке — ну-ка, разгляди солдата. А он видит все…
На открытом хлебном поле залегла цепь. В золотом море перестоялой пшеницы, осыпающейся от тяжести и ветра, еле приметны пыльные фуражки и толстые кольца скаток, похожих на серые автомобильные шины. Романюта долго лежал в этой цепи, а затем вместе с другими солдатами вскочил и побежал вперед. У самого края маленькой чистенькой деревеньки он увидел австрийские окопы — длинные, кривые ямы с горбатой земляной насыпкой по обеим сторонам. И здесь же разглядел у себя под ногами австрийца в синей шинели. Лицо убитого было еще синее шинели. Ахнув, Романюта вырвал из его груди свой штык… Труп… Но ведь это легко лишь так сказать: труп. А что такое труп? И какое у него отношение к тому, чем он только что был, — к живому человеку? Какое? Как сапоги? Или как портянки? Или…
Галицийская битва началась двадцать пятого августа наступлением австрийцев на Люблин — Холм. Тогда русские солдаты и офицеры впервые услыхали про Перемышль. Эта сильная крепость прикрывала собой сосредоточение австрийских армий; через нее же подвозились для них снаряды и продовольствие. Четвертого сентября между двумя главными группами австрийских войск был вбит клин, и неприятель побежал. Он бежал так быстро, что не успевал поджигать скирды сена. Капитан Заусайлов не раз наблюдал в бинокль, как мчались по шоссе артиллерийские упряжки, стремглав летели, опрокидываясь в канавы, повозки и фургоны, катились, клубясь и сбиваясь в водовороте, синие потоки солдат: частый огонь русских орудий подгонял австрийцев. Этакое счастье — наступать! Нет радостнее чувства! Каждый вечер дивизия ночует там, где еще накануне стояли австрийцы. Вчера в штаб полка прикатил на самокате австрийский офицер, полагая, что едет к своим. Счастье!..
…Вместе с русскими на Галицию наступала осень: между голубыми обелисками елок, под тяжелыми вершинами прямых, скрипучих сосен все ярче и гуще краснели темные головы грабов. Трехнедельная Галицийская битва кончилась. Одна половина австрийских армий пошла на Краков, другая — на Ярослав — Перемышль. Теперь Перемышль прикрывал неприятельские переправы на реке Сан и узел железных дорог на Краков, Львов и Будапешт. Грунтовые пути замесились в черное вязкое тесто и стали непроезжими. Австрийские войска и обозы волнами грязи переливались через Перемышль. Город, крепость, форты — все растворилось в прорве этого наводнения. Появись тогда перед крепостью русская кавалерия, она живьем взяла бы все, что в ней было…
Восемнадцатого сентября вода в Сане была высока. Это могло задержать переправу. Но русские саперы, кроме обычных легких парковых мостов, пустили в дело поплавки Полянского, и ширина реки покрылась на сорок два аршина. Разрушенный австрийцами большой мост не стали исправлять. Пехота забрасывала его провалы плетнями, жердями, досками и быстро перебегала на левый берег. Горизонт этого берега был заставлен пологими скатами высоких холмов, голых внизу, а сверху одетых частым сосновым лесом. С лесами перемежались пашни, с оврагами — долины. Рощи казались черными от гущины — дебри. Сзади полыхал Ярослав. Птицы вились в багровом небе. Высокие башни костелов плясали, как живые, над огромным пожарищем. Ветер швырял дымные волны в спины шагавших по шоссе солдат. Шоссе пролегало вдоль железной дороги и вместе с ней вело в Перемышль. От Ярослава до Перемышля — тридцать пять верст…
Головные части трех корпусов подступали к крепости с севера, востока и юга. Сбив австрийцев с передовой позиции у Медыки, русские вышли на блокадную линию. От Медыки до фортов — две версты. Тогда крепость открыла огонь. В бинокль было видно, как за рыжими глиняными обвалами катились вперед густые длинные цепи наших бойцов. Они то ровнялись, то залегали, если позволяла местность. Но стоило отвести бинокль от глаз, как живая картина отдаленного боя сразу пропадала. Наркевич искал: где же Перемышль? Попрежнему холмился горизонт; только теперь он был свободен от лесов. И, лишь очень хорошо присмотревшись, Наркевич различил на верхушках холмов каменные беседки и еще какие-то постройки, вроде старинных конюшен с узенькими окнами.
— Видите, вольноопределяющийся, линию фортов? — сказал Наркевичу кто-то из офицеров, — беседки — это наблюдательные пункты, конюшни — фортовые оборонительные казармы. До Перемышля еще не близко.
У белой хатки под растрепанной крышей, вдоль забора из гнилых досок, солдаты уселись наземь — привал. Сидели довольно долго, но настоящего отдыха не было из-за напряженной готовности каждую минуту встать и идти. Вдруг пронеслось: идти дальше некуда — пришли. Солдаты сейчас же повесили на дерево палатку и настелили внизу соломы. Спать! Только отделение Романюты дежурило. А вечером оно же отправилось на правый фланг рыть окопы. Так Романюта начал «брать» Перемышль. Окопы поспели за ночь и хоть были мелки, узки и ровно ничем не прикрыты, но пехота уже с утра сидела в них. выложив винтовки на бруствер и с нервным любопытством прислушиваясь к гулу орудийной пальбы.
Перед обедом вдоль линии окопов медленно прошагало начальство. Впереди целой толпы штабных офицеров шел худой и длинный генерал-лейтенант, с сухим, горбоносым Лицом и усами, странно седеющими с концов. Это был Щербачев, командир девятого армейского корпуса, только что назначенного блокировать Перемышль. Солдаты вскакивали и замирали «смирно». Вскочил и Наркевич. «Как есть Дон-Кихот, — подумал он, — гримировать не надо». За Щербачевым семенил ножками маленький седой артиллерийский генерал-майор — инспектор осадной артиллерии Дельвиг. Генералы совершали прогулку, которая в официальных донесениях именуется «личной рекогносцировкой подступов к фортам крепости». Щербачев неторопливо водил перед собой тонкой рукой с бледными, костлявыми пальцами — справа налево, слева направо — и говорил тем холодно-докторальным, несколько даже потусторонним тоном, который любят брать иные профессора, приступая к чтению нового, очень трудного, но хорошо подготовленного ими курса.
— Выше других — старые форты. Они были возведены еще в эпоху кирпичной фортификации, когда ни о какой маскировке не думали, — в восьмидесятых годах. Но закончена внешняя линия только в прошлом году. При перестройке и бетонировке старых фортов получилось безобразие: высокие насыпи и…
Речь шла о перемышльских укреплениях. Их гарнизон — от шестидесяти до ста тысяч человек. Разве это не прямая угроза нашему тылу? Можно блокировать Перемышль. Но разве это единственная возможность?
А Шербачев так посмотрел на Дельвига, как будто ни один человек на свете, кроме Дельвига, не мог ответить на этот вопрос. Малорослый генерал, с большой белой головой и встревоженно-решительным выражением умного лица, не без основания считался одним из лучших артиллеристов русской армии. Лицо его передернулось. Он с досадой отмахнулся от огромной мухи, старавшейся завладеть его носом. Да, трудно иметь дело со Щербачевым! За недолгое время его начальствования академией генерального штаба среди «моментов»[9] ходило множество анекдотов о хитром и опасном щербачевском упрямстве. Заставляя подчиненных давать себе советы, он никогда не менял собственных решений, так как был убежден, что советчики меньше всего руководятся интересами дела. И советы их были ему необходимы только для установления взгляда на советчиков и для определения своего отношения к ним. Дельвиг знавал таких людей, — не новость. Изловив, наконец, муху, он с негодованием растерзал ее. Но ведь война-то — не академия, черт возьми!
— К сожалению, у нас почти нет осадного парка, — осторожно сказал Дельвиг, — ни орудий, ни снарядов…
— В высшей степени по-артиллерийски, генерал, — благодарю вас. Известно, что больше всего больных умирает от медицины, не так ли?
Щербачев произнес эту фразу с такой холодной небрежностью и вместе с тем так бесстрастно, что всякий неискушенный свидетель этого разговора непременно подумал бы: «Вот человек без малейшей предвзятости…» Однако Дельвиг думал иначе. А Щербачев, как ни в чем не бывало, продолжал толковать о перемышльских укреплениях, все шире поводя перед собой костлявой рукой. И чем точнее, тоньше, вразумительнее, вывереннее, чеканнее были его слова, тем яснее становилось Дельвигу главное. Оно заключалось вовсе не в том, что говорил Щербачев, а в том, чего он не говорил, — заключалось в маленьком слове, к которому притягивались все его рассуждения, но которого он не хотел произнести. Он желал, чтобы оно вырвалось у Дельвига.
— На южном, юго-восточном и восточном направлениях форты выдвинуты на одиннадцать верст от железнодорожного моста, кроме левого фланга, который отстоит от переправы на восемь верст. И здесь — особая группа из шести передовых фортов. Это группа Седлиска…
Слово, которого не произносили ни Щербанев, ни Дельвиг, но к которому все это относилось, было: «штурм». О нем мечтал и его страшился Щербачев. Штурм Седлиски…
* * *
Двадцать шестого сентября обложение Перемышля было завершено. Три армии окружали его с трех сторон. На много верст от крепостного обвода разбросались по деревням и местечкам тыловые стоянки транспортов, госпиталей, обозов и парков. В Медыке, Мосциске, Новоселках, Мочеродах — везде русские войска. Штаб блокадного корпуса расположился на фольварке Рудники, близ железной дороги. В погожие дни письменные столики выносились из дома на свежий воздух, под деревья; на бревна накладываюсь доски, на доски ставились ундервуды, и писаря начинали «запузыривать» с таким стуком и треском, словно Перемышлю и впрямь пришел конец…
Приказом ставки верховного главнокомандующего за № 72 предписывалось немедленно приступить к формированию штаба блокадной армии. Это значило, что судьбу Перемышля будет решать уже не один шербачевский корпус, а целая армия. Прочитав приказ, генерал Дельвиг неслышно щелкнул языком. Вот оно и понятно. Щербачеву пришла смертная охота покончить с Перемышлем до того, как дело выпадет из его рук. А покончить можно только приступом. И скорее провалятся Карпаты, а Сан потечет вверх, чем упрямый Щербачев не попытается именно так овладеть Перемышлем. В тот же самый день Дельвиг присутствовал при допросе мочерадского обывателя, русина, долго работавшего по укреплению Седлиски. У этого человека был протяжный говорок. Он с какой-то леноватостью разматывал свою медлительную русинскую речь. Но показания его были очень важны. Глубина Седлисского рва… Бронекупольные установки на внутреннем дворике форта… Передовые батареи… Проволочные сети… Волчьи ямы и фугасы… Целая система долговременных сооружений. Захватить их — прорвать фортовый пояс. Дельвиг думал об этом и с удивлением замечал, что атака Седлиски открытой силой, то есть штурм, — уже вовсе не кажется ему академическим вздором, как день или два назад… Впрочем, не один Дельвиг — многие теперь понимали, чего хочется командиру корпуса, и почти все хотели того же самого: взять Перемышль своими средствами до того, как подойдут новые войска и появятся новые командиры, чтобы не с кем было делить золотое изобилие чинов, георгиев, владимиров, анн и станиславов, чтобы завладеть этим богатством чести и славы целиком.
* * *
Вдруг стало известно, что русская конница сброшена австрийцами с песчаных берегов узенькой и быстрой речки Вислоки. Это значило, что вытесненный из Восточной Галиции, но по-настоящему не разбитый, противник возвращается назад и не нынче-завтра доберется до открытого с запада фронта перемышльских укреплений. Итак, что же надо было в этих новых обстоятельствах делать с крепостью?
Щербачев ясно видел, какое огромное значение могла бы иметь удача задуманного им штурма именно теперь, когда признаки нового наступления австрийцев что ни день становились очевиднее. Главнокомандующий фронтом, вероятно, уже ломает голову: принимать ли бой на левом берегу Сана, имея за собой вражескую крепость, или отходить за Сан, сняв блокаду? По свойственной ему нерешительности он, конечно, склоняется к тому, чтобы не выдвигать вперед и не подставлять под удар тылы и фланги прикрывающих блокаду Перемышля армий. И вот в такой-то момент Щербачев возьмет крепость, сразу освободит для действий в поле пять дивизий и развяжет руки двум соседним армиям…
Главное — не опоздать. Щербачев изо всех сил спешил с составлением плана атаки. Всякий молодой офицер генерального штаба, выполнивший свою третью академическую тему, уже понимает, что такое подготовка и план военной операции и какое значение они имеют для ее осуществления. Как же было не знать этого Щербачеву? Он — очень образованный генерал: преклонялся перед Наполеоном, восхищался Фридрихом II и Морицом Саксонским, благоговел перед Клаузевицем, увлекался Бернгарди. Он был так по-европейски образован, что к русской школе военного искусства относился свысока и презрительно обзывал ее сторонников утопистами.
Днем третьего октября гарнизону Перемышля была предложена сдача. К вечеру получен отказ. А в ночь на четвертое уже был готов план. Генерал Щербачев проектировал одновременный штурм с юго-востока, севера и юга. Тяжелая артиллерия под руководством генерала Дельвига должна была содействовать атаке юго-восточного сектора. План был широк по замыслу и вместе с тем чрезвычайно детально разработан. Такие планы в академиях обычно оцениваются высшим баллом. Практическая подготовка атаки началась без промедления, этой же ночью. Артиллерия выезжала на позиции; прислуга рубила хвойные ветви и маскировала ими орудия. Белая голова Дельвига мелькала то здесь, то там. Но от необыкновенной подвижности и распорядительности этого генерала число тяжелых орудий не увеличивалось и полевых гаубиц оставалось попрежнему мало. Масса артиллерии состояла из скорострельных пушек.
Всю ночь подходила пехота, размокшая под дождем, насквозь пропитавшаяся грязью, изможденная, и сразу вступала в боевую линию. Саперные и телеграфные роты, прожекторные команды распределялись по дивизиям. На каждую дивизию выдавали по три сотни лопат и по двести пятьдесят ножниц. Пехота подходила всю ночь и весь следующий день. Постепенно на главном участке атаки, на южном и северном участках подобралось семь с половиной пехотных дивизий и четыреста восемьдесят три орудия. Войска шли в тумане и топтались в слякоти, под холодным и пронзительным, ни на миг не стихавшим дождем. Дельвиг бесился: этот дождь поднимался стеной перед артиллерийским наблюдением. Чтобы стрелять, надо было высылать наблюдателей в пехотные цепи, а от командиров батальонов первой линии требовать указаний для батарей. Мало того, надо было соединять батальоны с батареями телефоном.
Рота Заусайлова попала в резерв сторожевого охранения и всю ночь просидела в густом кустарнике. К утру капитан позволил солдатам раскатать скатки, надеть шинели, и тогда они завалились спать. И Романюта тоже храпел вместе с другими. Бодрствовав один Заусайлов. Он сидел под деревом с папиросой в зубах и думал о счастливом выходе из трудного положения, который открыла перед ним война. Не только все служебные неприятности сразу исчезли, точно корова их языком слизнула, а еще и мерещится впереди батальон со штаб-офицерством. В предрассветных сумерках люди представлялись Заусайлову сгустками серого тумана. Однако телефониста, усердно тянувшего провод как раз к тому месту, где сидел капитан, он разглядел довольно хорошо. Телефонист работал на коленях, заткнув полы шинели за ремень, и при каждом движении все глубже угрязал в жиже. Заусайлов невольно следил за его действиями. «Старается, подлец!» — с удовольствием подумал он. В этот момент телефонист поднялся с колен. Он оказался высоким и худым, совсем еще молоденьким вольноопределяющимся инженерных войск.
Заусайлов сидел под деревом на свеженасыпанном земляном холмике. Другой, такой же точно, холмик поднимался с той стороны дерева, где находился телефонист. И этот второй холмик был могилой — две палочки крест-накрест, ельник и желтая листва под крестом. Вольноопределяющийся и капитана не видел и себя чувствовал невидимым. Раздумывая о чем-то, он долго стоял перед могилой с опущенной головой. Потом выпрямился и вздохнул:
— Эх! Прощай, товарищ!
Почему-то Заусайлову захотелось знать, какое у него лицо. Он встал. Лицо у вольноопределяющегося было бледное, с острыми черными усиками и такими же острыми и черными глазами.
— Наркевич, вы?
— Так точно. Здравия желаю, господин капитан!
Заусайлов еле перевел дух от злости. «Нанесла нелегкая… Сплетник, болтун, баба в капоте, — вертелось у него в голове, — ведь из-за него все… Я ж тебя… Я ж…» Капитан не отличался находчивостью. Но терялся он преимущественно перед начальством и перед теми, от кого зависел по службе. Наркевич к этим разрядам не относился. Заусайлова вдруг осенило. Он снял фуражку и, крестясь на солдатскую могилку, спросил:
— Кажись, нюни распустили, господин студент? За собственную шкурку беспокоитесь, так, что ли?
— Никак нет, ваше благородие, — пробормотал Наркевич, — не то совсем…
— А я вам говорю, молодой человек…
Романюта проснулся от громкого, до хрипоты злого командирского голоса.
— Зарубите, вольноопределяющийся, на носу, что трусом быть подло и грех большой. Перед богом — грех! А хуже труса один только сплетник быть может, да-с! Ну, теперь делайте ваше дело…
* * *
Часов в десять утра, перед самым началом движения, все еще злой Заусайлов сказал по телефону командиру ближайшей батареи:
— Об одном прошу: действуйте, капитан, без строгих правил вашей науки… Не надо!
— То есть, как это? — встревожился артиллерист.
— Только прямой наводкой. А то непременно в меня угодите…
Он повел свои цепи в атаку по голой лощине навстречу орудийному, пулеметному и ружейному огню, которым обливала его Седлиска. Вскоре цепи залегли. Через час Заусайлов их поднял. Однако у горевшей деревни Быхув его рота попала под перекрестный огонь и опять залегла. И так — до вечера… В сумерки солдаты Заусайлова окопались в восьмистах шагах от передовых укреплений Седлиски.
Дельвиг докладывал Щербачеву:
— Немыслимая грязь! Приходится в один зарядный ящик впрягать по десятку лошадей. Но в парковых бригадах лишних лошадей нет. И вот передовой запас не подает снарядов… подвоз срывается. Это — первое, ваше превосходительство.
— Гм!
— Второе — еще хуже. Наши данные о пробиваемости броневых установок…
— Ни к черту не годятся? Так. Что же из этого следует, Сергей Николаевич?
— Пока не поздно, надо прекратить атаку, ваше превосходительство!
Щербачев молчал. Выполняя планы своих операций, он всегда действовал с упорством и твердостью — бесповоротно. Потери для него не имели значения. «Где нужен успех, — говорил он, — там не думают о жертвах». И поступал соответственно. Дельвиг удивил его не тем, что заговорил о трудностях, которых нельзя было предвидеть, — дополнительные трудности преодолеваются дополнительными усилиями, — а совсем другим. Почему Дельвиг вдруг попятился? Не ведет ли этот хитрый старик двойной, тройной игры? Во что бы то ни стало требовалось разгадать скрытые причины его внезапной растерянности. А мысли о том, что никаких скрытых причин нет и вообще ничего нет, кроме того, о чем докладывал Дельвиг, — этой простой и естественной мысли Щербачев положительно не допускал. Он молчал, постукивая по столу жесткими и сухими пальцами, похожими на коленца бамбукового ствола. Адъютант, с усиками в унтер-офицерскую стрелку, доложил:
— Полковник Азанчеев из штаба фронта, ваше превосходительство!
— Прошу!
Щербачев встал. В кабинет вошел моложавый, бодрый, высокий, стройный, с едва заметной проседью в светлых волосах, офицер генерального штаба. Несмотря на грязные сапоги и сильно помятый китель, он сохранял со всей отчетливостью свой петербургско-гвардейский вид. Однако самой примечательной чертой его наружности, конечно, были глаза. Их стремительно быстрый, беспокойный взгляд был так неуловим, что легко могло показаться, будто никаких глаз и вовсе нет на холеном, красивом лице этого белобрысого Мефистофеля. Щербачев и Азанчеев были людьми одного круга. Несмотря на разницу лет, чинов и положений, их ранние воспоминания сходились в одном и том же месте — в казармах Преображенского полка на Миллионной улице. В этом фешенебельном полку они оба начали свою офицерскую службу. Потом оба закончили в числе первых академию генерального штаба. Хотя все это и расходилось во времени, но сближало их силой магнитного притяжения.
— Рад вас видеть, полковник! — сказал Щербачев. — Надеюсь, вы нам привезли кое-что?
Азанчеев заговорил медленно, слегка отдуваясь. Когда он говорил, становилось совершенно ясно, что его пушистые, мягкие усы с давних пор аккуратно бинтуются на ночь.
— Да, кое-что привез, ваше превосходительство… Прежде всего — новости: австро-германцы наступают от Торна — Кракова к Висле и Сану. Противник группируется на Вислоке и на Карпатских перевалах. Австрийские авангарды — под Дышувом и в районе Санока. Затем… х-ха! Вот что говорят галичане, ваше превосходительство: «Кто владеет Перемышлем, тот владеет Галицией; а пока Перемышль не взят — русские у нас только в гостях…» Как это нравится вашему превосходительству?
— Гм! — неопределенно произнес Щербачев, — может быть, галичане и правы. Вы привезли нам указания главнокомандующего фронтом?
Азанчеев был от природы высокомерен и брюзглив. Почти всякий большой штаб в русской армии казался ему скопищем интриг, дрязг, мишуры, скуки и, вырвавшись теперь из-под этого пресса, он чувствовал, как за спиной у него растут крылья. Здесь, в корпусе, на боевом поле, он почти физически ощущал приятную надбавку к своему штабному весу.
— Так точно, ваше превосходительство…
Тут он пустился в пересказ чьих-то воззрений — отчасти главнокомандующего, а отчасти, гораздо в большей степени, своих собственных, нисколько не сомневаясь при этом, что все им сказанное будет принято за чистое золото. Идет быстрая, маневренная война… Эта война очень скоро кончится… Никаких Шахе![10] Это больше не повторится… Что? Как и чем кончится? Просто… Прекратится подвоз сырья, мобилизация оторвет рабочих от станков, промышленность остановится, и воюющие страны прекратят военные действия… Азанчеев был так окрылен, что не замечал, как его рассуждения все дальше и дальше отходят от взглядов главнокомандующего. И Щербачев не замечал этого. Зато многоопытный Дельвиг видел ясно, что теперь, если бы даже Щербачев и вознамерился приостановить атаку, ему ни за что не даст это сделать приехавший за лаврами Азанчеев. Экое несчастье! Дельвиг откланялся и вышел.
Вышколенные вестовые внесли чашки с дымящимся кофе. И когда сигары наполнили кабинет волнами прозрачного и сладкого тумана, вдруг стало ясно, что Азанчеев не привез с собой ровно никаких указаний главнокомандующего, а приехал исключительно для поддержки прекрасных распоряжений генерала Щербачева. Да и какие указания мог бы дать еще главнокомандующий фронтом? Правда, он человек долга, он любит свое дело. Но он узок, нерешителен, мелочен, бестолков, болезненно самолюбив. Неудачи японской войны раз навсегда превратили его в пугливого, жалкого хлюпика. Даже при самой благоприятной обстановке он нервничает и…
— Мечется во все стороны, — отдуваясь, говорил Азанчеев, — дерется вместо кулака растопыренными пальцами. Австрийцам нечувствительно, а пальцам больно. Впрочем, зачем я говорю все это вашему превосходительству? Вы сами отлично знаете, что этак воевать умеет всякий батальонный командир…
Он оглянулся на дверь. Щербачев успокоительно улыбнулся. И Азанчеев улыбнулся.
— Прибавьте к этому благословенный дар золотого молчания. Когда нужен уверенный голос начальника и твердый приказ, мы…
— Моя последняя депеша произвела какое-нибудь впечатление?
— По обыкновению, старик отмычался…
Никто бы не сказал об Азанчееве, что он склонен делать что-нибудь заведомо безнравственное. Но чутья, которое мешает людям дурно поступать в том или другом случае, — этого чутья в нем решительно не было…
Он говорил и при этом так странно смеялся, словно на него откуда-то брызгали холодной водой.
* * *
В четырнадцатом году пригодность трехдюймовых пушек для устройства проходов в проволочных заграждениях еще не была установлена, да и самый термин «артиллерийская подготовка» еще не был известен. Говорили об «артиллерийской поддержке», то есть главным образом о борьбе с батареями атакуемого противника. Шестого октября стрельба под Перемышлем велась в высшей степени интенсивно, но фортам противника она не приносила ни малейшего вреда. Заусайлов провел весь день «под прикрытием» этого огня, а по существу под жестоким обстрелом с фортов. Поздно вечером его роте удалось-таки добраться до высотки, через которую пролегала на здешнем участке линия исходных положений для штурма.
Здесь рота окопалась под дождем, в холоде, на ледяном ветру, по пояс в черной, брызжущей грязи…
Постепенно результаты двухдневного штурма определялись. Начальники дивизий читали в донесениях командиров полков: артиллерийская поддержка ничего не дала; огонь фортов не ослабевает; броневые купола и башни целы; проволочные заграждения и минные провода — тоже; переход через рвы невозможен из-за убийственного пулеметного огня. Из донесений начальников дивизий генерал Щербачев видел, что только две дивизии более или менее близко подошли к целям атаки, а остальные находились от них за одну-две версты. На северном участке атаки войска почему-то сидели без снарядов. И все-таки жребий был брошен. Ночь служила порогом к штурму. Щербачев отдавал последние распоряжения.
* * *
Генерал-лейтенант инженерных войск Величко прибыл из Львова под Перемышль по телеграфному распоряжению главнокомандующего фронтом. Было еще светло, когда он представился Щербачеву и тотчас отправился с привезенными им военными инженерами в объезд линии штурма.
Величко руководил на южном фронте оборонительными работами по укреплению тыловых позиций и в последнее время усиливал Львов. Щербачев знал его мало, но слышал о нем много. С именем Величко в представлениях Щербачева тесно связывались две вещи: во-первых, громкие выступления этого старика на прениях по крепостным вопросам, происходивших года четыре тому назад в Инженерной академии, и, во-вторых, давно уже вышедшая, но все еще не потерявшая своего значения, замечательная книга «Исследование новейших средств осады и обороны сухопутных крепостей». Появление этой книги составило эпоху в истории фортификации. Она отразила в себе множество идей, которые давно бродили в массе русского военного инженерства, оказывая заметное воздействие на взгляды некоторых французских и бельгийских авторитетов. Величко был единственным автором своей книги; однако прокладывая в ней теоретические пути для будущего развития русской фортификационной школы, он, по сути дела, обогащал мировую военно-инженерную науку знаниями и опытом всего русского военно-инженерного корпуса. Книга Велички — целая энциклопедия сведений по артиллерийской части и почти неисчерпаемое богатство деталей и проектов по части фортификационной.
Объезжая линию фронта, генерал тут же распределял по ее участкам привезенных им с собою военных инженеров. Он назначал начальников работ по дивизиям и помощников к ним. Инженеры оставались на участках, а генерал ехал дальше. Он был некрасив: колючая седая голова; худое, сморщенное, как печеное яблоко, и оттого казавшееся дряблым лицо; огромные уши, бледные, плоские, безжизненные, с мочками, похожими на тряпичные концы; невысок, коренаст и очень подвижен. Не было никакой цельности в том, что этот человек, с увядшим лицом и серо-бесцветными глазами, утонувшими в блеске стекол пенсне, может так быстро двигаться, так сильно и порывисто жать руку, так энергично вмешиваться во все, совершающееся кругом. Однако вглядевшись в генерала, можно было понять, что морщинистость его щек происходит не от дряблости кожи, а от ее сухости и жесткости, и что весь он, с его крупным носом, короткими седыми усами и глубокими саркастическими складками возле рта, точно такой же сухой и жесткий.
С артиллерийского наблюдательного пункта на высоте 231, где стоял с биноклем у глаз Величко, был отлично виден большой долговременный форт седлисской группы и особенно хорошо — его боковые фасы и броневые купола с противоштурмовыми орудиями в плечевых углах. Просматривались также и проволочные заграждения.
— Как действуют гранаты? — спросил Величко.
— Никак, ваше превосходительство, — отвечал артиллерийский капитан, — легкие орудия сильны шрапнелями. А при стрельбе гранатами, что ж?
Форт, на который был наставлен бинокль Велички, представлял собой сомкнутое укрепление с полукруглым передним фасом длиной шагов в сто пятьдесят и окружностью шагов в триста-четыреста. Трехъярусная оборона… Четырехсаженный вал с наружным рвом… Блиндированный пулеметный окоп… Две линии проволоки… Волчьи ямы… Высокие насыпи из глины яркожелты от дождей. А все остальное — голо, мокро и потому кажется черным. Становилось темно. Мелкий дождь усиливался. Крепость вела редкий огонь. При каждом выстреле трепетный свет плясал впереди. Пляшут и жесткие, седые усы Велички. Критически кривятся губы, и складки у их концов глубоко бороздят сухие щеки.
Трудно сказать, кто из двух генералов был упрямее — Щербачев или Величко. Но упрямство первого было мертвым, а упрямство второго — живым. Академическая кафедра, которую Величко много лет держал в ежовых рукавицах, знала немало историй о том, с каким упорством отстаивал он свои планы и с какой непримиримостью относился к сопротивлявшимся. Это упрямство — живое. И когда ночью, вернувшись с линии атаки, Величко разыскал Шербачева и потребовал от него немедленного созыва военного совета, Щербачев, подумав, уступил.
Совет собрался через час в домике лесничего, между Рудниками и Мосциской. Домик лесничего был похож, на блокгауз. Словно маленькую крепость, его окружал высокий прочный забор с колючей проволокой, протянутой поверху. Генералы и полковники один за другим входили в низенькую комнату и рассаживались на некрашеных белых скамьях. Предстояли споры. О чем?
Несколько дней назад, делая выбор между блокадой Перемышля и штурмом, Щербачев и Дельвиг выбрали штурм. Сейчас Величко стоял у квадратного деревянного столика, взволнованный, сердитый, и страстно говорил:
— Надеяться взять первоклассную крепость открытой силой, не имея почти никакой тяжелой артиллерии сверх шестидюймового калибра, это — безумие, господа… Это абсурд! Абсурд, слышите?..
Он примолк на мгновенье, чтобы передохнуть. Щербачев сказал:
— Ваше превосходительство предлагаете способ постепенной атаки?
Величко вздрогнул.
— Ничего подобного! Откуда взяли вы это? Штурм — чепуха. Но и расчет на подавление крепостного огня легкими пушками — не меньшая… фантасмагория. Ведь вы уже двое суток этим занимаетесь, ваше превосходительство. А что у вас получилось?
— Однако что же вы предлагаете?
— Я? Я утверждаю, что любой способ атаки должен быть обеспечен технически. Штурм, ускоренная, постепенная атака — все равно… Проложите двести верст полевых железных дорог… В Киеве валяются сетки штурмовых лестниц, — подайте их сюда… Прожектора, ножницы, ручные гранаты… Мало ли чего еще требует новая машинная война… И все это должно быть. Тогда — действуйте… А без этого — безумие. Без артиллерии — тоже безумие…
Величко остановился. По комнате пробежал смущенный шепоток: «Как? Что?» Впрочем, это продолжалось недолго. Азанчеев встал и вытянулся, — он был здесь одним из младших по чину.
— Безумие, ваше превосходительство?
— Да. Да. Я не хочу, господа, быть пророком, но я не слеп, я вижу, что происходит, не могу не видеть… Хотите ускоренной атаки… Предлагаете атаку a la немец Zauer[11] — авантюрнейший вид ускоренной атаки… Рвать форт за фортом… Предупреждаю: дело кончится полным разгромом, господа!
— Как видно, ваше превосходительство не ожидаете от доблестных российских войск ни мужества, ни порыва, ни верности. Никакого Зауера еще и на свете не было, а наши войска уже брали штурмом Измаил. Разве они стали иными, чем были под Измаилом, под Парижем?
— На штурм Измаила они шли за Суворовым, — сказал Величко, — а Париж мы брали у побежденного врага…
Азанчеев наклонил голову.
— Наши войска знают, что такое штурм. Вспомните Нарву, Юрьев.
— Хватили, полковник! Очаков, покоренье Крыма…
Азанчеев наклонил голову еще ниже.
— К месту ли нам шутить над прошлым? Очаков, покоренье Крыма — история нашей славной армии, нашего великого народа. Мы вспоминаем блестящий штурм Карса в семьдесят седьмом году и горим желанием повторить тогдашнюю удачу, когда захват открытой силой нескольких фортов заставил слабого духом врага сдать всю крепость. Мы — за наше собственное, старое, русское уменье, и прилагать к нему немецкий ярлык Зауера кажется мне чем-то вроде… адвокатской речи в защиту немецкого засилья. Простите, ваше превосходительство!
Подобного Величко не ожидал. Что такое Азанчеев? Мелкий последыш германских военных методистов. И вдруг неуловимо ловкий прием отлично натренированного фокусника сразу меняет положение. Между Зауером и Азанчеевым нет больше ничего общего. А вот между главой русской фортификационной школы и Зауером… Ну и жулик! Однако не заниматься же сейчас разоблачениями? Не оправдываться же?
Щербачев тоже не ожидал такого хода. Он никогда не был патриотом драгомировщины, но теперь с удовольствием брал на заметку, что и она при известных условиях может прийтись как раз к месту. Его худое и длинное туловище медленно извивалось над столом.
— К черту Зауера! — хмуро сказал Величко, — но я утверждаю, что всякая атака должна быть обеспечена всеми артиллерийскими и инженерными средствами.
Впрочем, он мог бы уже и не говорить этого. Азанчеев поклонился и сел. Генералы переглядывались. Величко, упрямый, острый на язык, непобедимый спорщик, проиграл совет. И проиграл не просто, а скверно, с наложением какого-то дурацкого германофильского клейма. «Экая сволочь, — подумал он об Азанчееве, — черт знает, что за фрукт!» При подобных историях всегда отыскивается тут же, на месте действия, разная человеческая мелочь, которой доставляет удовольствие начисто откромсать потерпевшему хвост.
— Позвольте, ваше превосходительство, — обращаясь к Величко, зашептал старенький генерал, в измятом резиновом пальто с заношенными, темными погонами, — позвольте. Перемышль, Перемышль… А куда ни глянешь на верки, везде кирпич… Д-да… Ну и бетон, и броня. Кирпич… Толщина — двадцать пять сантиметров… Бомбы шестидюймового калибра… А солдатики наши…
Величко быстро глянул на старика и отвел пенсне.
— Напомните, ваше превосходительство: разве вас все-таки оправдали по делу Стесселя?
Старичок ахнул и сел. Щербачев посмотрел на часы: два ночи.
— Я пользуюсь случаем, господа, чтобы повторить указания, которые вы найдете в моем сегодняшнем приказе. Он уже рассылается. Штурмующие части сосредоточиваются в окопах… Команды подрывников уничтожают препятствия… Фланкирующие постройки забрасываются через бойницы ручными гранатами… Войска бросаются на штурм…
Величко так крепко почесал нос, что по нему пошли белые полосы.
— Но ведь ручных гранат-то нет…
— Э-э-э, — сказал Щербачев, — это не совсем так. Я приказал выдать на каждый атакующий полк по тридцать две гранаты, по шестьдесят пять ножниц, по десять двойных лестниц, по восемь проволочных пакетов и по двадцать перекидных мостиков. Однако примем устную оговорку к приказу по атаке: без уничтожения фланговой обороны рвов штурма не начинать.
Щербачев очень хорошо знал все, о чем сегодня так напористо толковал Величко. Но в отличие от Велички он почти не сомневался, что Перемышль будет взят и без технических средств, и без осадной артиллерии. В русского солдата он верил не больше и не меньше, чем Величко, но вера Велички была зрячая, а его вера — слепая. Как некогда Аракчеев, он тоже думал, что русский солдат может сделать решительно все; но чтобы добиться от него возможного, надо настаивать на невозможном. И он в действительности представлял себе завтрашнее предприятие таким, как писал в приказе и только что говорил: под завесой ночного мрака, штурмовые колонны пробьются через полосу ближнего огня; к рассвету будут готовы проходы в проволочных заграждениях; затем саперы с пироксилиновыми шашками проберутся ко рвам и взорвут капониры; и тогда стрелки кинутся вперед, захватят форт… другой… третий… Ночь, случай, удача… Ручные гранаты? Да, тридцать две на полк — скудно. Но ручные гранаты только что появились в армии. Обходилась же армия до сих пор и вовсе без ручных гранат… Странное дело: Щербачев был генералом широкого, вполне европейского военного образования и вместе с тем шагу не мог ступить без темной, прадедовской повадки: либо в стремя ногой, либо в пень головой…
Он встал и поклонился, распуская совет.
* * *
Было еще совсем темно, когда батальоны начали шевелиться. Одни двигались влево, другие — вправо. За передними тянули провода. Появилась телефонная станция штаба дивизии. Мало-помалу начинало светать — холодная муть висела в воздухе…
Вместе со светом ожила артиллерия. Мерно заряжались орудия, повертывались затворы. Пламя мигало, и снаряды с протяжным свистом выносились вперед, оставляя над полем извилистые ленточки дымков. Дельвиг стоял на батарее.
— Дайте-ка еще одну очередь, капитан!
Расставив короткие ноги, с биноклем у глаз, Дельвиг внимательно следил, как умножались над полем ленточки дымков.
— Трубка хороша! — он круто повернулся на каблуках, — еще очередь!
Собственно, стрелять надо было бы группами по восемь, десять и двенадцать батарей сразу, перенося огонь с одной цели на другую. Но так стрелять наша артиллерия еще не умела.
Солдат связи поднялся над горкой присыпанных землей бураков и, приставив руки ко рту, закричал:
— Один зарядный вторую батарею!
И дальше, в белесой пустоте туманящегося утра, поднялась такая же одинокая фигура и так же надрывисто выкрикнула:
— Вторую батарею один зарядный подать!
Две гранаты, одна в хвост другой, упали на батарею и с грохотом лопнули. Свалился в ровик правильный номер левого орудия. Мотая окровавленной головой, у открытой дверцы зарядного ящика упал еще один солдат.
— Меняйте позицию, капитан! — приказал Дельвиг.
Батарея с почти неуловимой быстротой стала на передки. Она шла без потерь, перекрывая открытые места галопом на дистанции между запряжками шагов в пятьдесят. По временам снимала орудия с передков и посылала несколько снарядов. Затем опять шла галопом. Заняли новую позицию. Дельвиг уехал. Батарея работала: задыхаясь, отскакивая назад, окруженные суетящимися людьми, пушки швыряли огни разрывов и выли живым, звериным голосом. Стрельба велась гранатами по площадям в длину видимой цели и в глубину на триста сажен. Но гранаты отскакивали от броневых куполов, как дождь от железной крыши. Форты были неуязвимы, и бесполезность артиллерийской поддержки с каждой минутой становилась все очевиднее…
Тогда начальники дивизий подняли пехоту. Густые строи батальонов и рот сбегали вниз по отлогим скатам исходных высот, с трудом поспевая за быстрыми волнами легких цепей. Чем легче перекатывались цепи и живей подвигались вперед пехотные массы поддержек, тем заметнее свирепела Седлиска. Ее форты дышали огнем и дымом. Шрапнель выбивала людей из штурмовых колонн, как град выбивает колосья на хлебном поле. Снаряды рвались, и от грохота их разрывов больно ударяло в уши, в глаза, в голову. Один снаряд разорвался поблизости от Романюты. Словно тараном ударило в Романюту, и он в ужасе раскрыл рот: вот брызнет из нутра кровь. Ближе Седлиска — гуще тучи выбрасываемых ею бризантных гранат. Скверное чувство тяжким камнем легло на душу бежавшего вперед Заусайлова: он даже замедлил бег. Он видел утром, как отлично действовали наши легкие батареи, и видел теперь, каким пустяком была их работа в сравнении с уничтожающим действием австрийского огня. Заусайлов видел также, как потрясает сила этого огня изумленные души бежавших с ним рядом солдат. Лопался такой снаряд, и корневища взлетевших кверху деревьев бороздили высь, а тысячи зубчатых осколков ураганом смерти и увечий сметали с земли все, что было на ней живого. Заусайлов громко и пакостно выругался. «Отчего же нет у нас этаких орудий?..»
Трехрядная изгородь из железных острых кольев в рост человека, переплетенных по горизонтали и наискось толстой колючей проволокой, стала на путях штурма. Гранатометчики подползли к изгороди шагов на пятьдесят, быстро вскочили, швырнули по гранате и снова упали наземь. Словно мир треснул, так громыхнуло. Черный дым заклубился, взмываясь, и захлестнул все вокруг. А гранатометчики, ныряя в его волнах, уже ползли к проволоке и, выхватив ножницы, кромсали ее неумелыми руками. Ножницы лязгали, проволока закручивалась в кольца. Прихлынула пехота.
— Братцы, у кого ножницы, режь…
— Ложись, окапывайся!
— Вперед!
— Ребятки, поддай маленько!
— Куда поддавать-то? Гляди, вторая отходит…
— Братцы, четвертая отходит…
— Ползи назад…
— Раненых вынести!
— Вынесешь, черт!
— А ты что думал? Поднимай…
— Братцы, не покидайте!
— Не голоси! Вишь, ведь…
Клочья окровавленных серых шинелей висели на проволоке. Атака отливала…
* * *
Прячась в оврагах, залегая и перебегая, полк без выстрела подошел к самой подошве гласиса «I-1», но здесь потерял командира и начал пятиться. В сизом дыму мелькали огненные языки рвущихся шрапнелей. И вот снова — пройденная сегодня уже раз полоса фугасов, полоса засек… Полк отходил, роняя множество людей. И вдруг что-то случилось. Барабаны зачастили «атаку». Кверху взлетело и повисло в воздухе «ура». Высокая фигура незнакомого полковника замаячила впереди.
— Слушать мою команду! За мной…
Полковник махнул рукой с зажатым в ней топором, повернулся и пошел на проволоку. Время исчезло. Вмиг были сделаны топорами и лопатами пять проходов в проволоке, и полк, взбежав вверх по гласису, ворвался во внутренний дворик укрепления. Позади — брустверы с круглыми, куполообразными, вросшими вглубь земли броневыми башнями и торчащими из них дулами пушек. Впереди — пороховые погреба, под земляной обсыпкой, похожие на степные курганы с деревьями по скатам. А за ними — крепостная ограда, ядро перемышльской твердыни. Собственно, никакого полка на внутреннем дворике не было, ибо полтораста человек — не полк. Где же остальные? Убиты. Ранены. Спрыгнули в бетонированный ров, когда мост обломился, и застряли там. Полковник Азанчеев, принявший команду над разбитым полком, повернувший его, и приведший сюда, ждал подкреплений из Быхува и контратак из Седлиски. Время вернулось, чтобы томить своей медленностью. Подкрепления не подходили. А контратаки созревали в непостижимой тишине. Внутренний двор походил на склад отбросов: патроны, гильзы, обоймы, каблуки и подметки, снарядные стаканы, бляхи от полевых ремней, рваные шапки, скрюченные трупы, — все это были ненужные предметы, но все они имели прямое отношение к только что отпразднованному смертью на этом месте торжеству.
Здесь Азанчеев отбил три атаки, однако подкреплений не дождался, и в шесть часов вечера повел горсточку своих солдат в отход…
* * *
Весь день генерал Щербачев разъезжал по наблюдательным пунктам дивизий. Он не обращал внимания на опасность. Смерть стучалась в мокрый бруствер окопов по сторонам его головы, — он не слышал. Адъютанты волновались:
— Ваше превосходительство…
Он не слышал. Только раз буркнул:
— Отстаньте, поручик!
Однако бесстрашие генерала ничего не могло изменить. Штурм отбивался на всех участках. Из строя уже выбыло около двадцати тысяч человек. Пятая часть этого числа неподвижно лежала возле невырытых еще могил. Теперь было ясно, что, не имея осадной артиллерии, было величайшим безрассудством предпринимать этот штурм. Для временного захвата укрепления «I-1» (Седлиска) потребовалось уложить полк. А прочие атаки — все как одна — или были задавлены огнем противника при самом начале, или захлебнулись на проволоке. К шести часам вечера картина общей неудачи была очевидна. Щербачев не рассчитывал больше ни на случай, ни на темноту. Он знал: все пропало. И все-таки упрямство этого человека еще не желало сломиться и уступить. Проходили часы, — войска лежали под огнем, окопавшись, где и как попало, и не делая никаких попыток двинуться вперед или назад. Только в полночь Щербачев отдал приказ отходить.
* * *
Выражаясь языком штабных документов, обстановка требовала деблокировать Перемышль. Может быть, Щербачев и не прекратил бы штурма, но обстановка требовала этого категорически. И вот красные огни ракет резали глубь непроглядной ночи. Ракеты взлетали, поле озарялось розовым светом, и длинные черные тени, вздрагивая, протягивались по земле. Русские войска отходили из-под фортов Перемышля. Свистели кнуты, звенели подковы, хлюпал под тысячами ног грязный талый снег. Форты не прекращали огня всю ночь. Стреляли еще и утром. Отходившие войска видели, как за щетиной хмурых осенних перелесков, где-то далеко позади, на горизонте вспыхивали и, точно дымки гигантских труб, гасли белые облака. Войска двигались по глубоким промоинам грязных дорог, а отставшие раненые, в мокрых шинелях, с покривившимися кокардами на фуражках, тащились целиной. Вброд перебирались через узкие, петлистые речки, с высокими и крутыми берегами, с частыми заводями. Летом в таких заводях шумят камыши и ярко поблескивают под солнцем серебристые рыбьи бока. А теперь, в октябре, над речками висел белесоватый свет, медленно таявший в знобких сумерках. Что это? Два огромных желтых глаза ослепительно блеснули в темноте. Чудище открыло невидимую глотку и взревело так, что лошади и люди шарахнулись в стороны. Это — автомобиль Красного креста ныряет по развалам ночного бездорожья. Уходя, войска оставляли позади бесчисленные бугорки насыпной земли — братские могилы. Списки убитых — бумага, как и всякая другая штабная бумага; на ней — фамилии и цифры. Но для войск списки потерь — это дорогие имена лучших товарищей; для них — почти за каждым именем живет поэма человеческой красоты и боевой славы…
Только что прибыв на фольварк Рудники, новый командующий одиннадцатой (блокадной) армией генерал от инфантерии Селиванов уже вел с генералом Щербачевым крайне неприятный для последнего разговор. Приезд Селиванова отстранял Щербачева от командования блокадными войсками. Естественно.
В связи с формированием одиннадцатой армии именно так и должно было произойти, независимо от исхода штурма. Но когда старик Селиванов, одутловатый, добродушный, с простецкой солдатской складкой в лице и фигуре, позволяет себе дерзить и грубиянить, — это другое дело. Это уже прямой результат неудачи штурма. И Щербачеву оставалось слушать и молчать.
— Удали этой самой у нас хоть отбавляй, — говорил Селиванов, как бы выталкивая неприятные слова языком из-под густых белых усов, — а простой рассудительности — нехватка. Помилуйте-с! В пятьдесят восьмой дивизии осталась половина штатного состава. Девятнадцатая потеряла сорок четыре офицера и три тысячи рядовых. Да и вообще ни одной дивизии в своем настоящем виде, а так — жидкие остаточки кадра под ружьем. Спрашивается, Дмитрий Георгиевич, как же не вспомнить нам с вами великого царя Петра: «Больше разумом и искусством побеждают, нежели множеством», — а?..
Скверная штука — похмелье. Нечто вроде горького похмелья переживали теперь войска, побывавшие на штурме. Среди офицерства разбухали слухи. Передавали за факт, что еще в ночь с пятого на шестое была собрана партия инженерных офицеров для рекогнесцировки подступов к перемышльским фортам. Каждому офицеру придали по несколько человек солдат. Отправились. Однако ночь была лунная, светлая, и потому рекогносцировка не удалась. Только какому-то саперному подпоручику Лабунскому с пятью разведчиками посчастливилось обследовать подступ к укреплению «I-3» по лощине, ведущей в лес, где ни искусственных препятствий, ни фугасов не оказалось. И вот утверждала, что ни в дивизии, ни в штабе корпуса не нашлось ни одного генерала, который обратил бы внимание на это важнейшее обстоятельство. И, конечно, укрепление «I-3» штурмовалось в лоб без малейшего успеха, но с огромной убылью в людях.
— А где же подпоручик Лабунский?
— Тю-тю… Чтобы не болтал, угнали на Карпаты.
Капитан Заусайлов покачал головой.
— От кого вы, прапорщик, эту историю слышали? — спросил он.
— Один уцелевший на штурме «I-3»…
— Эх, знаете… Не люблю «уцелевших» и не очень-то верю их рассказам.
— Почему?
— Да ведь редко кому случается уцелеть честным путем. Еще и бой не успеет кончиться, а уж видно, кто уцелел и почему. Спроста слушано, да неспроста сказано. Советую, прапорщик, остерегаться «уцелевших»… Так-то!
Вскоре, однако, Заусайлову пришлось повстречаться с офицерскими рассказами и о самом себе. Говорили, что некий капитан Заусайлов, рота которого была отброшена во время штурма с проволоки, очутился поблизости от дивизионного наблюдательного пункта, где находился сам генерал Щербачев. Генерал набросился на капитана: «Как вы смели?.. Вы же резали проволоку…» — «Резал. Так что из того?» — «Значит, успех уже был, а вы после того…» — «Какой успех, ваше превосходительство? О чем вы изволите толковать? Ей-богу, на разных языках говорим. Коли сами проволоку режем — конец, крест над атакой надо ставить. А вы… Ни хрена вы, ваше превосходительство, не понимаете!!!» — Услыхав такой рассказ, Заусайлов руками развел. Самое удивительное заключалось в том, что рассказ был чистой правдой, если только не считать грубых слов, которых капитан по адресу генерала, конечно, не произносил. Спрашивается: откуда же взялись эти слова?..
Между тем в Мосциску прибыли шестидюймовые пушки. Их выгрузили с платформ и выкатили на главную улицу оставленного жителями местечка. Наркевичу навсегда запомнилась эта пустынная улица с высокими крылечками у притихших маленьких домиков под крышами из красноватой черепицы; воющие собаки и распоротые диваны у заборов и телеграфных столбов. А посередине длинного пустыря — вереница стальных великанов на колесах. «Поздно! — думал Наркевич, — взялись играть сложную симфонию современной войны, а умеют тянуть лишь одну-единственную ноту. Нет инструментов! Не знаем техники! Что за бездарь!» Настроения солдат тоже были не из радостных.
— Ажно от пороха почернел…
— Ври! Ныне от пороха дыму нет!
— Порох-то, может, и бездымный, да я-то не бездумный. С того и почернел…
Вдруг родилась новая песня:
На проволоку дружно Полезли мы, как нужно. Сулили командиры, Что будут одни дыры, Она ж весьма Целехонька была…Услыхав эту песню, Заусайлов тотчас подозвал фельдфебеля и сказал ему шепотом что-то очень внушительное, от чего песню точно ветром сдунуло и унесло. «Какой-нибудь студент-вольнопер импровизирует… Самый пакостный народец!»
* * *
Девятого октября левый фланг австро-германских армий достиг Сандомира, а правый — Санока. Главной целью этого движения было освобождение Перемышля. Селиванов оттягивал свои войска за реку Сан, постепенно снимая блокаду с запада и юга. Только восточная, сильно укрепленная при Щербачеве, позиция оставалась попрежнему в русских руках. У Сенявы и Ярослава появились передовые части наступающего противника. Предстояло сражение на реке Сан…
Полковник Азанчеев и генерал Величко собирались покинуть Рудники в один и тот же день. Но разъезжались они по разным направлениям. Азанчеев возвращался в штаб фронта, а Величко — на оборонительные работы под Львов. В день отъезда они встретились, внимательно посмотрели друг на друга и сразу заспорили.
— Поздравляю вас, полковник, — сказал Величко, — с настоящим подвигом. Будь я в Георгиевской думе, носить бы вам белый крест. Да, наверно, и без меня — наденете. Уже вижу, как трепыхаются за спиной у вас лазоревые крылышки славы. Однако есть к вам и претензия.
— Слушаю, ваше превосходительство.
— Вы приехали сюда от лица главнокомандующего фронтом. От вас зависело очень многое. Как же вы допустили то, что произошло?
— А что произошло, ваше превосходительство?
— Отбитый штурм. Огромные потери.
— Большие потери, ваше превосходительство, есть несомненное доказательство доблести войск.
— Согласен. Но они служат также доказательством неуменья и неспособности войсковых начальников. Штурм Перемышля был авантюрой. Я прошу вас оставить при себе ваши экскурсии в область сравнительной истории военного искусства. Мы с вами сейчас не на военном совете. Дело проще. Старик генерал благодарит вас за предприимчивость и отвагу. Но я ни черта не понимаю в причинах, которые заставили вас поддерживать эту авантюру.
Азанчеев пожал плечами и сказал, отдуваясь:
— Я делал то, что должен был делать, ваше превосходительство. А штурм Перемышля, как мне кажется, отнюдь не следует называть авантюрой. Штурм Перемышля есть смелая, вполне героическая попытка разрубить узел стратегического положения на галицийском театре войны.
В интонациях Азанчеева довольно отчетливо чуялась фальшь. Правда, никто никогда не ловил этого человека на прямой лжи, но зато и мало кто относился с непредубежденным доверием к тому, что он проповедывал. Величко насторожился.
— Попытка, как и всякий риск, — дело благородное. Об этом все прапорщики знают. Но ведь вы, полковник, были знакомы с планом операции, а план решительно никуда не годился.
— Почему, ваше превосходительство?
— Потому, что где тонко, там и рвется. Конечно, план не может предусмотреть все случайности. От случайностей мы и на кладбище не гарантированы. Планировать опасности и трудные положения — то же, что закапывать энергию живых людей в могилу. Но вот вы захватили укрепление «I-1». А что из этого вышло? Вас не поддержала артиллерия, к вам не подошел пехотный резерв, ваши люди погибли. В других местах они гибли на проволоке. План был авантюрой, так как строился на спасительности ночной темноты. Штурму надлежало начаться за три-четыре часа до рассвета. Но тут-то и сорвалось. Распоряжения были отданы поздно, части пошли на приступ уже засветло. Успех внезапности выпал из расчета…
— Вы говорите святую правду, ваше превосходительство. Но эта правда — для нас с вами. Между тем есть и еще другая — для всех. Несмотря на вопиющие недостатки плана и средств, штурм почти удался. «Где тонко, там и рвется». Однако теперь ясно видно, что могло и не сорваться. Ведь я же, например, был в Седлиске… А белые флаги на промежуточных укреплениях? А перерывы огня? Бесспорно, что мы были на волосок от полной удачи. Расчет был небезнадежен, ваше превосходительство, — отнюдь нет!
Величко тряхнул колючей головой.
— Вчера я находил эту операцию только безумием. Сегодня я вижу в ней еще кое-что.
— Что?
— Преступление. Ваша «правда для всех» — обман. Ваш почти удавшийся расчет — насмешка над духом армии, ее честной народной душой. Войска гибнут мужественно и безропотно. И причина их гибели ужасна: кровью искупаются грехи плохой подготовки, неумелость командования. Так было раньше, так и… Штурм Перемышля — бесплодно растраченное мужество и бесстрашие русских войск. Недавно немцы четыре дня бомбардировали Осовец из сорока орудий крупного калибра и выпустили двадцать тысяч тяжелых снарядов. А успеха не имели. Почему? Потому что сильное моральное воздействие бомбардировки может быть использовано только энергичным наступлением пехоты. Мы под Перемышлем были технически слабее, чем немцы под Осовцем, но…
— Но дерзание было за нами, а не за немцами, — сказал Азанчеев, — выходит, что нам больше не о чем спорить, ваше превосходительство…
Величко нахмурил брови. Фрукт! Однако ему не хотелось разойтись с этим пакостным человеком, оставив за его авантюрной ловкостью право на кажущееся торжество.
— Ум человеческий, — проговорил он, как бы нарочно не выбирая слов, — большой подлец. Он всегда придумает фокус, чтобы выйти из самого безвыходного положения.
Азанчеев тоже сморщил свой высокий лоб, сделал что-то глазами, отчего они как бы вовсе исчезли с его лица, и сказал:
— Да, ваше превосходительство. Государственная дума, общество, министры, промышленники, политические деятели… Вас это беспокоит. Однако уверяю вас: стоит кое-кого из них повесить, и все сейчас же пойдет на лад!
* * *
Одиннадцатого октября началось сражение на реке Сан, тяжелое и долгое. Вода выступила из русла и, тихо шурша изморозью, медленно разливалась по прибрежной траве. Хлюпала и чавкала под ногами черная прорва грязи. Размытые дороги, разбухшие поля, заплесневелые леса и болота, зыбкая почва приречных долин, с жадной радостью всасывающая в себя все, что ни подвернется, — здесь шел бой.
Азанчеев уже уехал в штаб фронта, а Величку задержал Селиванов. Когда же через несколько дней Величко приготовился к отбытию в Львов, его остановила телеграмма главнокомандующего. Ему предписывалось осмотреть инженерные сооружения на Буго-Нареве, а затем отправиться в Петроград для участия в опытах по электризации проволочных заграждений. Опыты производились в Политехническом институте имени Петра Великого при содействии лаборатории известного электротехника профессора Шателена. Участвовать в этих опытах было интересно и нужно. Но, раздумывая о своем внезапном удалении с фронта в разгар боев, решавших судьбу Галиции, Величко то и дело почему-то вспоминал Азанчеева. И безглазое лицо этого Мефистофеля гналось за ним до Варшавы и дальше, вплоть до самого Петрограда…
Глава четвертая
Русские войска, наступавшие в Лесистых Карпатах, состояли главным образом из второочередных частей. Это были во многом обездоленные часта: число кадровых солдат и офицеров в них было ничтожно; пушки стары и изношены, с негодными прицельными приспособлениями; походных кухонь почти не было. Даже воду на чай солдаты грели в котелках над кострами из соломы. Осенью обнаружилась нехватка снарядов. Вся тяжесть боев легла на пехоту, и потери стали огромными. Корпуса сводились в дивизии, бригады — в полки. Пополнения прибывали почти без винтовок.
И все-таки в ноябре одна из таких несчастных второочередных дивизий добралась до Бескид и остановилась у подножия насквозь промерзших склонов перевала. Дивизия шла сюда форсированными переходами, — гналась за отходившим противником, голодная, кое-как одетая, с чесоточными лошадьми, держа каждый артиллерийский снаряд на учете. И вот — дошла. Высоко, высоко, на обрезе горного профиля, прислонившегося к ясному, бледноголубому зимнему небу, можно было легко различить щербатую линию окспов. С этих, как бы приклеенных к небу, горбаковсыпались вниз тучи пуль и осколков, — австрийские окопы стреляли. Дивизия остановилась у деревни Радошице — крохотного бедного селеньица из десятка курных хижин с несуразно высокими крышами. Через Радощице перебегало шоссе; верстах в трех от деревни оно взбиралось на обочину скалистого ущелья и на птичьей высоте огибало дно узенькой долины. Главные силы шли в ротных колоннах, с примкнутыми штыками, стремясь к ночлегу и натыкаясь на свои собственный авангард. Голубое небо чернело, чернело; тучи все ниже налегали на горы, и вдруг хлопья пушистого снега густо повалили из них на деревню. Сразу настала непроглядно темная ночь. Войска стояли на шоссе длинной кишкой. Сзади гремели подтягивавшиеся артиллерия и обозы. Шоссе превращалось в «пробку»…
Реку переходили по мостам, наведенным саперами. Высокий сутулый подпоручик, заведывавший наводкой одного из таких мостов, целые сутки простоял у схода, пропуская войска и отказываясь от замены. Под косым проливным дождем и холодным, режущим лицо ветром он выстоял себе память навек об этой переправе. Там, где минуту назад хлестнуло огненной волной, выбросив кверху одинокую винтовку, теперь торчит из воды сапог. Но чем ужаснее и бесповоротнее совершающееся рядом, тем впечатления мгновенней. Вот шапка жмет ухо, — неудобно. Вот солдат в шинели наизнанку, — зачем это он так? А вот люди выбираются на берег по мокрому, скользкому снегу и бегут туда, где черно-красная полоска австрийского огня живет и колышется за проволокой и бетоном…
…Бой на перевале начался рано утром и продолжался десять дней. Синеватые предгорья ползли вверх, в облака. Даже над облаками маячили их темные головы, — это и был перевал. Ветер налетал, а старые сосны негодующе и грозно шумели в лесных чащобах. Перевал был сильно укреплен австрийцами: оборона ярусная; переправы и подступы защищены фланговым огнем; обстрел превосходный. Что ни день, менялась погода. Гололедица то сковывалась морозом, то раскисала в дождях и оттепели. Артиллерия выбивалась из сил. Припрягались лишние уносы; орудия и зарядные ящики поочереди втаскивались на холмы; номера и лошади дружно работали в одном ярме. Но все это была легкая артиллерия, к тому же почти не имевшая снарядов. Подавить огонь тяжелых австрийских пушек она не могла. Плохо воевать в горах без горных орудий. Деревня Радошице ни днем, ни ночью не выходила из-под навесного австрийского огня. А между тем именно здесь стояли и штаб дивизии и полковые штабы. Итак, взять Бескиды фронтальным ударом было невозможно…
Тогда решили нажать на правый фланг австрийских позиций. Фланг этот занимал высоту, покрытую редким ельником, с островками соснового леса. Вся в складках, заваленных снегом, угрюмая и мрачная, под серым, словно обвалившимся на нее небом, высота не обещала успеха подступавшим к ней войскам. Но второочередная не смутилась. Припадая к ее крутым боковинам, отлеживаясь в снегу от огня, где ползком, где бежком, со штыком, взятым к бою, то отстреливаясь, то отряхиваясь, второочередная семь суток брала высоту.
Настал последний день штурма. Саперная рота, в которой служил высокий сутулый подпоручик, наступала с пехотой от дороги, — с такой стороны, где совсем не было укрытий. Огонь невидимкой всчесывал гладкий подъем, взрывая льдистый наст и расшвыривая его пушистыми фонтанчиками. Люди ползли, падали, приподнимались и снова ползли и падали. Так, задыхаясь, докарабкались они до избы, баз двери, с выбитыми окнами. Ноги не чуяли пола под лужами стылой воды. В углу намело сугроб снега. Высокий подпоручик запустил в него пригоршню и вышел из избы. Солдаты видели, как он стоял под огнем и зачем-то ел этот снег. Пехотинец спросил сапера: «Как звать шикаря?» — «Лабунский». Но в общем было не до него. Штурм всползал на голое темя роковой высоты. Об этом можно было догадаться по тому, как заметно редела пальба, как все отчетливей и отчетливей слышались торопливое а-аханье легких пушек, татаканье пулеметов и ружейная трескотня. День кончался. Бурые облака мчались по сумеречному небу, облитому зловещими отблесками далекого пожара. Пустынные поляны, черные пятна перелесков и кустарников на замерзших горных болотах мало-помалу утрачивали твердый очерк размеров и форм, — колебались и плыли, как это бывает перед наступлением вечерних сумерек…
Вскочив на макушку высоты, второочередная увидела, что австрийцев на ней уже нет. Еще ночью они втихомолку снялись по всему перевалу. А теперь отошли и отсюда. Ледяной, пронизывающий ветер гулял по Бескидам, играя снежной пылью и наметая белые горы над мерзлыми австрийскими трупами…
Горный проход, шириной верст в тридцать, открывался отсюда прямым путем на Мезо-Лаборч. Было видно, как вправо и влево от дорог стояли и лежали роты, двигались дозоры, прятались в лощинах батареи. Некоторые из батарей вели редкую орудийную стрельбу. Однако завязывала бой, по обыкновению, пехота. Тонкими линиями двигались вперед цепи, за ними — поддержки. Люди тонули в снегу. Но трудно было только передним. Для тех, кто шел позади, путь уже был протоптан, — боевые дороги похожи на жизнь. До австрийцев было не больше двух верст. Вдруг горы покрылись черным дымом от рвущихся снарядов, и дождь шрапнельных пуль облил Бескиды. Эхо разнесло по ущельям грозный рев боя, и никто не смог бы теперь разобрать, откуда стреляют и где рвутся снаряды. Так началось третьего декабря большое наступление австрийцев от Ужока до Бартфельда с прорывом у Кросна.
Однако второочередная держалась. Навалом громоздились перед ней австрийские трупы, в светлосерых мундирах и синих шинелях, на снегу и под снегом, странно вдавленные в каменную землю, изумляя русских солдат набрюшниками, вязаными шейными галстуками и теплыми чулками. Неуклюжие кепи слетели с мертвых голов, и к макушкам прилипли мягкие стеганые шапочки. Второочередная окапывалась — нелегкая задача. Позиция тянулась по гребню перевала, и глубоко промерзшая земля не поддавалась малой лопате. Каждую ночь саперы копались вместе с пехотой. А утром уходили в тыл, чтобы стать на постройку запасных укреплений. Спали саперы когда-нибудь? Неизвестно.
Четырнадцатого декабря смолкнул бой, начавшийся прорывом у Кросна.
Капитан Карбышев приехал на Бескиды через три дня по окончании кросненского боя. Вырваться из Бреста в полевые войска было не так-то просто. Пока крепость не отмобилизовалась, об этом и разговоров не велось. А затем Карбышеву удалось получить назначение в ту самую второочередную дивизию, которая только что овладела Бескидским перевалом. Должности дивизионного инженера тогда в русской армии не было. Однако новые обязанности Карбышева соответствовали как раз этой должности.
Бревенчатая дорога тянулась между вплотную подступавшими к ней с обеих сторон гигантскими елями. Но куда она вела, было невозможно понять, так как ели сходились над дорогой гораздо ближе того места, куда хватал глаз, а за ними до неба поднималась фиолетовая стена горного хребта.
— Сторонись! Принимай вправо и влево!
Мимо Карбышева с грохотом пронеслись орудия и зарядные ящики. Батарея выезжала на позицию. Значит, и Карбышев был у цели…
В те времена на каждый армейский корпус приходилось по одному единственному саперному батальону, хотя войска корпуса укрепляли свои позиции верст на пятьдесят по фронту. Саперный батальон состоял из трех рот (для работ фортификационных, дорожно-мостовых и минно-подземных), из прожекторной команды и телеграфной роты. Подвижные запасы инженерного имущества сохранялись в корпусном отделении полевого инженерного парка. Саперные роты придавались дивизиям.
Второочередная, к которой был прикомандирован Карбышев, сидела в окопах — в извилистых грязных щелях, присыпанных у бруствера снегом, похожим на измятые подушки.
Не шатайся, не качайся
В поле, ковыль-травка, —
Не тоскуй, не горюй по молодчику,
Красная девка…
— Холодно, ребята? — спросил Карбышев, примащиваясь к кипящему солдатскому котелку и пробуя рукой слабенькую стойку козырька из гнилого леса.
— Никак нет, — отвечал бойкий солдат с опаленными рыжими усами, — изнутри, ваше благородие, теплом отдает. Эх-ма!.. Это у нас за обычай — мерзлого отогреть. Колода колодой, хоть тын подпирай, а на ноги ставим. С места не сойти, пустого не скажу.
Карбышев взглянул на бойкого и ни на грош не поверил его бойкости. Это была давно и хорошо знакомая Карбышеву хитрая затаенность солдатской обиды, — то, что глухой перегородкой отделяло всегда солдат от офицеров. Высказать казенное равнодушие к невзгодам солдатской жизни — самый верный способ поскорей отвязаться от начальнической болтовни, ибо известно: офицеры говорят с солдатами, чтобы размыкать скуку, а нет на свете ничего скучнее солдатского «через пень в колоду». Карбышев с досадой отвернулся от бойкого, и через минуту убедился в своей правоте. Дозор из солдат соседней дивизии подошел к окопу.
— Сидите?
— Сидим.
— А что делаете?
Бойкий живо оглянулся на Карбышева. Но капитан о чем-то думал, отвернувшись.
— Что? Смерти ждем!
Вот оно — настоящее, не на показ. А на показ — другое. Наблюдатели стояли у бойниц с винтовками под рукой.
— Рябкин?
— Чего тебе?
— Аэроплан!
Рябкин мгновенно выпустил пять пуль и заложил вторую обойму.
— Ну?
— Похоже, обознался…
— Слепой черт!
— А ты-то куда ж стрелял, чурбан с глазами?
Позиция, которую осматривал Карбышев, только по недоразумению могла назваться укрепленной. Профиль окопов годился лишь для стрельбы стоя со дна рва. Блиндажи с тоненьким покрытием могли предохранить лишь от шрапнельного огня. Кое-где вместо окопов были выкопаны просто канавки для стрельбы с колена. Проволочные заграждения где протянуты, где нет; флангового обстрела — никакого; перекрестного огня в промежутках — тоже; и на подступах — безопаснейшие мертвые пространства. Убежища еще и не начинали строиться. Были места, где вообще ничего не было, кроме торчавших из земли сучковатых кольев.
— Очень плохо, — сказал Карбышев красивому саперному прапорщику, — я вам о вашей работе говорю: плохо!
Прапорщик обиженно пожал плечами.
— Проволоки нет, господин капитан. Не успели натянуть. А окопы — плевое дело; покамест такие, потом дороем.
— Почему — впереди пусто?
Прапорщик расхохотался. Однако в пристальном взгляде черных глаз Карбышева было что-то такое, от чего он вдруг перестал смеяться и, приложив руку к папахе, доложил:
— Необыкновенная история произошла, господин капитан. Рано утром австрийцы утащили кошкой всю проволоку вместе с кольями.
— Вздор!
— Никак нет, господин капитан, — правда.
Прапорщик стал совершенно серьезным.
— Колья воткнули перед морозом и водой полили. Ну, и замерзло. А по-настоящему не забили. Солдаты в мороз ходили, — тоже поливали. Очень крепко держалось. Но в оттепель оттаяло. Утром — голое место с ямками, — вся схема препятствий исчезла. Никакого вздора, господин капитан, — все так и было.
— Тем хуже, прапорщик Батуев. Тем хуже.
— Слушаю.
Правее никудышного участка лежал другой, и все на нем было по-другому. Окопы — глубокие, аккуратно обложенные со стороны противника досками и накатником. Колючее кружево проволоки — на свежих кольях, прочно загнанных в землю. Кое-где — рогатки. В крутых скатах — ниши. Убежища — по всем правилам, с покрытием в три бревна; такие убежища не боятся и шестидюймового снаряда. У саперного подпоручика, провожавшего Карбышева по этому участку, было исхлестанное ветром, багровое лицо. Он был очень высок ростом, на длинных ногах, но сутуловат, и хоть молод, а с широкой темной бородой норвежского рыбака. Карбышев знал, что фамилия этого офицера Лабунский и что прибыл он сюда из-под Перемышля. Но и Лабунскому не хватало проволоки.
— Сколько?
— Пудов пятьдесят.
— Много. Достаточно тридцати.
— Позвольте, господин капитан… Я…
— Да уж не спорьте.
Быстро шевеля губами, Карбышев почти мгновенно перемножил мотки на погонные сажени, и сажени — на фунты.
— Видите? Тридцать.
— Замечательно, господин капитан, — сказал Лабунский.
— Что замечательно?
— Я — о вашей способности считать.
— Это я умею, — засмеялся Карбышев, — хотите, научу?
* * *
Начальником дивизии был рыжий генерал-лейтенант из отставки. Он стригся ежиком и отчасти по этой причине смахивал наружностью на станового пристава. Карбышев докладывал ему о состоянии укреплений на позициях, занятых полками. Разговор происходил в домике радошицкого священника. Генерал был не в духе. Третьего дня австрийский снаряд разорвался на чердаке избы, в которой помешался штаб дивизии, и убил телефониста. Вчера бомба попала в вал наблюдательного пункта как раз тогда, когда на пункте находился генерал, оглушила, засыпала землей и контузила начальника связи. Генералу чудилось, будто за ним гоняется смерть. А он был суеверен и потому — не в духе.
— Оборонительную линию, ваше превосходительство, можно было бы укрепить в две-три недели, — докладывал Карбышев, — можно было бы выстроить наблюдательные пункты, пулеметные капониры, наладить связь, исправить дороги, организовать сигнализацию, пристрелять подступы…
Сухие, морщинистые щеки и толстые красные губы генерала брезгливо сморщились. Он резко повернулся на стуле.
— Ну?
— Я докладываю вашему превосходительству о том, что следует сделать для усовершенствования позиций, — сказал Карбышев, — увеличить расчистку обстрела, усилить искусственные препятствия вокруг опорных пунктов, построить блиндажи на промежутках против…
Генерал очень быстро, с энергией зажевал губами.
— Опорные пункты?! Это что же за новость такая? Ничего этого не надо-с! Сделайте мне окопы, чтобы были расположены по линии, а впереди — препятствия и чтобы оборонялись препятствия фронтальным огнем. И ничего мне от вас больше не надо, капитан.
Карбышев ощутил что-то живое, как боль, под бровями, в лобных пазухах, в мозгу. От боли глазам сделалось жарко, а дух перехватило, и голос зазвенел. Родилась злость. Он заговорил скоро-скоро, словно куда-то очень торопился:
— Однако у вашего прльевосходительства не хватит войск, чтобы занять всю линию растянутых по вашему желанию укреплений…
— Не ваше дело-с! Хватит! Лучше вас понимаю…
Карбышев знал в себе рычажок, на который надо было своевременно надавить, чтобы не допустить беды. Попасть под военный или под офицерский суд — беда. Кто скажет, что было бы с Карбышевым давным-давно, еще в Маньчжурии, если бы не этот спасительный, до сих пор ни разу не отказывавший рычажок? И капитан надавил его…
Споры продолжались два дня. Наконец генерал поддался. Карбышев выторговал постройку опорных пунктов в системе траншей и оборону подступов к позиции фланговым огнем.
* * *
История с ночной разведкой Лабунского под Перемышлем не была выдумана. И то, что подпоручик поплатился за свою удачу переводом на Бескиды, — тоже. Но подобным оборотом дела Лабунский не был ни огорчен, ни разочарован. Получив толчок под Перемышлем, его предприимчивость развернулась на Бескидах. Кроме Лабунского, здесь решительно никто не помышлял о разведке. А он чуть ли не каждую ночь совершал рейсы в сторону неприятеля — выискивал, выслушивал, вынюхивал, прятался, захватывал неосторожных австрийских часовых, определял расстояния, устанавливал рода оружия и названия частей противника. Постоянным подручным Лабунского в этой лихой работе был телефонист Елочкин, — редкий случай, когда сапер и связист превратились в разведчиков. Однажды захваченный ими раненый «язык», умирая, сообщил важное известие: австрийцы вели подкоп под расположение того самого полка, в прикомандировании к которому находился Лабунский. Отобрав сведения, подпоручик подал рапорт, живо дотолковался с командиром полка и, не дожидаясь указаний высшего начальства, немедленно приступил к делу. В каждой саперной роте, среди прочего «носимого и возимого» имущества, имелись и приспособления для подрывных работ: индуктор, запалы Дребера, капсюли и бикфордов шнур. Лабунский повел навстречу австрийскому подкопу минную галерею.
— И куда вас несет? — говорил красивый прапорщик Батуев, — неосторожный вы человек…
— К черту с осторожностью! Вы, милый, еще щенок, и самых, простых вещей не смыслите. Бывают случаи, когда осторожность есть просто личина трусости, Заметьте!
И, победоносно оглядев прапорщика, Лабунский вывел могучим простуженным басом:
От чего саперы носят И лопату и топор? От того, что дело знают, Что касается сапер…Минная галерея велась с толком. Саперы изготовляли в лесу брусчатые рамы из толстых досок. Рамы ставились на полсажени одна от другой. За стойки и верхнюю насадку вгонялись доски. Добравшись до нужной глубины, Лабунский вывел довольно просторное помещение на стояках, с прочным потолком и нарами; затем пошел копать дальше. Входили в галерею со дна окопа. Ко времени приезда Карбышева на Бескилы работа Лабунского так подвинулась вперед, что из галереи уже можно было слушать австрийский подкоп. Аппарат подслушивания был изобретен телефонистом Елочкиным. Он состоял из алюминиевой манерки с двумя пропущенными через пробку клистирными трубками. Елочкин наполнял манерку водой до половины и зарывал ее в землю. А Лабунский вставлял трубки в уши и обогащался сведениями.
* * *
Над зубчатым верхом соснового леса уже стояла круглая белая луна. Карбышев подошел к землянке подпоручика Лабунского, стукнул в дверь и, шагнув куда-то вниз, провалился в яму, обложенную гладкими досками, чрезвычайно жарко натопленную и тускло освещенную «летучей мышью». На походной кровати сидел хозяин, вытянув длинные ноги в щегольских сапогах с блестящими жесткими голенищами, и привычным движением руки пропускал между пальцами свою норвежскую, из-под горла растушую бороду. Рядом с кроватью валялся на полу соломенный тюфяк денщика. На стене — телефон и гитара. К столику с «летучей мышью» пристроились два офицера. Карбышев вошел, и Лабунский вскочил с кровати, а прапорщик Батуев — с чемодана. Третий офицер был командиром пехотного полка. Именно из расположения этого полка Лабунский и вел минную галерею над австрийским подкопом. На столике поблескивали бутылка со спиртом и несколько фужеров синего стекла, удивительно похожих на церковные лампадки. Только что опорожнив такую лампадку, полковник старательно утирал усы и закусывал галетой из коробки с печеньем «Жорж». На смуглом лице красавчика Батуева было написано страданье. Полковник говорил ему, показывая на Карбышева:
— Бога побойтесь, капитана постыдитесь! Красная девица! Да разве этак пьют? Нет, уже мы по-солдатски: «Пей, браток, крепше, и жить будет легше!»
Лабунский суетился, подсаживая Карбышева к столу.
— Штраф за опоздание, господин капитан… Извольте догонять!
Дмитрий Михайлович выпил; Лабунский еще раз плеснул в лампадку. Полковник был толстый, приземистый мужчина. Несмотря на тропическую температуру землянки, он не желал «рассупониваться» и потел в темносерой длинной бекеше на меху, с огромным карманом посередине груди. Ему было весело.
— Пьем, капитан, девяностотрехградусный, — говорил он, незаметно толкая руку Карбышева и как бы приглашая его таким способом принять участие в забавной игре, — обучаем молодежь философии. Я рассуждаю просто: что, собственно, молодому человеку нужно? Вино, что-нибудь практическое из области «женского вопроса» и чтобы, по возможности, никто не мешал. А? Ха-ха-ха-а!..
Он с такой силой уперся спиной в стенную доску, что доска погнулась, и загоготал в радостном упоении. Лабунский тоже гоготал хриплым басом. Но Багуеву было не до смеха.
— Это все от того, что вы мало читаете, господа, — сказал он полузло, полуслезливо, с опаской оглядываясь на спирт, — без чтения…
— Вы о чем, прапорщик? — осведомился полковник, — о романах?
— Конечно, — пролаял Лабунский, — «Петербургские трущобы», «Караси и щуки»… И переводчина тоже — от «ужасного» Золя до Киплинга с Конан-Дойлем, а на первом месте — Мопассан. Верно, Авк?
Имя прапорщика было «Авксентий». Сокращенно он назывался «Авк».
— Легкомыслие, прапорщик Батыев! — шпынял его полковник, продолжая хохотать во все горло, так как находил очень смешной фамилию офицера в исковерканном виде, — одна пустота. Однако это ловко получается: «Авк Батыев», — вроде римлянина из Золотой Орды… Итак, с одной стороны, — бог троицу любит, а с другой — без четырех углов и дом не строится. Выпьем, Авк!
Карбышев слушал эту чепуху одним ухом. Опорожненная им лампадка с девяностотрехградусным спиртом обожгла его внутренности, опалила их ядовитым огнем. Но это было только первое ощущение. Еще минута — и огонь сделался ручным: сладкое тепло подползло к сердцу, растеклось по мозгу; согретая мысль засветилась, и темные уголки памяти начали раскрываться один за другим. Карбышев любил в себе это состояние острого раздумья. У многих оно быстро переходят в опьянение. Но крепкая натура Карбышева не боялась слабости. Он редко пьянел, то есть распускался. И потому, зная себя, пил без жадности. — не просто выпивал, а как бы впивал в себя колдовскую жидкость. Чтобы не растерять наплыва внезапно оживших полузабытых мыслей, он еще раз наполнил лампадку и сказал прапорщику:
— Вот что, Авк Батыев, у вас очень скверно на участке. Но всего хуже, что проволока туго натянута между кольями. Никогда этого не делайте. Я еще вчера хотел вам сказать, да из головы вылетело…
— А как же?
— Надо, чтобы проволока висела, — тогда ее нельзя перерубить топором. Смотрите…
У Карбышева была привычка выражать фортификационные мысли в графике. Он быстро оглядел столик и, заметив листок измятой бумаги, которым было что-то прикрыто, потащил его за край. Под бумагой обнаружилась стопка жиденьких книжек. Карбышев перебрал их. «Политическая экономия» Железнова… «История России» Шишко… Еще две-три брошюрки — по аграрному вопросу… А в общем — вполне эсеровская библиотечка. Карбышев прикрыл книжки бумагой. Как и всегда, интересоваться «не своим делом» у него не было ни малейшего желания.
— Да-с, наука… — прогудел полковник, снова утирая усы и закусывая печеньем «Жорж», — с девятьсот пятого года десяти лет не прошло, а извольте полюбоваться: численность армии выросла фантастически, появились автомобили, дальнобойные орудия, пулеметы, магазинные винтовки, авиация…
— По мере усиления средств поражения, — живо отозвался Карбышев, — следовало бы усиливать и инженерную технику. Но этого с девятьсот пятого года сделано не было.
— Однако я что-то не вижу большой разницы в инженерной технике между тем, что у нас и у немцев. Вот хотя бы, например, подрывная работа… Обе стороны — слепые, совершенные кроты-с! А впрочем…
Полковник вдруг обозлился.
— А, впрочем, с кого нам и спрашивать-то? Не с нашим, знаете, носом в горшок с медом лазить. Вы начальника дивизии уже видели. Ну как?
Правая бровь полковника легла на глаз, а левая вскинулась кверху.
— Как?
— Назваться генералом может всякий, но быть им не всякому дано, — скупо улыбнулся Карбышев.
— Именно-с! Никакому Мопассану лучше не припечатать.
Карбышеву хотелось еще сказать, что сближение окопов здесь, на Бескидах, прямо противоречит маневренному характеру нынешней войны, что, может быть, в дальнейшем, когда война… Но он не успел ничего сказать.
— Разрешите справку, Андрей Ильич? — вдруг загоготав, попросил Лабунский.
— Пожалуйста!
— У Мопассана про нашего генерала прямо сказано: отпетый дурак!
— Хм! Вы бы, поручик, Авка Батыева, малыша, пощадили, а? За скромность, а?
Карбышев быстро допил лампадку.
— Скромность, господа, вещь темноватая. Поскребите иного скромника, — из него так и полезет полнейшее равнодушие ко всему на свете. Случается, прапорщик?
Батуев сердито молчал. Полковник махнул рукой. Потом, тяжело дыша и обливаясь потом, поднялся и стал застегиваться. Он собирался уходить.
— Куда спешите, Андрей Ильич?
— Домой, дружище, домой… Хорошенького помаленьку! Конь о четырех ногах, да и то спотыкается. Хорошо еще, что жена дома не ждет…
— А вас куда несет, Авк?
— И я… Хорошенького, Аркадий Васильевич, помаленьку!
Лабунский пропустил бороду между пальцами.
— Да погодите, господа, что ж так, — сразу? Бывают люди всякие: одни любят богу молиться, другие — за юбками бегать. Это — уж изнутри, сроду так, ничем этого не вышибешь. А я…
— Что? — с любопытством спросил полковник.
— Не угодно ли партию в девятку? Правда, насчет денег у меня слабо. Но не все же на чистые, можно и на мелок. Кроме того… Эй, Абдулка, живо!
Денщик вырвался из самого жаркого угла землянки, за печкой, с двумя сапожными щетками в руках и, упав на колени перед Лабунским, артистически прошелся по его ногам.
— Раз-два. раз-два… Все!
— Брысь! Могу, господа, сапоги на карту поставить, — не угодно? Сапоги — собиновские… Факт!
Он выставил вперед сперва одну, потом другую ногу в отличных, франтовских сапогах. Полковник внимательно оглядел их, усиленно тараща свои туманные и мокрые, как осенний вечер, глазки.
— На меня не полезут. А если и влезут, так потом никакой денщик не стащит. Нет уж, поручик, когда, бог даст, при деньгах будете, — к вашим услугам… А сейчас…
Гости ушли. Лабунский вернулся к столику.
— Видать, не то, что Собинова, а и о Собинове никогда Андрей Ильич не слыхивал! Эх! Интересную мне штуку врач на днях рассказал. Обмораживают себе здесь, на Бескидах, ноги: из сотни солдат один, а из сотни офицеров — восемь. Спрашивается: на кой же мне ляд эти самые собиновские сапоги?..
Было что-то противное для Карбышева в наглой самоуверенности Лабунского. А полное отсутствие в нем «слезы», наоборот, нравилось. И вдруг слеза покатилась из его серых холодных глаз. Он сорвал со стены гитару, сел на кровать и, закинув ногу на ногу, запел хрипло и пьяно самую разухабистую цыганщину:
Джень дем мэ препочто, Джон дем мэ правовир Имел мэ, имел мэ сила зуралы. Эх, распошел шум ро, Сиво граи пошел, Ах, да распошел, хорошая моя!Он рвал звонкие струны, и летучие звуки встречались и плыли по землянке. Его могучий голос гнался за ними.
Поденьте, поденьте бокалы проскалинт! Чевеньте, чевеньте, бравинта сэгэдых!..Присев на корточках за раскаленной докрасна жестяной печуркой, Абдул заслушался, разинув рот. Карбышев никогда не был очень податлив на музыкальные впечатления. Но сейчас что-то все шире и шире приоткрывалось в нем, принимая в себя эту дикую песнь.
— Жить — мерзнуть; умереть — замерзнуть, — сказал Лабунский, швыряя гитару на кровать, — люблю я, Дмитрий Михайлович, войну…
— За что?
— За лишения, за голод, за жажду, за свист пуль. От всего этого возвращается вкус к жизни, и цена ее благ повышается. Только на войне, в передрягах огня и крови, в холоде, в окопной скуке можно по-настоящему любить жизнь. Я, например, непременно хочу вернуться домой, во-первых, целым и, во-вторых, обязательно с крестом, двумя, тремя крестами, — чем больше, тем лучше…
— Ой, бариня рад будет! — вдруг отозвалось из-за печки.
Карбышев и Лабунский вздрогнули. Денщик испуганно вскочил на ноги.
— Брысь! Это он о моей матери… И я заслужу кресты, Дмитрий Михайлович. Без «номера» отсюда не уеду, — увидите. Я хочу взять от войны все… все… И возьму, — увидите!
Лабунский звонко хрустел пальцами. Но у него были и еще какие-то мысли.
— А что как убьют? — неожиданно выговорил он.
— Кого?
— Меня. Или, скажем, вас.
Карбышев поднял брови.
— Убьют? Это может случиться. Ну и что же? Разве нам с вами было хуже, когда нас на свете не было? Так почему будет хуже, когда нас не будет на свете? Я считаю, что страх смерти — глупейшая разновидность эгоизма. Совершенно естественно, что жизнь никак не может понять своего уничтожения, — на то она и жизнь. Но…
— Не трудитесь, — хрипло засмеялся Лабунский, — если все это только для меня говорится, то, ей-богу, напрасно. Для прививки презрения к смерти обладаю не меньшей, чем у вас, аптекой аргументов. Не боюсь ничуть. И доказательства не замедлю представить…
Карбышев подумал с досадой: «Опять бравада… Экий самохвал!»
— А почему вы называете свои сапоги собиновскими? — спросил он, решительно меняя тему разговора.
Лабунский закашлялся, со свистом выбивая из бронхов застарелую мокроту и посылая в самое жерло печки один шипящий плевок за другим.
— Очень просто. Я ездил в отпуск к матери в Казанскую губернию. Моя мать — богатая женщина, крупная помещица. Если бывали в Казани, наверно, слышали. Обратно ехал с деньгами. В поезде — прапорщик запаса. Вагон-микст… Купе.. Дальше — больше… Собинов! Да, да, знаменитый Собинов! Стукнули коньяку. А потом, чтобы не терять времени, раскинули колоду. И, представьте себе, всю ночь из купе так и не выходили. Мало-помалу все наличные от Собинова ко мне в карман перебрались. А кончилось побоище тем, что заложил он, — как его? Леонид… Леонид… ну да все равно! — заложил в банк вот эти свои сапоги. Деланы в Москве, по особому заказу, у знаменитейшего мастера Звягина, на Волхонке. Собинов у нас — вроде Петрония: законодатель военных мод. И обратите внимание, голенища жесткие… каблук… носок обрезан… Словом, собиновский фасон. Надел, как влитые. Вот вам и вся история…
Телефон над кроватью пронзительно запел. Лабунский схватил трубку.
— Елочкин? Да что ты говоришь? Молодец… Сейчас иду!
Лабунский вскочил. Денщик уже подавал шинель.
— Извините, господин капитан. Из галереи.. Минут на двадцать… А вам вовсе не надо уходить. Я быстрее быстрого. Ей-богу, обидите, если не дождетесь…
Карбышев сдался и спросил, снова садясь:
— Что за Елочкин?
— Телефонист… Отличный солдат. Из Бреста.
Лабунский исчез. Муаровые переливы жара расползались по бокам и спине жестяной печурки. А денщик все подваливал да подваливал древесины в ее ослепительно яркое, нестерпимо раскаленное нутро. Карбышев думал о Лабунском. Кто знает, может быть, это и есть настоящий человек, настоящий русский офицер, воплощение физической силы, сгусток энергии и требовательного вкуса к жизни? Ведь именно такие люди, такие офицеры теперь и нужны. Война будет долгой. Окончательная победа достанется наиболее упорной стороне. Это война на износ промышленности, на истощение пищевых запасов, человеческих ресурсов и моральных сил. И в последний час решат спор они, моральные силы… Однако ждать становилось скучно.
— Абдул!
— Чего изволишь, ваше благородие?
— Откуда ты родом?
— Из Казани, ваше благородие.
— Значит, подпоручик и ты — земляки?..
— Никак нет, ваше благородие.
— Почему нет? Ты ездил с подпоручиком в отпуск?
— Так точно, ездил, ваше благородие.
— В Казань?
— Никак нет, в Саратов, ваше благородие.
— Да ведь подпоручик говорил про Казань?
— Она, наверно, шутил, ваше благородие.
— А мать его где живет?
— В Саратове…
И Абдул принялся рассказывать, как ездили они с барином в отпуск. Мать Лабунского — старая, бедная вдова, живет «из пенсии», на чердачке под крышей. «Все барина крестил, крестил, крестил…» Говорила она сыну так: «Бедовая у тебя, Аркаша, голова. И сложить ее тебе ровнехонько ничего не стоит. А я-то как же?» На обратном пути, в поезде, барин, действительно, с какими-то офицерами всю ночь играл в карты и всех обыграл. В Москве заказал сапоги на Волхонке по особому фасону. Только мастер с Волхонки и умеет так шить. Абдул сам ему деньги относил. А выиграл барин не сапоги, — деньги только. Насчет сапог пошутил, наверно…
Карбышев встал и потянулся так крепко, что по суставам кое-где хрустнуло. Ему не хотелось больше дожидаться Лабунского. Хлестаков? Несомненно. Эта мысль и вызванное ею чувство были похожи на луч солнца, внезапно сверкнувший из-за туч и тут же утонувший в грязном омуте талого снега. Разве может Хлестаков выйти победителем из такого грозного, беспощадно прямого состязания, как эта война? Хлестаков… Авантюрист…
Карбышев подошел к столику, чтобы еще раз переглядеть лежавшие на нем под листком бумаги странные книжки. Однако ни листка, ни книжек на столике уже не было. Оставалось немедленно уйти…
* * *
Елочкин вызвал Лабунского в галерею по очень важной причине. Уже целый час слушал он с помощью своего аппарата австрийский подкоп. Было ясно, что подкоп проходил наискосок под галереей, и может быть, даже крест-накрест. Грунт — вязкая глина. Судя по слышимости, австрийцы возились за аршин от Елочкина — не больше. Они что-то таскали в свою нору. Что? Наверное, мешки и ящики с песком. А это означало, что они приступили к зарядке. И Елочкин вызвал Лабунского.
Прибежав, подпоручик тотчас схватился за клистирные трубки. Так оно и было. Австрийцы прошли забивкой под галереей. Уже прошли. Это — первое. Второе: возня у них затихла. И тогда Лабунский начал распоряжаться, приказывая своим подвальным шепотом. Прежде всего следовало разобрать пол галереи в том месте, где он служил кровлей австрийскому подкопу. Затем… Солдаты закрестились:
— Гос-споди!
— Дурачье! Да ведь сейчас никого в австрийской дыре нет. Выноси оттуда мешки с песком, ищи провода, режь…
Провода скоро нашли. Лабунский приказал Елочкину присоединить к их концам другие, уже заготовленные, такого же сопротивления.
— Разбирай, ребята, австрийскую забивку… Вытаскивай заряды… Разряжай…
Здесь, в австрийской галерее, Лабунский и Елочкин ждали прихода хозяев. Должны же были они явиться, чтобы выяснить, почему так долго не взрывается подкоп. Ожидание затянулось, — прошло времени с полчаса, а то и все сорок минут, когда, наконец, в галерее подкопа послышались осторожные шаги. Шли трое. Передний — австрийский офицер — держал в руке электрический фонарик. Как слепые, прежде чем ступить, ощупывают дорогу палкой, так и он тыкал в землю белой палкой светового луча. Лабунский с ужасом подумал о том, что в кармане его шинели заряд, наган же в кобуре под шинелью, а шинель он забыл расстегнуть. В этот момент австрийский офицер поднял фонарик и прямо перед собой увидел вытаращенные серые глаза и норвежскую бороду Лабунского. Это неожиданное видение показалось австрийцу таким страшным, что, отпрянув, он закричал. Он кричал неживым, бессмысленным голосом, какой бывает у людей во время сонного кошмара:
— А-а-а-а…
Солдат, стоявший позади него, выстрелил в Лабунского, но промахнулся. Продолжая кричать, офицер выхватил револьвер. «Вот и конец», — просто подумал Лабунский и хотел зажмуриться. Но что-то непонятное метнулось под ноги австрийцу. Его крик оборвался, к сам он упал. Падая, он, вероятно, уже считал себя убитым, потому что отбросил револьвер. И в ту же минуту подбивший его Елочкин сидел на нем, туго перетягивая руки пленного тонким телефонным проводом. Два выстрела грохнули почти одновременно. Лабунский достал свой наган. Один из австрийских солдат лежал с простреленной головой, другой уносил ноги к выходу из галереи, — было слышно, как усиливал он свой неровный бег, спотыкаясь и на что-то наскакивая. Елочкин поставил пленного на ноги, крепко держа за провод.
— Добро, что так, а то бы и хлястика не осталось… Лабунский прохрипел:
— Ты спас меня, Елочкин, — спасибо! Уводи лейтенанта…
— А вы, ваше благородие?
Подпоручик махнул рукой и быстро пошел в темноту, — туда, куда только что убежал австрийский солдат. Оставалось сделать самое главное и… тогда все!
Дежурные видели из окопов, как за черной стеной ближнего леса с зловещей яркостью вдруг вспыхнул зеленовато-желтый сноп огня. Земля дрогнула от удара. Белая кисея снежной пыли взвилась к небу. Но уже на полпути ее нагнал гигантский всплеск камня, щебня, мусора, рваной жести, битого стекла и деревянных балок. Заслоненная этой непроницаемой массой, как бы потухла луна, и небо странно приблизилось к земле. Но затмение продолжалось недолго. И ночь стала еще светлей, чем до взрыва, когда Лабунского пронесли мимо окопов на перевязочный пункт…
* * *
Между развилистыми голыми деревьями плотно припали к земле маленькие темные избицы с острыми, густо заснеженными крышами. Это деревня; в ней — батальон полкового резерва и перевязочный пункт. Изобилие походных кухонь и линеек под белыми холщовыми пологами говорило об этом с несомненной ясностью. На перевязочном пункте работал Московский отряд Красного креста. Кислые запахи, крови и пота густо висели в холодном воздухе. Легко раненые солдаты переговаривались довольными голосами:
— Я тебе зря не присоветую. Завсегда перед боем портки али портянки смени, — самым легким обойдешься.
— Гляди, кабы вдругорядь леший не обошел с приметой-та!
Доктор принялся за Лабунского.
— Грудь? Контузия… Сильная… Да, не без последствий!
Потом показал санитару на сапоги раненого.
— Снимай! Осторожней!
Но как только санитар потянул с левой ноги подпоручика все еще красивый и блестевший из-под грязи и крови собиновский сапог, Лабунский заревел от неистовой боли. Ему показалось, что его разрывают пополам. Доктор рассердился на санитара.
— Я тебе, дубина, велел осторожней. Экий вахлак! Срезай ножницами!
Собиновские сапоги стали распадаться на куски. Доктор наклонился над ногами Лабунского, ощупывая, придавливая, оглаживая.
— Ранены, поручик, осколками в обе ноги. Чем глубже, тем раны шире… Рваные…
— А осколков не видно, доктор? — спросил Лабунский, — нельзя ли их вытянуть?
— Ну что вы, в самом деле, учите… Хм… Хм… Да-с! Сапоги у вас были казовые, слов нет, но боюсь, как бы вам от них-то именно и не скапутиться, В обеих ранах и кожа от голенищ, и лак, и клей, и черт знает еще что… Хм! Жаль! Очень жаль! И температура высокая… Не скрою, началось заражение. Надо отнимать ноги…
Лабунский молчал. И доктору стало не по себе. Он схватил зонд и загнал его в одну рану, в другую.
— Больно?
— Нет.
— Хм… Да-с! Иначе никак невозможно. Сейчас приступим…
Он сказал еще что-то, но Лабунский этих последних слов не расслышал, потому что они потонули в грохоте, внезапно разразившемся над деревней, в которой приютился перевязочный пункт. Австрийцы нащупали резерв полка и взяли его под огонь. Рощица стонала, шипела, свистела, выла… Раненых раскладывали по повозкам. Ошалелые лошади мчались карьером к шоссе…
Глава пятая
В начале ноября четырнадцатого года русские войска с боем форсировали Сан и очистили от австрийцев его левый берег. Это позволяло возобновить блокаду Перемышля.
За месяц боев на Сане многое изменилось в крепости. Период деблокирования не был потерян даром, — работа гарнизона кипела: совершенствовались форты, усиливались промежутки между ними, расчищалась впереди лежащая местность так, что лесов на ней вовсе не осталось, занимались новые позиции; на фортовом поясе было сооружено множество батарей, устроены полосы проволочных сетей, рогаток, засек и фугасов. На всех без исключения верках появились блиндажи из стоек и насадок, досок и земли; пушки и пулеметы укрыты.
Снятие блокады меньше всего отразилось на восточных участках обложения. Войска этих участков остались на захваченных ими раньше позициях, в трех с половиной верстах от линии фортов, прочно сохраняя в своих руках хорошо блиндированные наблюдательные пункты на высотах. К середине месяца в Мосциску опять прибыли шестидюймовые пушки; брестский парк находился во Львове; в Городке уже выгрузился инженерный осадный парк. Генерал Дельвиг, продолжавший начальствовать артиллерией, выдвинул позиции на опушку Плошовицкой рощи, где они отлично маскировались лесом, и осадные орудия расположились в долине Цу-Новоселок, прямо против Седлиски. Блокадная линия энергично распространялась к северу и югу; кольцо обложения смыкалось. Под конец месяца крепость открыла огонь из очень крупных мортир, и берега Сана, Виара и Бухлы вновь потонули в грохоте пальбы. Разлетевшиеся было с перепугу птицы скоро вернулись и, быстро привыкнув к грохоту, потихоньку верещали в кустарнике. Привыкали и люди…
…Однако все, что совершалось под Перемышлем, находилось в тесной связи с положением дел на Карпатских перевалах. А там еще не кончились жестокие кросненские бои. Вот почему брестский крепостной парк задерживался во Львове, а инженерный — в Городке. Из больших планов осады осуществлялся пока лишь один — вокруг перемышльских укреплений строилась железная дорога. На северный и восточный отдел одна за другой прибывали железнодорожные роты, и полотно разрабатывалось по всей семидесятиверстной длине будущего пути. Войскам помогали вольнонаемные. Наркевич состоял на постройке восточной части дороги. Так называемый «восточный отдел» блокадной линии тянулся от реки Сан через устье реки Виар до устья ручья Мизинец. Главные укрепления позиций обложения начинались здесь, у села Шехинья, в пяти верстах от фортов. Разработка полотна и укладка шпал — нелегкое дело: глинистый грунт промерз на три четверти аршина в глубину. Изнуренные силы строителей еле поддерживались посменным отдыхом в тыловых деревнях и горячим банным паром. Постройка окружной железной дороги очень интересовала австрийскую воздушную разведку. Ежедневно с раннего утра желтые бипланы начинали кружить над линией. На головы строителей летели стрелы[12] и бомбы. Паника среди вольнонаемных вспыхивала, утихала и опять вспыхивала. Привязные воздушные шары, корректировавшие артиллерийскую стрельбу фортов, казались им еще страшнее самолетов. Старосты вольнонаемных назывались войтами, и почти все набирались из русских десятников. Один из них как-то сказал Наркевичу:
— Народец здешний лучше быть нельзя. Что хошь, за царя, за Россию сделает…
Наркевич усмехнулся его казенному краснобайству.
— Вы думаете, что для русин царь и Россия — одно?
— А то нет? Где Россия, там и…
Войт почему-то замолчал. Наркевич ждал, что он скажет. Но так и не дождавшись, отвернулся и стал наблюдать за нырявшим высоко-высоко в небе австрийским сигнальщиком. Вдруг войт сказал:
— Вопрос-то, конечно, не простой. Можно его и вовсе другим хлюстом повернуть.
— Как — другим хлюстом?
— Да так… Али не знаешь, барин? Поди, не одного меня на грех наводишь. Царю без России никак быть нельзя, а России без царя — отчего же?
Острые глаза Наркевича быстро скользнули по хитрой роже войта. Вольноопределяющийся ничего не ответил. Но с этой минуты у него установилось странное, двойственное отношение к чересчур понятливому войту: опасливая настороженность и отчасти любопытство.
…Неудачи в Карпатах продолжали мешать правильному ходу осады. В середине декабря крупные австрийские силы вышли на фронт Санок — Леско, в сорока пяти верстах от Перемышля, и гарнизон крепости предпринял отчаянную вылазку на юго-запад, навстречу шедшим с выручкой войскам. Вылазкой командовал начальник дивизии гонведов фельдмаршал-лейтенант Тамаши. Ему удалось прорваться к Бирче — двенадцать верст от фортов и двадцать пять от Санока. Но здесь он был остановлен и разбит русскими, потеряв в ночной схватке три сотни пленных с пулеметами. Перебежчиков-русин было не меньше, чем пленных. Однако когда их спрашивали: «Долго продержится Перемышль?», они отвечали, как по команде: «Ой, длуго, пане!» Пленные австрийские офицеры рассказывали, что вылазка генерала Тамаши — лишь частность большого общего плана: германцы наступают в Польше к Висле, оттягивая туда русские войска, австрийцы напирают от Кракова и из-за Карпат. Такие сведения гарнизон получил от летчиков и по радио. Никто в крепости не сомневался в скором ее освобождении. Город веселился: кафешантаны сверкали, музыка концертов звенела, стены домов покрывались нарядными плакатами. И везде — остроты и смех по адресу русских. Пленные с изумлением смотрели на снежное поле у Бирче, густо покрытое отстрелянными австрийскими обоймами, двойными, широкими, из черной жести, — очевидное доказательство того, что вылазка, на которую осажденными возлагалось так много надежд, действительно состоялась и действительно была отбита и разгромлена.
В течение всего декабря погода держалась самая скверная: то дождь, то снег, то пятнадцатиградусный мороз, то невылазная грязь, то непроходимые сугробы. После вылазки наступило кажущееся затишье. Правое (северное) крыло осадной армии перебралось на левый берег Сана, все еще по-настоящему не заснувшего в своем хрустальном гробу, и заняло позиции в четырех верстах от крепости, развернувшись по мелколесью. С небольших придорожных высот была отлично видна вся полоса наступления. Это было ровное, снежное поле; по карте: болото и пески. Холодный лиловатый свет зимнего дня лежал на поле. А дальше пламенели под солнцем кровли строений — город и железнодорожная станция. Южнее укреплялась Медыка, превращаясь в сильный опорный пункт. Прибыли два саперных батальона. На юге и юго-востоке закипели траншейные и саперные работы. Куда ни глянь, везде змеились винтообразные сапы. Везде рылись ходы сообщения, рвались минами галереи для убежищ, улучшалась маскировка, строились блиндажи. Но ключ к дальнейшему все-таки оставался затерянным где-то в Карпатах.
…В январе пятнадцатого года был учрежден Совет осады при командующем блокадной армией. Затем приехал из штаба фронта полковник Азанчеев с секретным приказом главнокомандующего фронтом. В приказе говорилось: наступавший из-за Карпат противник отброшен в горы; генералу Селиванову повелевается собрать дивизии, блокирующие Перемышль, и приступить к энергичным действиям под крепостью, для чего подвести осадную артиллерию и сжать кольцо обложения. В числе дивизий, подлежавших возвращению в состав армии Селиванова, была и та, второочередная, которая недавно овладела Бескидами и к которой был прикомандирован Карбышев. Заседание Совета осады состоялось пятого февраля. Его участники хорошо понимали, что изменение обстановки на Карпатах развязывает им руки. Но почему-то никого из них это не радовало. Память октябрьской неудачи давила на мысль и волю. Заседание не шло, а ползло. Начальник артиллерии генерал Дельвиг предостерегал:
— Прошу иметь в виду, господа, что для осады нам дано всего лишь сто пятьдесят два тяжелых орудия, почти все устаревших калибров и с ничтожным количеством снарядов: не больше двухсот выстрелов на орудие. Это может быть израсходовано в одном полевом сражении…
Начальник инженерного управления потребовал увеличения количества снарядов, особенно мелинитовых. Начальник штаба армии привел наизусть какие-то выдержки из учебников по атаке и обороне крепостей. Командиры корпусов молчали. Только один из них раскрыл рот, чтобы напомнить: в осадной армии всего-навсего пятьдесят тысяч человек. Наконец, заговорил Азанчеев. Особое положение, в котором он находился, по обыкновению, очень ему помогало. Когда генерал Селиванов, разглаживая седые усы, заявил о своем решении вести постепенную атаку седлисской группы фортов и приказал начальнику инженерного управления разработать план инженерной атаки фортов «I-3», «I-4», «I-4» и промежутков между ними, Азанчеев сейчас же безбоязненно возразил:
— Позвольте обратить внимание вашего высокопревосходительства на совершенную невозможность атаки лишь трех фортов седлисокой группы, в то время как другие останутся в покое. Соседние форты и промежутки между ними непременнейшим образом сорвут такую атаку. Ее направление никак не может быть изолировано. Необходимо, чтобы все форты были вынуждены к самообороне и чтобы содействие их соседним участкам крепостной позиции было минимальным…
Дельвиг развернул панорамную съемку седлиеской группы с фортами, подступами к ним и препятствиями.
— Еще второго декабря я рекогносцировал из расположения передовых постов на опушке Плошовицких рощ, с расстояния в одну версту… Полковник прав, ваше высокопревосходительство!
Селиванов надел очки и долго разглядывал съемку.
— Т-т-эк!.. — сказал он, — прекрасная штука. Но еще лучше личный опыт полковника Азанчеева, который сам побывал на фортах. Я согласен. Будем проектировать распространение постепенной атаки на всю седлисскую группу. Продолжайте, полковник.
Азанчеев поклонился, довольно отдуваясь и поправляя на груди белый крестик Георгия.
— Теперь, когда решено вести постепенную атаку на всю группу седлисских фортов, особенно важно, чтобы наша осадная артиллерия правильно поняла свою роль. Допустим, что ее могущество, как хочет нас убедить в этом генерал Дельвиг, — иллюзия. Орудий мало, они стары, снарядов нехватка. И все же артиллерия может и должна привести крепостные форты к тактическому параличу…
— Что вы разумеете под «тактическим параличом», полковник? — с величайшим интересом спросил Дельвиг.
— Такое положение, когда ни один из фортов, даже еще и не утратив способности к самообороне, уже не может помогать соседним участкам…
Дельвиг развел руками. А Селиванов улыбался в усы.
— Закрываю заседание, господа. Благодарю вас!
* * *
Весна подкралась в середине февраля. И снег, и леса, и небо вдруг сделались сизыми. На реках зашумело половодье. Сан, Виар и Вырва унесли мосты. Саперы наводили новые — пешеходные. Усиленно строились осадные батареи. Против Седлиски на асфальтово-бетонных площадках устанавливались четыре батареи из одиннадцатидюймовых мортир. Подвозились морские орудия из Кронштадта. Съезды к артиллерийским дворикам перекрывались жердями, хворостом и присыпались землею. Над двориками укладывались навесы. А поверх всего — старая интендантская холщовая мешковина, вымазанная под цвет грунта. Для каждой группы батарей выносились вперед блиндированные наблюдательные пункты. Для каждого дивизиона, поблизости от веток осадной железной дороги, рылись запасные пороховые погреба в виде траншей с нишами. Через каждые две ниши — ход сообщения к железнодорожному полотну.
Девятнадцатого февраля осадные орудия открыли огонь по Перемышлю и его укреплениям. Наблюдатели доносили: снаряды вырывают ямы в сажень глубины и по двадцать шагов в окружности. Сапы и траншеи усиленно двигались вперед, тесня австрийские окопы. Армия генерала Селиванова переходила к правильной осаде.
Наркевич тянул телефонный провод из порохового погреба на батарею, когда паровичок протащил мимо несколько низеньких платформ с грузом под желтым брезентом. Везли снаряды. Воздух колыхался от грохота канонады, и Наркевич еле расслышал слова человека, спрыгнувшего с платформы и ухватившего его за рукав.
— Здорово, барин! Узнал? Шитая рожа, вязаный нос, а? Время идет, как вода течет. А ноне и ленивый на одной ножке скачет. Что долго в господа офицеры не выходишь?
Это был войт.
— Здорово! — отвечал Наркевич, — а мне и так хорошо.
— В незаметности…
Струна опасливости дрогнула в Наркевиче.
— Вы о чем?
— Да ведь до чего дошло: всем известные полковники шпионами обращаются.
Он говорил о полковнике Мясоедове, — в те дни об этом человеке толковала вся армия.
— Повесят? — спрашивал войт.
— Я откуда знаю? Виноват — повесят.
— Да ведь полковник, — чин-то на нем…
— Тем хуже для него, коли шпион. Лестницу сверху метут…
Наркевич и не заметил, как сказалась эта совсем ненужная, последняя фраза. Но как только сказалась, он сейчас же понял свою ошибку и пожалел о ней. Войт смотрел ему в лицо и смеялся. Потом нагнулся я закричал в ухо:
— Словцо золотое! Мудрость всеблагая!
Хорошо, что Наркевичу не было ничего известно о том, что именно думал в этот момент о нем войт. А думал он вот что: «Тонконогий! Сразу видать, студент! Как есть революция!» Наркевич не знал этих мыслей, но скверное ощущение липкой гадости возникло у него вместе с разговором и долго не исчезало после того, как кончился разговор. Еще и через два дня Наркевич не мог отделаться от желания стряхнуть с себя прилипшую гадость. И, только услышав, как один военный инженер крикнул на ходу другому: «Новость: Карбышев приехал!», он несколько заслонился этой последней новостью от войта.
* * *
Карбышев ехал с Бескидского перевала на Стрый, Самбор, Хыров и, наконец, очутился вместе со штабом своей второочередной дивизии в Мочерадах. Здесь уже стоял головной артиллерийский парк. В ближней деревне развернулся дивизионный госпиталь. А обозы второго разряда отошли к Мосциске. Тотчас по прибытии Карбышев отправился на фольварк Рудники и явился начальнику инженерного управления армии. В кабинете генерала сидел полковник, руководивший осадными работами на восточном отделе обложения. И генерал и полковник были очень довольны приездом Карбышева. «Определение» его к делу состоялось немедленно. Он назначался на восточный отдел. В его распоряжение передавалась отдельная саперная рота с ее командиром. А второй участок отдела — от деревни Быхув до леса Утюжан и северной окраины деревни Плошовице — поступал в его заведывание.
— Отправляйтесь в штаб отдела, — сказал полковник, — он пока в деревеньке Тржениец. Я буду там через два часа.
— С богом, капитан, — добавил начальник инженеров.
Карбышев вышел из генеральского кабинета в широкий, светлый коридор и прямо налетел на группу старших офицеров, окружавших полковника генерального штаба с георгиевским крестом. Отдуваясь и легкими прикосновениями красивых пальцев подправляя пушистые усы, Азанчеев разглагольствовал:
— В России, господа, проблема моральных сил относительно проста. Только бы русский народ не был смущен в своих монархических убеждениях, — и он вытерпит все, совершит чудеса героизма и самоотвержения. Для истинно-русских людей царь — не только верховная власть, но еще и религия, и родина. Вне царизма нет спасения, потому что нет России…
Вероятно, он проповедывал уже довольно давно и успел надоесть своим слушателям, потому что один из них, завидев Карбышева, воскликнул:
— А вот капитан с Карпат… Здравствуйте! Какие новости? Как вы брали Карпаты?
Карбышев начал рассказывать о боях за Бескиды, о кросненском прорыве. Каждого офицера из тех, что столпились в коридоре вокруг Азанчеева, до болезненности близко интересовал карбышевский рассказ, и как-то само собой получилось, что Азанчеев вдруг перестал быть центром этой офицерской группы, а Карбышев превратился в центр. По лицу Азанчеева быстро бежали неуловимые оттенки досады.
— Вы говорите, капитан, любопытные вещи, — прервал он Карбышева, — но не говорите главного.
— Спрашивайте, господин полковник.
— Что, например, могла бы прибавить эта «резиновая» война на Карпатах к наступательному опыту наших войск? Что реального в смысле техники наступательного боя она дает нам?
В очевидной предвзятости этих вопросов заключалось нечто враждебное, и Карбышев сразу это почувствовал. Один и тот же вопрос может быть умен или глуп, зол или благожелателен в зависимости от того, с какой целью, кому и кем задан. Темные пятна на щеках маленького капитана зажглись горячей краской, черные глаза вспыхнули. Он резко вскинул голову, чтобы поймать взгляд блестящего полковника, и с изумлением увидел, что у полковника нет ровно никакого взгляда — нет глаз. Карбышев еще не встречал людей с такой удивительной особенностью. Но удивление лишь заставило его собраться с мыслями. Между тем Азанчеев делал ленивую попытку сгладить неприятное впечатление от своих вопросов.
— Жаль, что гранаты Новицкого дошли на Карпаты слишком поздно. Два фунта взрывчатки, а для подрыва препятствий там, где ножницы не сработали, великолепно.
— Это старый опыт, господин полковник, — спеша опередить все, что мог бы еще сказать Азанчеев, быстро, почти захлебываясь от торопливости, проговорил Карбышев, — но ведь вам нужен новый опыт, карпатский? Пожалуйста. Стреляя гранатами Новицкого, легкие пушки рвут проволоку не хуже мин…
— Что? Как? А-а-а… Это идея. Оч-чень интересно! Вы докладывали об этом начальнику инженеров?
— Он меня не спрашивал.
— А-а-а, — повторил Азанчеев, усиленно дуя в усы, — а-а-а…
И повернулся к двери в кабинет начальника инженеров.
* * *
Погода стояла мокрая и холодная, капризная, как это бывает только ранней весной. То снег валил такими густыми хлопьями, что настоящая русская зима почти мгновенно ложилась на эти далекие от России места. То падал дождь — поля затягивались лужами, транспорты вязли в грязи, низкие серые тучи висели над головами, глубокая желтая вода разливалась по дорогам, кусты низкорослой ольхи бесследно пропадали в непроглядной мгле, и ветер глухо стонал в увалах. Бывало, впрочем, и так, что с рассветом открывалось над Перемышлем голубое, безоблачное небо и солнце сияло, яркое и теплое.
Земляные работы на карбышевском участке восточного отдела велись под постоянным огнем, частью летучей сапой, частью перекидной. Все разбивки и трассировки делались по ночам, в совершенной темноте. Как только ударял мороз, работы становились каторгой. Холодный, пронзительный ветер наполнял мир. Инструменты то и дело ломались в насквозь промерзшей земле. Ориентироваться удавалось лишь с помощью туров, которые устанавливались саперами по разбитым в сумерках кольям. И все-таки участок достигал положения, соответствующего первой параллели.
Не лучше было и в окопах. Блиндажи — под крышами из деревьев, хвороста и земли. Кое-где — землянки. Все забито сменяющимися для отдыха частями ополчения и пехоты. Впереди — сторожевое охранение, а дальше — нейтральная полоса; еще дальше — враг. Солдаты, в шинелях, прячутся за полотнищами от палаток. Добытая где-нибудь дверь без петель, доска, жолоб водосточной трубы, охапка соломы — бесценные предметы роскоши и комфорта. На сторожевой службе пехота небрежничала. Передовые посты либо сливались с работавшими, либо просто убирались назад. Капитан Заусайлов ходил по окопам и ногами расталкивал спавших солдат.
— Разве не сказано тебе, скотина, что ночью спать нельзя, а?
Далеко тянулись голые поля, бугры, бездорожье, и если бы не трескотня пулеметов да не грохот орудийной пальбы, и не подумалось бы, что кругом — поле битвы. Вечер полз по земле смутными лиловыми тенями, когда Романюта прилег на ступеньку окопа и нечаянно заснул. Как это с ним случилось, — понять невозможно. Чинность, серьезность, деловитость были его главными солдатскими свойствами. И никогда — никакого ротозейства. А тут вдруг лег, да и захрапел… Очнулся он от здорового пинка в бок. Над ним стоял Заусайлов.
— Поставить мерзавца на всю ночь в окоп наблюдателем!..
…Осадная железная дорога была готова и отлично действовала. У Радымна и Лаской Воли — центральная станция. В Лаской Воле — платформа перегрузок с широкой колеи на узкую, треугольник для поворотов подвижного состава, мастерские и депо для семнадцати паровозов. Отсюда две ветви: к главному артиллерийскому парку и к деревне Шехинье. От деревни — конная тяга к группам батарей. Здесь встретились Карбышев и Наркевич. Первым движением вольноопределяющегося, когда он увидел капитана, было броситься к нему. Но Наркевич сдержал себя. Однако на его лице можно было без труда и без ошибки разглядеть светлое выражение радости. Тягостно жилось Наркевичу под Перемышлем. Странные отношения с подозрительным войтом походили на какую-то грязную паутину. Дерзости и грубые насмешки капитана Заусайлова — на безжалостную травлю загнанного зверя. И вот — Карбышев… Еще в Бресте Наркевич отличал простой, душевный, товарищеский тон в его обращении с маленькими людьми. Но предубежденность действовала, — Наркевич сторонился. Впрочем, роль Карбышева в истории с Романютой говорила сама за себя. История эта неожиданно приблизила Наркевича к капитану. А приблизила ли она капитана к Наркевичу?
Этого вольноопределяющийся не знал. Карбышев бывал прост и душевен лишь с теми, кто не напрашивался на его внимание. Была в нем способность мимозы — свертываться при неосторожном прикосновении. Он старательно оберегал свое право «выбирать» и холодел, отстраняясь, как только замечал на себе «выбирающий» взгляд другого человека. О возможности наступления такой холодности по отношению к себе Наркевич думал, как о горе. Он боялся сделать неверное движение, сказать неправильное слово, чтобы не оттолкнуть Карбышева. Это было трудно. Ведь вольноопределяющийся был очень молод, полон деятельных идей самой большой свежести и чистоты, мечтателен и жадно искал романтических возвышений на плоском горизонте жизненных дорог. Увидев Карбышева, он испытал прилив возвышающего чувства — прилив влюбленности к этому человеку. И все-таки сдержал себя.
— Здравия желаю, господин капитан. Я еще вчера знал, что вы приехали. Живы и здоровы…
— А что мне делается? — весело ответил Карбышев. — Кстати, Наркевич, помните по брестской телефонной роте рядового Елочкина? Крепыш, грамотей…
— Убит? — быстро спросил Наркевич.
— Ничего подобного. Отыскался на Карпатах. При взрыве минной галереи спас офицера, подпоручика Лабунского. Будет с Георгием…
— Спас? — переспросил Наркевич. — Офицера? Лабунского?
— Молодец солдат!..
«Лабунский, Лабунский… — мысленно повторял Наркевич, — Лабунский… Кто же это Лабунский?..» И вдруг — вспомнил. Года четыре назад, когда Наркевич еще учился в реальном училище, а отец его, инженер Путиловского завода, читал лекции в Петербургском электротехническом институте, случилось в этом учебном заведении происшествие, о котором отец рассказывал с величайшим возмущением: студент второго курса Лабунский растратил деньги земляческой кассы и был исключен из института. Да, да, несомненно, фамилия его была — Лабунский.
Но, вспомнив, Наркевич тут же и забыл об этом. Мало ли Лабунских на свете…
— Мне еще в Бресте думалось, — сказал он, — что Елочкин из таких солдат, за которыми дело не станет…
Через минуту Карбышев хлопотал у паровичка с платформами, а Наркевич чинил станционный телефонный аппарат. Но от их короткого разговора осталось нечто такое длинное, о чем ни тот, ни другой не помышляли…
* * *
Вылазок не было. Крепостная артиллерия обстреливала русские траншеи тяжелыми снарядами. В ночь на тринадцатое марта австрийцы были выбиты из передовой позиции у деревни Малковице, и в двух верстах от фортового пояса заложена с севера первая параллель. При каждой такой атаке солдаты славяне сдавались в плен целыми толпами, словно не замечая, как их расстреливают со спины. Гарнизон неукоснительно усиливал огонь. На каких-то штабных счетах было подсчитано: тысяча тяжелых бомб ежедневно. Вот с крепостного форта вырвался огромный снаряд двенадцатидюймового орудия. Свистя, с воем рассекая воздух, он несется через деревни… Вот он донесся. Черный удушливый дым ударил в глаза, и глаза заслезились. Ударил в нос, и целые взводы зачихали. Они чихали час или два, пока у людей не разболелись головы.
— Сила божья…
— Путай бога, дурак!
Во временную батарею ударило шесть таких снарядов. Они разрушили ее траверзы, козырьки, вывели три орудия, задавили стрельбу, разбросали прислугу, и все это за какие-нибудь пятнадцать минут. Весь день восемнадцатого марта крепость вела ураганный огонь, и только к вечеру канонада начала стихать. Но чуть ли не самым последним чемоданом в соседней с Заусайловым роте все-таки завалило землей и похоронило целое отделение… Вскоре к окопам потянулись из тылов походные кухни. Почти уже смерклось, когда они добрались до назначения, — генерал Селиванов требовал, чтобы обед доходил до солдат в горячем виде, — и сейчас же началась раздача. Заиграли австрийские прожекторы. Заусайлов давно пригляделся к их игре. Все яркое кажется под лучом прожектора близким и рельефным. А темные предметы — деревья, кусты, свежевскопанная земля — представляются гораздо более отдаленными, чем на самом деле. Желтое светлеет, светлое желтеет. Серые солдатские шинели почти не видны, а защитные гимнастерки бросаются в глаза. Заусайлов с интересом наблюдал эту причудливую смену неверных освещений. Особенно неправдоподобно выглядела узкоколейка. Если бы не знать, что на маленьких, словно игрушечных, платформах катятся за линию окопов мешки с мукой и тюки прессованного сена, можно было бы представить себе все, что угодно, а всего проще — разноцветные переливы чешуи на теле стремительно несущегося вперед дракона, — театральная фантасмагория сказочной красоты. Вдруг между Заусайловым и узкоколейкой на невидимом под солдатской шинелью туловище возникло круглое, яркое, белое, кажущееся близким-близким человеческое лицо.
— Как вы есть, ваше высокоблагородие, присяжный командир и сроду настоящий господин офицер, — лепетало это лицо на каком-то полупонятном языке, — а я тоже бога чту и с вольнонаемными работаю при батальоне, то и пришел к…
— Что тебе надо? — с недоумением спросил Заусайлов.
— На мне греха, ваше высокоблагородие, нет никакого. Я услыхал, я сполняю, как велено по закону. А уж там…
— Эх, чтоб тебе пусто было! Да говори: что надо? И тогда войт подробно рассказал о тонконогом Наркевиче, который считает, что царю в России делать нечего, и что лестницу полагается мести сверху, и о дружбе между Наркевичем и капитаном Карбышевым, и что Карбышев с Наркевичем в политике заодно, и что есть у них еще на Карпатах такой, «за которым дело не станет»…
В течение некоторого времени Заусайлов слушал все это. А потом подумал: «Да зачем же я слушаю?» И тогда вплотную подошел к войту, размахнулся и так саданул его в скулу, что тот охнул и присел, отплевываясь кровью.
— Вон отсюда, сволочь!..
Ночью, перечеркнутое прожекторами небо развернулось в странно-черном блеске, будто его начистили ваксой. Ветер швырял косые полосы мелкого, до отвращения холодного дождя. Накрывшись шинелью поверх головы, Заусайлов сидел у большого медного чайника и обжигался, жадно прихлебывая мутную водицу. Где-то далеко все еще рвались с грохотом одиночные снаряды, потрескивала редкая ружейная пальба. По мокрому, склизкому пути медленно тянулись походные кухни и порожние двуколки. И от этого фальшивого спокойствия в душе Заусайлова усиливалась буря. Никогда раньше не решился бы он так сфасовать Карбышева с Наркевичем, как они оказались сфасованными теперь. Правда, и в Бресте его удивляло чрезмерно снисходительное отношение Карбышева к сплетнику и болтуну Наркевичу. Но одно дело — сплетни и болтовня Наркевича, а другое… то, о чем говорил сегодня войт. Заусайлов был во власти своих мыслей. Это не от дождя, а от них ему было так холодно, что и чай вовсе не прел нервно дрожавшего тела. Что же это? Что надлежит сделать, как поступить? Надо ли что-нибудь делать, как-нибудь поступать? Чтобы понимать в подобных делах хоть кое-что, необходимо знать по меньшей мере все. А Заусайлов не знал ровно ничего. Повидимому, войт ходит по пятам за Карбышевым и Наркевичем. Но почему он считает, что именно Заусайлов как-то и чем-то должен участвовать в этаком пакостном деле? Заусайлов избил и прогнал войта. Но ведь от этого ничто не изменилось в существе дела, — все осталось, как было, и пойдет дальше… Куда? Заусайлов вздрогнул — на этот раз потому, что явственно расслышал голос Карбышева, спрашивавшего: «Где капитал?» — и солдатский ответ: «Сюда, пожалуйте, ваше благородие…» Карбышев был близко и шел сюда: чуткое ухо Заусайлова различало его скорые шаги. Сейчас он выйдет, и надо будет с ним говорить, — о чем? Заусайлов не знал. Он не успел придумать. Да, собственно, он даже и представить себе не мог этого разговора с Карбышевым. Одно было несомненно: так говорить, как прежде, уже было нельзя. Значит, как же? Как? Карбышев подходил. Вдруг Заусайлов вскочил и, натягивая на ходу шинель, быстро зашагал в самый темный угол этой проклятой ночи, — ни дать ни взять оперный злодей, улепетывающий со сцены…
Карбышев действительно разыскивал Заусайлова, пробираясь между лежавшими на земле солдатами. Почти все они спали. Некоторые переобувались. Один, с большими, белыми, чистыми ногами, стоял на коленях и молился. Увидев Карбышева, он вскочил и вытянулся. Это был Романюта.
— Делай свое дело, братец, — сказал Карбышев, — не проходил здесь капитан?
— Прошли, ваше благородие, — отвечал Романюта. — Сейчас отселева направо обратились. Туда-с!
И он показал в темноту.
Наконец Карбышев набрел на Заусайлова. Николай Иванович стоял на обрыве недорытой канавы, низко опустив голову. Прямая, стройная, неподвижная фигура его выглядела в эту минуту грустно, очень грустно. Он знал, что Карбышев — рядом, но не только не двинулся с места, а даже и не поднял головы.
— Здравствуйте, Николай Иванович!
— Здравствуйте, Дмитрий Михайлович!
— Что с вами?
— Со мной?
— Да.
Заусайлов помолчал с минуту. Потом сказал тихо и твердо:
— Со мной-то — ничего… А вот… Какие у вас отношения с вольноопределяющимся Наркевичем?
Карбышев изумленно свистнул.
— Во-первых, что вам за дело? Во-вторых, никаких. А в-третьих, опять двадцать пять…
— Нет, не двадцать пять.
— Тогда — не понимаю.
— Дело в том, что вы рискуете сломать шею.
— Что?
— Да. Шею. Вольноопределяющийся Наркевич не просто болтун и сплетник, — хуже. Много хуже.
— Дался вам этот мальчик…
— Он — революционер.
Карбышев перестал смеяться. Тысяча мелких впечатлений, мгновенно вызванных из прошлого, пронеслась в его памяти. Лицо сделалось строгим и сухим, глаза — неподвижными, голос — звонким и высоким. Слова заспешили, обгоняя друг друга.
— Даю вам честное слово, что я этого не знаю.
— Значит, он вас за нос водит.
— А вы можете мне сказать, откуда у вас эти сведения?
— Могу.
— Скажите.
— Явился ко мне войт Жмуркин и сообщил… о своих разговорах с Наркевичем.
— Войт Жмуркин? Жмуркин… Ага!
— Кроме того, он подслушал ваш разговор с Наркевичем… и…
— И отсюда вытекает, что и Наркевич и я — революционеры?
— Да.
— Прекрасно, — с облегчением сказал Карбышев.
— Как?
— Конечно! Ведь Жмуркин и я действительно знаем друг друга. А прекрасно — потому что понятно.
Карбышев взял Заусайлова под руку.
— Не советую вам иметь дело со Жмурлькиным: отъявленный подлец. И рано или поздно непременно на вас донесет!
* * *
Снопы прожекторных лучей, выброшенных фортами крепости, то вспыхивали, то гасли. Изредка в стороне фортов возникал всплеск розового огня. За ним следовал грохот орудийного выстрела. И тогда граната со стоном рассекала воздух. Карбышев ничего и этого не видел и не слышал. Он дремал, полусидя, полулежа, плотно подперев спиной скользкую стенку окопа. С полуночи погода переменилась. Дождь прекратился. Ветер утих. Стало заметно теплее, и луна повисла над горизонтом, как круглый желтый фонарь. Голубоватые мечи, которыми все еще продолжали замахивать прожекторы с фортов, побледнели.
Карбышев проснулся так же сразу, как и задремал. Оторвавшись от сна, он сразу начал слушать, ловить звуки и догадываться, что они должны означать, — есть такая привычка у людей на войне. Неподалеку раздавались резкие, сухие, как кашель, залпы. Отдельные орудийные выстрелы, словно цепляясь друг за друга, сливались в общий гул. Карбышев выглянул из окопа. Откуда-то выехал рысью, запряженный шестеркой цугом, зарядный ящик и, ухая на кочках, покатился в темноту. На линии фортов полыхали зарницы, рассыпались и снова полыхали. Больше ничего не было видно. И совершенно непонятно, как и почему в эту вторую минуту своего пробуждения Карбышев уже. отлично знал, что происходит: вылазка…
Действительно, это была большая вылазка перемышльского гарнизона. Гонведная дивизия под начальством фельдмаршал-лейтенанта Тамаши пыталась прорвать укрепления восточного отдела осадной линии. Подробности дела стали известны Карбышеву только впоследствии. Но в том, как страшна неразбериха и опасны случайности ночной атаки, он отдавал себе отчет уже сейчас. Заработали прожекторы русской стороны. Лучи их то медленно и лениво гуляли вдоль фронта, от одного фланга к другому, то нервно и суетливо перескакивали с места на место. Однако все впереди казалось вымершим. Пустыня не бывает мертвее. Поблизости упали два снаряда, и короткие, отчетливые звуки их разрывов всколыхнули безжизненную тишину лунной ночи. Она вдруг ожила и в бешеной встряске грохота и в стремительном движении человеческих масс, которое тотчас же заполнило ее собой. Всплеснулось: «ура!» Да как всплеснулось! И помчалось через поле, гремя то здесь, то там, то везде сразу. Началось…
…Атака не дохлестнула до русских передовых линий. Шагов за триста она потеряла голос. За двести — отхлынула, залегла и начала окапываться…
Капитан Заусайлов был мастером своего ремесла. Высоченный, как верстовой столб, в лохматой папахе, он спокойно оглядывал бежавших с ним о бок солдат.
— Главное — не останавливаться, ребята! — приговаривал он, — главное… Стоит сейчас лечь, и уж не встанем тогда. За мной!
Эти уверенно-точные слова действовали на солдат неотразимо. Они бежали за капитаном навстречу стальному ветру и молочным облакам шрапнельных разрывов. Страх за себя испытывается обыкновенно перед боем. Он не исчезает и в бою. Но только в бою это уже страх не столько за себя, сколько за всех — за общее, за исход. Из такого-то благодетельного страха и рождается мужество. Заусайлов вел солдат в контратаку. Все шло хорошо. И было бы, вероятно, еще лучше, если бы рядом с Заусайловым не взвыл стакан снаряда, конус пуль не врезался кругом него в землю, а осколки и дистанционная трубка не пронеслись, гулко жужжа, над его головой. Перед глазами капитана мелькнуло небо, окутанное дымом и огнем. Он удивился тому, что увидел, и упал…
Когда Заусайлов очнулся, ему показалось, что ничто в мире не изменилось: небо так же светилось ясным лунным блеском, как и в самые тяжкие минуты боя; предметы были видны с такой же точно отчетливостью. «Значит, шандарахнуло меня совсем недавно, — сообразил он, — пожалуй, всего несколько минут назад…» Боли капитан не ощущал. Он лежал на земле, широко раскинув руки и согнув ноги в коленях острым углом. «Что за дичь? Зачем же я лежу?» Он сделал решительное движение, чтобы вскочить. Но — странная вещь! — еще до того, как сделать это движение, он уже знал, что оно бесполезно и что с земли ему не подняться. И как только об этом догадался, в груди его сразу возникло ощущение жесточайшей, страшной, почти нечеловеческой боли. Оно возникло вдруг, мгновенно, — так быстро возникать может только воспоминание. Заусайлов понял: до этого момента он не помнил о боли, и потому ее не было, а теперь вспомнил, и она появилась. Болела грудь. Но ощущалось это так, словно больная часть заусайловского тела принадлежала не ему, а кому-то совсем другому. Капитан удивился и встревожился. «Неужели паралич?» Чтобы проверить себя, он попытался шевельнуть рукой. Однако рука не шевельнулась. Больше того — он не мог и пальцем руки двинуть. Вскоре еще одно страшное открытие доконало его: небо оказывалось вовсе не светлосерым, а сине-коричневым, и очертания предметов сливались и перемешивались, как это бывает только в сумерках. Явным образом наступала ночь. Но когда же она успела подкрасться? Итак, разобрать, день сейчас или вечер, действительно ли болит грудь или это только кажется, становилось невозможным. И нельзя было также определить, от того ли Заусайлов не вскочил с земли, что боль и слабость пригвоздили его к ней, или потому, что не было у него настоящего, большого желания это сделать. Тут капитан с изумлением почувствовал, что и впрямь совершенно никаких желаний в нем не было. «Эге! — пришло ему на мысль, — да уж не умираю ли я?» Кругом лежали мертвые тела. Многие из них были в австрийских шинелях. Над головой Заусайлова торчала ось разбитого и невывезенного орудия. Все это, очевидно, значило, что капитан уже очень давно лежал без сознания, может быть, всю вторую половину ночи и весь день пролежал так; что над ним действовала чья-то батарея, кипел рукопашный бой, а потом откатился; и, наконец, что ему, несомненно, предстоит здесь теперь умереть одному-одинешеньку, так как раненые были уже убраны, стонов и выстрелов не было слышно, — боевое поле молчало. Все эти догадки раздавили Заусайлова. В отчаянии и ужасе он закрыл глаза. И внезапная тьма сейчас же растворила в себе и его мысли, и его боль, и его самого без всякого остатка…
…Вдруг мертвое поле заговорило. Сперва Заусайлов услышал трескотню ружей и жужжанье пуль — затем со всех сторон донеслись до него стоны раненых и, наконец, громкое «ура». Временная глухота кончилась. Но он не мог ни привстать, ни повернуться, ни поднять головы. Оставалось смотреть прямо перед собой, — он и смотрел с величайшей, болезненной жадностью, пока не увидел именно то самое, чего так страстно желал. Вдали, по окраине поля, двигались перебежками наши цепи и приближались к нему. С каждой минутой «ура» становилось все слышней. Он видел, как падали наземь серые фигуры. Нечто невероятное случилось с капитаном. Боли в груди — как не бывало: исчезла. «Какой там паралич! Пустяки!..» Он закричал:
— Ура!
И начал подниматься на ноги. Может быть, он и поднялся. Может быть, и сделал несколько шагов, — ему казалось даже, что он бежал с солдатами. Но вернее всего, что ничего подобного не было. То, что происходило кругом, он видел как бы в дыму или с большого расстояния, следовательно, очень неясно. Еще больше неясности было в нем самом. Боль действительно притупилась, но зато он отчетливо слышал, именно «слышал», как в обеих сторонах груди, где-то в глубине, под ребрами, растет и дуется по огромной опухоли. Вскоре грудь заполнилась этими опухолями до отказа, разбухла от напора, и проистекавшая от этого мертвенная одубелость его туловища начала быстро подвигаться к голове и к ногам. Когда, пораженный этими новыми ощущениями, Заусайлов стал соображать, что же это такое, он уже опять лежал на прежнем месте, в прежнем положении, в той же неподвижности и с такой же жадностью наблюдал за тем, что совершалось на поле.
Вот запыхавшись, с лицом, бледным, как носовой платок, промчался мимо маленький, легкий, верткий капитан Карбышев. В правой руке у него была шашка, и он размахивал ею, постоянно оглядываясь назад. В левой Карбышев держал древко знамени. За ним, и вровень с ним, и обгоняя его, бежали саперы.
«Странно, — подумал Заусайлов, — очень странно, что он ведет в контратаку саперов… Когда же это саперы ходили в атаку? И как он бледен, как запыхался… Пожалуй, не добежит до австрийцев, упадет». И в самом деле, Карбышев упал, выронив из рук и шашку и знамя. Но к тому месту, где он упал, тотчас же прихлынула густая толпа солдат — саперов и пехотинцев, — и над головами их высоко взвилось знамя. Сначала оно плыло вперед, потом исчезло и, наконец, вынырнуло в трех шагах от Заусайлова. Теперь знамя держал рослый солдат с совершенно мокрым лицом. «Что это — пот или слезы? Что это за солдат?» Несколько мгновений Заусайлов терзался желанием узнать солдата и, когда вспомнил, кто он, поразился простоте открытия. Это был Романюта, рядовой его роты, — тот, из-за которого Заусайлов едва не пропал в Бресте. Неизвестно, когда и откуда возникло это в капитане. Но только сейчас он посмотрел на Романюту с огромной любовью, и ему вдруг почудилось, что нет на свете человека, который был бы так близок и дорог ему сейчас, как вот именно этот долговязый рядовой. Между тем к знамени бежали солдаты. Некоторые из них на ходу снимали шапки и крестились. Другие останавливались, припадали к краю шелкового полотнища лицом, целовали край, плакали и затем стремглав кидались туда, где ждала их смерть и откуда доносились страшные стоны, крики, вопли и проклятья…
Заусайлова трясло в пароксизме жестокой лихорадки. Грудь его пылала от внутреннего жара. Вместе с тем ему было и холодно; зубы его дробно стучали, и весь он дрожал в смертельном ознобе. Но этого мало. Он еще умирал от нестерпимой жажды.
— Воды! — громко сказал он, наслаждаясь звуком этого слова, и повторил еще громче: — Воды! Воды!
Вот теперь, кажется, он мог не только говорить, но и двигаться. Он живо представил себе, что опускается в холодную воду. От этого стало еще легче, и он попытался дотронуться руками до груди. Пальцы окунулись в густую, теплую, уже свертывавшуюся кровь. Заусайлов вскрыл индивидуальный пакет. «Надо… Надо…» Он забыл слово, но знал, что надо перебинтоваться.
— Господи! Уж один бы конец! — вдруг явственно услышал он чей-то голос.
— Кто говорит? — радостно спросил капитан.
— Помилосердствуй, добрый человек… Испить бы… Испить дай… Нутро все выгорело.
— Нет у меня воды, — сердито ответил Заусайлов, — нет. Сам изнываю. Воды нет!
Около минуты раненый молчал, может быть, собираясь с силами, а потом сказал:
— Есть водица… Есть… Да не достать мне до нее. Фляжка-то, вот она… А ни рукой, ни ногой не пошевелю — в нутре пуля…
Больше Заусайлов ни о чем не расспрашивал своего соседа. Он пополз к нему, в ту сторону, откуда теперь, уже не прекращаясь, неслись его стоны.
— Вода! Вода! — свирепо шептал капитан, отчаянно работая локтями и волоча за собой тяжелое, как железная тумба, тело.
Трудно сказать, сколько времени понадобилось ему, чтобы осилить десяток шагов, отделявших его от раненого. Может быть, час или полтора… Но все-таки он достиг цели. Перед ним лежал в ложбинке, глядя прямо в небо, Романюта… Он уже не стонал, а только при каждом вздохе громко и протяжно хрипел. Заусайлов обшарил его рукой и нащупал под боком фляжку. Жажда зажглась в капитане с новой, все прочее истребляющей силой. Он открыл фляжку и припал к ее холодному горлышку сухими, дрожащими губами. Первые же глотки отрезвили его. Живой холод разбежался по жилам, и от этого усилилась дрожь. Но теперь он дрожал не от одного лишь холода, а еще и от стыда. Заусайлов оторвал флягу ото рта и протянул Романюте:
— Испей, братец.
Однако тут совершилась жестокая, поистине страшная и решительно никак непоправимая вещь: фляга выскользнула из неверной руки и покатилась наземь. Он видел, как вылились из нее остатки воды.
— Испить! — прохрипел Романюта.
До этой минуты Заусайлов всегда думал так. Что происходит, когда русский мужик умирает за своего царя и за свою родину? Еще одна лампада зажигается перед престолом всевышнего. И больше — ничего. Но сейчас, воровски лишив воды умирающего за своего царя и за свою родину солдата, — сейчас Заусайлов уже не мог думать попрежнему. Знал, что надо думать иначе, а как именно — не знал. Стыдом перед собой хотел заслониться от нестерпимого стыда перед солдатом и — не умел, Заусайлов беспомощно искал между собой и Романютой пустую фляжку, но почему-то никак не мог найти и все натыкался на волосатую австрийскую сумку с торчавшей из нее подметкой. Где же фляжка? Вот… Нашлась… Но ведь она пустая, совсем пустая…
— Прости меня, — сказал, лязгая зубами, Заусайлов, — прости! Воды больше нет!
Романюта молчал. От этого молчания какие-то жернова горя и сердечной муки заворочалиеь внутри капитана.
— Ради бога, прости меня, Романюта! — повторил он, захлебываясь от неслышных рыданий.
— Эх, ты… бесстыжая душа! Еще командир. Не командир ты, а…
Некому было увидеть, как густо побагровел капитан. Стыд перед собой, всякий стыд — ничто, в сравнении с позором оскорбления, которое нанесено офицеру солдатом и за которое офицер не может отомстить. Было одно кратчайшее мгновение, когда Заусайлов подумал: «Убить его…» Однако сделал совсем другое: продолжая беззвучно плакать, припал лицом к шинели Романюты совершенно так же, как давеча солдаты припадали к знамени…
* * *
Тяжелые, рваные, гнилые облака низко висели над Мосциской. Станция была завалена ранеными. Они лежали стонущими кучами на асфальтовом полу платформы, в вокзальном зальце, в коридорах, в уборной, на эвакуационном дворе. Число их все увеличивалось, — у платформы выгружали все новые и новые фургоны. Впрочем, многих уносили прямо к поезду на Львов.
— Надо бы подвинуться с поездом ближе, — сказала сестра милосердия, с худеньким нежным лицом и лучистыми серыми глазами, — что? Аэропланы? Опасно? А мы снимем белые косынки, наденем черные и пойдем…
Сестры ушли. Санитары покатили за ними на дрезине.
Недалеко от станции бойко торговала лавка. Толпа солдат месила ногами грязь у дощатой развалюхи с двумя откидными «виконцами» по сторонам двери. Над дверью вывеска: булка, крендель и крупные буквы — «Руская лавка». Покупателей много, шума мало. Споры, ссоры, брань — все в полуголос. Есть строгий приказ — около госпиталя не шуметь. А госпиталь — тут же, за лавкой, в двухэтажном кирпичном доме. Это — царство сестер милосердия, марлевых бинтов и гигроскопической ваты. Врач командует в перевязочной:
— Дайте… Принесите… Подвиньте… Пусть лежит… Поднимите рукав… Ваты… Бинт… Накладывайте… Скальпель… Отнесите… Следующего… Разрежьте рубаху… Расстегнуть!.. Держите!..
Сестра милосердия, с худеньким нежным лицом и лучистыми серыми глазами, — та самая, которой аэропланы нипочем, — хлопотала у стола. Но правильно ли здесь это слово: хлопотала? Она делала все, что приказывал врач, с поразительной быстротой и точностью. Но во всех ее движениях не было даже и намека на суетливость или спешку, и походка ее была такая же легкая, будто летящая, как и работа ловких тонких рук. Этой походкой умиленно любовались раненые тех палат, в которых случалось дежурить сестрице Наде Наркевич…
* * *
Заусайлов и Карбышев лежали через койку друг от друга. Заусайлову было плохо. Там, где расходится в человеческом теле нижняя пара ребер, есть мечевидный отросток кости, прикрывающий позвоночник. Этот отросток был в Заусайлове разбит и раздроблен. Осколок глубоко задел верхнюю часть печени, прошел сквозь диафрагму, легкое и застрял под правой лопаткой. Приступы острых печеночных болей мучили, пароксизмы желчной лихорадки изнуряли капитана. Желтуха превратила его в живого мертвеца. Он терял сознание, снова приходил в себя, опять терял. Глядя на него, было почти невозможно сказать, в памяти сейчас или нет этот неподвижно лежащий с закрытыми глазами, восковой человек. Не одни только физические страдания угнетали Заусайлова, а еще и то тяжкое, смутное состояние, о котором опытные в госпитальных переживаниях солдаты говорят: «От тоски ум замлеть может, и тогда — плохо бывает!»
Других трудных раненых в палате не было. Все участвовали в последнем ночном бою между укреплениями восточного отдела и поясом крепостных фортов. Следовательно, было о чем потолковать. Каждый офицер рассказывал, что происходило с ним, а получалась общая картина сражения.
Генерал Тамаши направил на этот раз свою вылазку на фронт Медыка — Быхув — Плошовице. Этот фронт был сильно укреплен, но занят лишь одним пехотным полком да ополченской дружиной. Такая слабая занятость и послужила приманкой. Австрийцы сбили передовые посты русской пехоты и кинулись в атаку. Но к утру были отброшены на линию фортов, оставив пленными сто семь офицеров и четыре тысячи солдат. Дивизия генерала Тамаши еле унесла ноги. Какой-то поручик уже третий раз принимался рассказывать, как он весь день пролежал на картофельном поле под самым фортом «I-3», куда добежал раненый и где в конце концов его и подобрали. Не было никакого сомнения, что он врал. Впрочем, получалось довольно красиво.
— Этакая, знаете, купа небольших грабов… Направо темнеет деревушка, а за ней — мост… Вечернее солнце закатывается, и река блестит, блестит…
— Да откуда там, поручик, река? — спросил Карбышев, — ведь там ни реки, ни моста нет…
Палата захохотала. Поручик махнул рукой и отковылял от койки к окну. «Как с гуся вода», — подумал Карбышев. Он чувствовал себя прекрасно и был доволен своей раной, — хорошая рана в ногу, сквозная в мякоть, без повреждения кости. Ему захотелось проучить наглого поручика.
— Чертовски жаль шинель. Получил при мобилизации в интендантстве. Уплатил пять рублей восемьдесят одну копейку…
— А что с шинелью?
— Да унесли проклятые мародеры, когда мы с поручиком были убиты и лежали рядом на картофельном поле под мостом…
Палата опять захохотала.
— Но как же вы, капитан, со своими саперами в контратаку-то пошли?
— Чрезвычайно просто. Вижу, пехота сдает, топчется, офицеров своих теряет, — капитан Заусайлов свалился. А у меня рота отличных солдат с командиром и четырьмя офицерами, в полном порядке. Ухватил я батальонное знамя и…
Карбышев сидел на койке, вытянув раненую ногу, спустив к полу другую. Глаза его сверкали. Небольшая крепкая фигура, короткие жесты сильных волосатых рук и быстрый темп рассказа так естественно сливались в органически цельной общности впечатления, что усомниться в безусловной правдивости того, что говорил этот капитан, было немыслимо.
— Перед тем как бежать, глянул направо. Солдат с совершенно синим лицом. Что за солдат? Почему лицо синее? Глянул налево, — какой-то вовсе мне незнакомый солдат. Что такое? Да откуда же они оба взялись? И вдруг понял: направо — Иванов, налево — Петров, только лица у обоих изменились так, что и узнать нельзя. Ухватил знамя и…
— А как ранило вас?
— Проще простого…
Так ли просто? В одно мгновение произошло очень много разного. Снаряд упал на землю тяжело и грузно. Оглушающий грохот и повторные разрывы потрясли воздух. Воронка в земле задымилась и задышала как живая. И тут же — удар в ногу. С разбега Карбышев подскочил и рухнул. Затем поднялся. Но правая нога не держала — сгибалась. Казалось, что мышцы ее обвисли лохмотьями, — так они вдруг стали слабы и бессильны. Боли не было; вместо боли что-то жаркое, жгучее разгоралось в ноге, и от этого она тяжелела. Карбышев услышал запах паленого и крови. Когда кровь наполнила сапог липким теплом, он понял, что это не чужая, а его собственная кровь. Догадка была так поразительна, что он снова упал, — от удивления? — и уже больше не пытался ни встать, ни идти. Падая, он крепко сжимал в руке древко батальонного знамени и с ужасом думал о его судьбе. Австриец взмахнул над головой Карбышева ружьем, но приклад просвистел возле уха. Кто отвел удар? С невыразимым чувством благодарности Карбышев взглянул в ту сторону, где должен был находиться его спаситель. Это был пехотный солдат. Капитану известна его фамилия: Романюта. Этот же солдат перехватил знамя…
— А саперы?
— Один офицер убит, другой контужен. Двадцати рядовых — как не бывало…
Из Заусайлова вырвался звук — хриплый и отрывистый… Что это? Карбышев внимательно посмотрел на Заусайлова. Николай Иванович лежал, неподвижный и желтый. Ничто не изменилось ни в выражении его измученного лица, ни в ломких очертаниях фигуры. «Одно из двух, — подумал Карбышев, — или этот звук отлетит сейчас без следа или вложится в слово. И тогда…» Палата притихла. Карбышев ждал, секунду, две. Слова не было, но и звук не отлетал, а повторялся. И тут только стало ясно, что Заусайлов плачет…
От врачей, от сестер доходили новости, что ни час, — все новее и решительнее. На западном отделе, под жестоким огнем, русские ворвались в укрепленное село Красичин. Мало кто из раненых офицеров умел ставить эти частные удачи в общую связь. А Карбышев умел. Взятие Красичина значит, что борьба за передовые позиции крепости подходит к концу; что первая параллель заложена на всех главных участках осады; что открывается второй фазис осады, когда артиллерия должна будет разрушить несколько фортов, намеченных для атаки, и проложить путь пехоте.
Надя Наркевич вошла в палату своей скорой, летящей походкой.
— Новость, господа…
— Что за новость?
— Ополченцы штурмом взяли форт…
— Ополченцы?! Форт?! Какой?
— Это значит, — сказал Карбышев, — что гарнизон Перемышля уже не в силах оборонять фортовой пояс. Дело — к концу. Поздравляю, господа!
Заусайлов уже давно не плакал, но слезы утереть позабыл, и потому глаза и щеки его были мокры. Даже с усов скатывались мутные капли.
— А у вас, сестрица, нет брата, вольноопределяющегося в технических войсках? — вдруг спросил он Надю. — Тоже Наркевич…
— Есть, — сказала она. — Глеб…
Поручик, уличенный во лжи, вмешался:
— Родной или двоюродный?
— Родной…
— Странно!
— Почему? — розовея от внезапного смущения, сказала Надя. — Почему у меня не может быть родного брата?
— Да что же получается? Брат родной, а сестра милосердия двоюродная… Ха-ха-ха!
Надя часто заморгала своими большими глазами. Она уже готовилась уйти из палаты. А теперь замерла, словно окаменев.
— Вот что, порльучик, — выпустил Карбышев пулеметную очередь, — то, что вы сейчас сказали, глупо и ничуть не смешно. Но в том, как вы сказали, есть нечто скверное. Поэтому…
Надя выбежала из палаты. На койках зашумели. Заусайлов приподнялся на локте и проговорил с болезненной дрожью в хриплом голосе:
— Я его заставлю… Заставлю…
Легко раненых офицеров переводили из Мосциски в главный львовский госпиталь. С ними ехала сестра милосердия Надя Наркевич. В день отъезда поручик публично каялся и просил у нее прощения — красный от досады и потный от усилий над собой. Впрочем, он очень старался придать и этому неприятному делу красивый вид.
— Всевышний дал мне такое горячее сердце, которое съедает меня всего без остатка, — театрально говорил он, — простите, сестрица.
Заусайлов оставался в Мосциске. Но ему вдруг значительно полегчало. Прощаясь с ним, Карбышев спросил:
— Итак, Наркевичу — амнистия?
Заусайлов ответил еле слышно:
— Эх! Солдатская душа даром не заплачет, Дмитрий Михайлович!
— Надо полагать!
Капитаны расцеловались. «Если совесть человеческую не насиловать, — подумал при этом Карбышев, — она непременно потянет от старого к новому, — иначе быть не может!»
Глава шестая
К двадцатому марта положение Перемышля стало непоправимо тяжким, катастрофически безнадежным. Позиции обложенья превратились в исходную линию для атаки. Кольцо осады сжалось до последнего. Гарнизон крепости удерживался вдвое меньшими силами. Двадцать первого марта, рано утром, на фольварк Рудники прибыли уполномоченные перемышльского коменданта генерала графа Кусманека для переговоров о сдаче. Грязный двор штаба армии был заставлен автомобилями. Австрийцы остановились у ворот и прошли через двор пешком. Уполномоченных было двое: полковник-бригадир Август Мартинек и подполковник Оттокар Хуберт. В качестве переводчика их сопровождал обер-лейтенант Александр Вагнер. Генерал Селиванов, готовясь войти в комнату, где его ожидали парламентеры, сказал Азанчееву:
— Прошу, полковник, со мной!
Переговоры оказались короткими. Старший из уполномоченных, худой, сгорбленный, желто-черный человек, с лицом обозленной обезьяны, передал генералу Селиванову письмо генерала Кусманека. Комендант писал: «Вследствие истощения запасов продовольствия крепости, я вижу себя вынужденным, в соответствии с полученными мною свыше приказаниями, вступить с вашим превосходительством в переговоры по поводу сдачи вверенной мне крепости». К письму прилагалась инструкция из двенадцати пунктов, перечислявшая условия сдачи. Обер-лейтенант Вагнер хотел прочитать инструкцию по-русски, но Азанчеев, свободно владевший немецким языком, взял ее из рук австрийского офицера и начал громко переводить. Последний пункт инструкции он прочитал, улыбаясь и покачивая головой: «Возможность сношений для скорейшего представления к наградам австрийскому верховному командованию…»
— Что такое? — переспросил изумленный Селиванов.
— Удивительное бесстыдство, ваше высокопревосходительство, — подсказал Азанчеев.
Старый генерал выпучил глаза и сделал страшное лицо. Этим он хотел прибавить важности историческому шагу, который собирался совершить. Затем, обращаясь к бригадиру Мартинеку, торжественно проговорил:
— Никаких переговоров об условиях сдачи крепости я не веду и вести не намерен. Единственным условием может быть беспрекословная сдача на волю победителя.
Двадцать второго марта, на рассвете, со стороны Перемышля послышался грохот взрывов, следовавших один за другим. Это гарнизон взрывал форты. К семи часам утра над фортами взвились белые флаги. Перемышль капитулировал.
Азанчееву очень хотелось быть впереди событий. Еще русские войска не вступили в город, а он с конвоем из десятка гусар уже мчался мимо взорванных утром фортов к железнодорожному мосту через Сан. Верки громоздились горами железа, бетона, брони, камня, дерева и еще чего-то такого, чему и названия не подыщешь. Все это сгрудилось в невообразимом хаосе, точно земля перевернулась под верками и перевернула их вместе с собой. День был ясный, светлый, чистый. Сан уходил белой лентой в голубую даль. Казалось, будто высокие заводские трубы у железнодорожного моста колеблются и плывут в прозрачном воздухе. Азанчеев смотрел на город вдоль моста и видел множество вовсе не пострадавших от бомбардировки белых старинных крепких домов под черепичными кровлями. У самой реки, на фоне плоских холмов, распластались четырехугольные башни. Набережная завалена досками и штабелями бревен, застроена вьшками и будками. Мост — длинный, узкий. Вот и приземистые круглые, зубчатые строения Казимирова замка… Улица Мицкевича — гладкая мостовая, чистые тротуары, и солнце пылает в окнах вторых и третьих этажей.
Здесь к Азанчееву подошел маленький австрийский генерал в необыкновенно высоком кепи и на таких тоненьких, судорожно гнувшихся ножках, словно весь он был составлен из спичек и укреплен на проволоке. Это был фельдмаршал-лейтенант Тайаши, дважды разгромленный в больших ночных вылазках.
— Здравствуйте, полковник, — сказал он, — я хочу спросить вас: Саратов, действительно, хороший город?
— Превосходный, ваше превосходительство, — отвечал Азанчеев, — советую вам ехать именно в Саратов.
— Да? Саратов… Саратов… Мне нравится название.
— Вам еще больше понравится город.
— Да? Но смогу ли я выбирать?
— Не знаю. Во всяком случае, вы не выбирали между смертью и пленом. Крепость сдалась от голода…
Тамаши вздрогнул.
— Откуда вы это взяли?
— Из письма коменданта.
— Пфуй! Причина сдачи Перемышля — упадок духа гарнизона.
— Тем лучше.
— Почему?
— Потому, что пора забыть про так называемую неспособность русских к наступлению. Это сказка.
— Не спешите, полковник.
— Я уже стою на австрийской земле, ваше превосходительство! Судьба Перемышля была решена еще осенью.
— Что вас заставляет так думать?
— Помните? «Крепость — гостиница в пустыне». И еще: «Армия, позволившая запереть себя в крепости, обречена на стратегическую смерть».
— Саратов… Саратов…
Генерал Тамаши вежливо раскланялся, и Азанчеев поскакал дальше по улице Мицкевича навстречу вступавшим в город русским войскам…
…Множество австрийских офицеров в штиблетах, торчавших из-под светлосиних шинелей, толпились вокруг бывшего коменданта крепости. Граф Кусманек был похож на старого наездника с лицом орла. Он только что сдал оружие и от непривычки к безоружности улыбался необыкновенно глупо… Казачий полковник — плотный мужчина с седыми усами на меднокрасном лице — осторожно подошел к австрийскому капитану.
— Голодовали?
— О, нет… Очень было хор-рошо: и зуппе, и кафе, и бро-од, и флейш…
В стороне от изрытой и грязной дороги, у развалин станционного дома, где шрапнель ложилась градом на высокий обломок белой стены и не оставила на нем ни на вершок чистого места, стояли русские часовые. Между ними — навал чего-то бесформенно огромного. И это огромное непрерывно пополнялось и увеличивалось в объеме, вырастало в целую гору кое-как сложенных трофеев — винтовок, сабель, пик, рыжих австрийских сумок, лопат, патронов, ящиков с консервами. Солдаты молча смотрели на безобразную груду мертвого вооружения. Однако в громадности этой картины, кроме безобразия, было и величие. Один, другой солдат вдруг медленно и раздумчиво говорил:
— И все это мы… Мы… Наше дело-то!..
* * *
Вернувшись в Рудники из Перемышля, плотно поужинав и собравшись с мыслями, Азанчеев поздно вечером взялся за письмо генералу Щербачеву, недавно назначенному командовать армией.
«…Осенью немцы утверждали, что нас ждет под Перемышлем участь трех плевненских штурмов 1877 года с той лишь разницей, что Плевна в конце концов пала, а Перемышль так никогда и не перестанет издеваться над дерзостью московитов. Но у московитов есть Щербачевы. Все, что совершилось здесь с осени прошлого года вплоть до сегодняшнего дня, до дня капитуляции, — все это проценты с капитала, вложенного вашим превосходительством в славный ход осады. Перемышль защищался сто тридцать семь дней, то есть в два раза меньше, чем Севастополь. У австрийцев не было Корниловых, Истоминых, Нахимовых. Их военачальники не встречались со смертью на бастионах. Нами взяты в плен, кроме коменданта Кусманека и начальника гонведной дивизии Тамаши, еще семь генералов, две тысячи триста офицеров, сто тринадцать тысяч нижних чинов и тысяча орудий… Любовь к дутым и ложным реляциям — наша старая болезнь. Мы заразились ею еще на Кавказе, а потом в Туркестане. Ко времени японской войны на ней создалось множество военных карьер и геройских репутаций. Теперь она расцвела махровым цветом, превратилась в эпидемию. С горечью признаюсь, что в селивановской армии больше не говорят о вас. И уж само собой разумеется, что никому не приходит в голову вспомнить о скромном полковнике А., который, исполняя приказание генерала Щ., некогда оседлал неприступную Седлиску. За скромность иногда уважают, иногда презирают! Это зависит от умения быть скромным. Я спрашиваю судьбу: где справедливость? Она отвечает: в твоем убеждении, в твоей внутренней правоте. Так ли это, ваше превосходительство? И не следует ли судьбе несколько больше считаться с нашими реальными интересами?..»
Азанчеев запечатал письмо. Потом перечитал обширную докладную записку, адресованную в Главное артиллерийское управление. В записке излагались детально разработанные предложения по использованию легкой артиллерии для подготовки атаки укрепленных позиций. «Как атаковать позицию противника за четырьмя рядами проволочных заграждений, — писал Азанчеев, — об этом у нас не знают ни в дивизиях и полках, ни в корпусных и армейских штабах. Резать проволоку ножницами? Но колючую проволоку резать ножницами легко только на саперных полигонах, а под ружейным и пулеметным огнем это значительно труднее. Гранаты?..» Тут, ссылаясь на удачный опыт последних карпатских боев, когда наши батареи рвали австрийскую проволоку гранатами, Азанчееву следовало бы упомянуть и о военном инженере капитане Карбышеве, от которого эта новость пришла к Азанчееву. Но в его записке стояло другое: «На изложенное прошу смотреть, как на естественный вывод из боевых наблюдений офицера генерального штаба, связанных преимущественное блокадой крепости Перемышль». Азанчеев исправил в записке несколько знаков препинания, подписал ее, запечатал и улыбнулся: «Слава… Что такое слава? Маленькая, голодная лгунья, которую надо кормить умно написанными бумагами. Вот и… ха-ха-ха!»
* * *
Обстрел перевязочного пункта, последовавшие за тем суматоха и артиллерийская дуэль сделали то, что Лабунскому не успели откромсать ноги. Так он и прибыл во львовский госпиталь с обеими ногами, но в страшнейшем жару и полном беспамятстве.
Госпиталь помещался на улице Шептицкого, в одноэтажном красивом особняке. Палаты своей холодной громадностью напоминали вокзальные комнаты, — такие бывают на очень больших станциях. В одну из этих палат попал Лабунский, и тут случилось необыкновенное: температура его, к общему изумлению лечебного персонала, вдруг начала падать. Открыв глаза, он долго смотрел на синие кафельные печи, а потом спросил санитара:
— Почему дверь настежь?
Действительно дверь была открыта. С этой минуты пошло на улучшение. Палатный врач Османьянц улыбался.
— Поздравляю!
— С чем?
— Да как же? Гангрена-то не состоялась!
Из палаты, через всегда открытую дверь, виделся Лабунскому коридор — прямой, ярко сверкавший безукоризненной чистотой линолеума, белизной стен и бюстов, зовущий свежей зеленью растений, рассаженных по большим круглым кадкам. Иногда, в минуты полусонного раздумья, Лабунскому представлялось, что коридор этот своей прямизной, чистотой и красивой прибранностью как бы знаменует собою чью-то прямую, чистую и красивую жизнь. Чью? Все равно — чью. Но скучно так жить… Хорош такой коридор только в госпитале…
И все-таки перспектива эта привлекала к себе взгляд Лабунского. Именно оттуда впервые пришла в палату новая сестра милосердия, прибывшая с поездом легко раненых из Мосциски. Это была светлая, сероглазая девушка в белом, всегда озабоченная, то с термометром в тонких, бледных руках, то с лекарствами, а то и с «поильничком», полным прохладного и вкусного морса. Простота и ясность этой девушки казались Лабунскому чем-то увлекательно-загадочным — таким, что ему обязательно хотелось и надо было узнать. Странное возникало в нем чувство: будто где-то, когда-то уже встречал он или эту самую девушку, или другую, очень на нее похожую; но где, когда и ее ли именно встречал, — всего этого он ни вспомнить, ни сообразить не мог. Обстоятельства безвозвратно забылись. Однако они казались ему необыкновенно важными, а от невозможности ухватиться за них мыслью он томился и страдал. Между тем Надя Наркевич, как и большинство подобных ей сестер, была неразговорчива и не любила рассказывать о себе. В конце концов о таких, как она, бывало известно почти всегда одно и то же: кончила гимназию и пошла на войну; работала на пункте… русский солдат — герой удивительный… уж она-то знает, что такое русский солдат, — по пункту, по тифозному бараку… вот и все. Лабунский был еще очень плох и слаб, когда нежное прикосновение ласковой руки этой девушки к его лбу — именно оно — пробудило в нем первые, сладкие ощущения вернувшейся жизни. Она низко наклонилась над ним.
— Как чувствуете себя, голубчик?
— Спасибо… Точно в раю…
— Ну и хорошо… Спите… Скоро поправитесь…
Когда в львовском госпитале узнали о капитуляции Перемышля, доктор Османьянц опять появился возле койки Лабунского.
— Поздравляю! Поздравляю!
— Спасибо!
— Отчасти благодарите самого себя. Здоровая кровь — драгоценная вещь, поручик. А Львов, я вам доложу, отличный город. Немножечко похож на Варшаву. Сады и памятники — на каждом шагу. Но еще больше красивых дам. Да, теперь уже недалечко такое время, когда захочется вам пошататься по бульварам, побегать за красотками…
Османьянц был круглолицый толстячок, с грушевидным носом, черно-синей шерстью на потных висках и такими глазами, словно отверстия для них кто-то проткнул пальцем. Он умел очень ловко перехватывать чужие улыбки. И они отражались в его глазах хитрыми огоньками.
— Мало вам Львова? Пожалуйста: Перемышль открывает дороги на Краков и Будапешт… Стратегический узел… в тылу Карпат… и так далее, — прямо из записной книжки покойного генерала Леера. И везде — красивые дамы, дамы… Пожалуйста, займитесь этими дамами, я вас прошу…
Лабунский ясно представил себе легкую, быструю походку Нади Наркевич, тихую музыку ее ласковых, обращенных к нему речей. «Глуп, как стадо баранов!» — подумал он об Османьянце и спросил:
— Сплавляете?
— Кого? Куда? Бог с вами, дорогой мой… Ни-ни… Но ведь действительно дорога на Краков и Будапешт…
— А знаете, Нерсес Михайлович, — усмехнулся Лабунский, — когда вы хитрите, что-то начинает внутри вас светиться, и от этого ничего не выходит…
— Начинаю светиться? Возможно. Но только это не от хитрости… Как у деревенской баньки гнилой уголок, так и я свечусь. Ранний склероз… Свечусь, а… гибкости никакой! Потому и спрошу вас, Аркадий Васильевич, прямо…
— Буду ли я ухаживать за красивыми Львовскими дамами? Нет, не буду, — сухо сказал Лабунский, отвертываясь к стене, — ни в каком случае не буду!..
* * *
Госпитальная столовая, где завтракали, обедали и ужинали легко раненые офицеры, представляла собой красивую комнату с огромными, точно в костеле, окнами из литого фигурного стекла и большими блюдами Сакс на стенах. В день сдачи Перемышля столовая кипела. Уже отобедав, офицеры все еще сидели за составленными вместе столиками и слушали горячие рассуждения Карбышева.
— Перемышль погиб от перегрузки войсками, — с уверенной резкостью говорил капитан, — в нем заперлась целая полевая армия. Невозможно! Добавьте к этому, что он и защищаться-то по-настоящему не мог…
— Почему?
— Потому что его артиллерия была пришита, по всем правилам броневой фортификации, к фортам. А это значит, что она не могла сосредоточить подавляющий огонь для поддержки войск, выпущенных из крепости на прорыв. Именно в этом причина неудачи всех вылазок гарнизона…
Постепенно разговор перекочевал с основной темы — Перемышль — на общие вопросы маневренной войны. И опять — больше всех, горячее всех говорил Карбышев.
— Современный огонь делает фронтальный бой затяжным и кровопролитным. Поэтому мы ищем фланги… Только стратегическая невинность может не понять…
Над «стратегической невинностью» расхохотались.
— А то, что мы начали войну прямым наступлением, совершенно правильно. Но неправильно другое. Наступлением нашим решались до сих пор все какие-то случайные задачи. Однако ведь это тактика. А где стратегия? Не в том же, чтобы разбра…
К Карбышеву тихонько подошла Надя Наркевич и, почему-то краснея, сказала:
— Господин капитан, в моей палате есть раненый, подпоручик Лабунский. Вы его знаете. Он очень просит вас зайти к нему…
— Лабунский?
— Да…
— Собиновские сапоги…
— Что?
Надя ужасно покраснела.
— У него борода, как у норвежского рыбака…
— Ну, конечно, знаю Лабунского. В какой он палате?
— Я могу проводить вас.
— Идемте.
Карбышев вскочил, подпрыгнул и сразу оказался на костылях…
…Лабунский жаловался на ноги:
— Чуть погода меняется, нестерпимо болят, проклятые…
И, рассказав историю своей несостоявшейся гангрены, помянул скверным словом фасонные сапоги, из-за которых едва не простился с ногами.
— Собиновский фасон, — сказал Карбышев, — кстати: зачем вам понадобилось наврать мне с три короба насчет этих сапог?
— Наврать? — задумчиво повторил Лабунский. — Хм! Да, я действительно тогда… Но видите ли: во-первых, рассказ получился эффектный, а во-вторых, кто же верит всему, что люди болтают? Вот, например, если я скажу, что собираюсь жениться на Наденьке Наркевич…
— Не поверю!
— Благоразумно!
Карбышев засмеялся.
— А впрочем, кто вас знает? Может быть, и поверю. Все, дорогой мой, можно, все! Только стол называть комодом нельзя!
К койке подошел доктор Османьянц.
— Здравствуйте, господа храбрецы!
— А что такое храбрость, Нерсес Михайлович? — спросил Лабунский.
— Храбрость? Пожалуйста. Храбр тот, кто умеет трусить незаметно. Храбрость — результат воспитания…
— Ересь! Утверждаю, что люди родятся храбрыми.
— И так бывает. Но если даже самый храбрый неврастеник попадает на фронт, тут ему непременно крышка — физическая или психологическая. Поэтому трусы среди живых столь же неизбежны, как храбрецы среди мертвых. Слыхали про генерала Опимахова?
— Нет, — сказал Лабунский.
— Я знаю генерала Опимахова, — отозвался Карбышев, — да ведь он и храбр и жив…
Османьянц засветился своей «склеротической» улыбочкой.
— Конечно, храбр. Но жив только потому, что еще не умер.
— То есть?
— Живой мертвец… Однако сегодня приедет осматривать госпиталь.
…Генерал от инфантерии Опимахов занимался укреплением львовских позиций. Это был довольно известный в армии генерал из неудачников. Молодым офицером он легко осилил две академии — инженерную и генерального штаба. Носил мундир генерального штаба, но считал себя коренным военным инженером. В конце девяностых годов прошлого века ездил зачем-то в Абиссинию и почему-то доходил с абиссинскими войсками до Белого Нила. За доклад об Ахал-Текинском оазисе, где он побывал вместе со Скобелевым, Русское географическое общество избрало его своим членом. Написал несколько толковых книг по военной географии. Во время японской войны командовал дивизией и под Мукденом сыграл довольно крупную, но какую-то невыясненную роль. В те годы Карбышев не раз видал его. На Дальнем Востоке об Огшмахове ходило множество рассказов, не хороших и не дурных, а каких-то навязчивых. Генерал этот был храбр, как прапорщик, рвался вперед очертя голову, но войск не щадил и редко имел успех. Кроме того, всегда бывал чем-то так сильно занят, что решительно никаким делом не мог заняться всерьез. Это было очень удобно для одних его подчиненных, а для других, наоборот, неудобно. И отсюда получалось так, что одни его расхваливали, а другие разносили на все корки. На эту войну он выступил командиром корпуса с репутацией самого богомольного генерала в русской армии и с прочно укоренившимся прозвищем: фарисей. В разгар неудач Восточно-Прусской операции прошлого года Опимахову удалось вытащить остатки своего корпуса из беды, и он благополучно перевел их под Сольдау через мост. Рассказывали, что он шел в самом хвосте своих войск, в генеральском пальто нараспашку, как бы подставляясь его ярко-красными полами под прицел. Рота гвардейского Литовского полка прикрывала мост. Опимахов задержался при роте. Спокойно усевшись на валу окопа, густо поливаемого артиллерийским огнем, он наблюдал, как таяла рота. Наконец, посмотрел на часы. «Ну, что же, пора… Взрывайте мост… Выводите роту!» И тогда только поднялся и пошел позади всех. Но на ходу оглянулся. Заметив, что саперный офицер, которому надлежало взорвать мост, жмется под осколочным градом, вернулся и, погрозив трусу пальцем, сам воспламенил заряд…
— Интересно, — задумчиво сказал Карбышев, — давно я не видел Опимахова…
Генерал приехал перед ужином и сперва прошел через солдатское отделение госпиталя. Здесь он подолгу простаивал у коек и донимал раненых «фарисейскими» вопросами.
— Когда день ангела твоего, знаешь? А престольный праздник в твоей деревенской церкви когда бывает? А житие своего святого читал? Что? Неграмотный? Глупо!
Затем строго сказал начальнику госпиталя:
— Иконок, ваше превосходительство, не вижу… Да, да… На кроватях надо бы повесить, на стенах… Очень жаль, ваше превосходительство!
Гвардии поручик фон Дрейлинг, состоявший почти с самого начала войны в должности адъютанта при Опимахове, быстро вписал что-то в развернутую тетрадь. Из солдатского отделения, как бы предводительствуя огромной толпой белых докторских халатов, «фарисей» проследовал на офицерскую половину.
— А где у вас тут подпоручик Лабунский?
Опимахов был сух, высок ростом и подвижен. Выразительные глаза, засевшие вглубь под густые брови, и непрерывно дергающийся в усмешке рот как бы говорили: «Главное, не раздражайте меня, господа!» Но в резких чертах его нервного лица было еще и что-то серьезное, и что-то, доброе.
— Здравствуйте, подпоручик Лабунский!
— Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!
— Лежите, лежите… Не дрыгайтесь… Спокойно, спокойно… Руку… Так! Берите… Можете распечатать пакет.
Лабунский держал в руке синий конверт. Под толстой, жесткой бумагой конверта прощупывался какой-то непонятный, довольно веский и твердый предметик, похожий на… Вдруг холодные пальцы Лабунского живо разорвали синюю бумагу. Из конверта выпал на одеяло беленький крестик на черно-пестрой георгиевской ленте…
— Руку, поручик[13], руку… Поздравляю и благодарю — от армии, от России!..
Фон Дрейлинг вписывал что-то в тетрадку…
…Опимахов еще долго ходил из палаты в палату, от койки к койке, заглядывал в черные жестяные таблички у изголовий с четко выписанными мелом латинскими словами, расспрашивал раненых о самочувствии и даже давал лечащим врачам советы насчет лекарств и народных средств.
— Успехи хирургии, ваше превосходительство, — палочка о двух концах, — говорил он начальнику госпиталя, — можно очень хорошо отрезать палец, больной и не заметит, но гораздо важнее вылечить палец, чтобы его не резать. У кого из древних сказано, что успехи хирургии доказывают лишь слабость медицины, а?
— У Галена, ваше высокопревосходительство, — пробормотал озлобленный фокусами «фарисея» начальник госпиталя, —…chirurgia paupertatis medicinae testimonium est[14].
— Вот, вот… Paupertatis testimonium… Я ведь семинарист, латынь знаю…
У койки Карбышева Опимахов застрял. Фамилия раненого капитана, которую он прочитал на жестяной дощечке, приковала его к месту. Он пристально разглядывал стоявшего перед ним на костылях Карбышева.
— Погодите… А вы в Маньчжурии не были?
— Так точно, был, ваше высокопревосходительство.
— Ага! Ну, конечно… Я помню и вашу фамилию и все. В саперах? О вас тогда говорили: предприимчивый, лихой, смелый… И в приказе по армии… Что что вы тогда такое совершили, дорогой мой? Если не скажете, замучаюсь вспоминая.
— Я был поручиком третьего Восточно-Сибирского саперного батальона, ваше высокопревосходительство, — доложил Карбышев, — с конца апреля девятьсот четвертого года находился в Ляояне. Второго июня мне было приказано снять гелиограф у мыса Кон. Я это сделал. На следующий день соединился в Чучжоу с казаками и с оптической станцией. Затем пошел к Вафангоу долиной реки Фуджоохэ. Шел с боем, так как постоянно натыкался на японские заставы и биваки. И все-таки на рассвете третьего дня, проблуждав всю ночь в горах, вышел в пяти верстах к северу от станции Вафангоу. А уж потом…
— Так, так, так… И за сие?
— Владимир четвертой степени с мечами и бантом, ваше высокопревосходительство.
— Все помню, голубчик, все!
Опимахов разволновался. Рассказ раненого офицера разбередил его. Он начал вспоминать вслух.
— Саперные роты были еще тогда вооружены винтовками драгунского образца, — подумайте! А телеграфные и парки — револьверами, шашками. Экая дичь! Снаряжение ранцевое. А помните троечные запряжки в инженерных войсках? Это в Маньчжурии-то… На тропинках… В грязи…
Знаменитую маньчжурскую грязь и Карбышев помнил отлично.
— У Ташичао был такой потоп, ваше высокопревосходительство, — сказал он, — что приходилось ставить треноги из шестов для проводки телеграфных линий…
— Да что там?! У меня парный обоз потонул…
Вдруг Опимахов нагнулся к Карбышеву, поцеловал и перекрестил его.
— Слава богу, что легко под Перемышлем отделались. Очень рад! Очень рад! А теперь, как старый инженер, все-таки скажу вам, молодому, что козловые мосты там у вас, под Перемышлем, на этакой быстрой реке, как Сан, с периодическими подъемами воды на две сажени, — очень большая глупость. Я бы за это, кого надо, по шапке, да-с! Только свайные мосты! Слышите, только свайные!
— Слушаю, ваше высокопревосходительство!
— Кому угодно скажу: свайные, свайные…
Он повернулся к фон Дрейлингу.
— Запишите фамилию капитана и место служения его… Э, да вы, господа, тоже знакомы!
* * *
Апрель был у конца, и весна бушевала по всей Галиции. Да что же это за весна такая сильная! Солнце бродило по глубокому чистому небу, и свет его весело играл с тенью под большими, густо одевшимися березами на яркозеленой траве госпитального сада. В розовую даль уходила от города безмятежная река Пелтва. Цвет неба и воды казался одинаковым. Ну, и весна!..
Карбышев ходил без костылей, но еще заметно прихрамывая. А Лабунский даже и не хромал. Для настроения, в котором находился подпоручик, Карбышев изобрел слово: «кавалерственное». Четыре месяца болезни истомили Лабунского. Досадная неопределенность казалась ему похожей на ожидание поезда в сырой и холодный день, под дождем и ветром, на открытой платформе глухого степного полустанка. Ожидание скучно и тревожно, расписания нет, терпение отступает перед неизвестностью, равнодушие вползает в грудь, и уже нет никакой охоты хотеть… Только мысль — настороже, одна-единственная мысль. И вдруг, свистя, дымя, гремя колесами и разбрасывая кругом дыханье жаркой силы, подкатывает к платформе поезд. Дело идет к выписке из госпиталя, и все меняется мгновенно. Мысль рвется вперед, энергия вскипает, воображение бунтует, сердце птицей летит в неизвестное…
В один из сверкающих дней этой весны Карбышев и Лабунский взяли извозчика и поехали осматривать Львов. Вот это город! Дома задевают острыми крышами за светлое небо. На широких улицах ни одно колесо не застучит по мостовой — все экипажи на резиновых шинах. На цветистых бульварах — тень под кудрявыми шапками стройных деревьев. Магазины горят стеклянными солнцами огромных витрин. И нарядные, как бабочки, женщины…
— Что вы скажете? — спросил Карбышев.
— Женюсь! — отвечал Лабунский.
Они катились от дворца наместника направо по Королевским Валам к Горе Франца-Иосифа. Свернули с Королевских Валов налево по Русской улице мимо музея и ратуши, выехали на Германские Валы и полюбовались величественным, похожим на храм под огромным круглым куполом, зданием городского театра. Везде белели полотняные вывески: «Московский базар», «Одесская кондитерская». А рядом — казармы с грубо измалеванными на стенах солдатами в человеческий рост. Это — форма обмундирования австрийских войск. На бульваре Франца-Фердинанда — могучая фигура на рвущемся вперед коне, с протянутой вдаль булавой: Ян Собесский. И над всем городом, прямо из свежей зелени высокого холма, взлетает к небу изящная архитектурная игрушка: Собор святого Юра. Многолюдье затопляет город. Мчатся генералы в тарантасах. Чистенькие офицеры в перчатках козыряют раскрашенным дамам. Военные оркестры жарят в одной стороне Павловский марш, а в другой — «Дунайские волны».
— Неужели?
— Честное слово, женюсь!..
Когда Карбышев и Лабунский вернулись в госпиталь, документы на выписку были уже готовы. Карбышев прочитал в свидетельстве о своем ранении: «Сквозное пулевое мягких частей задней поверхности средней трети левой голени». Хорошо, что записано, — упомнить невозможно… Доктор Османьянц говорил:
— Вы слышали? По Галиции разъезжает господин Родзянко?
— Можно подумать, что вы с ним на «ты»…
— Нет. Но Родзянко такой человек, что и камень из почки возьмется вырезать и армией не прочь командовать. Зачем же он разъезжает?
— Милый Нерсес Михайлович, — сказал Карбышев, — я вас очень хорошо понимаю. Но не тревожьтесь: нелепое временно в жизни и быстро проходит. А постоянно лишь то, что умно.
Османьянц засветился самой радужной из своих улыбок.
— Кажется, вы действительно меня понимаете, капитан. Неужели мы так-таки и не увидимся после войны?
Вечером на Львовском вокзале, в общем зале, за длинным столом, сидел громадный человек с маленькими заплывшими глазками, толстым горбатым носом, жирными щеками и шеей циркового борца. Устроившись насупротив, Карбышев велел подать чаю. Голиаф долго приглядывался и, наконец, спросил густым, мягко-трескучим басом:
— Давно ранены, капитан? А у меня сын воюет в Карпатах. Я — Родзянко.
Глава седьмая
Еще в феврале было ясно видно, что противник готовится прорвать русский фронт на Дунайце: свозилась артиллерия тяжелых калибров, прибывали новые части, умножались обозы. Переход в наступление задерживался только глубоким снегом и бездорожьем. Между тем третья русская армия занимала у Дунайца совершенно не подготовленные к принятию боя позиции. Собственно, позиций даже и не было, а был всего лишь один ров на голом месте и без ходов сообщения в тыл. Стоило неприятелю опрокинуть на это «укрепление» огонь своих орудий, как оно неминуемо должно было развалиться, а сидевшие в нем люди погибнуть.
Второго мая на слабый и открытый фланг третьей армии упал миллион тяжелых немецких снарядов.
Убежища рухнули; брустверы исчезли, как декорации с театральной сцены; глубокие и широкие воронки повсюду разинули черный зев. Солдаты прыгали в воронки и продолжали стрелять. Но это не могло длиться долго. Третья армия покатилась, обнажая фланги соседей. За ней стали свертываться сперва соседние корпуса, потом — армии, а затем и весь русский фронт. Так начался страшный месяц — май пятнадцатого года. Расцепиться с преследовавшим противником не удавалось: он шел на хвосте и наседал. Изо дня в день повторялись обходы и прорывы — тяжелое ощущение травленого зверя ни на час не покидало бежавших. Все спуталось: пехота, госпитали, понтоны, обозы, артиллерийские парки — все вперемежку, где попало и как попало. Море людей, повозок и лошадей покрыло дороги. Лошади храпели и бились в оглоблях. Стоило заглянуть в их большие, изуродованные ужасом глаза, чтобы понять: совершается гибельное дело — пыль, дым, ружейная стрельба по немецким аэропланам, пулеметное таканье, топот и лязг, топот и лязг… И не было между землей и небом ни единого звука, который не был бы рожден этим отчаянным отступлением…
…Карпаты тоже очищались. Держаться здесь дольше было нельзя: карпатский фланг фронта висел в воздухе. Кроме того, горные дороги размесились в топях из снега и грязи; подвоз снарядов и продовольствия прекратился. Полки представляли собой жиденькие сводные батальоны; в полку — семьсот — восемьсот человек. Следовательно, и дивизии были, в сущности, не больше, чем полками неполного состава, да еще и почти без офицеров. Так, по крайней мере, обстояли дела в той второочередной дивизии, которая зимой занимала Бескидский перевал, а теперь отходила из гор на равнину. Австрийцы шли за ней, то здесь, то там вытягиваясь из ущелий, постоянно теряя связь между частями и единство в действиях, без взаимной поддержки. Есть на войне критическая минута. Все — ничье. Одна сторона свободна, другая — тоже. Инициатива лежит между обеими сторонами и вовсе нетрудно подхватить ее одним решительным движением, смелым рывком. И тогда можно приказывать врагу. Тогда можно свою силу использовать наивыгоднейшим образом. Но это — минута. Упаси бог пропустить ее! И если так случилось, все выгоды переходят к противнику. Уже он привяжет теперь к месту неудачливого соперника, раздергает по частям его боевую энергию, заставит его делать то, что ему совершенно не нужно, и, наконец, непременно разобьет его. Это — минута большого решения. Слабый командир не может поймать ее. «Эх, — думает он, когда она наступила, — эх, да как-нибудь образуется. А то еще неизвестно, что выйдет…» Он ждет. Чего? Но сильный знает, что упущенного не вернуть. Победа никогда не приходит сама, ее вырывают из рук случая смелостью и настойчивостью.
В такую-то именно критическую для дивизии минуту предприимчивый полковник Азанчеев был назначен командиром одного из ее полуживых полков и, представляясь начальнику дивизии, заговорил о переходе в контратаку. Азанчеев окончил академию генерального штаба, имел георгиевский крест, находился на второй войне, был отлично образован в общем и в военном смысле и не сомневался, что командовал бы дивизией куда удачней этого старика из отставки, корпусом — лучше Щербачева, армией — умнее Селиванова. Раздумывая на эту тему, он жалел Россию, которая пока не имела возможности пользоваться его талантами в полной мере, и яростно ненавидел все, что тому препятствовало. Это был бунт карьеризма, облагороженного патриотическими чувствами. Но начальник дивизии ничего этого не понял, не принял во внимание, и из крупного разговора с ним ровно ничего не получилось. Он не умел во-время решаться, боялся риска и по части природных способностей был весьма ограниченным человеком. Долгое пребывание в отставке окончательно его заморозило. Совершенно не считаясь ни с репутацией, ни со связями, ни с личными качествами Азанчеева, он слышать не хотел о контратаке, махал кулаками, плевался, грубейшим образом требовал исполнения своих приказаний. Каких? Приказаний-то и не было. И вот австрийцы беспрепятственно выступили из гор, живо собрали резервы и устроили свой тыл. Несколько разведок с боем сделали их хозяевами положения. Безошибочно выбрав направление, они прорвали фронт дивизии и отбросили ее далеко на восток.
Полки отходили перекатами. Дивизия старалась не бежать, не отдавать пленных, сохранять артиллерию, парки, обозы и транспорты. Все кругом было пусто, мертво, искалечено боем. Только леса уцелели и дышали жизнью и силой. Дивизия льнула к лесам. Позади блестела река. Она медленно входила в свои обрывистые берега после бурного и многоводного апрельского разлива. На приречных равнинах раскинулась стеклянная гладь еще не всосавшихся в почву озер. Дороги… Солдаты кляли их на чем свет стоит. «Да разве это дорога? Студень, а не дорога…» Какие-то странные беспорядки постоянно мешали отступавшей с боем дивизии. То батарея не смогла открыть огонь, так как не оказалось в нужный момент запасного телефонного кабеля, чтобы соединиться с наблюдательным пунктом, вынесенным по полотну железной дороги на полторы версты вперед. То вместо обычных мужских рубашек, кургузых, из грубой бязи, обнаруживалась в обозе огромная партия длинных женских батистовых, очень тонких и дорогих, но солдатам для носки отнюдь непригодных. Как это могло случиться? Почему? Нельзя сказать, чтобы это было мошенничество или что-нибудь другое в подобном роде, — нет! Это было просто черт знает что такое! То прибыли ящики с надписью: «Огнестрельные припасы». Бросились… Открыли… А в ящиках — сапоги. Между тем огнестрельных припасов было мало и становилось все меньше и меньше. Наконец, в один ясный, холодный и грустный день батареи расстреляли все свои снаряды. Тогда артиллеристы пошли в контратаку с пехотой. Только так они могли теперь помочь ей. Пушки молчали. Даже пулеметы молчали, подбитые разрывами австрийских чемоданов[15]. Подходили к концу ружейные патроны…
…Австрийцы обнаглели. Они почти открыто совершали все свои передвижения. А в атаки ходили густыми сомкнутыми массами. И ни днем, ни ночью не прекращали огня, с особой точностью обрушивая его на выводные стрелки железнодорожных путей. Телефонные станции штаба дивизии находились на полковых участках и снимались только под самым носом у неприятельских цепей. В тяжких обстоятельствах скорая и непосредственная связь — спасение. Усердная работа на полковой телефонной станции отзывалась печальным раздумьем в горячей голове «грамотея» Елочкина. Было ему от природы положено размышлять. В эти минуты самоуглубления словно легкая, плывучая волна подхватывала его на гребень и несла на себе мимо неподвижных берегов. Он не помогал волне, но и не сопротивлялся. Он плыл, отдаваясь течению своих мыслей. Как ни были они печальны, но они не позволяли ему размякнуть в сознании своей немощи, раствориться в бессильной тоске…
Светлое небо, затянутое с запада густым дымом пожарищ, лежало на мокрой земле. Красный месяц, окутанный заревом, медленно поднимался. Таких вечеров было уже много. Но один из них запомнился Елочкину перехваченной на станции новостью: сегодня оставлен Львов. К утру новость обсуждали везде, даже в обозе. Откуда этакая быстрота распространения? Непонятно. Солдаты кричали, что не пойдут больше в бой с голыми руками. Офицеры поносили Сухомлинова, обретая особую силу слова, когда под язык попадала его жена. «Разберись, где ошибка, а где измена, — думал Елочкин, — в таких вещах без расследования ничего не поймешь. А какие у нас могут быть расследования? Где они? Трое стреляют, а пятнадцать человек в ладоши хлопают, — почему? Гонят людей на расстрел — и хоть бы что». Он все чаще и чаще вспоминал теперь брестские разговоры с Наркевичем. Тогда речи вольноопределяющегося о войне казались ему книжным измышлением безусых выдумщиков. Они «выдумывают», а он, Елочкин, «знает». Он не сомневался тогда, что право и сила в будущей войне на стороне России и был убежденным оборонцем. Но вот прошел год войны. Побед не было. Кто в этом виноват? А дух падает, и не видно впереди никакого просвета. Если нет у русских правителей силы, то не было у них и права на войну. Значит, война — преступление. И Наркевич в Бресте толковал именно об этом: война — преступление. Наркевич объяснял также, кому и зачем это преступление нужно. Весь мир перевертывался в глазах Елочкина. Сознание его ломалось, перекраивалось в кризисе страшных майских дней…
…Приняв полк, Азанчеев, что называется, засучил рукава. Полк показался ему беспорядочной толпой бородатых михрюток, кое-как и кое во что одетых, без малейшего намека на солдатское самоощущение. На Бескидах и потом, при отходе, из строя выбывали лучшие офицеры и нижние чины — именно те, которые всегда бывали впереди и за которыми тянулись остальные. Потери эти обескровили полк. Служба в цепи, в сторожевом охранении — все никуда не годилось. Взводные командиры ничем не отличались от рядовых. Азанчеев не желал с этим мириться, и, не ожидая помощи от начальства, взялся за дело сам. Солдаты сразу его не взлюбили. Им не нравилось, что он с ними редко здоровается, не обходит кухонь, не пробует пищи, не благодарит за боевую работу: Даже лошадь, на которой они постоянно видели его, не нравилась им своей тонкой, глазастой мордой на длинной, горбатой шее. Как-то случилось полку отходить под сильным огнем. Шли быстро. Люди падали десятками. Лазаретные линейки не успевали подбирать. Вдруг Азанчеев выехал на своей лошади в самое горячее место.
— Песенники, вперед!
Взбесился! Какие тут песенники, когда все летит кувырком… Однако песенники вышли, затянули «Во поле березонька стояла», и дело как-то сразу повернулось на лад. Это понравилось солдатам, но зато не пришлось по душе офицерам. Их обижало высокомерие Азанчеева. Он мало разговаривал с ними. А когда это случалось, то как истый «момент» говорил какие-то непонятные для них вещи, будто нарочно стараясь оставить их в дураках. Они поносили жену Сухомлинова, а он толковал о том, какой из семи основных принципов военного дела надо было нарушить, чтобы навлечь на себя майский погром. Они ничего в этом не понимали. «Что Георгия получил, — говорили они, — это бывает… А прежде всего сам-то он по себе что за фрукт? Много у нас теперь ловкачей развелось. Я бой своими глазами вижу, а в штабе о нем по описаниям судят. Награды сверху, а не снизу идут. Вот тут она и есть, ловкость». Азанчеев чувствовал такое отношение к себе, и оно его злило. Когда он сердился, голос его становился металлическим и назойливо крикливым.
* * *
Сплошные леса в Восточной Галиции начинаются на отрогах Лесистых Карпат огромным разворотом от Надворной до Кимполунга. При лесных дорогах, возле родников, понатыканы деревянные кресты. Тут же и сторожки за тыном. На привале Елочкин прилег на хворост возле тына и попытался заснуть. Ноги его болели, спина ныла, в голове что-то больно крутилось, ударяя в лоб, — он устал до изнеможения. Но заснуть Елочкину не пришлось. Кругом плелись отрывистые солдатские разговоры, и он ловил их привычным ухом.
— Ерзаем по Галиции взад-вперед, и конца не видать…
— Утомятся кони, на отдых конницу отводят. А наш брат, пехота, снисхождения не жди…
— Союзнички нейдут, хоть шапку, что ли, показали бы!
— Главное дело, у него дорог железных много. Больно много дорог! А у нас меньше…
— Не скули, надоел!
— Война — дело такое: чего и не знал отродясь, на войне вспомнишь…
Донесся сухой, отчетливый звук стреляющего пулемета, словно где-то далеко застучала швейная машина. Потом резко захлопали отдельные выстрелы. Днем за такими выстрелами гонятся белые дымки, а по ночам — синие огоньки.
— Разрывными, сволочи, бьют!
— Ты погляди, артиллерия наша молчит, ровно воды в рот набрала… Да и из ружей еле палим… Потому и бьет нас Австрия больше, чем надо. Обрекаемся на самую напрасную смерть. Да разве можем мы победить? Когда ж такое видано, чтобы голыми руками победу схватить? Никогда!
— Погоди, погоди… Вот скоро Коковцов премьером будет…
— Ну?
— Ну и, как Витте в пятом году, мир заключит. Теперь уже не заключить мира никак нельзя. Теперь уж дальше воевать — самая для России гибель. Только, кто России враг, тот и может войну тянуть. Помяни мое слово!
Елочкин поднялся с хвороста и подсел к солдатам.
Так, через глубокие балки, сквозь дремучие буковые леса просочилась дивизия и вышла на цветущую равнину, покрытую живописными перелесками, речками и множеством белых, как стая прибитых к земле куропаток, красивых деревень. Недавние дожди рассыпались по здешним лугам свежей травой и яркими цветами. Черновицы остались к юго-западу: на юге — Боян и Новоселицы; к северу — Недобоуцы и Хотин; с востока — русская граница. А посередине — Топороуцы, Раранче и Ракитна, три в буйной зелени затерянных села. Полк Азанчеева вышел к Топороуцам. Роты мигом составили ружья в козлы, растянули палатки, замаскировали их от аэропланов. Офицеры выделили дежурные части, выслали охранение, указали, где в случае появления неприятеля, выходить на позиции. В котелках закипел чай. Подъехали кухни, и выдали обед. Голова не засмеется — живот засмеется. Вечером полк поротно мылся в бане. Воду грели кирпичами. После бани развязалось солдатское веселье. Забрякали, зазвякали балалайки, пальцы без устали запрыгали по говорливым струнам.
Подари мне, молодец, Красные сапожки! Разорю тебя вконец На одни сережки!Из лесу отозвалась гармоника:
Рукавички барановые За них денежки не плаченые…На лицах — без вина пьяный задор. Подбоченясь, ходили молодые солдаты кругом, кругом, все быстрее да поворотливее и вдруг падали в присядке, с такой неимоверной частотой выкидывая ноги в тяжелых пыльных сапогах, что казалось, будто у них и вовсе нет ног, а висят плясуны в воздухе.
— Стой ты, нечистая сила!
Стодолы полны сеном. Там, звонко присвистывая, храпят солидные, обстоятельные солдаты и бьется в очко неисправимый «хлын»[16]. Два молодых офицера проходили мимо солдатского веселья. Они молчали, удрученные его видом. Действительно, откуда взялось у этих людей, наголову разбитых врагом, почти поголовно раненых, это разудалое настроение? В чем тут дело? Может быть, в недостатке гражданского чувства? Но ведь любят же они родину? Несомненно, любят. Почему же тогда горе потери Галиции, стыд превращения из победителей в побежденных — не горе и не стыд для этих солдат? И сила, и слабость их в быстрой отходчивости после неудачи. И эта война для них — словно бы не свое, родное, кровное, а какое-то чужое, хозяйское дело. Неужели проходившие мимо молодые офицеры об этом думали и понимали это? Нет, конечно. Зато Елочкин думал и уже начинал понимать, сидя на пеньке поблизости от фурманки с офицерскими вещами. Фурманка, запряженная обычно на походе о-дву-конь, нагруженная голосящей на все лады живностью, с бренчащими на подвесе с обеих сторон ведрами, была чем-то вроде походного офицерского собрания. Но сейчас она больше походила на швальню. Денщики усердно латали возле нее барские штаны, штопали носки, подбивали на сапогах развалившиеся подметки. Елочкин начинал понимать… А офицеры? Один из них, пехотный прапорщик, был здоровый малый, с рыжими усами, не раз купавшимися в зеленe вине. Другой — сапер Батуев, недавно нацепивший вторую звездочку.
— Выходит, — изрек пехотный прапорщик, — что удовольствия нужны нам, а им достаточно простого веселья, а? Впрочем, солдат пулеватый, что и говорить, — р-раз-два. Да, и вся рота у них такая…
— Не нравится мне, как солдат к нашему брату, офицеру, относится, — сказал Батуев.
— Чем не нравится? Солдат послушен: что ни прикажи, исполняет. Услужлив…
— К черту его услуги! Ему до меня дела нет.
— Не любит?
— Хуже. Ему наплевать на меня.
— Не сочувствует?
— Еще хуже. Совсем не интересуется. Интерес его при себе, среди своих. Далек его интерес от меня. Слышите: гогочут, балалайка, веселье?.. Но это пока нас с вами нет. А мы подойдем и…
— Ну, а вы старались, чтобы было иначе?
— Так и знал! Невозможно с вами разговаривать, — все об одном. Что же, по-вашему, я к ним, как беременная баба, льнуть обязан?
— Эх! — вздохнул прапорщик, — не в том беда. А главное, чтобы в тылу меньше орали «ура» и как можно меньше воровали…
* * *
Выставленное с ночи сторожевое охранение до утра просидело в кустах на соломе. Тут же, под навесом из листьев, притаился полевой телефон. В эту ночь, темную-претемную, Елочкин сочинил свое первое стихотворение. Как это случилось, трудно рассказать. Случилось так, будто огонек пыхнул, точно птица запела, словно ветер скользнул над землей. Еще из родной деревни, из степного села Несмышляевки, под Самарой, вывез Елочкин глубокое ощущение связи с природой. Где кончалась она — зелень поля, пестрота бахчей, голубые провалы глинистых логов и белые переплеты проселочных дорог, — там начинался Елочкин. А где именно? Неизвестно — и узнать нельзя.
Как природа полна поэзии, так и Елочкин полон был настроений, о которых и хочется, и не можется рассказать. Ни петербургское слесарничество, ни солдатчина не вытравили из него этой таинственной тишины. Из нее-то родился сердцем согретый, неумелый, простой, но чистый и ясный стих. Солдат, лица которого Елочкин не видел во мраке, тихонько говорил соседу:
— Коло земли живем с самого рождения, как на свет явились. Люди мы званья прямого, крестьянского. Что мы за солдаты взялись?
А другой, — Елочкин приметил его жадные, беспокойные глаза, уловил острое возбуждение в тоне и низовской говорок, — этот другой спорил:
— Войне, брат, развив для мысли нужен, а не то, чтобы размышлять о своих делах… Ты на войне о себе не думай, не ко времени. Зачем про плохое думать, не надо… Ты, брат, думай про веселое. Это я, Жмуркин, тебе говорю, а уж я знаю.
Елочкин подумал: «Этакий весельчак нашелся Жмуркин, а в роже кровинки от страху нет». Стихотворение окончательно сложилось к утру, перед сменой. Солнце взошло. Под одним из его первых лучей ослепительно сверкнула пустая обойма. Звякнул под чьей-то ногой чугунный стакан. Тише! Солдаты слушали Елочкина:
Без гробов схоронены Вы в земле сырой, Серые герои, взятые войной… На могилы ваши Не придет к вам мать, Не придет невеста Горе изливать. Разве лишь весною К вам с родных полей Прилетит случайно С песней соловей…Солдаты слушали, повесив головы. Кое у кого выбилась слезинка из покрасневших глаз. Кое-кто снял фуражку и перекрестился, глядя на солнце. Глубоко и шумно вздыхали все.
— Спасибочко… За сердце взял… Вот она и жизнь наша вся… Э-эх! Счастье — вещь такая: иного человека всю жизнь за пятки хватает, а в руки так ни разу и не дастся…
— Значит, вроде Пушкина. А я скажу: на войне от стихов один вред, господа солдаты!
Жмуркина оборвали:
— Да ты не хай, ты дело говори… А то удалось картавому крякнуть, уж и справы нет…
— Кто из нас картавый, еще видать будем!
И Жмуркин, злобно глянув на Елочкина, махнул рукой и отвернулся…
* * *
Опытный кадровый офицер Азанчеев твердо держался того взгляда, что русского солдата необходимо держать за глотку, чтобы он стоял смирно и держал руки по швам. В Топороуцах кипела учебная работа. Если не стойка, не отданье чести и не рассыпной строй, то прыжки и бег. Если не бег, то повороты или ружейные приемы. Перебегали, кололи, ложились, ползали, бросали гранаты, быстро надевали противогазы, подкрадывались в них к воображаемому врагу, несли сторожевое охранение на месте, на походе. «До чего дошло, — хрипели солдаты, — ни на час облегчиться не дают!» Особенно ненавистны были им ротные ученья — маршировки и захождения. «Узнают австрийцы, что у нас ноне ротное, враз утекут!» На этих учениях часто бывал сам Азанчеев и сам же учил, до визга поднимая едкий, крикливый голос.
— Рота, шагом… марш!.. Тверже ногу, головным — дать темп. На носок!
И все-таки:
— Ноги нету! Гонять буду! Рота, кругом! Плавно колыхается рота. «Скачи, враже, як пан скаже!»
— Р-р-рота, сто-ой!.. Оправиться! Песенники, выходи!
Фельдфебель подхватывал басом:
— Становись, песенники, по голосам. У круг!
…Наконец, бесконечная полоса трудовых будней оборвалась: пришел день полкового праздника, один из тех прекрасных летних дней, когда невозможно не вспомнить о том, что есть на свете человеческое счастье. Нежный утренний туман еще лежал на далеком лесе, но за деревьями уже чувствовалось солнце. Легкий пар поднимался от травы. Хотелось встать и идти по свету. Куда? Все равно, лишь бы идти, идти… Солдаты чистили одежду. Потом им роздали по фунтовой булке, по дюжине конвертов, по десяти штук печенья, чаю, сахару и сухарей. Представленные к наградам отправились в батальонный штаб, и Елочкин тоже пошел: он был представлен за спасение Лабунского в минной галерее к георгиевскому кресту четвертой степени.
Азанчеев намеревался поразить в этот день начальника дивизии, представив ему свой полк и показав, чего можно при желании и уменье достигнуть за самый короткий срок даже с второочередными «михрютками». Для этого он выписал компасы, бинокли. Для этого с утра до ночи обучал «михрюток» ориентироваться и поддерживать связь в лесу. Делал вьюки и патронные ящики для пулеметной команды. Сформировал учебную команду в сто человек. В полку почти не было офицеров. Азанчеев прикинул: восемь подпоручиков и прапорщиков — восемь командиров рот. Он подумал, подумал и, отдал приказ о сведении рот — по две в одну.
Полк был выстроен на большой сельской площади в Раранче. Горбоносый конь Азанчеева стоял за углом. Азанчеев скомандовал: «На караул!» и принялся равнять штыки, и приклады.
— Доверни приклад! Разверни приклад! Левую руку чуть пониже, пальцы прямее!
И вдруг до пронзительности тонким голосом:
— Вздрючу! Так вздрючу, что фамилию свою, поручик, забудете!
Черное рогатое облако выплыло из-за леса. И одновременно что-то громко захрапело в небесах. Судя по певучести храпа, это был цеппелин, но, вероятно, где-нибудь очень, очень высоко. По шоссе из Буды, где стоял штаб дивизии, примчался на мотоцикле ординарец связи. За ним ехал генерал.
— Полк, смирно! Равнение на средину! Под знамя, слушай на кр-раул!
Генерал ехал на маленькой казачьей лошади, такой же рыжей, как и он сам. За ним — штаб и охранная сотня чубатых донских казаков. Все это двигалось легким проездом, иноходью.
— Здорово, ребята!
— Здравия желаем, ваше псхительство!
Освободившись от наездника, генеральская лошадь стала рядом с полковничьей, грустно опустив голову и хвост, как бы угнетенная красотой соседки. Да и сам генерал возле молодцеватого Азанчеева выглядел порядочным вахлаком. Толстый адъютант держал большой лист голубой бумаги, на котором кучкой лежали предназначенные к раздаче георгиевские кресты. Азанчеев по списку вызывал награждаемых. Генерал спрашивал каждого, кто он, за что награждается и как действовал в бою. Затем вручал крест, солдат повертывался и отходил на свое место. Елочкин ждал, когда Азанчеев произнесет его фамилию. Георгиевский крест… Было в этом значке нечто, за что цеплялись люди. Твердо знал теперь Елочкин многое, чему раньше не верил, — знал, например, что война эта — преступление богачей перед народом, а подвиги ее — безжалостно вылитая в мертвую землю живая человеческая кровь, — но и он цеплялся за таинственную приманку георгиевского креста. Крепкие ноги его дрожали от волнения, во рту было сухо, нетерпеливым ожиданием заполнялась грудь. Солдаты подходили к голубому листу бумаги и отходили; кучка крестов все уменьшалась и уменьшалась. Что же это такое? Еще один… Еще… Какой-то жаркий холод прихлынул к Елочкину. Голова его пылала, а сердце сжималось в леденящей тоске. Все…
— Полк, к но-оги! Вольно!
А уж дальше, как положено:
— На пле-ечо! Рота, на-пра-аво! Рота, на-ле-во! Шагом ма-арш!
Роты одна за другой исчезали за церковью, за садом, втягиваясь в колодцы глубоких улиц. Площадь в Раранче пустела. Унтер-офицер повел награжденных в полковую канцелярию.
— Пьявойней! Пьявойней! — распоряжался толстый адъютант.
Елочкин подошел к нему.
— Что надо?
У адъютанта было лицо злого мученика, который еле удерживается от крика: «А идите вы все к черту! Оставьте меня в покое!» Елочкин доложил. Адъютант пожал плечами.
— А, впьечем, помню. Какие-то стихи… Мутишь солдат, мейзавец! Па-ашел пьечь!
Люди толпились у дымившихся кухонь. Раздавался обед. Говорили, будто предстоит выдача сапог, — по семьдесят две пары на роту. Новые георгиевские кавалеры получали особые гостинцы: кусок колбасы, булку, плитку шоколада, по два яблока и по батистовому платку. Кто-то посмеивался:
— Два Егора в году, холодный да голодный…
Некоторые утешали Елочкина:
— А ты погоди, разберутся. Штабы у нас такие…
Дела не делают, а все больше, как бог даст.
Ругали толстого адъютанта:
— Качество в нем самое неважное… дрянь человек!
Кто-то говорил довольно улыбавшемуся Жмуркину:
— Стоим здесь второй месяц, а дальше ротных учений да ходиков в тыл — ни-ни!
По окопу немец шкварит,
По сусалам взводный жарит…
Вовсе осатанел. Не знай чего с кулаком лезет… Такой Гусь Иваныч, бе-еды!
— Не тем плох, что ругается да дерется, а тем, что душа у него из одного мата состоит…
Кто-то заключил:
— Эх, язви их в душу!..
Известно, что самое любимое время солдатских разговоров — вечер после ужина. Стучат молотки по сапожным подошвам. Распадается на куски краюха ситного. Проверяется на огонь канал ствола только что вычищенной винтовки. Пишется письмо в далекую Россию. И тянется невеселый разговор.
— Ну, что уж тут, конечно, делать? Я ему и говорю…
— Эй, кто там есть? Посылай взводного к фельдфебелю!
— Ишь, черт хвостатый! И досказать не дал!
Тянется разговор.
— Жизнь наша, прямо сказать, арестантская! Встамши, богу помолиться и то — некогда…
— А зачем нас кладут? Тут ошибки нет. Тут, чтобы крест или чин получить, кладут.
— И еще господа офицеры наши только спят, да по семь рублей в сутки получают!
Небывалая тоска сгущалась сегодня в Елочкине от этих разговоров. Он не участвовал в них. Доведись кому спросить: «А ты что молчишь?» — и он бы ответил: «Эх, ты, беззащитный, безоружный, убойный фронт!» Но не спрашивал никто. И Елочкин раздумывал о самом себе: «Ну, и жизнь, нечего сказать, — жизнь! Вспоминать горько, а ждать скучно. Велик мир, да прислониться негде…» От вспышек внутренней тревоги зажглась в нем злость. Жалок человек, когда не дается ему в руки ключ к собственному будущему. Мечется такой человек, точно пчела укусила его в голову. «Беззащитный, безоружный, убойный человек!..»
Глава восьмая
За окошками избы бормотал дождь. На дворе едко скрипела и хлопала под ударами ветра незапертая калитка. Где-то далеко, далеко ревела корова.
— Выезжать надо пораньше, — с вечера сказал Романюта заплаканной жене, — скотину в поле погонят, и выезжать…
Так и было сделано. И вот туман висит над рекой и над полем, над кудрявой ботвой картофельных гряд.
Он всасывается в ботву, и под его влажными прикосновениями она становится бледной и неживой. Кругом пусто и мертво. Только мельницы, раскиданные по горизонту, испуганно машут крыльями. Холодно. Жесткие тучи облегли небо, колючий ветер гнет к земле бурьян. Даль сумеречна и неприветлива, бесцветна и скучна. По сторонам дороги — овраги и промоины. Звонко трещат неломкие оглобли. Жалобный плач оставшейся дома дочурки стоит в ушах Романюты, преследует, не дает покоя, как боль от ноющего зуба. Брат Иванчик говорил давеча, прощаясь: «Одни воют, другие воюют…»
Романюта ехал воевать. Тяжкая рана его «обошлась»: два месяца госпитальных страданий и еще три месяца деревенской поправки искоренили все ее следы. Романюта получил отпуск и приехал домой в самую крутую, рабочую пору. Необъятное, неопределенное, смутное, бесконечное, тихое и величественное, печальное и спокойное — словом, то, что составляет неизъяснимую прелесть деревни, разлилось вокруг Романюты, захватило его, растворило в себе, и он почуял всем существом, как входит в него привычная сила. Но случилось это не сразу. С неделю по приезде он не видел ни солнца, ни леса, ни речки, ни лога, с оползнями красной глины на скатах обеих сторон, ни поля, взволнованно звенящего золотом спелого, полного, ровного, с нетерпением ждущего своей уборки зерна. А потом вдруг замер перед всей этой величественной и чистой красотой. Затаив дыхание, он глядел по вечерам, как разгорается на потемневшем небе зарево далекого пожара, и красный месяц поднимается из-под земли. Часами слушал по ночам, как где-то за логом, за речкой, за полем скрипит упоенный радостью жизни дергач. И тогда, постепенно, начала входить в Романюту сила. Жена не сводила с мужа темных, сияющих счастьем глаз. Все, что она делала или говорила, было для него, для мужа. И он ясно представлял себе свою Марильку в одиночестве и тоске: незаметная, тихая, похожая на домашнюю утварь, которую позабыли вынести из горницы. Одна из первых новостей, услышанных Романютой по приезде домой, относилась к соседке-солдатке: «Молочка попила и затяжелела…» Да, уж о его солдатке никто такого не скажет! Повторялось раз пережитое: Романюта и высокая, стройная Марилька по часу простаивали средь бела дня между капустой и морковью и, если никого поблизости не виднелось, целовались до одури. А то лежали в горохе, жуя стручки и радостно удивляясь сладости их зерен. Марилька не сразу отвыкла жаловаться. «Голы, босы…» — начинала она. Но брат Иванчик рассказывал: «Как войну зажили, народ одеваться стал. Уж на что Витуш, а и тот сапоги надел. Вот до чего! Говядина, правда, подорожала. Да мы и без говядины проживем — был бы хлеб. Однако урожай бог послал, — рожь, овес, травы — все хороши. Самое разлюбезное дело, как есть что посеять, да еще и уродится…»
Привычная сила входила в Романюту.
— Чего делать?
Чаще всего почему-то приходилось ему рубить дрова. Соседи любовались его могучей ухваткой, завидовали легкости его колуна. Нарубив дров, он прилежно укладывал их красивой и ровной поленицей вдоль стены сарая. Потом затыкал колун за пояс, гладил сладко нывшую поясницу и незаметно тянул носом. Сарай был полон острого и свежего соснового духа. Струя этого духа била в ноздри, отчего в них возникала приятная щекотка. Крутые завязки розовых сучьев и нежно-белое тело гладких поленьев обещали крепкий жар в марилькиной печи, красный пыл на ее щеках, темные вечера и ночи в скорую осеннюю непогодь.
— Холодам навстречу, — говорил Романюта с удовольствием и не спеша уходил из сарая.
И все это кончилось: и работы на поле, и разговоры с Иванчиком, и марилькины поцелуи, и веселая, суетня с пятилетней дочуркой, и дрова. Все кончилось. Романюта ехал на станцию, — не мог не ехать, — и даже погонял лошадь, не оглядываясь, чтобы не видеть милого, искаженного болью, лица, Марилька сидела в телеге и неслышно плакала.
* * *
Пути всех станций, пропускавших эшелон, в котором ехал Романюта, были заставлены красными вагонами. В вагонах — солдаты. Они стояли, сидели. Их было так много, что казалось, будто на целом свете уже не осталось никого, кроме солдат.
В теплушке было полутемно. Сколько в ней сбилось народу, не сосчитать. И почти всякий что-нибудь говорил. Сначала Романюта не слушал, так как был совершенно захвачен своими собственными мыслями. Грозный ночной бой, тяжелая рана, неслыханная распря с капитаном Заусайловым и, наконец, удивительное возвращение к жизни и здоровью — все это странно подействовало на Романюту. Теперь, когда он по опыту знал, что такое «пролить кровь», военная служба уже не разъединяла в его сознании войну и дом, а, наоборот, связывала их на необходимости спасать самое дорогое, что есть у человека, — семью и дом. А в том, что для защиты дома под Кайдановом приходилось проливать кровь под Перемышлем, он не находил ровно ничего необыкновенного. От тряски теплушки, от густого духа и махорочных облаков его мозг несколько затуманился, но главное оставалось ясным: надо грудью становиться за Марильку, за дом, за деревню. И, как ни дорого все это было ему, он ехал от Марильки, от дома, гордясь своим долгом и забывая о своем горе. Постепенно Романюта начал прислушиваться к гудевшим вокруг солдатским разговорам. Далеко не все его спутники смотрели на дело так же, как он.
— Загребет твою душу страх, — ложись наземь и жди, покамест вовсе не ухрястнет!
— Такой науки быть не может, чтобы без патронов, винтовок да пушек воевать…
— Ничего… В Петрограде, слышь, забастовки. Авось, и мир недалечко…
— Если, солдаты сами не замирят, не быть миру…
— Сперва победить надо, — сказал кто-то и, закурив, обнаружил себя: полевой жандарм.
— Че-его? Иди, побеждай, коли охота. А то на тыловой службе сидишь, поползень!
— Ах, ты… Да как ты этакое говорить смеешь? — вскипел жандарм, — я верный слуга царев и того спустить не могу. На первой же остановке протокол составлю и по закону…
Теплушка заревела:
— Никак он, дармоед, и впрямь человека за правду сгубить грозится. Чего на него глядеть. Швыряй его в окошко, сатану бесхвостую!
И в темноте было видно, что жандарм побелел.
— Родимые, я для шутки… А нам-то война не надоела, что ль? Сыновья-то у нас стражаются…
— Ну, то-то, так-пере-так… И без победы к миру идет. Ноне в газетах от верховного ни слуху, ни духу. Видать, немцы опять всыпали нам. На долго не рассчитываю…
— Кончится война — пойдет ревизия…
— Что за ревизия?
— Землю равнять.
— А как немец отберет, так и равнять нечего будет. Сила!
— Против силы терпенье бывает. Терпеньем любую силу можно обессилить.
— Потерпели — будя! Хватит…
— Замытаренные мы все! Вот что!..
…Романюта — лесной человек. Как бывает задумчив лес, так и он любил погрузиться в дремучую тишину мыслей. Как пробирается сквозь чащобу человек, а за каждым шагом на след его валится гулкое эхо, так и мысли Романюты тянулись, тянулись своим глухим путем. И возникло в нем то самое чистое, светлое, восторженное настроение, на котором он с твердостью укрепился в деревне и которое вывез нерушимым из дома. Но тут, в пути, сразу ударила по этому настроению крикливая многоголосица совершенно по-иному думавших людей.
Романюта слушал и дивился.
Вечером, на станции, состав опростался, и паровоз увел теплушки. Перрон покрылся сотнями людей в шинелях и со скатками. В буфете третьего класса была несусветная толчея. Однако Романюте удалось купить фунт ситного да полдюжины огурцов. Какая-то женщина продавала в стороне вишни. Он купил у нее стакан за три копейки. В это время закричали:
— Иди грузить платформы!
Грузить надо было ящики со снарядами, шедшие из Москвы на фронт. На ящиках красовалась горделивая надпись: «Снарядов не жалеть». Солдаты говорили: «Это к миру, — как раз!» Началось с неразберихи. Но потом дело пошло, и снаряды погрузили довольно живо. Тут опять закричали:
— Иди садиться!
Новый состав, готовый под посадку, уже стоял по другую сторону платформы. И какие только свиньи готовят эти составы! Теплушки не выметены, не проветрены. Ни фонарей, ни печек. В каждую запихивалось по тридцать человек. Многие не спешили запихиваться. У вагона шла торговля: солдаты продавали казенное белье. Какие-то люди в картузах втихомолку забирали товар, — за пару белья с полотенцем платили семьдесят копеек. Наконец, появился один офицер, другой, — безобразие кончилось. Солдаты прыгали в теплушки, и теснота увеличивалась. На нарах негде было присесть.
— Вот как нас понимают, — со злобой говорили солдаты, — хуже собак считают…
Поезд отошел без звонка, как и все военные поезда; Колеса застучали, теплушка замоталась, запрыгала. И сейчас же вспыхнул разговор.
— За что воюем? Что защищаем? Другие блаженствуют, а нас калечат…
Романюта попробовал поднять голос:
— Дом свой защищаю… Поле своё…
На него зацыкали:
— Герой с дырой!
— Только кровь себе портим, здоровье теряем, да жизнь, где ни попало, оставляем, — вот и все. Внушают: защищай родину. А что такое родина — неизвестно. И никакой у меня в душе теплоты к защите нет. Родина — где бываем рождены. У меня на действительной родине тоже есть шестьдесят сажен земли, я что в ней? Всю жизнь заживаю кусок хлеба на стороне. А за свой труд вознаграждение получить безразлично — с кого угодно. Уже все из веры вышли, что это не война, а просто истребление народа. А если войну не Россия начала, так защищаться надо, а не лезть в Пруссию, да в Карпаты, — миллионы легли. То лезли, а теперь бежим без штанов тысячу верст. Да нам и бесполезно: если что взяли у неприятеля, все равно не наше будет, а казенное, да у помещиков…
— Плывет монархический строй на золотом корабле буржуазии по морю…
— По какому морю?
— По безбрежному морю крови и народных слез! Революция…
— Обожди! Не может революция во время войны быть. Надо победы ждать. Тогда…
— А ты, брат, не прорицай! Ты кругом посмотри. Не видишь, что делается? Революция-то ведь в самой близи!
Долго еще спорили два голоса. И никто не встревал в их спор — все молчали.
И Романюта молчал. Он плохо понимал, о чем идет речь. Но разум его был встревожен, и сердце болело в тоске.
Скатка Романюты замокла под дождями, засушилась под ветром и стала тяжелая и твердая, как хомут. Поэтому, когда на этапе в Киеве после трех перекличек стали опрашивать, кому что надо, он заявил: котелок, бумагу, вещевой мешок и шинель. Повели в цейхауз. Выдачей заведывал какой-то подпрапорщик и ругался, но не просто, а в азарте яростного, все растущего остервенения, — ругался, приходя в бешенство и неистовствуя. Романюта всей душой осуждал подпрапорщика за этакую ругань и совсем было загрустил, когда получил на руки рваную австрийскую сумочку, в которую и не положишь ничего, австрийскую чашку взамен котелка, для кипячения чая негодную, а для варки обеда лишнюю, и стеклянную баклажку на стакан.
— Черт те что, — говорили солдаты, — надо будет дорогой барахло это выбросить…
Однако почти все успокоились, получив на каждого по шинели, по паре сапог и белья, по полотенцу и носовому платку. Некоторые хвалились.
— Второй раз за неделю получаю…
— А первую получку куда девал? — спросил Романюта.
— Куда? Продал.
— Негодяй, брат, ты!
— Ничего подобного! Есть повыше — те сотни тысяч рублей воруют, а мы рубли. Великое дело! Пипин… Короткий!
И был таков. Кто-то из слышавших конец спора подступил к Романюте с расспросами:
— Страсть какая! Что ж это он тебя назвал-то как? Пипин… Короткий еще, Пипин-то… А ты — верзила, дай бог. Больно нехорошо. А? За что же это он так?
Вмешались еще двое.
— Пипин Короткий, — повторил один с невольным удивлением, — хм!.. Черт его знает, что это такое! Может, костюм женский, а может…
— Скорей всего, поганое что-нибудь! — догадался второй, — и повторять не стоит!
И оба захохотали.
Управление киевского этапного коменданта находилось неподалечку от станции и расположено было в каменном двухэтажном доме с фасадом на улицу. Двор дома, тротуар перед ним — все было занято солдатами. После отгремевшей ночью грозы с ливнем и двор и тротуар представляли собой кисель из луж и грязи. Сидя и лежа в этой грязи, солдаты ждали обеда. Но старшие команд вместе со списками куда-то исчезли. Заструился тихий, частый дождик. В воздухе повисли проклятия и брань.
— Стройся на обед!
Старшие так же неожиданно появились, как и пропали. Начали строить и перестраивать. Уже с полчаса прошло, и дождь затих, а возня продолжалась.
— А ну их к ляду и с обедом ихним!
Обед был от Красного креста — не то каша, не то недоваренный борщ с крупой, по три куска сахару, да к чаю белые сухари.
Эх, тальянка,
Медна бланка,
Громки, звонки голоса…
После обеда опять сидели и лежали в грязи на дворе комендатуры. И опять старшие скрылись. Начало темнеть. Подпрапорщик местной команды появился на минуту, приказал запереть ворота и пропал. А где спать-то? Романюта огляделся. Все сухие места на дворе были уже заняты спящими. Не в лужу же плюхаться? Не стоя же спать? Кто-то нашел выход:
— Да чего думать! На чердак к коменданту вали, — места сколько хошь, и сухо под крышей…
Где-то отыскалась лестница. Ее приставили к стене, и один за другим начали нырять под крышу через слуховое окно. Нырнул и Романюта. На чердаке действительно было прекрасно. Но говор — теперь уже веселый — не утихал.
— Ось, годи вам балакать, давайте краше спать. Завтра побачимо, що буде!
Романюта раскатал шинель, снял сапоги, положил их под голову, а ноги обернул шинелью и заснул.
* * *
В управлении киевского этапного коменданта Романюта узнал, что его полк находится не на фронте, а занят укреплением тыловых рубежей близ Бердичева и стоит в местечке Шендеровке. Итак, путешествие Романюты заканчивалось. Он бродил по станционной платформе, ожидая поезда на Бердичев. Запасливость уже несколько раз заводила его в буфет. В вещевом мешке аккуратно разместились белый хлеб, сахар, яблоки и пирожки с мясом. Часа через два что-то забегало, сердито забурчало в кишках — голод. Романюта отошел к краю пассажирской платформы, где начинались пакгаузы, и, выбрав местечко поукромнее, открыл вещевой мешок.
Он уже доканчивал пирожок, когда услышал раз-говор двух офицеров, стоявших к нему спиной. Они тоже долго ходили по платформе, а затем, подойдя к ее краю и не обращая ни малейшего внимания на застывшего с пирожком в руке солдата, остановились и продолжали разговор. Хотя их было только двое, но один из них, поручик, говорил так, будто обращался ко многим людям сразу:
— Кончать, господа, надо, кончать… Если нельзя дальше, надо кончать. Пятого, после геройской защиты сдан Осовец. Шестого с позором отдали Ковно, десятого потеряли Новогеоргиевск, а теперь — Брест. Черт знает что! Как получилось с Брестом?
— Комендант созвал Совет обороны. Совет постановил: «Хотя запасы крепости рассчитаны на шесть месяцев, но при расчетливом расходовании их крепость может продержаться и восемь месяцев. Необходимо лишь возвратить ей ту часть артиллерийского и инженерного имущества, которая была разновременно вывезена из крепости по особым приказаниям, под Перемышль и в Ивангород». Комендант с этим постановлением — к главнокомандующему фронтом.. Ответ: сдать Брест. Он — в ставку верховного. Я сам видел, как рыдал генерал. Ответ: сдать Брест.
— Да почему же?
— Не верят ни в какой успех. Ждут только провалов. Потому боятся вынужденной капитуляции и предпочитают добровольную сдачу. Уж и доказывал генерал и в грудь себя бил. Но с тех пор, как ставка верховного переехала из Барановичей в Могилев, это там ни на кого не действует… Погиб Брест!
Офицеры повернулись и пошли опять шагать по платформе. Пирожок выпал из руки Романюты. Он стоял, широко раскрыв глаза, и беззвучно повторял: погиб Брест! Все, что Романюта слышал и видел по дороге от дома до Киева, как бы составило сейчас собой внутренний смысл и главное значение этих двух слов: погиб Брест. Кажется, никогда в жизни не испытывал Романюта такой смертельной тоски. Случалось ему глубоко тосковать, но горечь этого чувства никогда не достигала силы, с которой оно охватило его теперь. Вместе с Брестом вдруг рухнуло гордое и светлое настроение, вывезенное им из дома, и осталось… Что? Летели журавли… Их было много — несколько сот. Они, вероятно, совсем еще недавно были в пути. Их отряды строились, перестраивались, обгоняли друг друга и отставали, широко и беспорядочно захватывая пространство. Только впереди уже успел образоваться небольшой, строгий треугольник, мерно и уверенно рассекавший воздух великолепными взмахами крыльев. И трубные, чистые звуки оглашали воздух… Это, одно лишь это осталось. Романюта опустил голову и тихо заплакал. Долго стоял он в жалкой позе отчаяния, неподвижный как столб. Мог бы и еще долго стоять так, если бы звонкий женский голос не вырвал его из этой бездны.
— Солдатик! У вас вещей вовсе мало… Не поможете?
Перед ним стояла девушка с большими и прозрачными серыми глазами, с огромным узлом густых темных волос под легкой соломенной шляпкой, тоненькая, хрупкая, нежная, похожая чем-то на сестру милосердия, но не сестра. На шляпке — вишни; модный тёмнокрасный костюм и коричневые полуботинки. Романюта вздрогнул и очнулся.
— Да что это с вами? — воскликнула девушка.
Что? Романюта не знал. Лишь по взгляду больших глаз девушки, испуганно устремленному прямо на его лицо, он не столько понял, сколько догадался, и смущенно смахнул слезы со щеки.
— Что с вами, милый? — участливо спрашивала девушка, — о чем это вы?
Действительно, о чем? Но именно потому, что Романюта никогда до сих пор не видел этой девушки, и, вероятно, никогда больше не увидит, ему вдруг захотелось ответить на ее вопрос. И он не стал искать для ответа слов. Они нашлись сами.
— Конец пришел русской славе, барышня…
Подали поезд. К этому времени многое выяснилось. Девушка, как и Романюта, ехала в Шендеровку. В Шендеровке служил, укрепляя киевские рубежи, ее брат, саперный прапорщик. Она мечтала с помощью брата стать сестрой милосердия и попасть на фронт. А зовут ее Лидией Васильевной Опацкой…
Когда Романюта втаскивал в вагон чемоданы своей спутницы, он заметил стоявших на площадке офицеров — тех самых, от которых услышал про Брест. Один из них говорил другому:
— Утверждать не берусь, что вы ошибаетесь. Может быть, надо кончать. Но эта правда ваша какая-то… нехорошая.
— То есть?
— Бескрылая, несвежая, некрасивая. А потому и поверить в нее я все-таки никак не могу!
* * *
За боевое отличие при отражении мартовской вылазки из Перемышля Карбышев был представлен к чину подполковника. Дело с представлением шло медленно. Все лето Карбышев состоял в прикомандировании к инженерной группе генерала Велички, возводившей позиции между Радзивилловом и Городком. Осенью генерал Опимахов, назначенный начальником работ по укреплению тыловых рубежей фронта под Киевом, перевел его к себе. На киевском рубеже было три производителя работ; один из них — Карбышев. К этому времени фортификационный опыт Карбышева, завоеванный в Маньчжурии, упроченный в Бресте, чрезвычайно вырос и обновился. Вся техника оборонительных работ была теперь у него, что называется, в кармане. Никакие расчеты больше не затрудняли его. Но главное заключалось в другом: он сумел не растеряться в широком многообразии общих явлений, из которых в течение лета складывалось на его глазах превращение громадной маневренной войны в гигантскую позиционную. Ему удалось оседлать внезапность и взять случай в повода. Каким образом? Наблюдая происходящее, он ясно видел, как меняются приемы инженерной обороны в соответствии с характером военных действий. Тактика как бы вытекает из техники; но вместе с тем она ставит задачи технике. Уловив эту сторону дела, Карбышев старался приподнять свои технические решения до уровня понимания общетактических задач. Ему было ясно, что это лучший способ предохраниться от ошибок. Кроме того, это было так интересно, что временами Карбышев всерьез задумывался: «А не перейти ли мне в пехотные войска?»
Величко твердил: «Приспособляйте леса и деревни к обороне… И отсеки… Как можно шире используйте систему отсеков…» Что это, техника? Карбышев понимал иначе. «Не делайте козырьков по всей длине окопа, — учил Величко и добавлял: — Сплошные козырьки — преступление». Техника? Н-нет… Сплошные козырьки — в противоречии с тактикой оборонительного боя: они срывают организацию контратаки, когда противник уже дорвался до окопа. Солдаты забились под козырьки. Может быть, и достало бы в них порыва, чтобы выскочить со штыком на бруствер, да помешает козырек. Порыв непременно иссякнет на сложном маневре: выпрыгнуть назад, повернуться вперед. Карбышев знал, что такое контратака, и судил о козырьке не по-инженерски лишь, а еще и тактически. «Второй линии укреплений надлежит быть позади первой на сто пятьдесят — двести шагов». Почему? Откуда взялась эта техника? Карбышев видел за ней бой. Двести шагов пробега по прямой — не больше минуты; посылка подкреплений, подача патронов — тоже. И так — все. Третья линия расположения резервов — позади второй на восемьсот — тысячу двести шагов… Укрепленная полоса из трех линий — около версты в глубину, то есть опять-таки тысяча шагов… За всеми этими техническими выкладками для Карбышева стоял бой, и выкладки оживали в его воображении, как батальоны и полки на поле боя.
По наружности киевский рубеж возводился очень солидно. Хороший укрепленный рубеж должен состоять из двух полос, по три линии окопов в каждой, с ходами сообщения. Вторую полосу следует удалять от первой на шесть-восемь верст, чтобы наступающий противник не мог просто переносить свой артиллерийский огонь с первой на вторую полосу, а вынужден был перемещать батареи на новые позиции и заново налаживать наблюдение. Так это и делалось. Опорный пункты; промежуточные окопы; перекрестный обстрел подступов к промежуткам; убежища от навесного бомбового огня; подбрустверные блиндажи в окопах для отдыхающих частей; козырьки с бойницами… Профиль окопов — уставной, полный… Блиндированные наблюдательные пункты для артиллерии… Ежи для закрытия оврагов… Двухсаженные рогатки… Все это делалось, строилось, было. Генерал Опимахов приезжал смотреть карбышевские сооружения, ходил по блиндажным накатам, вынимал шашку из ножен и пробовал проткнуть ею накат. Но бревна накрывались в несколько рядов, и шашка застревала в земляной насыпке. Опимахов любовался густо заплетенной сетью проволоки: — он неизменно бывал доволен. А Карбышеву казалось, что генерал ломается, балаганит. Не мог же, в самом деле, старый вояка не понимать, что тяжелая артиллерия способна за час развалить все эти блиндажи; не мог не видеть, что законченная форма позиций — феерия, так как убежища плывут от дождей, грунтовая вода отовсюду выступает, и окопы разрушаются на глазах. Однако поля вытаптывались, леса вырубались, и генерал Опимахов крепко жал руку Карбышева своей огромной ручищей, благодаря отборными словами…
…Работы велись строительными дружинами Земгора из вольнонаемных. Мужики окрестных деревень рыли, копали, возили землю, настилали пути. На версте укрепленной полосы ежедневно трудилась тысяча человек. На каждые двадцать-тридцать верст назначалась для инструктажа саперная рота. Близ местечка Шендеровки, где жил Карбышев, стоял в землянках пехотный полк, выведенный с фронта в глубокий резерв для приведения в порядок. Полк этот без отказа уписывал жирные щи и густую, «прочную», кашу, учился, пополнялся и помогал укреплять рубеж. Здесь Карбышев встретился с только что выздоровевшим после перемышльской раны командиром батальона, подполковником Заусайловым и стал частенько наведываться в полк. Карбышева тянуло к пехоте. Эту тягу он называл «строевитостью». И пехотные солдаты ценили в нем веселое слово, острую шутку. Шендеровка — маленькое еврейское местечко, неподалеку от Звенигородки. Кругом — плоские поля и мелкая поросль, — нудно! Были тут раньше дубовые, грабовые рощи. Но и дуб, и граб порублены, свезены на рубеж. В самом местечке — еще скучнее. Расползаются по огородам старые хаты с тусклыми, незрячими окнами, с шаткими ступеньками провалившихся крылец. Зелени — мало, почти нет; только вдоль левад кое-где торчат отдельные ивовые деревья. Зато пыль тучами клубится над Шендеровкой. Карбышев жил в большой крестьянской хате. Все, что было в его горнице на четырех ногах — кровать, стол, почему-то казалось трехногим, — плясало. Чемодан — у одной стены, рукомойник — у другой. А больше в хате и не было ничего. Однажды в жаркий, хоть и безветренный, но удивительно пыльный день Карбышев возвращался с работ в Шендеровку пешком. Дорога была хорошо нахожена и наезжена, так как по ней ежедневно ходили из обоза второго разряда повозки о хлебом и продовольствием для пехотного полка. Легко и скоро шагая по обочине, Карбышев и не заметил, как вошел в главную улицу местечка — серую, пустую, скудно приукрашенную блеклой рыжей зеленью. Навстречу ему медленно двигался санитарный отряд — пароконные фургоны, открытые спереди, с огромными красными крестами на глухих сторонах, верховые и пешие санитары с белыми повязками на левых рукавах. Какая-то, тяжко нагруженная, фурманка увязла в рытвине и лошадь, как ни старалась, не могла стащить ее с места. Санитары ругались, махали кнутами, — фурманка не подавалась. Кроме Карбышева, за этой сценой наблюдали еще два человека — солдат и девушка. Солдат тащил на плече чемодан своей спутницы. Это был высокий, плечистый ефрейтор с георгиевской медалью. В его широком, добром лице и фигуре было что-то знакомое Карбышеву. Что? Карбышев успел заметить, но подумать и вспомнить не успел. Девушка… Смуглое, нежное личико под легкой соломенной шляпкой с вишнями, копна темных волос на затылке, большие, удивленно глядящие глаза… Да откуда же могла появиться в Шендеровке эта девушка? Солдат поставил чемодан на траву и шагнул к фурманке. Санитары заголосили, задергали вожжами, лошадь налегла на хомут, солдат подпер фурманку сзади, и она пошла. В эту минуту Карбышев узнал солдата. Но солдат и девушка уже уходили. Странные вещи бывают на свете… Солдат и девушка уходили, а Карбышев все еще стоял на месте, как будто предвидя дальнейшее. Он стоял и смотрел вслед уходившим, когда девушка вдруг оглянулась. Глаза двух людей, никогда до сих пор не видавших друг друга, встретились в немом поиске. Девушка тотчас отвела взгляд. Что в нем было? Описывая подобный случай, Гюго говорит: «В нем не было ничего — и было все. Словно сверкнула неожиданная молния… У каждой девушки бывает день, когда она так глядит. Горе тому, кто тут случится». Будущее приоткрылось и закрылось. Девушка уходила. Но Карбышев не только не мог уйти, а и на месте устоять ему было уже не под силу. Его маленькая, жесткая, сильная фигура напряглась, застыв в еле сдерживаемом порыве.
— Романюта!..
…И вот Романюта радостно улыбается, а Лидия Васильевна изумленно, несколько исподлобья, смотрит на быстрого офицера.
— Вы сестра прапорщика Опацкого? — спрашивает Карбышев, — его сестра?
От скоропалительности черные усики прыгают. Но блестящие глаза, не мигая, глядят на девушку, — глядят, и проникают в ее удивленную душу, и располагаются в ней, как дома. «Почему он такой… решительный?» — думает Лидия Васильевна.
— Вы приехали к брату? Вот так номер!
Призванный из инженеров путей сообщения, прапорщик запаса Опацкий служил в Шендеровке младшим производителем работ.
— Почему номер?
— Да ведь вашего брата уже нет в Шендеровке.
Он уехал отсюда две недели назад…
— Как? — воскликнула Лидия Васильевна, — куда?
В ее задумчивом, тихом голоске звенел жестокий испуг; нота отчаяния звучала в нем.
— Куда же он уехал? Надолго?
— Совсем. Окончательно. Опацкий перевелся в Одиннадцатую армию. Бежал. Почему бежал? Целая история… очень смешная. Я вам потом расскажу, только не тревожьтесь, бога ради, — уверяю вас, вы будете смеяться…
— Может быть… Но что мне теперь делать?
— Отдохнуть. Прежде всего — отдохнуть. Романюте надо в полк, а вам… отдохнуть. Помнишь меня, Романюта?
— Как себя забыть…
— Отлично. Мы с этим солдатом из Бреста, Лидия Васильевна. Я перестраивал в Бресте форт. И, представьте, когда немцы подошли, мой форт трое суток отстреливался, пока весь гарнизон не ушел… Идемте!
Романюта хотел ухватить чемодан, — Карбышев опередил его.
— Вообще в Бресте происходили поразительные вещи. Один полковник поехал осматривать позиции. А шофер увез его на машине прямо к немцам и сдал со всеми документами. Как вам нравится?
— Ужасно! — сказала Лидия Васильевна, — просто ужасно! Нет ни пристанища, ни…
— Как нет? — воскликнул капитан, — все есть. Рядом с моим домом живет столяр. Топит печку стружками — благодать! Это и будет ваша квартира. Правое плечо вперед, Романюта!
— Квартира?!
— Ну, да… Ваша квартира. Ваша.
Они уже довольно давно шли, все трое, — туда, куда их вел Карбышев. Зазвонили к вечерне. Неслышно облетал лист с деревьев — с золотых лип и берез, с красных осин. Длинные белые нити паутины плавали в прозрачном воздухе, цепляясь за кусты, торчащие вдоль дороги. Стаи ласточек реяли так высоко, что глаза еле-еле различали их. Галки бурно кружились в косых лучах бледножелтого солнца. На окраине местечка дома стояли реже, садики были. гуще, и пыль не поднималась до небес…
…К вечеру все устроилось. В печке столяра с нестерпимой яркостью пылали стружки. Карбышев рассказывал Лидии Васильевне историю бегства ее брата из Шендеровки.
— Вы знаете, — говорил он, быстро расхаживая по горнице, — офицерство у нас чуточку пружинит. И брат ваш — тоже. Наскочил он на походную кухню, оказался в самой середине солдатского клуба и не выдержал — пустился в болтовню. «Много у нас в армии всяких изменников да шпионов. Мясоедов корпус предал, Сухомлинов армию оставил без снарядов». Вдруг кашевар, — они все такие толстые, флегматичные, — воткнул лопату в кашу, да и: «А по-моему, ваше благородие, уж коли начинать, так с головы». — «То есть как — с головы?» — «Да так… Что за царь, коли себя ворами да мошенниками обвел!» — Ну, знаете, тут Опацкий и выпустил из себя холодный пот… Странно: вы мало на него похожи. Только волосы… глаза… Ясные, как лесной родник…
— Нет… Но что же мой брат потом сделал?
— Бросился ко мне за советом и… Ведь ничего другого придумать нельзя было, только рапорт о переводе…
Опацкого не было. Но в рассказе Карбышева он присутствовал очень живо. Близкий обоим, совершенно посторонним друг другу людям, он как бы стал между ними и, вытеснив собой все «постороннее», сделал чудо. Лед начаял таять. Еще бушевавший в Лидии Васильевне вихрь противоречивых мыслей и чувств быстро стихал и успокаивался. Она еще боролась с внезапно нахлынувшим доверием к капитану, но, сама того не замечая, уже переносила все свои надежды с брата на его доброжелательного начальника. Карбышев был откровенен и прост с ней. Он рассказывал ей такие «дискретные» вещи. Нет, он не походил на обычного балагура — нисколько. «Он только очень веселый и… обаятельный». Из всего этого выходило, что и Лидии Васильевне надлежало быть с ним откровенной, простой. Да, ничего другого и не оставалось. Положение ее было безвыходное. Ехать дальше, по следам брата, в Одиннадцатую армию, — не хватит денег. Возвращаться домой, в Минск — тоже. Мечта стать сестрой милосердия разлетелась: кто, где возьмет ее в сестры? Оставаться в Шендеровке — нелепость. Все, что ни приходило ей на ум, оказывалось невозможным. И тогда, с отчаянием в душе, закрыв глаза рукой, точно бросаясь с огромной высоты в холодную, глубокую воду, она прошептала:
— Дмитрий Михайлович, я хочу вам сказать всю правду…
Карбышев остановился среди комнаты. Он весь был — слух.
— Я убежала из дома, Дмитрий Михайлович…
— Зачем?
— Чтобы стать сестрой милосердия на фронте…
Карбышев еле слышно свистнул..
— Фью-ю-ю!
По мере того, как она рассказывала, он становился все веселей.
— А знаете? Ведь это — превосходно!
На глазах у Лидии Васильевны выступили крупные, светлые слезы обиды.
— Как вам не стыдно так говорить?
— Ничуть! У меня превосходный план.
— Какой?
— Прежде времени — ни слова. Суеверие? Ничего подобного! Экспромты удаются только тогда, когда хорошо подготовлены. Значит, вам хочется быть сестрой милосердия?
— Очень.
— И мне хочется…
— Как? Вам тоже хочется быть сестрой?..
— Ха-ха-ха! Да, нет же… Совсем другое. А план мой таков, что вы будете обязательно сестрой. Завтра я еду в Бердичев — меня вызывает генерал. Все может быть сделано. Соглашайтесь!
— Но ведь я не знаю…
— И не надо вам ничего знать!
Лидия Васильевна заплакала. Голова ее опустилась на руки, пышные волосы рассыпались по худеньким плечам.
— Соглашайтесь! — повторил Карбышев тихо, но так твердо, словно не просил, а приказывал.
Он подошел к окну. Луна стояла низко-низко, и от нее через улицу тянулась, трепеща, длинная серебристая дорожка. Пышный узел темных волос… Удивительно прозрачные серые глаза… Тёмнокрасный костюм… Шляпка с вишнями… Разве может так быть, если все это — только мимо идущий случай? Когда Лидия Васильевна перестала плакать, он обернулся. Она вынула из сумочки сначала платок, чтобы приложить его к мокрым глазам, а потом — гребень. Это был не гребешок, а большой, зубатый, настоящий «поповский» гребень, — только ему и поддавались ее густые, длинные волосы. Но, взглянув на гребень, она ахнула:
— Как же я теперь буду?!
— Через два дня я вам скажу совершенно точно.
— Нет, не то… Смотрите!
Гребень был сломан посередине.
— Как же я буду теперь причесываться?
Карбышев взглянул на часы.
— Сейчас — двадцать один. Срок — девять часов.
— Каким образом? Ведь вы поедете в город только завтра утром…
— При чем — город?
— Не понимаю. В Шендеровке…
— Завтра утром, перед отъездом в город, я принесу вам гребень. А вы соглашаетесь на мой план? Хорошо?
Конечно, все, что говорилось сейчас о плане, о гребне, было пустяками. Если Лидия Васильевна была почти готова отдать свою судьбу в руки этого веселого, живого, требовательного, настойчивого, упрямого человека, то уж, во всяком случае, не потому, что он обещает принести ей завтра утром гребень. Да и откуда может найтись за ночь гребень в Шендеровке? Нет, дело не в гребне. Дело в том, что судьба Лидии Васильевны (хотела Лидия Васильевна этого или не хотела — все равно) уже пристала к рукам человека, о существовании которого вчера она еще и не подозревала. Уходя, уезжая, этот человек уносит с собой ее судьбу. Когда же это случилось? Как?
— Хорошо, — сказала она, вставая и позабыв смахнуть с длинных ресниц блестящие капельки слез, — если гребень будет завтра утром, я согласна. Если нет…
— Тогда другой разговор! — окончательно развеселился Карбышев, — тогда вы поставите меня в угол носом и выгоните… из класса!
А волосы падали, падали, тяжелые, как вода, неслышные, как пепел.
Было еще очень рано, когда Лидия Васильевна проснулась, оделась и вышла в сени, чтобы умыться. В сенях ее встретил столяр.
— Здравствуйте, сестрица, — проговорил он, — а это — вам.
И он протянул что-то аккуратно завернутое в белоснежный кусок толстой чертежной бумаги. Еще не развернув бумаги, Лидия Васильевна уже знала, что в ней. Неужели действительно путь от сердца к сердцу прямей, короче и безошибочней всех остальных путей? Очевидно. Да, это был гребень, почти совершенно такой же, как и тот, что сломался накануне. Итак, она была согласна…
— Спасибо. Дмитрий Михайлович уехал?
— До свету, сестрица, еще до свету. Передай, говорит, непременно. А то, говорит…
* * *
Генерал Опимахов любил и умел показать товар лицом. Малосведущему человеку киевский укрепленный рубеж должен был казаться верхом совершенства. В соответствии с этим и управление тыловых оборонительных работ фронта, начальником которого был Опимахов, выглядело в высшей степени импозантно. Управление занимало самый большой дом в Бердичеве. По двору сновали писаря, телефонисты, посыльные, вестовые. Все это был народ верткий и по внешнему виду форменный и даже щеголеватый. Изредка прибегали офицеры. К крыльцу то и дело подкатывали шипящие и грохочущие, то запыленные, то заплеванные грязью автомобили. Комнаты дома были полны стука ремингтонов и ундервудов: это старались писаря. Стекло шкафа, у которого сидел дежурный писарь, было, против обыкновения штабных учреждений, цело, и сам дежурный писарь довольно толков. Все это с несомненностью свидетельствовало о том. что генерал Опимахов придавал большое значение красоте фасадов и подкрашивал их не без успеха.
Но за углом дома, где помещалось управление; генеральская деятельность уже не проявлялась ни в чем. Здесь месяцами валялись без использования, постепенно срастаясь с землей, безнадежно забытые груды всевозможных строительных материалов. Целыми сутками неподвижно стояли шестиконные запряжки, точно в бессилии свесив к земле ременные постромки. Внешний характер бурной деятельности и какое-то полуобморочное состояние перед лицом практических задач были, свойственны не одному Опимахову Это была широко распространенная между русскими генералами и притом очень прилипчивая болезнь. К Опимахову она прицепилась не сегодня. Он был первым комендантом только что оставленного австрийцами Перемышля и пользовался огромными правами военного генерал-губернатора. Но именно тогда, в комендантство Опимахова, были упущены из Перемышля двадцать тысяч пленных, которые делись неизвестно куда. Как это случилось? Вероятно, и сам Опимахов не знал. За это он был отставлен от должности коменданта, заменен генералом Дельвигом и переведен на киевские рубежи.
Опимахов часто разъезжал по рубежам, но еще чаще вызывал производителей работ к себе в Бердичев на доклады. Особенно нравились ему доклады Карбышева, и сам Карбышев все больше приходился по сердцу. Казалось бы, что ни в суховатой наружности этого офицера, ни в «механической» поворотливости и «строевитости» его манер не было ничего, способного возбуждать горячую симпатию. Зато было в нем что-то другое, гораздо более значительнее: заговорит и сразу расположит к себе. Он одинаково легко и свободно говорил с людьми, выше себя стоящими, с равными, с низшими. Секрет этой одинаковости заключался в силе его мысли, всегда до резкости ясной, но не грубой и черствой, а острой и живой. В отличие от многих других людей своего возраста и положения, генерал Опимахов ценил человеческий ум. Соприкасаясь с ним, он не испытывал никакой неловкости. Наоборот, чувствовал себя умнее и лучше, чем был в действительности. Подобные соприкосновения были ему приятны, даже радовали его. Очень скоро между генералом и Карбышевым установились странно дружеские отношения. Они спорили, соглашались, расходились и сходились во взглядах, ловили друг друга на промахах. Доклады Карбышева часто затягивались, и тогда он оставался ночевать в городе. Опимахов требовал, чтобы капитан ночевал на его, генеральской квартире. Под ночлег отводилась пустая комната рядом с кабинетом, и в комнате этой раскидывалась запасная походная койка…
Генерал сидел за большим дубовым столом, заваленным книгами, картами и бумагами. Кроме стола, в кабинете стояли несколько некрашеных стульев да на подоконнике — один-два вазона с цветами.
— Итак, если называть вещи своими именами, вы считаете, дорогой капитан, глупостью, когда я требую от вас рубить засеки, валить деревья накрест и прочее? Так? Еще большая глупость — рыть волчьи ямы с кольями на дне и маскировкой сверху? И, наконец, самая огромная глупость — копать убежища, загоняя их в землю на две сажени? Так? А позвольте спросить, милостивый государь, почему же глупость? А?
— Все это очень умные вещи, ваше высокопревосходительство, но только в тех случаях, когда сооружаются укрепления, действительно отвечающие требованиям боевой тактики…
Карбышев заговорил, торопясь, точно заспешил после долгого молчания выговориться. В его быстрой речи тонули отдельные слова. Но прочная слаженность основной мысли позволяла их отгадывать без всякого труда, и эта особенность карбышевской речи придавала ей особую выразительность.
— На фронте обеих сторон — массы войск. Противники — в непосредственной близости. Это конец маневра… Это позиционная война. Да. В чем же теперь задача полевой фортификации? В активной обороне… чтобы обеспечивался темп возможного наступления, поднималась сопротивляемость, уменьшались потери…
— Пока — верно, — сказал генерал, — но в дальнейшем предвижу невыносимую отсебятину, — директив-то ведь нет… Хоть что хошь, а нет их, директивушек…
— Отсебятину позволяю себе не только я, ваше высокопревосходительство. Бой за укрепленную полосу — это прорыв. Что отсюда следует? Первую полосу надо так укреплять, чтобы времени, которое уйдет на ее прорыв противником, хватило для возведения в тылу атакованного участка другой такой же полосы…
— Второй?
— Никак нет…
— Третьей?
— Никак нет…
— А какой же?
— Четвертой, ваше высокопревосходительство. Но — не двадцатой… Идет позиционная война. Задача полевой фортификации — в активной обороне. Решается эта задача у нас скверно. Чем? Фортификационные формы и средства борьбы не совпадают… Все расползается. И вот — опоздания, и вот — инженерные сооружения почти не влияют на ход операций. Ведь это смешно: с одной стороны, кратчайшие сроки, гигантские объемы работ, а с другой — ручной способ…
— Как же надо, господин профессор?
— Для отрывки окопов, ходов сообщения, котлованов под убежища… машины…
— Здорово!
— Да, это было бы здорово, ваше высокопревосходительство! Пока фронт еще не окончательно расшатался, надо поддерживать бойцов на передовых позициях и в ближайшем тылу. А мы? Чуть ли не под Киевом готовим сеть позиций. Сможем мы их когда-нибудь закончить? Нет. Сможем использовать? Едва ли. Ошибки японской войны повторяются… Рок! На сотни верст в глубину тыл забит позициями. Им отдаются силы и средства, вырванные из боя. Оборона передовых позиций — под удар. Полосы превращаются в полоски… Системы — нет… Лишь бы фронтом на запад… Словом…
— Что?
— Форльтификационная лапша, ваше высокопрльевосходительство.
* * *
Было около двух часов ночи, но Карбышев еще не спал. Он повертывался на своей походной койке и невольно прислушивался к шорохам, доносившимся из генеральского кабинета. И Опимахов не спал. Железная кровать жалобно дребезжала под его длинным телом. Он вздыхал, шептал что-то, зевал протяжно и гулко и, наконец, поднялся с кровати. Туфли его медленно зашлепали к выходу из кабинета — он шел к Карбышеву…
Генерал кряхтел, почесывая под широкой рубахой тощую волосатую грудь.
— Не спится. Погода что-то засеверила… Не от того ль? Дай, думаю, проверю, как он… То есть вы… Волчья подвывка, не слыхали? Охотники знают, что это такое… Лежите, лежите! А я… здесь…
Опимахов пристроился на койне, сбоку, продолжая кряхтеть и вытягивать хрустящие ноги. В этом человеке были какая-то грубоватая солдатская прямота и не лишенная красоты способность к насмешливо-грустной фразе.
— Как это вы давеча сказали? Фортификационная лапша… Что же? Между нами говоря, так оно и есть. Правильно сказали. Дикие мы люди. Из лесу вышли. Когда же научимся мы воевать? Ведь, собственно, еще в феврале, еще до прорыва на Дунайне, все наши армии по всему фронту перешли к обороне. Уже тогда противник полностью перехватил у нас инициативу. И получилась не фортификационная только, а всеобщая лапша.
Он долго возился со спичками, и большие черные зрачки его выцветших глаз тревожно блестели над прыгающим огоньком спички.
— Позиционная война… Это значит, что обходы и охваты почти невозможны. Приходится долбить противника в лоб, где сильнее, где слабее. Искусство проявлять на позиционной войне невозможно. Но и такая война — не шутка и не игрушка. И она требует от своих вождей знания, способностей, опыта. Государь принял верховное командование. Но, дорогой мой, разве годится государь по знаниям, по способностям, по темпераменту, по дряблости своей воли в военные вожди? Нет. Твердо знаю, что нет. И все-таки не могу искоренить в себе восторженную доверчивость. Авось осенит… Это не простая доверчивость, а болезненная. Нельзя верить; известно, что нельзя. А веришь, потому что нельзя и не верить, неудержимо хочется верить. Это доверчивость шизофреническая. Лечиться от нее надо. Какие надежды? На что? Начали войну, имея по девятьсот пятьдесят выстрелов на легкое орудие, — да, да! Начали войну, не имея плана, и сразу превратили ее в кровавую свалку. Ни один солдат, офицер, генерал не понимал своего маневра. Не ставка управляла событиями на фронте, а они бросали ставку из стороны в сторону, как буря бросает ладью. От Вислы до Берлина — пятьсот пятьдесят верст; от Перемышля — Львова — Тарнополя до Берлина — тысяча четыреста. Так нет же, — выбрали самый дальний путь. Поход через Карпаты имел некоторый смысл до капитуляции Перемышля, а потом — ни малейшего. Дело должно было кончиться погромом Третьей армии. Поход через Карпаты — авантюра проигравшегося картежника, который, поставив на мелок целый ряд кушей, идет, очертя голову, ва банк. Как будто нарочно создавали такое положение, выходом из которого могло быть или бесславное отступление, или наступление с явной нехваткой сил и средств. Зато на днях Китченер произнес в палате лордов речь о том, как русский фронт сковал немцев и дал окрепнуть английской армии. Радуйтесь! Да с кого спрашивать? Штабы… Уж лучше не говорить! Это не штабы, а чертово болото какое-то… Все вымазано грязью взаимных похвал, облито помоями лицемерного восхищения. Штабы распоряжаются номерами частей, понятия не имея о том, что представляют собой эти номера и каковы их действительные коэффициенты. Они забыли, что за бумажными номерами — кровь, тысячи жизней и спасение родины. Да и строевые начальники… Что греха таить, не любят они своих войск, не жалеют их, на пехоту глядят, как на пушечное мясо, думают не о деле, а о карьере. Не может водить войска к победам тот, в чьем искусстве, доблести и доброжелательстве не уверены войска. Генералы теряются перед случайностями маневренного боя, понимают только фронтальные удары, до смерти боятся разрыва фронта на стыках между частями, не умеют пользоваться резервами и артиллерией, задачи ставят нечетко, за выполнением своих приказаний не следят. Для таких валяй-генералов тыл, снабжение, зависимость военных операций от подвоза снарядов не существуют. Я не о простой глупости да бездарности говорю, а кое о чем много похуже.
— О чем же? — спросил Карбышев.
— О недобросовестности, о преступной воле, о наплевательстве на людскую кровь. Слово даю: за каждый случай карьеризма я бы расстреливал подлецов! Измельчал русский генерал.. Да и не он лишь один. Прапорщик, и тот у нас мельчает! Хороши только солдаты. Они еще дерутся. Но постоянными неудачами надламываются нервы войск. Солдаты уже не верят больше в победу. Упали дух войск, их вера в начальников и в собственные силы. Моральный капитал прошлогодних галицийских побед израсходован до последней полушки. Задор, гордость — все пропало. Что такое падеж лошадей при непосильной работе, — все понимают. А что люди массами сдаются и бегут с полей сражения из-за непосильного нервного напряжения, — этого не понимает никто. Да кому понимать? Правительству? Нет, с нашим составом министерских упряжек ни на какую мало-мальски широкую дорогу не выедешь. Понятия не позволяют. Вы скажете, общество? Что же это за общество: беспочвенные мечтатели наверху, распущенные хищники внизу. А посередине — семипудовые люди, и равнодушие их прямо пропорционально их семипудовости. Дисциплинированность почитается смешным и мещанским качеством, а трудолюбие — признаком ограниченности и бездарности. Сонная одурь какая-то…
— А Государственная дума? — усмехнулся Карбышев, — а военно-промышленные комитеты?
— Не смейте меня дразнить! — вспылил Опимахов, — я вам серьезно, а вы… Дума, комитеты — не то кадеты, не то кадетоиды, с самыми сумбурными марсианскими воззрениями на русскую действительность и на русский народ… Худощавый, чахоточный, кашляющий прогресс… Революция слов — ничего больше. А дело в том, что фабриканты рвутся к власти. Правительство неповоротливо, чиновники тупы, денег у военного министерства мало. А у военно-промышленных комитетов все средства в руках. Собрались дельцы и хапуги со сноровкой к хозяйственным оборотам, энергии хоть отбавляй, знают, чего хотят: головы — на плечах, а в карманах — миллиарды. Начали забивать правительство. О России-то они и не думают. Им другое нужно — показать, что они сделать могут. И показывают. Но не все. Выгоду прячут. Без выгоды для себя они ведь не могут. Миллионные заказы хватают, а у них и материалов-то нет, лишь бы на авансы обернуться. Заводы свои государству втридорога продают, благодетели… Значит, руки греют на миллионах, да еще и политическую репутацию наживают. Они, вишь, спасители России. А они не спасители, а прохвосты… Правительство струсило — бежит позади, подлаживается, шею под топор подставляет… А Гучков с компанией… Рябушинские, Второвы… сукины дети…
От ярости Опимахов начал задыхаться.
— Как же быть, ваше высокопревосходительство? — спросил Карбышев.
— А я откуда знаю, капитан? Мы с вами видели порт-артурские безобразия. Теперь видим, как гибнут наши крепости, и многое другое. Режим давно уже не Умеет защищать себя. Я вам это говорю, а вы умной своей головой размышляете: если, мол, фортификация у нас — лапша и ни к черту не годится, то и всему режиму цена — грош; если режим не в силах защищать себя, значит, он осужден. Так; что ли?
Карбышев молчал.
— А я вам, молодой человек, скажу: вот это как раз вздор!
— Почему?
— Я верующий человек, а не спирит или атеист, вроде вас.
Карбышев хотел сказать, что он никогда спиритом не был, но вспомнил свою дальневосточную историю и счел за благо промолчать. История относилась к девятьсот шестому году, когда он чуть было не попал под суд общества офицеров по обвинению в политической агитации среди солдат. Агитации никакой не было, а известный недостаток лицемерия в разговорах с нижними чинами действительно был. И вот, спасаясь от суда, Карбышев вышел тогда из армии в запас, с год околачивался во Владивостоке на частных чертежных работах, а потом, когда дело несколько притихло, вернулся на военную службу и поехал держать экзамены в академию. Не было сомнения, Опимахов имел какие-то смутные понятия обо всем этом. Смутности его понятий соответствовало туманное слово «спиритизм». Карбышеву совершенно не хотелось ни напоминать генералу о прошлом, ни содействовать точности его выражений, и он смолчал.
— Я, капитан, верю ни в какую-нибудь слепую, безликую судьбу, а в бога. Вижу, знаю, что плохо, а рук не складываю. Тружусь, исполняю долг. Надлежит России пасть для того, чтобы бог поднял ее из бездны, восстановил во всем блеске…
— В блеске чего?
— Народной души!
— Вы верите, ваше высокопревосходительство, в блеск народной души?
— Верю! Без этой веры я бы и жить не мог, и не стал бы жить. Только эта вера меня и подкрепляет. Я ведь простой человек, и народная жизнь не чужая мне. Генеральство мне чужей, чем народная жизнь. Ропщет народ, недоволен, — знаю, чую, понимаю, почему ропщет, чем недоволен. Народ — наше зеркало. Боюсь народа, как урод — зеркала, ей-богу! Крах… крах… Все самое дорогое, самое нужное — на льду. Вся жизнь — на льду.
— Как на льду?
— Да. Пока заморожено, держится. Но придет весна — и провалится в преисподню. А под весной, знаете, что я в виду имею?
— Что?
— Революцию, — хриплым шепотом сказал генерал, — в огне, в пороховом дыму зреет новая русская революция. Сижу и жду, когда все начнет валиться, кувыркаться, нырять на дно. Потому и по ночам не сплю, — все жду… Умереть готовлюсь — юркнуть в темноту и скрыться…
* * *
На следующий день Карбышев явился к Опимахову и сказал:
— Ваше высокопревосходительство, прошу согласия на перевод в пехоту.
— Подайте рапорт и ждите, — сухо отозвался генерал.
— Долго?
— И по пяти лет ждут.
Несколько минут в кабинете было совершенно тихо.
— Почему надумали?
— Еще в Маньчжурии я начал разочаровываться в своей специальности, ваше высокопревосходительство. А теперь разрыв между теорией и практикой чрезвычайно обострился.
— Гм! В рапорте об этом упоминать нельзя! Гм! Намеренье дельное и последовательное. Куда же? Наверно, в Восьмую?
— Так точно.
— К «берейтору…»[17] Меня на «лошадиную морду» меняете. Д-да… Но вообще — понимаю. Т-так-с! Написали?
Опимахов прочитал рапорт, перевернул его и на чистой стороне листка вывел ровные строчки телеграфного текста: «Командующему Восьмой армией. Военный инженер капитан Карбышев желая продолжать службу пехоте просит прикомандирования 312 Васильковскому полку. Прошу уведомить согласии».
— Так?
— Благодарю, ваше высокопревосходительство.
— А насчет девицы, о которой вы мне докладывали, я распоряжусь: сестрой в шестую военно-рабочую дружину. Только…
— Что прикажете, ваше высокопревосходительство?
— Нечего мне вам приказывать. Только… Не советую жениться, капитан, — глупо! И заметьте: в жизни есть множество вещей, которые гораздо больнее, чем какая-то там незавершенная любовь! Уж это — как дважды два.
Карбышев коротко и негромко засмеялся. Но когда Опимахов поднял на него глаза, он уже был серьезен.
— А для вас и дважды два не закон? Еще никто никогда не отрицал…
— Да, наверно, потому, ваше высокопревосходительство, и не отрицали, что не были в этом заинтересованы…
— Что? Ах, вы… Спиноза!
* * *
Землянки строились так: укладывались на двух рядах стоек насадки, перекрывались бревнами и сверху обсыпались землей на аршин. У входа в землянку — ружья в козлах. Внутри, на полу, пышно настлана солома — хоть сейчас спать ложись. А спалось в резерве сладко. Это было время, когда все армии Юго-Западного фронта изо всех сил трудились над укреплением и совершенствованием своих позиций. Полк, в котором служил Романюта, работал на киевском рубеже. Утренний подъем приходился на пять часов. «Вставай!» — солдаты вскакивали, кряхтя и почесываясь в ожидании чая. В шесть часов дежурный по роте орал: «На занятия!» или: «На работы!» Обедали в двенадцать, почти всегда с недоразумениями. Наседали на кашевара, а он отбивался: «Вы что, бездельники, рано пришли? Не готов обед-то!» Наконец: «На молитву!» Обеды были недурны, но без хлеба, мясные, так как полк получал на каждого нижнего чина по два-три фунта мяса в день. Население продавало скот задешево. «Будя чавкать-то, олух!» После обеда мыли чашки и снова шли или на занятия, или на работу. В пять ужинали. В девять — поверка, и дежурный по роте являлся с рапортом к дежурному по полку. День кончался. Утром же сызнова: «А ну, вставай! Пулей вылетай!»
Романюта отвык от этой размеренно точной, поневоле заботливой жизни. Сегодня с утра он был на врачебном осмотре, а с обеда до ночи стоял дневальным и зевал, не закрывая рта; завтра принимал полусало для смазки винтовок и стоял на стрельбе старшим махальным; послезавтра на строевых занятиях битый час брал то на караул, то на молитву. Было, впрочем, в новой жизни Романюты одно обстоятельство, которое беспокоило его куда больше временной отвычки от железного распорядка солдатской жизни. Он думал об этом обстоятельстве с волнением и страхом. Собственно не столько думал, сколько всячески старался не думать и бороться со смутным предощущением надвигавшейся беды. Он жестоко боялся встречи с Заусайловым. Однажды Романюта работал в окопе, отделывая с товарищами по отделению крайний козырек. Батальонный командир проходил по верху окопа. Заглянув по дороге нескольким рядовым в подсумки, он. не нашел в них положенного числа патронов и рассвирепел. Усы его запрыгали, глаза округлились и сделались белыми от злости. Заусайлов закричал:
— Под ружье, мерзавцы!
Трудно сказать, с чего вдруг налетел на полполковника этот шквал. После перемышльского ранения и ночного происшествия с Романютой, после солдатского оскорбления, оставшегося без ответа, что-то главное, основное в характере Заусайлова треснуло. Случилось то, чего не могла сделать даже потеря жены. Думая о себе, Заусайлов с удивлением говорил: «Шлюпик!
И больше ничего…» Солдаты толковали о нем: «Вспыльчив, конечно, а уходится, так и в иголку вденешь его». Он жил теперь в каком-то вечном разногласии с самим-собой. «А ведь живу… И хоть бы что!» Он стал мягок с солдатами, нетребователен по службе, равнодушен к начальству и все думал, думал… о чем? Однако нет-нет и поднималось в нем прежнее, настоящее. Тогда налетал на Заусайлова шквал, ломал шарниры всех сдержек характера, яростью заливал мозг. Заусайлов принимался «крошить». Подобное случилось с ним и сейчас. По всем правилам высокого казарменного искусства он громоздил этажи, пирамиды похабной ругани. И, кажется, ничто на свете уже не могло заткнуть извергавший эту ругань фонтан. Он смутно различал: темнеют от гнева солдатские лица. Но от этого лишь все выше поднималась его собственная злость, и брань становилась все ожесточеннее…
Вдруг оторопелая физиономия Романюты мелькнула в глазах Заусайлова. И опять: невозможно сказать, почему именно так получилось. Мгновенно узнав Романюту, Заусайлов смолк, — в тот же самый момент и так быстро и сразу, словно кто-то взял да и всадил сразмаху в его разорвавшуюся глотку огромный кляп. Кровь горячего стыда выбилась на щеках Заусайлова. Он замер в судороге отчаянной тоски. И очнулся только тогда, когда был уже довольно далеко от того места, где Романюта с товарищами отделывал в окопе крайний козырек…
— Нахряскал языком-то, — заговорили солдаты, — мастер молитвы читать… Эка сволочь!
— Это он на тебе, Романюта, поперхнулся…
Романюта был красен и дрожал.
— Кабы слышал немецкий кайзер, премного был бы батальонному нашему обязан, ей-ей!
Вот и надвинулась на Романюту неизбывная беда. По крайней мере сам он нисколько в этом не сомневался…
…Жена писала: стоит в селе многое множество солдат; пособия прибавили; шурина Леончика взяли на окопы и еще немало побрали народу; Самусь, по слухам, в плен попал, а лен продали по семи рублей восемнадцати копеек за пуд. Никогда бы раньше не поверил Романюта, что такое интересное письмо от жены может пройти через его душу, не затронув в ней ни одной струны. Каждый день происходило или с самим Романютой, или возле него что-нибудь, отчего в другое время было бы солдатским языкам работы на неделю. То выдали очки и маски от удушливых газов. То распределили по взводам хлеб, сухари и мыло. То получил Романюта свое жалованье — девяносто копеек, на табак восемьдесят шесть, да рубль пятьдесят за георгиевскую медаль. Все это раньше казалось бы значительным, важным. А теперь и оно было ничем и незаметно проходило мимо. Романюта был честный, умный солдат, серьезен и весел, всегда и везде на месте. И он понимал: никому не известное, но страшное дело лежит между ним и батальонным. Тогда, перед самым лицом смерти, дело это было просто и естественно; а теперь, перед лицом жизни, службы и жестокого закона, оно выглядело совсем, совсем иначе. Дело пока лежало, но оно не могло лежать — ему предстояло подняться. Конечно, его поднимет не Романюта. Легче умереть Романюте, чем обмолвиться о нем хоть единым словом. Но ведь у батальонного на этот счет свои, офицерские, мысли. Что за мысли — известно. И ведь не может батальонный того знать, молчит или болтает Романюта? Стало быть… Стало быть… Иногда Романюте казалось, что все его спасенье как раз в том, чтобы взять да и сказать о страшном перемышльском деле. Сказать? Кому? Романюта по натуре был из тех простых и хороших людей, которые усердно ищут в жизни тепла и, найдя, готовы идти за ним до последнего. Такое тепло недавно повстречалось Романюте. И вот, додумавшись до главного, он уже без колебаний и сомнений бросился к «сестрице» Лидии Васильевне и, ровно ни в чем не потаившись, рассказал ей все. Закрыв лицо руками и раскачиваясь, как бурят на молитве, он шептал:
— Пропал я, сестрица, пропал!
Лидия Васильевна взволновалась до слез.
— Ужас! Какой ужас! — повторяла она.
И вдруг, остановив на нем свои добрые серые глаза, не то кого-то спросила, не то сама ответила на чей-то вопрос:
— Погодите! А Дмитрий Михайлович-то на что?..
…Если встреча с Заусайловым отчаянно испугала Романюту, то встреча с Романютой совершенно сразила Заусайлова. Весь день он не находил себе места ни на земляных работах, ни на занятиях с маршевиками, ни дома. А вечером отправился в Шандеровку и очень обрадовался, застав дома Карбышева, который только что вернулся из поездки в Бердичев. У Заусайлова был такой вид, как будто он пришел по важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Лицо его имело самое решительное выражение. Глаза смотрели строго до торжественности. Он быстрыми, порывистыми движениями разводил в стороны свои длинные усы. Карбышев подумал: «Неужели опять какая-нибудь пакость, вроде той, — со Жмуркиным?..»
— Дмитрий Михайлович! — начал Заусайлов, садясь на скамейку у рукомойника, — я к вам с таким разговором, которого, может быть, еще ни разу в жизни не вел.
«Так и есть», — подумал Карбышев и, как всегда в подобных случаях, соприкоснувшись с опасностью, сознание его насторожилось, мысль заострилась, и весь он сжался в готовности отбить удар. Но Заусайлов намеревался говорить только о своем несчастном деле. Когда он шел к Карбышеву, твердость и решительность шагали впереди него. Один лишь Карбышев мог бы вывести его на свет из глубокого подполья. Правда, для этого требовалась полная откровенность. Но Заусайлов уже отважился на откровенность. Больше того, сн уже заговорил, чтобы сказать все, все… Но в этот самый последний момент решительность его поколебалась. Стыд нахлынул и затопил его душу. Язык перестал быть послушным, и Заусайлов сказал то, о чем меньше всего думал:
— Людей на укомплектование прибывает много. А вооружать их нечем.
— К чему вы это? — сердито спросил Карбышев.
— К чему? Посоветуйте: ничему не обучаются, а щи и кашу уплетают за обе щеки… Дмитрий Михайлович?
— Что?
— Чем все это кончится?
Карбышев не хотел и не мог тянуть эту канитель. Он быстро обежал горницу и остановился у окна.
— Думаю, что позор нынешнего лета даром не пройдет.
— Революция?
Вдруг Заусайлов с остервенением ударил себя по лицу — раз, раз, еще раз.
— Вот мне!.. Вот… — в бешенстве приговаривал он, бледный, судорожно прикусив побелевшую губу, — за Россию… За себя.. Вот! Вот!
И он заревел зверем, ухватив себя за волосы.
* * *
Лидия Васильевна хозяйничала на питательном пункте военно-рабочей дружины: пробовала пищу, наблюдала за чистотой столов и посуды, за порядком во время обедов и чаепитий. У нее были также и обязанности по околотку. Называлась она медицинской сестрой и несколько конфузилась своей роли на пункте. Но уже на таких условиях зачислил ее Земгор, по рекомендации генерала Опимахова, на службу. Во всяком случае она была теперь сестрой. Оставалось дотянуться до фронта. В характере Лидии Васильевны были точность и исполнительность. Именно из таких девушек выходят образцовые жены и матери, отдающие все свои способности и силы исполнению раз навсегда принятого на себя долга. И на питательном пункте все делалось строго так, как полагалось и требовалось. Перед обедом рабочие выстраивались без шапок вдоль столов, и старший читал: «Очи всех на тя, господи, уповают…» А Лидия Васильевна уже распоряжалась подноской пищи. Рабочие пели складно, звонкими, сильными голосами, и слова молитвы далеко разносились по полю, покрытому копнами давно собранного хлеба. У одной из таких копен стоял генерал Опимахов и с восхищенным лицом слушал пение. Подобно иконкам на лазаретных стенах, оно трогало и радовало его душу.
— А? — спрашивал он стоявших возле него офицеров, — а?..
Офицеры козыряли, не зная, что ответить.
— Время, господа, на стороне того, кто умеет употреблять его с пользой для себя. Думайте, господа, почаще о боге… о боге!..
И он пошел к столам, где уже рассаживались рабочие.
— Здравствуйте, сестрица, — говорил он Лидии Васильевне, — все прекрасно, все у вас прекрасно…
Вдруг ему бросились в глаза ее изящная тоненькая фигурка, зарумяненное удовольствием лицо, свежий рот, ясный и чистый взгляд. Он ухватил Карбышева за рукав и придвинул к себе. Потом наклонился к его уху.
— Если уж непременно хотите жениться, вот вам жена, капитан!
Он засмеялся громким и густым басом. Карбышев тоже усмехнулся, но скупо — летучей улыбкой, от которой почти не меняется выражение лица.
— Как ваша фамилия, милая барышня? — осведомился генерал у сестры, — что? Опацкая? Гм!..
Он опять посмотрел на Карбышева. И опять не увидел ничего, что имело бы отношение к его, генеральскому, сватовству. «Кремешок!» — подумал он о капитане, а вслух сказал:
— Странно!
И двинулся с пункта к грудам земли и бревен, — туда, где возводились рубежи.
Глава девятая
«Беспорядки» на Путиловском заводе начались еще в сентябре прошлого, пятнадцатого года и с тех пор почти не прекращались. В сентябре на заводе работало двадцать пять тысяч человек; его годовая прибыль официально определялась в двенадцать миллионов рублей. Видимым местом, из которого рождались «беспорядки „, была больничная касса — постоянный пункт явок, встреч и нелегальных собраний. Партийные документы хранились здесь в папках с так называемыми „увечными“ делами; прокламации Петербургского комитета — между страницами выпусков в годовых комплектах журнала „Вопросы страхования“. Арест нескольких рабочих и сотрудников больничной кассы сейчас же вызвал протест: забастовала лафетносборочная мастерская. Затем у часовни собрался митинг. Собираться на митинги у часовни было традицией путиловцев, — светлый дым революционных воспоминаний густо окутывал эту часовню, вился над ней. как знамя, и звал к борьбе. Решили: бастовать! На спинах штрейкбрехеров белели меловые отпечатки честных рабочих ладоней. По этому признаку мерзавцев брали в кулачий оборот. К вечеру бастовали девятнадцать тысяч человек. Требовали вернуть из ссылки бадаевцев и освободить арестованных по делу больничной кассы. Правление Путиловского завода объявило локаут. Тогда в Петрограде забастовали семьдесят тысяч человек. Вскоре на Путиловский прибыли инспектора от Особого совещания по обороне государства — генерал и полковник. И война потянулась, то тлея в репрессиях, то вспыхивая в протестах. Неустойчивая тишина гулко взрывалась революционными речами на новых выборах в больничную кассу, итальянскими, всякими другими забастовками. Что ни вечер, по переулкам в глухоте заставных тупиков звенели ребячьи голоса: „На Путиловском завтра опять забастовка! Слуша-ай!“ Так шло месяцев пять, до февраля, когда путиловцы отгуляли «сухую“ масленицу.
В это время Карбышев приехал в Петроград.
Еще в декабре прошлого года он и Лилия Васильевна поженились. Вопросы, бывшие раньше совсем простыми, вдруг осложнились. Из просьбы Карбышева о перечислении в пехоту вышло пока лишь то, что он оказался переведенным с киевских рубежей в распоряжение начальника инженеров Восьмой армии. Надо было теперь тянуть за собой жену. Карбышев отправился в Ровно за назначением, а Лидия Васильевна — в Киев хлопотать о своем переводе.
В Восьмой армии Карбышева знали, помнили и ценили. Здесь на него был особый взгляд. Он состоял в числе немногих военных инженеров, внесенных в почти пустую графу учета, под рубрику: «Многообещающие». По этой-то, наверно, причине и пришлось ему ехать из Ровно не в свою новую часть, а в Петроград. Цель командировки заключалась в том, чтобы представить в Инженерный комитет ряд предложений по практическому применению электризованных проволочных заграждений.
Еще не добравшись до Петрограда, в поезде, Карбышев уже слышал тревожные разговоры спутников о том, как рубль упал в цене на третью часть и какая отсюда проистекает дороговизна. У людей, говоривших об этом, были испуганные лица и злые, как у хорьков, глаза. Наконец, Петроград. Февральские морозы еще не унялись. По дебаркадеру вокзала, ныряя в облаках белого тумана, метались плотно закутанные, насквозь прохваченные инеем человеческие фигуры. Доски перрона звонко скрипели под их ногами. Внутри вокзала публика оживленно обсуждала происшествие, случившееся утром на Знаменской площади. Недавний приказ запрещал солдатам ездить в трамвае. И вот какой-то офицер вытолкал солдата из вагона. А солдат пытался ударить офицера. Тогда офицер выхватил револьвер… Карбышев вышел на площадь, по которой мягко перекатывались пышные клубы морозной мглы. Памятник был виден, гостиницу можно было разглядеть, а города как бы не существовало…
* * *
Дело, по которому Карбышев приехал в Петроград, только на фронте казалось нужным. Попав в канцелярию Инженерного комитета, оно почти мгновенно потеряло свою значительность и сразу завязло в таежной гущине технических и хозяйственных лесочащ, застряло в их деловой непроходимости. Канцелярия отыскивала, отмечала, принимала во внимание, устанавливала, определяла и даже отчасти изобретала трудности, которые должны были в совокупности свести на нет фронтовую затею с практической электризацией проволочных заграждений. Карбышев изо дня в день появлялся в канцелярии, обходил кабинеты начальников техническо-хозяйственной и искусственной частей, тянулся перед делопроизводителями в генерал-майорских погонах и мало-помалу убеждался в совершенной бесполезности своего приезда в Петроград. Убеждены были в этом и делопроизводители из комитетской канцелярии. По крайней мере один из них, холодно-безучастный ко всему на свете полковник, сказал Карбышеву:
— Знаете что, капитан? Ваш вопрос едва ли решится раньше, чем через две недели.
Карбышев вздохнул. И полковник вздохнул.
— Поэтому вы напрасно бываете у нас каждодневно. Мне кажется, что вы могли бы тратить время с большей пользой. Не хотите ли присутствовать на опытных стрельбах по убежищам?
— С удовольствием. Где производятся стрельбы?
— На усть-ижорском полигоне. Если угодно, я прикажу заготовить вам разрешение… Мы очень ценим в наблюдателях боевой глаз. Перед отъездом расскажете о впечатлениях.
— Слушаю.
И вот Карбышев покатил в Усть-Ижору. Сельцо этого названия отстоит от Петрограда на двадцать пять верст, расположено в том месте, где река Ижора впадает в Неву, и хорошими каменными домами походит на город. Летом оно поражает бойкостью пристанской суеты, а зимой, наоборот, — безлюдьем. Здешний полигон издавна популярен в военных кругах Петрограда, и Карбышев бывал на нем еще во времена училища и академии.
Опытные стрельбы по убежищам наблюдались комиссией из артиллеристов и военных инженеров. Убежищ было построено только три, но покрытия на них соответствовали семи различным типам прослоек из земли, камней и бревен. Стрельба велась стальными фугасными бомбами из шестидюймовой крепостной гаубицы с четырехверстного расстояния. Саженях в двухстах от убежища прятался боковой блиндаж — оттуда и велось наблюдение. После каждого попадания комиссия выходила на поле и осматривала результаты. Повреждения измерялись; характеристика их тут же заносилась в журнал. Корректировка стрельбы производилась из наблюдательного блиндажа по телефону. Ни ветер, ни вьюга, ни мороз не могли отменить испытания, коль скоро оно назначалось. Первая стрельба: двадцать пять выстрелов и одно попадание; вторая: двадцать пять выстрелов и шесть попаданий; пятая: восемьдесят выстрелов и четырнадцать попаданий. Постепенно обрисовывались выводы. Становилось, например, ясно, что входы и стенки входов в убежища — самые уязвимые в них места; что, завалив вход, можно одним попаданием замуровать убежище; что, во избежание этого, надо строить убежища не с одним, а с двумя входами и с расстоянием между входами не меньше, чем в пять саженей. Кроме этих стрельб, на полигоне производились испытания препятствий Фельдта и Бруно артиллерийским огнем и гранатами Новицкого. Все это так интересовало Карбышева, что он не пропускал ни одной стрельбы, ни одного испытания. И все-таки свободного времени было в избытке…
…Еще в начале января, когда определилась задержка с переводом в пехоту, Карбышев телеграфировал начальнику второочередной дивизии, в прикомандировании к которой состоял на Бескидах и в которую не прочь был бы теперь окончательно перейти: «Прошу ходатайства вашего превосходительства переводе меня Васильковский полк». Старший адъютант штаба дивизии отозвался довольно скоро: «Генерал Азанчеев запросил прикомандировании вас Васильковскому пехотному полку. Ответа не поступило». Азанчеев? Это должно было означать, что старый начальник дивизии отчислен, а произведенный в генерал-майоры и назначенный командиром бригады Азанчеев временно заступает в его должность. Карбышев поморщился. Все, что он слышал об Азанчееве под Перемышлем, было двойственно и неопределенно. Но в конце концов не сошелся же свет клином…
…В числе членов комиссии, наблюдавшей за стрельбами на усть-ижорском полигоне, состоял хорошо известный Карбышеву по Бресту фон Дрейлинг. Этот блестящий офицер уже не числился больше по гвардии. Переход в армию дал ему чин, выслуга — другой; он был теперь капитаном и служил в Главном инженерном управлении. Фон Дрейлинг попрежнему был строен, ловок, исполнен здоровья, красив, любезен и разговорчив. Но в его красноречии Карбышев заметил странность, которой не было раньше. Толкуя о стрельбах на полигоне, он назойливо пользовался не вполне корректными сопоставлениями: «прекрасный русский солдат» и тут же — «немецкая техника»; «превосходная русская артиллерия» и — «недостаток снарядов»; «отличная русская кавалерия» и — «особенности позиционной войны». Вместо «немцы» он говорил — «противник»; вместо «Петроград» — «Петербург». Когда Карбышев рассказал фон Дрейлингу о своих затруднениях, он пожал плечами и сказал:
— Русская пехота великолепна, но противник владеет искусством, которого у нее нет. Вы примете пехотную роту только для того, чтобы очень быстро с ней погибнуть. А между тем вы недавно женились, — не так ли? Словом, я хочу вас кусать, если вы, действительно, решили…
Последние слова фон Дрейлинга, явно переведенные с немецкого, растаяли в холодном тумане сумеречного утра, как привязной воздушный шарик, который вырвался вдруг из руки споткнувшегося ребенка.
— Я рассказал вам о моих планах, — резко и сухо оборвал его Карбышев, — вовсе не потому, что нуждаюсь в советах.
«О, как недостает этому офицеру хорошего воспитания, пфуй!» — подумал фон Дрейлинг. Однако его красивое лицо выразило растерянность: он понял свою ошибку. И поэтому проговорил вслух совсем не то, о чем думал:
— Я не хотел вам советовать, — это вышло невольно. Прошу меня извинить. Но я мог бы помочь вам, как старому сослуживцу.
— Чем?
— Мой брат служит в отделе дежурного генерала Главного штаба. Он имеет возможность влиять на перемещения по Северному фронту.
— Вот это прекрасно! — воскликнул обрадованный Карбышев.
Фон Дрейлинг поднял брови, слегка покраснел, дозволяя себе шутку, и сказал рассудительно и тихо:
— Итак, на Шипке все спокойно! Мой брат, с которым я вас познакомлю, не будет давать советы. Он сделает или не сделает…
…Холодно-безучастный полковник из комитетской канцелярии спросил Карбышева:
— Завтра вы не едете в Усть-Ижору?
— Нет.
— Отлично. Вы никогда не бывали на Путиловском заводе?
— Нет.
— Если хотите…
Поручение было пустое. Но Карбышев и не думал отказываться. В первый год войны Путиловский завод давал по тридцати пушек в месяц; летом прошлого года — по сто восьмидесяти, а теперь, говорят, — по триста. Десять орудий в сутки! Увидеть великанское нутро этого гиганта было в высшей степени интересно.
— Пожалуйста. Приказывайте, господин полковник…
* * *
Дымная и ржавая перспектива завода открывалась издалека. В эту перспективу входили длинные составы готовых к отправке поездов. Пристыв колесами к бесчисленным платформам, таились под серыми брезентовыми колпаками отправлявшиеся на фронт пушки. Но составы не громыхали, мерно раскачиваясь на рельсовых стыках, — они стояли на месте. И красные позвонки хвостатых эшелонных чудищ — платформы — тоже никуда не шли. Да и вся перспектива завода казалась неживой. Нет, глаз не обманывал Карбышева. И ухо его не ошибалось. В неподвижности и тишине оцепенел завод. Молчала дробь чеканщиков в котельных. Замер лязг электрических сверл. Не вялась над крышей кузницы копоть. Сквозь черные стекла не прыгало бледное пламя горнов и не двигались возле него быстрые тени людей. Под высоким стеклянным куполом просторной башенной мастерской тоже было пусто. Еще не потухла мартеновская, похожая снаружи на грязный двухъярусный вокзал, но угольные платформы уже не въезжали в ее темноту и не пропадали в ней. Где-то далеко внутри мартеновской стояла наклонная струя белого огня, — из печи выпускалась плавка. Струя изливалась из моря, спокойного, ослепительного, нестерпимо жаркого. Перед морем суетились полуголые люди в глухих синих очках. Струя лилась, но казалась неподвижной, и было непонятно: как же это может быть? «Печку держать на кипу!» — отчаянным голосом приказывал мастер. Но и мартеновская стала через полчаса. Путиловский завод бастовал…
…Казалось, завод раздавил улицу. Из-под его бетонных ног вздулась она мелкими пузырьками слепых домишек. Огромные пустыри льнули к домишкам — тусклый пейзаж ушедшей в землю улицы. Извозчичьи сани медленно подвигались к Нарвской заставе, скрежеща полозьями по лысой мостовой. Карбышев возвращался с завода. И много людей вокруг тоже или ехали, как он, на «ваньках», или выглядывали из окон трамвайных вагонов, или пешком огибали углы улиц, кланялись друг другу или шагали в вялой задумчивости. Эта мирная картина странно раздражающим образом действовала на Карбышева. В конце концов он не понимал ни себя, ни всех этих людей. В самом деле, как можно вот этак спокойно ходить, ездить, кланяться, когда почти рядом — фронт, окопы, пушки и кровь, а Путиловский стоит, недодавая по десяти орудий в день? Почему стоит Путиловский? Кто виноват? В глаза Карбышеву бросились очереди у булочных. Вспомнился чей-то рассказ: булочные открываются в семь часов утра, а очереди выстраиваются с шести; к вечеру — тоже; ждут выпуска в продажу булок дневной выпечки; на дверях призаставных столовых и кухмистерских висят объявления: «Сегодня обед без хлеба». Но кто же во всем этом виноват? Карбышев обедал на Михайловской улице в польской столовой, хорошо памятной ему еще по академическим временам. Добраться отсюда до Михайловской и вообще-то нелегко. А сейчас это было почти невозможно: то, что Карбышев принял за очередь у булочной, было хвостом огромной толпы, валившей к Нарвской заставе. Подреза пронзительно взвизгнули и затихли. Косматая лошаденка стала, косо водя крутыми боками. Извозчик сказал:
— Не проедем тутотка, ваше благородие!
— А что!
— Сами изволите видеть…
— А в объезд?
— Как прикажете!
Старик зачмокал, задергал вожжами, завертел кнутом над репицей своего конька, и сани съехали в проулок, заскользили пустырем и выкатились прямо к Нарвской заставе. Карбышев очутился впереди огромной толпы из мужчин, женщин и детей, которая, громко гуторя и что-то крича, запевая то одну песню, то другую и не допевая ни одной, туго теснясь в уличном канале, медленно подступала к заставе.
— Стой, — сказал Карбышев своему извозчику, — дальше не поедем. Получай!
Он вышел из саней и прислонился к желтому простенку между окнами двухэтажного каменного дома. Ему непременно хотелось понять, что именно здесь происходит. И постепенно он начинал понимать. Вот пеший солдатский конвой обтянул со всех сторон группу мужчин. Люди эти идут, вздернув головы, оглядываясь с вызывающей усмешкой; это они поют и кричат, машут с деланной беззаботностью руками, подавая знаки женским платкам и рабочим кепкам, наседавшим со всех сторон на конвой. «Замучен тяжелой неволей…» — взлетает где-то сзади, потом спереди и камнем падает вниз.
— Господин капитан! — услышал Карбышев молодой и свежий голос, — здравствуйте, господин капитан.
Перед ним стоял юнкер инженерного училища, высокий, худой, бледный, с колючим взглядом черных глаз и улыбчивой гримасой на беспокойных губах, — Наркевич.
— Вы откуда взялись? — удивился Карбышев, — здравствуйте! А все-таки целите в офицеры?
При последнем слове Наркевич вспыхнул, точно Карбышев уличил его в чем-то нехорошем, а нехорошее заключалось именно в неизбежности производства. И, будто пробуя оправдаться, он сказал:
— Да уж так вышло… Ускоренный, выпуск…
— Чего же вы гуляете по улицам? Почему не в училище?
— Сегодня суббота, отпуск на завтра. Хочу побывать дома, у своих. Мой отец служит на Путиловском. А живем мы на Петергофском… Но вот, видите, задержался.
Вдруг Наркевич повернулся лицом к толпе и с таким острым вниманием приковался к ней глазами, словно и не разговаривал только что с Карбышевым. Это было не очень-то вежливо со стороны Наркевича; но еще больше было в этом странного. Первая группа окруженных конвоем людей вместе с провожавшими уже прошла. За ней шла вторая, такая же. И здесь — смех, громкий говор, песни, всхлипывания женщин, плач ребят, и опять песни, говор и смех. Карбышеву бросился в глаза человек, твердо шагавший за передним конвойным. Он был выше, шире в плечах и крепче других. Над низким лбом, кое-как прикрытым кепкой; выбивался крутой завиток полуседых густых волос. На широком красном лице глубоко прятались выразительно суровые и вместе с тем добрые глаза. Наркевич тоже смотрел на этого человека. Карбышеву даже показалось, что и человек несколько раз взглянул на Наркевича. Ни тот, ни другой не обменялись ни словом, ни жестом, но Карбышев мог об заклад биться, что они знают друг друга. Он спросил Наркевича:
— А ну-ка, расскажите, в чем тут дело, — кого ведут и зачем?
Юнкер насторожился, — это было заметно по тому, как он выбирал слова для ответа.
— На заводе давно беспокойно. Путиловский работает на оборону. Появилось много шкурного, деклассированного элемента. Например, автоматы шрапнельной мастерской уже после трех дней дают квалификацию, достаточную, чтобы получить отсрочку по мобилизации. Отсюда — наплыв… И в старых рабочих прежней необходимости не стало. Тут опять — нелады, беспорядки. Вот и взяли с завода больше двух тысяч стариков на военную службу. Стариков, в смысле — старых рабочих, вот их и ведут, как мобилизованных, под конвоем к воинскому начальнику…
— А тот, сероглазый, с завитком, — вы с ним переглядывались, это кто?
Наркевич покраснел.
— Я не переглядывался, — зачем? Вам показалось. Это очень умный человек, превосходный сверлильщик и точильщик из пушечной, Юханцев. Больше ничего. Я действительно его немного знаю. Да его все знают на заводе…
Наркевич замолчал. И вдруг, будто вспомнив о чем-то очень важном, просительно заглянул в лицо Карбышева.
— Господин капитан… Если бы вы… Могу я вас попросить?
— О чем?
— Если вы свободны… Отец будет очень рад. Прошу вас: отобедайте сегодня у нас!
— С удовольствием, — просто сказал Карбышев, — благодарю.
И они, не спеша, зашагали на Петергофский, постепенно выходя на фешенебельные перекрестки, с постоянным грохотом экипажей и трамвайными звонками. Карбышев больше не спрашивал Наркевича ни о чем, относившемся к событиям на Путиловском заводе. Он понимал, как трудно юнкеру отвечать на эти вопросы, и предпочитал хорошенько выпотрошить за обедом старика-инженера. Разговор сместился.
— Что у вас за книжка подмышкой? Ага! Учебник полевой фортификации? Лебедева?
— Нет, — Коханова.
— Тот, что недавно вышел? Знаю.
Карбышев коротко усмехнулся, и Наркевич подумал: «Точно в цель выстрелил…» Действительно, кохановский учебник был отлично известен Карбышеву.
Сложные чертежи окопов для уже упраздненных колесных пулеметов; орудийных окопов, с которыми только артиллерийским офицерам приходится иметь дело; засек, волчьих ям, фугасов и редутов с равновесием выемок и насыпей, с подробными расчетами, — всего этого было в кохановском учебнике хоть отбавляй. А вот о тактике фортификационного дела в нем нельзя было отыскать ни слова. Карбышев опять засмеялся — выстрелил в цель.
— Забавно, что учебник Коханова вышел как раз тогда, когда Макензен громил нас на Сане, а мы сидели без позиций, не умея их строить…
Он задал Наркевичу несколько вопросов по курсу. И ему стало ясно, что юнкера инженерного училища кое-что соображают по части разбивки редутов, но о разбивке позиций не имеют положительно никакого понятия…
* * *
Отец Наркевича был сухощавый старик с коротко подстриженными волосами, красивой белой бородкой и добродушным выражением спокойного лица Он учился в Льеже, долго работал на заводах Шнейдер-Крезо, считался очень крупным специалистом-пушечником и заведывал на Путиловском заводе артиллерийским отделом. Такие инженеры, как он, обставлялись на Путиловском с материальной стороны превосходно. Оклады их были чрезвычайно высоки. Кто-то высчитал: за то время, которое требуется Наркевичу, чтобы пройти от дверей до дверей через пушечную мастерскую, он уже зарабатывает десять рублей. К окладу присоединялась громадная ежемесячная премия. Продолжительность своего рабочего дня старик Наркевич устанавливал сам. Добрая половина дня проходила не на заводе, а в правлении, на Большой Конюшенной.
Рабочие только что отгуляли «сухую» масленицу. Настроение, которое они принесли с собой на работу, было хмурое и безрадостное. Наркевич собирался уезжать с завода в правление, когда ему доложили, что его желает видеть делегация рабочих пушечно-сверлильного цеха.
— Сколько их? — спросил он курьера.
— Пятеро.
— Пусть войдут.
Он сказал это и невольно поежился. Наркевич бывал резок на словах, и потому его считали чрезвычайно энергичным человеком. Но это было грубейшей ошибкой, так как в действительности не существовало человека, более мягкого и менее решительного, чем он. Да он и не мог быть иным: держаться поближе к друзьям и подальше от недругов было его натурой. Пятеро вошли и остановились посреди большого, роскошно убранного кабинета, на ковре такой пышности, что ноги их в нем тонули и звук шагов совершенно терялся. Один или двое даже оглянулись: как может быть, чтобы вовсе не было слышно шагов?
— Что вам нужно? — спросил Наркевич.
Юханцев выступил вперед.
— Желаем самой необходимости, — смело сказал он, потряхивая головой и так переступая с ноги на ногу, как если бы намеревался простоять тут до вечера, — во-первых, заработок увеличить на семьдесят процентов, во-вторых, сверхурочные сократить. Иначе никак невозможно. Работаем по четырнадцать часов в сутки. Получаем за такую работу по пять целковых. А дороговизна-то? Что ни возьмите — мясо, масло, — все выходит не по карману нам. Такое вот дело возникло, Александр Станиславович!
Наркевич сердито передернул плечами.
— Я вижу, вы с ума сошли. Получаете по сто пятьдесят рублей в месяц и чего-то еще хотите. Подобного рода требования я не могу не только рассматривать, но и принимать.
— Да ведь как сказать? — словно рассуждая сам с собой, проговорил Юханцев. — Ведь кто получает полтораста, тот не даром получает. И платите вы, Александр Станиславович, эти полтораста не за двадцать шесть, а за сорок рабочих дней в месяц.
Наркевич возмутился.
— Сорок? Хорошо, — пусть сорок. Но едите-то вы тридцать дней в месяц, а не сорок. Безобразие! Ступайте-ка лучше работать. Если не успокоитесь, военнообязанных пошлем на позиции, а остальных оденем в солдатские шинели. И тогда придет конец разговорам. Единственный способ заставить вас работать как следует…
Юханцев выслушал этот ответ без особого внимания, — почему-то даже засмеялся и рукой сделал такой жест, какой делают за спиной уходящего человека. То ли провожал, то ли-дорогу указывал.
— Успокаиваться мы, Александр Станиславович, не станем. Еще, гляди, сверлильщики весь завод поднимут…
Делегаты круто повернулись и вышли из кабинета. Последний из них довольно громко хлопнул высокой полированной дверью.
* * *
В башенной, котельной, лафетоснарядной, на верфи, в шрапнельной, модельной, литейной, пулеметной, нозомеханической, паровозомеханической, минной, пушечной, в кузнице, в прессовой, в мартене, в проходной — везде шла уборка: скоблили грязь, очищали проходы, поаккуратнее раскладывали инструмент. Так бывало на Путиловском только перед приездом какого-нибудь очень большого начальства. Так было, например, перед приездом царя. И теперь ждали важного гостя, но не царя и не министров, а председателя Государственной думы.
Огромный, толстый, одышливый человек с багровым лицом и шеей циркового борца, сопровождаемый членами Путиловского правления и директорами, медленно шествовал по заводу, благодушно удивляясь, восхищаясь и задавая глупые вопросы. Так он совсем по-детски обомлел в мартеновской перед левиафаном — пятидесятитонной печью. Черные новенькие бараки, похожие на кое-как выведенный полевой госпиталь, тоже привлекли его внимание. Ему объяснили — шрапнельная. Все здесь было временное: и стенки, и станки, и люди. Стены были выстроены с единственным расчетом, чтобы простояли до конца войны. Станки — сборные, кое-какие. И люди здесь тоже не были настоящими рабочими, — они только притворялись рабочими, чтобы не идти на войну. Так постепенно Родзянко добрался до «отдела» пушечносверлильных и полировочных станков. Этот «отдел» занимал необозримое в длину и ширину помещение со сквозными рядами стальных столбов и двойными колеями для вагонеток. Все помещение было заставлено станками и густо опутано паутиной ремней и металлических тросов. Здесь Родзянко нашел целесообразным задержаться и приступить к делу, ибо он приехал на Путиловский завод отнюдь не из простого любопытства.
…Почти никто из путиловцев никогда не видел Путилова. А это был маленький, худенький человечек, с невыразительным лицом и беспомощно слезившимися глазками. Путилов был уверен в неизбежности революции. Поэтому он вовсе не хотел развертывать работу своего завода по снабжению армии орудиями и снарядами до таких пределов, чтобы оказаться после революции с запасами никому ненужной артиллерийской продукции и с заводом, уже потерявшим способность производить что-либо другое, кроме пушек и снарядов. Так возникла необходимость игры. Актер был один, но ролей две: Путилов-заводской и Путилов-банковский. Давно уже Русско-азиатский банк поставлял Путиловскому заводу за тройную цену хромоникель, свинец и медь для шрапнели, и все было отлично. Но теперь, когда началась игра, хорошие отношения кончились: банковский Путилов перестал доверять заводскому Путилову и принялся урезывать его производственный размах сокращением кредита. Другими словами, банк не давал заводу денег. Что остается делать, когда кредит банка закрыт? Выход один: должна раскошелиться казна, так как не может же допустить государство, чтобы Путиловский завод свертывал работу в разгар войны. Расчет Путилова был верен; но это был грабительский, подлый, изменнический, диверсионный расчет. И не требовалось особой проницательности, чтобы проникнуть в смысл преступной игры. Думская комиссия произвела расследование. Особое совещание по обороне государства выслушало доклад комиссии. Выяснилось, что путиловское правление прекратило платежи, забрав у казны авансом сорок миллионов рублей и получив у Государственного банка кредит в одиннадцать миллионов. Правление было должно Русско-азиатскому банку гигантские суммы. Невыполненных заказов (по довоенным соглашениям без военных надбавок) числилось за заводом на сто восемьдесят миллионов рублей. Путилов дал объяснения, то есть постарался всячески запутать вопрос, огласил фальшивые цифры задолженности и снова потребовал помощи от казны. Родзянко выдвинул вопрос о необходимости секвестровать Путиловский завод. Особое совещание проголосовало. Но голоса разделились поровну. Тогда дело поднялось выше. По мере того, как оно поднималось выше, суматоха борьбы становилась все ожесточеннее. Путилов расшевелил Мануса; Манус — Распутина. Наконец, на заседании Особого совещания было объявлено высочайшее повеление: задержать секвестр. Родзянко встал и громко высморкался, надеясь трубным гласом неистовой силы привлечь к себе внимание. В известной мере ему это удалось. Дальше последовал римский поступок. Выходя из зала, он остановился возле кресла, в котором сидел Путилов, — кит и щука. Поводя вокруг заплывшими глазками, тяжко дыша и судорожно суя носовой платок в карман широких брюк, председатель Государственной думы произнес громовым голосом:
— Все куплю, — сказало злато. Эх, господа…
И вышел из залы, грозно вздымая в приступе чрезвычайного волнения свое обширное, но тугое чрево…
…На Путиловский завод Родзянко приехал с далеко идущими намерениями. В распоряжении Главного артиллерийского управления было всего лишь четыре завода, производивших орудия: Петроградский орудийный, Пермский, Обуховский и Путиловский. Приходилось цепляться за каждый из них. Неудача в борьбе с Путиловым заставила Родзянку искать иных способов поднятия падавшей производительности Путиловского завода. Один из таких способов заключался в успокоении завода изнутри. В конце концов постоянные перерывы в работе отдельных мастерских и общие простои в связи с забастовками, а также и очевидное отсутствие патриотизма в рабочих настроениях стоили проделок мерзавца Путилова. Родзянке хотелось сперва понять причину этих явлений, а затем, по возможности, устранить ее. Для этого требовалось подойти к рабочим поближе: с одной стороны, «приласкать» их, пытаясь выудить какой-нибудь политический секрет, а с другой — «внушить», как необходимо любить отечество и служить ему не за страх, а за совесть. Путешествуя по заводу, Родзянко уже не раз останавливался и вступал с рабочими в разговоры. Но пока это было только разведкой.
— А как замечаете, ребятушки, — спрашивал он, — нет у вас на заводе язвы этой — германофильства?
Рабочие угрюмо отводили взгляд. Вопрос казался им пустым и фальшивым. Некоторые равнодушно отвечали, — так, чтобы лишь ответить, коли спрашивают:
— Не заметно…
Добравшись до пушечносверлилыюй мастерской, Родзянко очутился среди множества неподвижных станков и рабочих, сидевших возле них без дела. Было ясно: бастуют. И Родзянко решил именно здесь «приласкать» виноватых и «внушить» малоумным. Рабочие медленно, один за другим, поднимались на ноги. Но в дальних углах мастерской продолжали сидеть.
— Здравствуйте, ребятушки, — прогудел председатель Государственной думы, — все еще масленицу празднуете?
Мастерская молчала. Когда-то Родзянко служил в кавалерградском полку. Со времен военной службы он очень хорошо знал, что означает молчание солдат в ответ на приветствие офицера. Нечто подобное происходило сейчас здесь. Лицо Родзянки приняло бурачный оттенок: жирные щеки затряслись, и широкий, мягкий подбородок напружился.
— Если не желаете мне отвечать, — сердито сказал он, — неволить не стану. А если спросить меня о чем-нибудь охота, пожалуйста: отвечу по всей прямоте…
И тогда к Родзянке подступил здоровяк-рабочий, с глубоким взглядом серых умных глаз и красивой шапкой полуседых волос над невысоким лбом. Это был Юханцев.
— Позволите, ваше превосходительство?
— Спрашивай.
— Случилось мне, ваше превосходительство, не больно давно по неким делам в Екатеринославскую губернию заехать. Губерния — дно золотое. День цельный едешь — и все поля, да поля хлебные колосятся, и нет им, полям, конца-краю. А еще — лес; на сотни верст со всех сторон, ровно стена, стоит — до того силен. Спросил я тамошних: да чьи же это поля безграничные? «Его превосходительства, — говорят, — господина Родзянки». Я — про лес: чей? «Его превосходительства, господина Родзянки». Да так и пошло-поехало. О чем ни спрошу, — один ответ: «Его превосходительства…» Потому и вопросик мой: неужто же впрямь ваше превосходительство из этаких несметных богачей?
По всей неоглядной мастерской раскатилась волна глухого смеха. Внутри Родзянки что-то екнуло, словно тяжелый таранчик угодил ему в самое чувствительное место — в живот. Глазки его налились кровью, кулаки сжались. Бешенство забилось в толстой жиле на переносье.
— Н-наглец! — гаркнул он, мгновенно забыв свои намерения и весь отдаваясь наплыву удушливого гнева, — н-наглец! Под ранец, тебя!
— Руки коротки, ваше превосходительство, — усмехнулся Юханцев, — коротки! Кабы секвестр, а то…
— Что?
— Говорю: министров можно купить, а рабочих купить нельзя.
Из сумбура, бушевавшего в голове Родзянки, вдруг выскочила довольно ясная мысль: этот человек что-то знает о том, как провалился секвестр. Откуда? Эта мысль отрезвила Родзянку. Трудно сказать, взял ли он себя в руки, или просто ослабел после чрезмерного волнения, как это бывает с очень полнокровными людьми, но только выговорил более или менее членораздельно:
— Чего же вы все-таки хотите?
— Чего хотим? Демократической республики и прекращения войны. Можете исполнить наши требования к обеду, ваше превосходительство?
* * *
История провалившегося секвестра, действительно, была известна рабочим пушечносверлильного отдела от Юханцева, который держал связь с Петербургским комитетом. Положение представлялось таким: гражданские власти на заводе как бы стушевались и ушли, а военные не пришли. Поэтому, когда опасливые вздыхали: «Еще и угонят», — им возражали: «Никуда не угонят, чай, мы нужны, и бояться нечего!» Однако случилось не совсем так. Часть рабочих пушечной, явившаяся на завод за получкой, вдруг получила окончательный расчет. Побежали слухи, будто в конторе составляются списки военнообязанных, подлежащих отправке к воинскому начальнику. И затем на дверях конторы появился приказ командующего войсками Петроградского военного округа: «Забастовавшие рабочие будут немедленно заменены специалистами из нижних чинов. Все бастующие из числа военнообязанных будут мобилизованы и уже в качестве нижних чинов назначены для отбывания своей прежней работы на заводе». Рабочие читали приказ.
— Что же это? Новое крепостное право…
В обеденный перерыв у часовни собрался митинг.
— Сами вызывают… Рабочий класс показать обязан, что никакие угрозы ему не страшны…
К вечеру бастовал весь завод. А контора вывесила второй приказ командующего войсками: завод закрывается; все военнообязанные направляются в распоряжение воинского начальника. Александр Станиславович Наркевич шел из шрапнельной в пушечную, когда встретил Юханцева. События последних дней были крайне неприятны Наркевичу, во-первых, потому, что нарушали столь дорогостоящий, столь нужный во время войны порядок, а во-вторых, и потому еще, что все эти происшествия имели своим началом неудачный разговор его, Наркевича, с делегатами пушечной. И хотя было совершенно очевидно, что помочь делу теперь уже никак и ничем нельзя, но, увидев Юханцева, Наркевич все же попытался. Он сделал рабочему знак рукой, и Юханцев остановился.
— Вот видишь, — сказал Наркевич, — если бы ты был хорошим рабочим, а не большевиком, то и не пошел бы воевать. А раз ведешь себя, как большевик, пенять не на кого, — пойдешь на пушечное мясо…
Юханцев тряхнул головой и засмеялся.
— Что же делать-то, Александр Станиславович? Я и там уложу двоих таких, как господин Родзянко! Словно под ударом разрывной волны, Наркевич шарахнулся в сторону от Юханцева. Но, сделав несколько беглых шагов, остановился. Кроме диких, сумасшедших слов отчаянного человека, которые довелось ему сейчас услышать, кругом не было ничего ни страшного, ни пугающего. А между тем Наркевичу вдруг сделалось так страшно, что он подумал: «Не уехать ли с завода?» В тот самый момент, когда эта мысль пришла ему в голову, четыре сильные руки подхватили его подмышки, и Наркевич, делая бесцельные движения ногами, плавно поплыл по направлению к пушечной. Это было так неожиданно и так мало походило на все, что когда-нибудь случалось с ним до сих пор в его долгой жизни, что он ахнул и, как бы нырнув в ужас, по-воробьиному закрыл глаза. Это не был настоящий обморок, а то, что у врачей называется «абсентеизмом» мысли. Очнулся Наркевич в пушечной. Открыв глаза, он увидел, что стоит на разметочной плите. В пушечной кипело. Крики и свистки сбились в один, ни на мгновенье не смолкавший, оглушительный вопль. Его рождали собравшиеся здесь по крайней мере три тысячи человек.
— Мы еще не солдаты, а он не офицер! Учить таких надо!
Наркевич понял, что это относилось к нему, только тогда, когда два парня подкатили к плите тяжелую тачку.
— Сажай его в ландо!
На голову Наркевича набросили мешок из-под сурика и покатили тачку из мастерской, по двору, к воротам. А на воротах уже белел третий приказ командующего войсками округа: «Ввиду закрытия Путиловского завода подлежат призыву на военную службу в первую очередь:
1. Ратники I и II разрядов срока службы 1915-1916 гг.
2. Молодые люди, родившиеся в 1895 и 1896 гг.»
* * *
Беда, когда ложь становится правдой. В этакой беде не поможет никакая истина. Еще задолго до того, как Глеб Наркевич попал в вольноопределяющиеся и очутился в Бресте, отношения между ним и Александром Станиславовичем начали портиться. Отец и сын внимательно приглядывались друг к другу и почти ежедневно делали удручающие открытия: «Это мой сын?» — «Это мой отец?» Старик вспоминал свою собственную молодость — шумную, буйную, как бы сотканную из множества ошибок всякого рода. Что же? У А. Франса где-то сказано, что всех счастливей тот, кто ошибается больше всех. На исправление ошибок уходила энергия — много, очень много энергии. Но разве Александру Станиславовичу не хватало того, что оставалось еще в запасе? Оставались залежи силы — умственной и физической. Это — молодость… А Глеб? Длинный, тощий, вечно выбирающий, где и как ступить, чтобы не сойти с какой-то невидимой линии. Черт знает что такое! Вечно серьезен, потому что бездарен… О, боже! Положительно отец не был доволен сыном.
Но и сыну отец тоже не нравился. Глеба жестоко возмущала герметическая закупоренность Александра Станиславовича по отношению ко всему новому. О новом старик говорил так: «Ложка варенья к чаю — удовольствие. Но что же приятного, когда тебя вымажут вареньем с головы до ног? Трудно сказать, что хуже — слишком мало или слишком много. А по мне хоть и вовсе не будь этих ваших новостей…» Политические новости в особенности раздражали его. Он терпеть не мог политики и считал ее занятием людей, ничего больше не умеющих делать. Отвращение к «безделью» он переносил на политику, а на презрении к «бездельникам» основывал свои общественно-политические антипатии. Главным во всем этом было: не смейте посягать на то, к чему я привык. Другими словами, Александр Станиславович, человек образованный, начитанный, умный, обнаруживал почему-то совершенно неумный и невежественный взгляд на многие очень важные вещи, и в глупой наивности его было что-то в высшей степени безобразное. Глеб долго не знал, какое бы изобрести определение для этой бессмысленной предвзятости, и ужаснулся, когда нашел его: добродушная подловатость. Но определение было правильное. Постепенно сын привык к этим тяжелым словам. Он никогда не произносил их вслух, но постоянно слышал их звучащими в своих мыслях об отце и в конце концов перестал ужасаться. А это значило, что его уважение к отцу иссякло.
Однажды в воскресенье, то есть в отпускной для Глеба день, когда он обедал не в училище, а дома, зашел за столом разговор о девятом января девятьсот пятого года. Молодой Наркевич сказал:
— Пули, сразившие тогда отцов, навсегда излечили детей от сказок…
Александр Станиславович резко изменился в лице, будто сорвал с себя маску или, наоборот, надел ее. Он бросил вилку, оттолкнул тарелку и, ударив кулаком по столу, прокричал:
— Раз и навсегда: не смей в моем присутствии… понял?
— Хорошо, — тихо сказал Глеб.
С этих пор Глеб сделался дома таким же молчаливым и осторожным, как и в училище, и удивлялся, вспоминая недавнюю распущенность своего языка. Но обмануть отца он уже больше не мог. Споров между ними не было. Однако даже в кажущемся совпадении взглядов старик находил поводы для подозрений. Александр Станиславович был против секвестра Путиловского завода. Признавая практическую полезность этой меры, он решительно восставал против насильственного перенесения священных прав собственности с частного лица на государство. В самом возникновении идеи секвестра он видел нечто революционное и поэтому, не стесняясь, ругал Родзянку:
— Толстый дурак!
И Глеб не сочувствовал секвестру. Но совсем по другим причинам. Он был уверен, что никакой секвестр не сделает Путиловский завод слепым орудием войны, коль скоро рабочие не хотят служить ей; а борьба их с войной на секвестрованном заводе станет гораздо трудней и опасней. И он с чистым сердцем поддакнул отцу насчет Родзянки:
— Круглый дурак!
Казалось бы, хорошо? Ничуть не бывало! Александр Станиславович вспыхнул.
— Как ты смеешь, мальчишка! Человек, можно сказать, себя не жалеет…
И — пошло… Иногда старик обнаруживал в своих настроениях известный оптимизм. Только проблески его надежд непременно бывали связаны с какими-то неверными и пустыми предлогами. Когда в феврале шестой съезд кадетской партии принял решение о сближении с левыми партиями, Александр Станиславович был в восторге: «Теперь Россия спасена…» Когда второй съезд военно-промышленных комитетов в Москве вынес постановление об организации на предприятиях примирительных камер, установлении института рабочих старост и созыве всероссийского рабочего съезда, он опять торжествовал: «Мудро, очень мудро…» Но от всех этих скоротечных радостей не осталось и следа в тот самый день, когда Александра Станиславовича вывезли из пушечной за ворота завода на тачке и пустили идти по улице вымазанного суриком и зеленого от страха. Мягкие черты, составлявшие основу его характера, вдруг исчезли. Жесткое, резкое выступило наружу. Как бы окостенело в нем все, на чем до несчастья держались живые противоречия его натуры. Александр Станиславович как бы съежился или сжался, но вместе с тем отвердел, застыл в скучном однообразии злобы. Он ненавидел свой позор и мстил за него. Кому? Виновники были арестованы в день катастрофы. Он мстил не им, а сыну, в котором чуял не сыновнее, а какое-то совсем иное отношение к событию и к себе. С этого дня Александр Станиславович объявил молчаливости Глеба беспощадную войну.
— К сожалению, охранка плохо знает свое дело, — говорил он, пристально глядя на сына, — последняя стачка стоила «им» всего восьмисот арестов. Разве это работа!
Глебу было известно, что жертвами недавних ночных арестов стали почти все члены Нарвского районного комитета партии; что захвачено несколько членов ПК; что с одного Путиловского завода взято около трехсот человек. Но он молчал.
— Интересно бы знать, — продолжал отец, — как будет с тобой дальше, Глеб. А думается мне, что будет так. Стоит пойти по воде кругам настоящей революции, как и настанет конец твоей левизне. Тут-то ты и запросишь, негодяй, военно-полевых судов!
Глеб все-таки молчал. Но источник, из которого он до сих пор черпал терпенье, заметно мелел, отказываясь служить. Можно было бы не являться домой по субботним и воскресным дням, уходить еще куда-нибудь или просто оставаться в училище. Но при теперешних колючих отношениях с отцом это непременно повело бы к полному разрыву. Глеб же не был готов к разрыву. Он с тоской высчитывал месяцы и недели, оставшиеся до производства в офицеры и отъезда в армию. А пока… пока он стремился к сохранению любой ценой жалкого приличия за обеденным столом.
Встреча с Карбышевым показалась ему находкой. Заслуженный боевой капитан, незаурядный военный инженер, человек, расположенный к Глебу, да к тому же еще и отлично натренированный по части политической непроницаемости, — такой человек мог сыграть полезнейшую роль. Если не засыпать пропасть между отцом и сыном, то по крайней мере перекинуть через нее легкий мостик в том месте, где она похожа на простой овраг, — вот что мог бы без особого труда сделать Карбышев. Если же и это не удастся, то хоть обед сегодняшний пройдет без скандалов и ссор. Просить этой услуги у Карбышева не надо. Он достаточно зряч, чтобы заметить тучу, нависшую над домом Наркевичей и разрядить прозу. Он все поймет сам. Он… Глеб вспомнил шахматную партию в брестском магазине Фарбенковских и успокоился.
— Пришли, господин капитан. Пожалуйте!
* * *
Вступив в огромную столовую, обшитую по стенам и потолку темным деревом, с высоким, как готическая кирха, резным камином, Карбышев не столько разглядел все эти признаки роскоши, сколько ощутил их как общую атмосферу комфортабельного дома. И вместе с тем удивился неожиданному наблюдению: фронтовая отвычка от комфорта оказалась в нем такой глубокой, что теперь, здесь, в богатой квартире, где комфорта было хоть отбавляй, он смотрел на него не только равнодушно, но и с враждебным чувством отчуждения. Чтобы скрыть это, он заговорил, как только сел за стол. Александр Станиславович взвешивал гостя на привычных весах первого, как всегда, самого острого впечатления. Офицерик, натянутый, как струна, с темным, а может быть, даже и рябоватым лицом, с быстрым, свободным говорком, черными усиками кверху и резкой поворотливостью в движениях, выглядел в этой большой комнате еще меньше, чем был в действительности. Ни барственности, ни импозантности — одна «военность». Ничего обещающего…
Карбышев рассказывал о деле, по которому был прислан в Петроград. О том, как утонул его проект электризации проволочных заграждений в зыбучих песках канцелярии Инженерного комитета. Его глаза, черные и блестящие, как два нефтяных озерка, не мигая смотрели на хозяина. Он говорил смешные вещи, но не смеялся, а улыбался скупо и как бы вскользь.
— Зыбучие пески вроде тех, что есть во Франции вокруг горы Сен-Мишель… Засасывают по щиколотку, по колено, по пояс… с головой… Но меня вытащил из этой прорвы «его превосходительство, прапорщик» Шателен…
В первый раз после своего несчастья. Александр Станиславович несколько развлекся.
— Сен-Мишель… Сен-Мишель, — повторял он, — я был там, был… «Его превосходительство, прапорщик» Шателен… Да, так получается. Как бы и со мной того же не получилось…
Шателен был известный в России петербургский профессор электротехники, еще до войны принимавший участие в опытах по электризации проволочных заграждений. Недавно в качестве прапорщика запаса он был призван на военную службу. Гражданский чин действительного статского советника давал ему право называться «превосходительством» при очень маленьком военном чине прапорщика. Возникала забавная путаница. И Александр Станиславович смеялся, а Глеб благодарно поглядывал на Карбышева.
— Как же вытащил вас Шателен из трясины?
— Забрал мой проект из комитета к себе. И я могу дня через два со спокойным сердцем возвращаться под огонь.
— Под огонь? Да. Скажите, капитан, почему не дается нам, как клад в руки, большое и успешное наступление? Ведь только такое наступление может поднять упавший дух войск и тыла, — да, и тыла. В начале зимы я был в опере, на «Пиковой даме». Когда Екатерина появилась на сцене под величественные звуки «Гром победы раздавайся», кто-то в партере заплакал и убежал из театра. Вам ясно, о чем я говорю?
Карбышеву это было настолько ясно, что он схитрил.
— Я люблю музыку, но не понимаю ее…
— Как — не понимаете?
— Да, именно. В музыке много для чувства и ничего для мысли. Люблю, но не понимаю. А оперу и не люблю даже.
— Почему же?
— Потому что музыка, в наслаждении ею, требует некоторой меры. В опере меры этой нет — скучно, даже грустно. А наступление не дается нам в руки, так как оно требует умно скомбинированной деятельности огромного числа лиц и множества знаний, а того и другого мало.
— Вы совершенно правы. Ужасно, как затянулась война. Моя дочь — на фронте. Надя…
— Я знаю вашу дочь.
— Что вы говорите? Как? Где?
Карбышев рассказал.
— Значит, вы знаете и этого сапера Лабунского, за которого она вышла летом замуж?
— И Лабунского знаю.
— Что он собой представляет?
Карбышев снял с лица улыбку, словно ветер сдунул ее с его глаз и губ.
— Большой сапер…
— Так я и думал.
— Позвольте… Я не сказал ничего…
— Вы сказали больше, чем нужно. Надя досталась Хлестакову.
— Однако Лабунский — храбрый офицер и очень неглупый человек. В этом смысле я и назвал его: большой сапер…
— Ужасно, — прошептал Александр Станиславович и печально вздохнул, — ах, как это ужасно, когда теряешь детей!
Жалость к дочери почему-то восстанавливала его против сына. Надя повиновалась сердцу. А этот… Он взглянул на Глеба и сказал Карбышеву:
— Все, решительно все плохо. Вы знаете, что с Путиловского началось, а кончилось тем, что в Петрограде бастовало почти двести тысяч человек? Спасение одно: секвестр.
Глеб вздрогнул. Какие-то жернова повернулись в его груди и, уже не останавливаясь, пошли в непрерывный ход. От этого он почувствовал странное облегчение. И неожиданно обрел язык.
— А ведь ты раньше так не думал, папа, — сказал он, — и ты был прав, потому что секвестр — вовсе не средство для борьбы с забастовками.
— Почему вы так думаете? — с интересом спросил Глеба Карбышев.
— Если забастовка есть проявление мужественных желаний и политической мудрости, то чем же может помешать ей секвестр, господин капитан?
Карбышев поднял брови и с изумлением взглянул на юнкера. Раньше он не замечал этого в молодом Наркевиче, а сейчас вдруг заметил, — не только уловил, но и понял. Чем красивее эта столовая, чем импозантнее вид старика Наркевича, тем дальше от всего этого Глеб. И уж коли на то пошло, то так именно и должно быть, потому что Глеб — человек, сознательно порвавший с породившей его средой, и потому, как это часто бывает, — самый злой и непримиримый ее враг. А старик видит в сыне фанатика, презирает и ненавидит его за фанатизм. Непоправимо! И действительно жернова вертелись с необыкновенной легкостью, и Глеб продолжал говорить:
— В правлении Путиловских заводов два баланса: слепой — для всех и зрячий — для некоторых. Рабочие это знают. Как же им не возмущаться? Секвестр — это мера террора… Черного террора…
Александр Станиславович швырнул вилку под стол и ударил маленьким желтым кулачком по столу.
— Молчать! Пустоголовый…
Карбышев заступился за Глеба:
— Только не пустоголовый…
— Ума-то, может быть, и много, да не живет он никогда дома, — вот беда!
Старый лакей с короткими белыми баками прошамкал с порога столовой:
— Пожалуйте, Александр Станиславович, к телефону!
Даже и теперь, когда отец быстро вскочил из-за стола и, позабыв развязать очень белую салфетку на шее, выбежал в кабинет, Глеб еще не понял, что именно произошло. Лицо его было бледно, мельчайшие росинки холодного пота сияли на лбу, глаза горели. Он судорожно старался вспомнить, с чего началось, и как он заговорил, и что было лишнего и чрезмерного им сказано. Много! Ах, как много! Для отца — много. А для Карбышева?..
— Видите ли, господин капитал, — сказал Глеб, — завод получил огромную ссуду от казны под условием… Он должен освоить производство шестидюймовых снарядов… А они… И папа… Они тянут, мешают… Путилов не хочет… Когда об этом знаешь, господин капитан, нельзя не возмущаться… Вот и все!
— Все?
Глеб не успел ответить. В столовую вошел. Александр Станиславович. Лицо его по цвету ничем не отличалось от салфетки. Карбышев сразу заметил это.
— Завод секвестрован, — сказал он хрипло и упал на стул у двари.
* * *
Секвестр Путиловского завода был произведен решением Особого совещания по обороне государства. Старое правление из русских дельцов и французских банкиров было заменено новым из генералов военного и военно-морского ведомств. С должности председателя правления ушел Путилов; на его кресло сел известный профессор судостроения генерал-лейтенант Крылов. Путилов жаловался на действия правительства Всероссийскому съезду промышленников, собравшемуся тогда в Петрограде. «Это хуже немца! — говорили он и его подручные, — правительство идет по ложному пути, по пути социализма; оно угрожает промышленности полным расстройством. Если так будет продолжаться, нам ничего не останется больше, как закрыть наши предприятия. И ни один частный рубль не будет больше вложен в производство, связанное с работами по обороне страны…»
Уезжая из Петрограда, Карбышев ничего не знал об этих последних доказательствах путиловского патриотизма. Да, впрочем, после всего, с чем довелось ему столкнуться в Петрограде, он мог легко обойтись и без этих сведений. Он приехал сюда с фронта, убежденный в том, что война должна кончиться непременным поражением России. И уезжал теперь на фронт в твердой уверенности, что неизбежным следствием поражения будет революция.
В течение долгого времени Карбышев понимал одно и не понимал другого из происходившего вокруг; одно казалось ему ясным, другое как бы плавало в тумане. И лишь теперь настала минута, когда все ему стало понятно и ясно. Минута давно готовилась прийти, и он ждал ее, как слепой ждет перед операцией прозрения. Но она пришла внезапно — у Нарвских ворот, — пришла и осветила мгновенной молнией холодного огня все самые темные закоулки сознания. Мир стал виден, как в яркий полдень, а ведь была грозовая, «воробьиная», ночь, удары грома сыпались на землю, и стойкий блеск зарниц казался чудом. Карбышев вдруг все понял — кто прав, кто виноват и как распутывается узел лжи, скрученный историей из прошлого, и какая поднимается впереди единственная по величию своей правды цель. Просветление было мгновенным. Но этой вспышки разумения было достаточно, чтобы никогда больше никакие вихри тьмы уже не могли потушить внутри Карбышева огонек постижения. Конечно, не стал Карбышев сразу другим. Но и прежним уже не был.
Глава десятая
К весне шестнадцатого года русская армия окончательно рассталась с бесшабашным, казенным патриотизмом. В победу больше никто не верил. Все задавали один вопрос: «Чем все это кончится?» Но люди, которые, подобно Карбышеву, могли бы совершенно правильно ответить на этот вопрос, встречались пока не часто. Нервы армии натягивались и дрожали из-за постоянных неудач, вроде наступления на Поставы. Карбышев болезненно и горько переживал эти настроения. Собственные дела его тоже не ладились. Все еще ничего не получалось с переходом в пехоту. В Петрограде, с помощью братьев фон Дрейлинг, он возобновил свое домогательство, просясь теперь на Северный фронт, в Кременецкий пехотный полк. Необычность просьбы и путей, по которым она двигалась (Главный штаб), обещала как будто успех. Но его не было. «Главнокомандующий Северным фронтом, в виду острой нужды в военных инженерах по их специальности, не признал возможным принять меры к переводу капитана Карбышева, тем более, что и согласия начальника инженеров Юго-Западного фронта на перевод не последовало». Начальником инженеров Юго-Западного фронта был Величко, недавно произведенный в «полные» генералы и неудержимо входивший в небывалую силу. Итак, дело стояло на месте. Казалось, что вместе с ним остановилось и вообще все. И, не возникни вдруг впереди живого призрака нового большого наступления, Карбышев, может быть, впервые в жизни несколько пал бы духом…
Май в Восточной Галиции — скучное время непрерывных, каких-то беспросветных дождей. В этакую скверную непогоду отлично бывает укрыться под окопным козырьком, занавеситься сбоку палаточным полотнищем, а то и простой рогожей. Сразу становится так тепло и уютно, что глаза сами закрываются, и тело падает на банкет. Но теперь сонливость отлетела. Глаза не закрывались и по ночам. Генерал Азанчеев восстановил в своей дивизии вечерние поверки с музыкой. Солдаты говорили: «Вот бы в атаку с музыкой! А?» Обегая работы своей строительной партии, Карбышев налетел на худенькое, совсем малорослое существо в серой шинели, прикорнувшее у крайнего окопа. Завидев офицера, существо вскочило и вытянулось.
— Что, брат, и детей никак в солдаты берут?
— Мы не дети, — басом ответил мальчик с винтовкой и улыбнулся довольной и хитрой улыбкой.
Слухи о скором большом наступлении росли, росли, росли. И от слухов этих преображались войска…
* * *
В мае фронт Восьмой армии занимал позиции от Новоселок до Детиничей. Было известно, что атака намечена между Дубиссой и Корытом, а нанесение главного удара возложено на армейский корпус, стоявший южнее Носовичей. Именно этот восьмиверстный участок был преимущественно удобен для подготовки атаки тяжелой артиллерией. Кроме того, здесь перехватывались главнейшие пути через Олыку и Луцк. Готовились тихо, но обстоятельно. Износившиеся за зиму пушки были отремонтированы и вполне годились для точной стрельбы по проволоке. Армия получила три тяжелых дивизиона, то есть двадцать четыре шестидюймовые гаубицы и двенадцать сорокадвухлинейных орудий. А ведь совсем еще недавно, летом, невозможно было бы собрать и полдюжины тяжелых пушек. Во множестве появились бомбометы и минометы — траншейный тип орудий, незаменимый при большой сближенности с противником. Подходили самокатные, броневые, даже авиационные части. Винтовки были разных систем. Зато патронов — вволю. И артиллерийских снарядов — тоже. Добавили пулеметов. Сформировали гренадерские команды и вооружили их гранатами и бомбами. Инженер-генерал Величко разъезжал по армиям и корпусам фронта, внушая, втолковывая, разъясняя пехотным, артиллерийским и инженерным начальникам важнейшую новую мысль: исходная позиция для атаки — укрепленный плацдарм. Собственно, Величко уже открыл наступление. Все, что ни делалось на позициях, исходило от него.
Инженерные плацдармы на участках прорыва представляли собой укрепления из десяти-двенадцати параллельных траншей; на прочих участках — из шести-восьми. Между траншеями тридцать-сорок саженей; множество траверзов и блиндажей. В тыл уводили сквозные ходы сообщения по одному на роту, да еще по два на полк — для раненых. Работа кипела, и Карбышев кипел в ее огненном водовороте. Вдруг так все сложилось, что некогда стало и вспомнить ни о неудаче с переходом в пехоту, ни о дурацком несоответствии между фортификационной теорией и практикой. Формы инженерных работ на участках будущего прорыва прямо выводились новой идеей Велички из общей тактики и средств военной борьбы. Карбышев видел, как воскресли, живут, превращаются в реальность его давнишние смутные мысли. Счастливая способность додумывать общее в деталях помогала ему не просто исполнять приказанное Величкой, а и участвовать в этом огромном изобретательстве своей собственной находчивостью и своим мастерством. На смену холодной скуке пришла жаркая работа воображения. Когда вдохновение слетало на Карбышева, чтобы отдать ему свои крылья, он становился художником и творцом. Он нес свое богатство в себе. Но разделить это богатство с теми, кому дорог и приятен его драгоценный смысл, было живой потребностью. И среди таких людей вдруг очутилась его жена.
Лидия Васильевна не успевала налюбоваться своим быстрым, без излишней хлопотливости, но вечно деятельным мужем. Многое, очень многое в нем казалось ей необыкновенным по новизне и завлекательности. Он рвался вперед, и ей хотелось поспеть, не отстать. Да только ли в этом дело? Никто не умел быть таким веселым, как Дмитрий Карбышев — Дика; никто не шутил неожиданней и смелей, чем он. Не было, пожалуй, человека на свете, который спорил бы так остроумно и легко. Его деловитость была аккуратна, точна, определенна, последовательна. И вместе с тем никто не любил так жизни, не отдавался ей с таким полным наслаждением. Дика представлял собой загадочное и редкое сочетание доброты и строгости, широты побуждений и железного чувства долга. Такие люди совершают подвиги, из них выковываются герои. Этого Лидия Васильевна не знала. Но зато она ловила, как счастье, короткие минуты отдыха и свободы, когда оставалась один на один со своим мужем, стараясь разглядеть в нем главное и сделать это главное по преимуществу своим. В иные мгновения нежной и глубокой близости это казалось возможным и почти удавалось. Но никогда не удавалось вполне. Дика был тут, рядом; душа его раскрывалась: входи. И вдруг исчезало то, без чего невозможно войти в душу другого человека — даже мужа, даже жены. А вот для Дики подобных препятствий не существовало. Он овладел решительно всем, что таила в себе скромная, доверчивая, неприхотливая натура его жены. Во всем уступая ему, Лидия Васильевна была счастлива и благодарна судьбе. Одного лишь не могла она понять: как же случилось, что тот «первый встречный» офицер, которого она боялась и дичилась в Шендеровке, и есть ее теперешний Дика? Работая дома над чертежом или обегая на позициях черно-красные кучи свежевырытой земли, Карбышев любил говорить о том, что он делает. Ему всегда казалось, — да, так, наверно, и было, — что мысль, сходя на язык и отливаясь в слове, как бы закрепляется, приобретает отстойчивость реального явления, становится живой, деятельной и постоянной. Мысль, когда она высказана, имеет вид и форму. Высказываясь, она оттачивается, проясняется. Карбышеву были необходимы слушатели. И одним из самых внимательных его слушателей сделалась Лидия Васильевна. Как ни были они оба заняты, — он на позициях, она в дружине, — все же им удавалось выгородить изредка час, другой для прогулки вдвоем.
— Как хорошо! — говорила Лидия Васильевна, оглядываясь по сторонам — на леса, холмы и перелески.
— Природа — вещь не дурная, — соглашался Карбышев, — но ведь не на столько же, чтобы человеку стать на четвереньки и побежать в лес, а?
Они смеялись оба, и Лидия Васильевна не замечала, как прогулка превращалась в лекцию. Они ходили по местам, где созревала атака, копилась энергия прорыва в могучих силах смертельной борьбы. Лидия Васильевна прилежно слушала все, что говорил ей муж о предстоявшем наступлении, и думала: «Вероятно, только очень талантливые профессора в избранных аудиториях умеют так красиво, понятно и вразумительно говорить о войне».
— Главный наш недостаток в том, — говорил Карбышев, — что мы не наваливаемся на врага сразу всеми фронтами. А ведь только таким образом и возможно лишить противника выгод действия по его густым внутренним путям. Задача в том, чтобы запретить противнику перебрасывать свои войска, куда ему хочется…
— Да как же запретить?
— Навалиться сразу всеми фронтами! А иначе всегда будет так, что именно на том участке, который мы атакуем, и как раз в назначенное для атаки время противник окажется сильнее нас и техникой и числом. Ведь верно?
Карбышев тепло и сочувственно говорил о тяжелой судьбе пехоты:
— Довольно губить пехоту! Сначала должен работать летчик, потом сапер, затем артиллерист, и только за ним — пехотинец со штыком…
— Почему?
— Летчик сделает съемку с аэроплана, сапер построит плацдарм, артиллерист пробьет брешь. Вот и получается, что пехотной атаке должна предшествовать инженерная и артиллерийская. Верно?
Действительно, с пехотой как будто начинали обращаться по-новому. Уже и речи не было о том, чтобы атаковать с сумасшедших расстояний в версту и более, как в прошлом или позапрошлом году. По ночам ходы сообщения выдвигались на сотню или две сотни шагов вперед, параллельные линии свежих окопов обносились рогатками и проволокой. В проволоке делались коленчатые выходы для атакующей пехоты; командиры полков принимали эти выходы по всей форме. Между исходной параллелью нашей атаки и австрийскими позициями, на участках будущего прорыва, расставлялись бомбометы. Строились наблюдательные пункты и снарядные погребки для батарей. Постепенно укрепления принимали вид «совершенства», без которого самой лучшей пехоте в мире не поможет никакая «большая» кровь…
* * *
Двадцать первого мая, в три часа утра, русская артиллерия открыла подготовку штурма австрийских позиций. К этому времени стрелки были уже выведены из передовых окопов в убежища. В окопах остались только наблюдатели да еще пулеметы на пунктах, с которых легко просматривались подступы. Батареи довольно скоро пристрелялись. Летнее утро было солнечное, безветренное, и цели виднелись превосходно. Полевая артиллерия методически разрушала проволочные заграждения. Выполнялся приказ: «Только результатами определяется успешность артиллерийской подготовки; следовательно, во времени подготовка ограничена быть не может. Число проходов в заграждениях — доводить до четырех на участке каждой роты первой атакующей волны, при ширине до двадцати шагов каждый». Огонь мортирных батарей громил фланкирующие постройки. Бруствера разваливались. Столбы песка и дыма, бревна и доски летели вверх. К одиннадцати часам утра проходы в проволочных заграждениях обозначились. К семнадцати они были готовы и достигли ширины, названной в приказе. Стемнело. Первая линия неприятельских окопов, засыпанных землей, изуродованных, казалась вовсе обезлюдевшей. Точно в сотни черных ям, оставленных взрывами, без следа провалились занимавшие ее с утра люди. Артиллерийский огонь стих, но не затих. Редкий шрапнельный обстрел с русской стороны продолжался: надо было помешать противнику работать над исправлением повреждений. Между тем разведчики и подрывники расширяли проходы. Прямо против проходов устанавливались пулеметы и ружья на станках[18]. От времени до времени они давали очередь. Австрийцы отвечали из траншейных орудий и огнеметов. Земля вспыхивала то здесь, то там стайками пыли. Так отдымила, отбагровела эта ночь…
С пяти утра артиллерия снова загрохотала.
— Пора начинать.
— Пора. Чего же не начинают?
— Во втором батальоне проходы не пробиты.
— А у нас?
— Как будто четыре чистых.
— Гранаты роздали?
— Да.
— Ну, так с богом!.. — сказал Заусайлов и махнул рукой.
…Поле было ровное и гладкое, как ладонь. Виднелись хаты, сад и перелесок. Виднелись висящие в воздухе клочками белой ваты плотные дымки неприятельской шрапнели и черные клубы рвущихся снарядов. Из окопов выскочили штурмовые группы. Впереди бежали разведчики, за ними — дозоры головных рот; за дозорами — густые цепи. Позади — пулеметные команды. Скрежетали в небе снаряды, вились серебристые таубе, звонко пели пули. Заусайлов бежал позади цепей и покрикивал:
— Живо, живо, ребята! Главное — живей!
Цепи наседали одна на другую, вливаясь в проходы между проволокой. Скоро проходы остались за спиной. Солдат что-то взбрасывало на бруствер. Застыв в мгновенном колебании, словно подумав о чем-то, они прыгали отсюда в глубокий ров австрийских окопов. Вдруг огонь артиллерийской поддержки смолк. Это начальник дивизии генерал Азанчеев приказал не переносить огня на вторую линию окопов противника, пока штурмовые группы не пройдут проходов в ее заграждениях. А в тылу первой линии уже гремело и ухало, — гранаты летели в лисьи норы австрийцев…
Атака захватила Карбышева на рабочем участке. Он видел эту грозную картину и радостно удивлялся ее красоте. Войска шли без остановок, без отсталых. Ясное, почти веселое выражение светилось на лицах солдат, — оно бывает лишь в тех случаях, когда подъем духа высок и чист. Сегодня люди начальнически обращались со смертью, им и на мысль не шло бояться ее. Пробежал Заусайлов, Карбышев пробежал — легкий, быстрый, крепко и ловко пружиня на сильных ногах. Он сжимал в руках солдатскую винтовку и на бегу проверял ее затвор.
У хаты, под навесом, за вербами развертывалась санитарная летучка какого-то союза. Фельдшера распаковывали свертки с марлей, ватой и бинтами. Врач раскладывал инструменты. Вот и первые раненые… Вот и пульки — длинненькие, сплющенные на концах, цвета красной меди, сами выпадающие из безобразно развороченных выходными отверстиями человеческих тел. Земля курилась под железным горохом осколков. Санитары ползли, волоча за собой носилки.
— Сестрица, ушли бы на пункт… Где же тут?
Лидия Васильевна перевязывала раненого.
— Кладите!
Ее красивые серые глаза, выражение которых бывало обычно чуть-чуть испуганным и как бы несколько изумленным, быстро глянули на санитара.
— Кладите без разговоров!
Серые глаза были сейчас серьезны и строги. Лидия Васильевна распоряжалась; она приказывала. И санитар заспешил, поднимаясь с колен. Жаркий ветер атаки развевал белую сестринскую косынку. Пробегая неподалеку, Карбышев приметил косынку, склоненную над серо-зеленой травой и еще над чем-то, тоже серо-зеленым. «Не может быть!» — мелькнуло в голове Карбышева. И он тут же понял, что очень даже может быть, и почти наверно так: она…
Когда штурмовые части ворвались в австрийские укрепления, стало понятно, куда пропали их гарнизоны. Австрийцы сидели в лисьих норах. Несколько гранат, удачно брошенных в отверстия нор, заставили их заорать:
— Сдаемся! Сдаемся!
Они толпились у выходов и, подняв руки, а дула ружей уперев в землю, вопили:
— Сдаемся!..
Лидия Васильевна умела приказывать под огнем. Но у нее было начальство, которое также умело приказывать. И поэтому ей пришлось перебраться сначала с поля под вербы, а из-под верб — в деревню Петушки, очень далеко от огня, где тянувшая третью линию военно-рабочая дружина, требовала щей и каши. Обед был в половине, когда рабочие вдруг побросали ложки и закричали:
— Ура! Пленных ведут!
Сперва показались маленькие группы пленных, а потом они потянулись целыми вереницами. Австрийцы шли, смеясь, а немцы, потупив головы. Офицеры оглядывались с любопытством. Батарейная прислуга несла замки и панорамы.
— Ура! Ура!
Из Петушков было очень хорошо слышно, как ружейный огонь отступал все дальше и дальше, становился все глуше и глуше и, наконец, совсем затих в глубине неприятельского расположения. Начинало темнеть. К западу и к югу от Олыки, во многих местах загорались пожары, — противник, отходя, жег свои склады. А пленные все шли и шли…
* * *
Развитию прорыва под Олыкой много помог хорошо задуманный и отлично направленный фланговый удар. Самый прорыв удался легко. Странно было видеть австрийскую позицию с огромным числом глубоких лисьих нор, солидных бетонных капониров и наблюдательных пунктов, превосходно оборудованных траншей и сильных препятствий, которая так быстро и бесповоротно очутилась в русских руках. Да и все наступление велось умело и настойчиво. Войска повсюду сбивали противника глубокими охватами флангов и забирали тысячи пленных. На второй день атаки брали окопы, траншеи и укрепленные деревни по преимуществу штыками. А на третий день овладели Луцком. Противника как бы не стало впереди. Пленных просто ловили. Обозные солдаты приводили австрийцев толпами. Неприятель как бы утратил способность сопротивляться и в отчаянии разбегался. Луцк — маленький город с крохотными домишками, похожий на курортное местечко, — зелень, чисто, гладь каменной мостовой. Над густыми деревьями городского парка, на высоком холме, торчат изъеденные временем, исщербленные по верху мелких бойниц стены с тремя огромными башнями по углам. Квадратные окна, наличники серого камня, узорчатые пояса на древних зданиях замка, — это и есть, собственно, Луцк. Здесь опять были взяты в плен немцы из резервной дивизии, только что подвезенной из Пинска. Пленные показывали, что войска первой линии луцких укреплений потеряли убитыми и ранеными восемьдесят пять процентов, а пленными — пятнадцать; во второй линии было убитых и раненых столько же, как и пленных; а в третьей линии не было ни убитых, ни раненых — все сдались в плен.
Эти дни были днями кризиса войны. Под угрозой русских ударов вдруг очутились все австрийские войска, сражавшиеся на русском фронте, все их штабы, тылы и обозы. Двести тысяч австрийских солдат сдались в плен. Несколько армий разбежались. И тысячелетняя монархия Габсбургов застыла в оцепенении над пропастью. Как всякий кризис, и этот тоже предрешал дальнейшее развитие борьбы и ее исход. Все зависело теперь от того, будет ли завершено действие с одной стороны, и хватит ли у другой сил и средств для того, чтобы восстановить противодействие.
Двадцать шестого мая Восьмая армия получила приказ: закрепиться центральными корпусами на линии реки Стырь и выравнять отставшие фланги…
* * *
Опрокинутые под Луцком австро-германцы отходили за реку Стоход. Русские войска преследовали их неотрывно. Двухнедельный период подравнивания флангов и перегруппировок, когда казалось, что инициатива действий на Юго-Западном фронте переходит к противнику, миновал. Наступление возобновилось, но уже без порывистой и сокрушительной энергии, которой были ознаменованы его первые дни. Вдоль всего фронта лили дожди. Реки поднялись на десять-двадцать футов. Как и в начале войны, перед русскими войсками открывались разрушенные противником дороги и мосты. А позади тянулись бесконечные обозы первого разряда — великое множество фур, штабных, санитарных и груженных офицерскими вещами. Повозки вязли в грязи, лошади рвались и задыхались от натуги, кнуты свистели и щелкали, ругань и проклятия ливнем опрокидывались на исполосованных животных, — все было так, как тому положено быть в обозах.
От генерала Азанчеева прискакал ординарец. Требовались карты Стохода и его неоглядных береговых луговин. Но, — это тоже так бывает в обозах, — фуры с картами куда-то отбились. Не решаясь ехать назад с пустыми руками, ординарец рыскал между повозками, кричал, наскакивая, грозил. Между тем обоз втягивался в город, еще жаркий от вчерашних боев, с наглухо забитыми в домах окнами и дверьми, дымившимися на всех перекрестках кострами, грудами трупов на мостовых, провалившимися крышами и наземь опрокинутыми телеграфными столбами. С высоты перегруженной фуры, на которой ехала Лидия Васильевна, ей особенно дикой показалась в этом разрушенном городе почему-то сохранившаяся вывеска: «Нотариус Валецкий». Она несколько раз мысленно повторила это смешное здесь слово: «Нотариус…» Экая, в самом деле, глупость: нотариус, когда кругом все вверх ногами!.. Фура с Лидией Васильевной была первой в обозе инженерных партий корпуса и выполняла роль вожака с колокольчиком во главе верблюжьего каравана. Только вместо колокольчика звенел голос Лидии Васильевны.
— Савельев, направо, направо! К реке!
Лидия Васильевна не выпускала из рук полученной от мужа карты берегов Стохода. Глядя то на ее серо-зеленые квадраты, то по сторонам, она необыкновенно быстро выучилась разгадывать топографический ребус. На протяжении семидесяти верст от Петушков она видела, как бежит шоссе, то круто взлетая кверху широкой каменной полосой, то ныряя вниз между рвами; как громоздятся голые увалы на волнистом поле, группируются холмы и купы деревьев. И все это без труда отыскивалось на карте. Она вела обоз как заправский вожатый.
— Савельев! Правьте налево, к кустам, к перелеску!
— Сестрица!
Ординарец из штаба дивизии почтительно держал руку у козырька. У него было умильное, почти умоляющее лицо. Можно было поручиться, что он и не знает ни одного грязного ругательного слова.
— Сестрица! Как есть, без вас пропада-и-им!
— Да что вам нужно?
— Как вы по карточке восклицаете, — ее самую!
Впереди лежало низкое болотистое поле. Глубоко увязшие в нем автомобили и трупы палых лошадей — везде, куда глаз хватал. Мох и ржавые кочки — по обе стороны шоссе. Лидия Васильевна взглянула на карту. До Стохода — рукой подать. Ординарец рассказывал о своей беде.
— Выручай, сестрица!
И она отдала ему карту.
* * *
Целые дивизии выходили на Стоход, вооруженные трофейными австрийскими магазинками. Восьмая армия почти без боя форсировала реку и заняла двенадцатью дивизиями участок восьмидесятиверстной длины. Известно, что позиция возникает там, где захлебнулась последняя волна атаки. Для грозного летнего наступления шестнадцатого года Стоход оказался пределом. Дальше наступление не пошло. Гвардейский егерский полк взял штурмом высоту Переходы. Гвардейский Преображенский полк с боя овладел Рай-Местом. Но это были случайные мелкие успехи, которые ничего не меняли в общем положении. Зато с выходом на Стоход тотчас же начались и развернулись громадные работы по закреплению занятых позиций.
С неуловимой для глаза медленностью река струилась по широкой болотистой долине. Кое-где долина казалась доступной для перехода лишь одиночных людей; кое-где через нее могла бы переправиться и колонна пехоты; но для артиллерии положительно нигде не было путей. Итак, сооружение переправ было первым, самым необходимым делом, лежавшим на Карбышеве. Он придумал нарастить сваи ледорезов шоссейного моста и устроить по ним переход для артиллерии и конницы. Переход оказался узким; переправляться по нему приходилось с предосторожностями. Следить за порядком переправы Карбышев приказал саперам. Пехота заготовляла плетни для прикрытия заболоченных мест.
Два моста на поплавках Полянского уже были наведены, когда неприятельская артиллерия разбила их один за другим. И понтонный мост навести тоже не удалось, — австрийцы пробили восемь полупонтонов. Тогда пошел в дело русский плотничный козел. Лучшего устоя для полевых мостов, чем такой козел, не существовало. Он пропускал обозы, легкие пушки, а под грузовыми автомобилями и бронемашинами ломался. Карбышев придумал: козлы сбивались легко и негромоздко, но обязательно усиливались парой подстрелин с каждой стороны. И, усиленные таким способом, уже не ломались, не трещали даже и тогда, когда на перекладину их ложилась тяжесть четырехсот пудов. На реке строились переправы; за реку выносились сильные предмостные укрепления; вдоль реки рылись окопы и плелась проволока.
В это горячее время на контору карбышевского участка как с неба упал инженер-генерал Величко. Он ездил из армии в армию, по позициям, по войскам, — толковал с командующими армиями, командирами корпусов, с начальниками дивизий и командирами полков. Ни один инженерный офицер, исполнявший обязанности корпусного инженера, не ускользал из-под его опеки. Именно в таком положении находился Карбышев. Но, когда Величко приехал, Карбышев был за рекой, и в конторе, около которой остановился генеральский автомобиль, находились только Лидия Васильевна да письмоводитель. Величко всегда бывал очень любезен с женщинами и как-то пришуренно-ласков в разговорах с ними. Чем женщина была моложе и красивее, тем больше походила любезная прищуренность сморщенного генерала на волокитство. Всегда бодрый, веселый, жизнерадостный и приветливый, живо всем интересующийся, радушный, простой в обращении, доступный, тактичный и деликатный, он достигал не одних лишь деловых и служебных успехов.
— Супруга подполковника Карбышева?
— Капитана, — поправила Лидия Васильевна, почему-то вспыхивая и стараясь не видеть упрямо-любопытных генеральских глаз.
Но Величко настаивал на своей ошибке.
— Подполковника, — повторил он, целуя руку Лидии Васильевны и задерживая ее у своих губ чуть-чуть дольше, чем это было нужно, — именно подполковника, моя очаровательная молодая хозяйка. Прошу вас, не спорьте, — я лучше знаю. Где же ваш счастливый муж?
— Мой муж… — Лидия Васильевна вдруг поняла, что должно было означать в устах генерала слово «счастливый», и вспыхнула еще раз, окончательно и бесповоротно, — он за рекой, ваше высокопревосходительство…
— Будь я помоложе, это можно было бы принять за удачу. Впрочем… Новости, которые я привез, одинаково интересны как для вас, так и для вашего мужа. Прежде всего дайте мне вашу маленькую ручку, и я…
Генерал вынул из кармана и положил на ладонь Лидии Васильевны коробочку и пакет.
— За оказание первой медицинской помощи раненым под огнем в первый день луцкого наступления вы награждаетесь, милостивая государыня, медалью на георгиевской ленте. Поздравляю! Поздравляю!
И Величко несколько раз подряд приложился к руке с крепко зажатым в ней сюрпризом.
— Что еще? Пожалуйста. Вот приказ о пожаловании вашему мужу подполковничьего чина за геройское участие в отражении последней вылазки из крепости Перемышль. Вы хотите сказать, что дело с производством задержалось? Не потому ли, что Карбышев еще не был на вас женат, когда его представляли к награде? Вы этого не думаете? Возможно, возможно… И еще одно дело задержалось. Вы не будете на меня сердиться? Я категорически отказал вашему мужу в согласии на его переход в пехоту. Главнокомандующий Северным фронтом — против, я — против; уступите же, ради бога, двум старикам — Куропаткину и мне. Разве мы не стоим того, чтобы нам иногда чуть-чуть уступали?
Величко молодецки повернулся кругом и оглядел контору.
— В пехоте очень, очень скучно служить, моя очаровательная полковница. А это кто?
Он указал на стоявшую у притолоки долговязую фигуру.
— Письмоводитель.
— Может этот полководец что-нибудь ответить на вопросы о тыловых укреплениях?
— Он поляк и очень плохо говорит по-русски…
— Жаль, чертовски жаль! А-а-а! Наконец-то я понял причину всех этих затруднений: вы хотите, чтобы я вызвал сюда вашего мужа? Правда?
Лидия Васильевна испугалась. Ей это и в голову не приходило. Испугалась же она потому, что подумала: неужели мог генерал заподозрить ее в такой хитрости? Надо было немедленно отвести подозрения. И наивная искренность тревоги звонко отозвалась в ее свежем, чистом, слегка дрожавшем от волнения голосе:
— Вы ошибаетесь, ваше высокопревосходительство… Письмоводитель не умеет… Он совсем непонятно говорит по-русски… Но какие вопросы вы хотите задать? Я кое-что знаю… Может быть, я…
— Ах, как интересно! — воскликнул довольный Величко, — вот это хорошо! Идемте же скорее на позиции, ведите меня на позиции как можно скорее…
Лидия Васильевна наспех собиралась с мыслями, вспоминая прогулки с мужем по здешним тылам. «Вот тут хорошо бы было окопчиков нарезать, — говорил Дика, — здесь бы пулеметные гнезда…» И объяснял, почему и какие именно необходимы здесь окопы и гнезда; действительно окопы рылись, гнезда строились. Позиции представляли собой укрепленную полосу из трех линий окопов, общей шириной в три, версты. Где лес, там рубились засеки. Где искусственные препятствия были слабей, громоздились беспорядочно куски рогаток и ежей. Лидия Васильевна показывала направо и налево маленькой рукой и докладывала:
— Вот окопы полного профиля, для стрельбы стоя на дне ровика, с колена, лежа… Вот ходы сообщения — целая сеть, густая… Вот места для батарей, для наблюдательных пунктов…
— Так, так, — говорил Величко, — правильно, вижу, вижу… Окопы вынесены вперед. Устроен укрепленный плацдарм. А зачем он устроен? Ну-ка, ну-ка?
— Да как же?! — воскликнула Лидия Васильевна. — Как же иначе? Ведь это укрытия для штурмующих войск! Здесь перед атакой…
Величко закрутил седой головой.
— Знаете урок, знаете… Довольно! Садитесь! Двенадцать баллов! Но шутки в сторону, я благодарен вам за толковый и вполне компетентный доклад. Почему бы не быть вашему мужу подполковником, если вы сами по себе такой хороший капитан! Работают ополченские батальоны? Восемь-двенадцать батальонов — рабочая инженерная бригада. Лучше вольнонаемных?
— Еще бы! — с горячностью подтвердила Лидия Васильевна, — если взять батальон в тысячу человек, а вольнонаемных три тысячи, — батальон гораздо больше наработает.
Величко слушал с удовольствием.
— Рабочая сила пеших войск сделает все, лишь было бы из чего, да лишь бы руководство работами было правильное.
Генерал высказал эту серьезную мысль, и оттенок шантеклерства, лежавший до сих пор на его объяснениях с Лидией Васильевной, вдруг исчез. Из первой серьезной мысли родилась вторая, такая же, потом третья. Он уже подводил итоговые черточки под. отдельными сторонами опыта, данного луцким прорывом. Только речь его теперь обращалась не к Лидии Васильевне, а к кому-то еще. К кому же?
— Слабость австрийских тыловых оборонительных полос обозначилась совершенно, — говорил он, как бы рассуждая сам с собой, но только почему-то вслух, — дело в том, что первая линия у них несет на себе всю тяжесть обороны, а общая схема полос лишена глубины. Нет, мы повторять эту глупость не станем…
Ни на день не сходя с боевого поля, ни на час не отрываясь от войск, Величко уже успел написать и готовил в то время к изданию инструктивную брошюру со множеством чертежей под названием: «Описание и критическая оценка укрепленных позиций противника». Вдруг его дряблое лицо сморщилось. Тусклый взгляд серых глаз растаял под стеклами пенсне. И стало очень ясно видно, как он некрасив.
— «Удивить — победить», — говаривал Суворов. Мы так и сделали. В результате…
Он взял Лидию Васильевну под руку и, по-стариковски оседая на ноги, зашагал по гребню высокого земляного навала.
— В результате огромных успехов луцкого прорыва мы выскочили на гребень. Точь-в-точь, как сейчас с вами. Это была важнейшая минута. Хвати у нас духа, можно было бы бросить позиционную войну и перейти к широким маневренным операциям. Но духа не хватило. Вместо броска вперед мы начали хлопотать об укреплении захваченных территорий, выписывать из России инженеров… Знаете, в чем кроется непоправимая беда, в чем проигрыш великой победы? Я вам скажу: в момент небывалого до сей поры успеха мы боялись поражения. Перед нами лежал простор для маневра, а мы… скучали по обороне!
* * *
Скверно было осенью в окопах на Стоходе. В перелесках под живыми клубами светлого тумана дышали смертью гнилые полянки — топи. Из мешков с песком наваливались валы в рост человека. Но валы уходили вниз, и мешков требовалось все больше и больше. С вечера до утра солдаты рыли канавки для отвода воды из окопов, выкачивали воду, настилали мостики, поправляли постоянно осыпающиеся откосы, чистили ходы сообщения, устанавливали котлы для варки завтрака. В землянках было черно да мокро, зыбко под ногами, парно, как в бане. Солдаты уже не снимали ни шинелей, ни фуражек, ни облепленных полужидкой грязью сапог — так и спали. А перед тем как заснуть, подолгу жались к печкам, с шипящими на них закоптелыми чайниками, — самая рассобачья жизнь!..
Так было осенью шестнадцатого года на Стоходе — впереди. А позади лежали в руинах захваченные летом с бою австрийские укрепления, с великолепными бетонными убежищами, трехполосными проволочными заграждениями, отсеками, прекрасно разработанной фланговой и артиллерийской обороной. Белый туман полз над лугами и неслышно переваливался через пустые позиции. А ведь еще совсем недавно они казались неодолимыми, как смерть!..
* * *
Подвешенная к потолку лампа ярко горела в комфортабельной землянке генерала Азанчеева, бросая на стол яркий круг белого света. За столом сидели друг против друга Величко и хозяин. Несколько поодаль от них, на кресле, в обнимку с толстым портфелем, расположился немолодой прапорщик, коренастый и плотный, с большим, открытым лбом. В землянке был ещё Карбышев. Величко и Азанчеев спорили. Предмет их спора не заключал в себе ровно ничего личного. Но, кроме простого расхождения во взглядах, между спорщиками стояло что-то злое и непримиримое, от чего и разговор их походил на ссору. Ни горячившийся Величко, ни холодно-вежливый Азанчеев отнюдь не имели надежды в чем-нибудь убедить друг друга. Они спорили только для того, чтобы разрядить враждебную напряженность своих чувств.
— Когда в середине июня противник усилился и перешел в наступление, — говорил Величко, — мы упустили драгоценное время, занимаясь перегруппировками. Порыва нашего хватило для прорыва, но для использования успеха уже не нашлось ни средств, ни сил, ни резервов, ни техники. Произошла удивительная вещь: удача нашего наступления вызвала растерянность не только у австро-германцев, но и у нас. Даже в большей степени у нас, чем у них. А много ли мы делали для того, чтобы подкрепить наш напор преодолением собственных преград… а? Например, сопровождение артиллерии… а? Что же удивительного, что мы завязли теперь здесь, на Стоходе?..
— Ваше высокопревосходительство, — сейчас же возразил, отдуваясь, Азанчеев, — упускаете из виду главную сторону вопроса. Наше наступление на Юго-Западном фронте должно было где-нибудь остановиться, — оно временно задержалось на Стоходе. Это естественная, не имеющая крупного значения задержка. Но прежде, чем мы дошли до Стохода и стали здесь, мы сделали возможным наступление французов, спасли от разгрома Италию, включили Румынию в войну. Мне кажется, ваше высокопревосходительство, можно без преувеличения сказать, что русский народ до сих пор все еще живет нашей летней победой, все еще пожинает ее плоды.
— В огороде — бузина, а в Киеве — дядька, — сердито буркнул Величко, — трудно с вами спорить, милейший генерал. И… опасно. Будь я, к примеру, простой солдат, вы бы меня разом упекли под военный суд «за распространение» и за прочее. Так ведь? А?
Азанчеев не ответил. Он хотел отмолчаться с тем, чтобы ни одно из его дальнейших слов уже не могло оказаться ответом на ядовитый вопрос Велички. Выждав, когда нужное время истекло, Азанчеев сказал:
— Поменьше облаков, господа! Вот мое мнение: Стоход — временная стоянка; ergo[19], здешние окопы очень скоро придется бросить. Среди солдат моей дивизии в большом ходу самые скверные настроения, — я называю их «окопной солдатской злостью». Но если солдат не чувствует особой надобности в окопах, то стоит ли, в самом деле, трудиться над их усовершенствованием? Я часто замечал: когда позиции укреплены слабо, дух войск выдвигается на первый план и…
Величко порывисто вскочил с кресла.
— Стоп, генерал! Нельзя говорить подобные вещи! Я запрещаю вам, милостивый государь, проповедывать преступный фатализм! Стоп!
Азанчеев, прапорщик с портфелем, Карбышев — все стояли.
— Если ваше высокопревосходительство не всегда бережете свое имя, — медленно, с глухой интонацией угрозы в голосе, выговорил Азанчеев, — то я берегу свое и отвечаю за каждое сказанное мною слово.
Величко быстро ходил по землянке, оставляя грязные следы больших болотных сапог на чистых белых досках деревянного настила. Вдруг он заметил эти следы.
— Имя? Имя… Дело не в имени, генерал, а в том, кому оно принадлежит. Немудрено наследить. Но след оставить — трудно. Попытайтесь… А я… Поздно! Я тоже не боюсь ни суда, ни штрафа. Но по другой причине. Фортификация — мой адвокат. А?
Величко неожиданно повернулся к Карбышеву. Он обращал к нему свой последний вопрос, как будто именно Карбышев-то и был сейчас живым воплощением фортификации. Лицо Дмитрия Михайловича вспыхнуло темным румянцем. Глаза зажглись. Гордое и смелое чувство вошло в душу. «Прав Величко, что не выпустил меня в пехоту… Надо быть там, где труднее… Надо… оставить след!» А Величко уже закрывал неприятный спор, слегка балагуря:
— Так что, не сердитесь, дорогой генерал, на некоторую долю самостоятельности в моих суждениях. Простите старика. И уж буду я все-таки подполковнику Карбышеву приказывать так, как если бы мы с ним вашего мнения и во сне не слыхали. Лисьи норы у вас, полковник, неудачны: галереи плохи, емкость мала, — дышать нечем. Выходы делайте в тыл, а не в бок. Пулеметные гнезда блиндируйте по всем направлениям обстрела. Третья линия укреплений еще только разбивается, — поспешите. Саперы у вас разбирают крестьянские избы под материал для мостов. Это не их дело. Пехота готовит плетни и решетки на болота, — почему бы ей не готовить и лес для мостов? А саперам поручите дела поважнее. Немедленно организуйте инженерную разведку австрийской укрепленной позиции. Для этого сформируйте специальную разведочную саперную команду и составьте для нее инструкцию. Пришлите мне для ознакомления. На все — трое суток. Далее. Извольте на фронте вашего участка создать прочное исходное положение, а для резерва — исходный плацдарм. Наконец, примите меры к уничтожению технических средств обороны противника. Помощи требуйте, в первую очередь от генерала Азанчеева, во вторую — от меня…
Величко сел, и все сели. Минуту-две в землянке было тихо.
— Почему-то исчезли у нас из армии фугасы, — снова заговорил Величко, — самые обыкновенные: взрывные, камнеметные… На Шипке в семьдесят седьмом году были… В Порт-Артуре были… А теперь — нет. Почему? Тайна сия велика. Армия сама свои фугасы делает: достает смолу, сколачивает ящики… Кстати: здесь у вас, генерал, в телеграфной роте вчера профессор Шателен обнаружил солдата, который придумал замечательную штуку — чувствительнейший замыкатель. Стоит от этого приборчика отвести провод к батарее, командующей фугасами, как… Да, впрочем, господин Шателен изложит все это гораздо вразумительнее. Пожалуйста, профессор!
Пожилой прапорщик встал с кресла, подошел к столу и вытащил из своего толстого портфеля плоский, металлический, тонкостенный диск.
— Если надавить на стенку диска, — сказал он, показывая, как надо надавить, — ртуть сейчас же выжимается из коробки. Тут и происходит замыкание. Удивительно просто! Если зарыть контакт в землю и соединить со звонками или лампочками в окопе, — подача сигнала с местности, на которой происходит движение, обеспечена. Особенно легко и удобно применять такие замыкатели для взрывов поездов и мостов. Великолепная идея!
«Его превосходительство, прапорщик» Шателен разъезжал по фронту для выяснения на захваченных австрийских позициях всех технических подробностей устройства электризованных проволочных заграждений и установления способов их питания током. Собранный Шателеном материал был драгоценен. Прежде всего оказалось, что электризованными заграждениями был уже опоясан с австрийской стороны весь Юго-Западный фронт. Для питания неприятель пользовался крупными станциями, мощностью больше чем в две тысячи киловатт. Ток высокого напряжения до двадцати тысяч вольт передавался по подземным кабелям на расстояние нескольких верст. Таким образом, и станции, и подстанции находились вне сферы действия даже тяжелого артиллерийского огня. Громадные запасы кабеля и соединительных муфт были захвачены целехонькими. К счастью, электрические сооружения австрийцев еще нигде не были завершены, — не установлены трансформаторы, не смонтированы на станциях машины…
— А как фамилия солдата, который изобрел замыкатель? — спросил Азанчеев.
Шателен заглянул в записную тетрадку.
— Елочкин, ваше превосходительство.
Азанчеев распушил усы.
— Телеграфист Елочкин? Странно…
Карбышев смотрел на него с удивлением: ведь не то же странно, что солдат зовется Елочкиным. А что?
— Сегодня утром, — продолжал Азанчеев, — командир военно-полицейской команды докладывал мне о телеграфисте Елочкине. Это — самый скверный солдат. Это — настоящий смутьян.
— Тогда под суд его, под суд! — сбалагурил Величко, энергично засовывая руки в рукава просторной шинели, которую держал сзади отлично вымуштрованный азанчеевский вестовой, — скорей под суд! Ведь теперь военно-полевые суды при штабах дивизий, удобно.
— Я знаю, как мне надо поступить, — с явным раздражением сказал Азанчеев, — но если вашему высокопревосходительству желательно знать, что это за солдат, я могу…
Он схватил с письменного столика лист бумаги, густо покрытый машинописными строчками, и, повернув его несколько раз туда и сюда, довольно скоро нашел нужное место:
— …Могу кое-что огласить. Пожалуйста: «При этаких порядках, что ни делай, все равно толку не будет. Не выиграем мы войны… А коли победе не бывать, так зачем же и под пулю лезть? Уж лучше для чего другого сохраниться… Ай не так, браток?» Это ораторствует телеграфист Елочкин. Дальше: «А почему мы на Стоходе завязли? Почему Западный фронт на месте стоит? Да потому, что командует им Эверт — генерал, немец и изменник, а наших с Юго-Западного одних вперед бросили, чтобы войну ловчей проиграть». Это уже не Елочкин. Но все равно. «Целым с войны вернуться нельзя, — я о том не думаю, а потому и гибели не страшусь. Но, как другие без всякой нужды гибнут, этого спокойно видеть никак невозможно», — это опять Елочкин. И в таком роде… Хорош, господа, ваш изобретатель?
— А про Распутина ничего нет? — вдруг спросил Величко.
Глаза с азанчеевской физиономии исчезли бесследно.
— Я вас не понимаю, ваше высокопревосходительство…
— Неужели? Ну, скажем, о том, что наступление сорвано Распутиным… Или… Наверно, есть. Ведь вся армия болтает.
Величко уже был в шинели. Азанчеев сделал вестовому знак — выйти.
— Ваше высокопревосходительство, изволите шутить с огнем. В Особой армии генерала Безобразова — гвардейские стрелки. Чудо, а не солдаты: черноватые, курносые, ловкие. И что же? На прошлой неделе — шум: «Обороняться станем, а наступать не пойдем!» Это гвардейские стрелки!.. А вчера в соседней дивизии два полка попросту сговорились: «Не пойдем из окопов!..»
Он еще говорил, а Величко уже быстро шел к двери. Вместе с инженер-генералом уходили Карбышев и Шателен. Только у самой двери, взявшись за ее ручку, Величко приостановился:
— Плохо, очень плохо, ваше превосходительство, — серьезно и грустно сказал он, — совершенно с вами согласен. Однако кто же во всем этом виноват?..
Дверь в землянку закрылась. Часовой взял на караул.
— Вольно!
Величко обнял Карбышева за талию.
— Придумали, как выручить солдата?
Шателен рассмеялся. Величко спрашивал как заговорщик. В том, что солдата следует выручить, он не сомневался. Как выручить, — единственный вопрос.
— Но генерала Азанчеева просить — ни-ни…
— Избави бог, ваше высокопревосходительство, — тотчас согласился Карбышев, — когда надо отказать в просьбе, вспоминают о законах и на них ссылаются. А когда надо сделать по-своему, о законах забывают и ссылаются на исключительность обстановки, на общее положение и тому подобное. Генерал Азанчеев как раз из таких…
— Верно! Ну?
— Есть другой способ выручить солдата, ваше высокопревосходительство.
— Ну, тогда — книги в руки. Больше ни о чем не спрашиваю. И даже не интересуюсь. На меня — никаких ссылок. Пойдемте, профессор. Здесь наши пути с дорогой этого подполковника расходятся. Мы идем в холостяцкий холод, а он — в женатое тепло. Не забудьте, Карбышев, передать мои комплименты вашей очаровательной супруге. Надуете, — по службе вам мстить буду!..
* * *
С некоторого времени капитан Лабунский стал очень осторожничать. Даже верного и сноровистого денщика Абдула он отправил в роту, вдруг припомнив, как он осенью четырнадцатого года, на Бескидах, выболтал Карбышеву тайну собиновских сапог. Теперь денщиком у Лабунского состоял косноязычный, придурковатого вида, солдат. Эти-то именно недостатки и внушали капитану известное к нему доверие. Но Лабунский ошибся в выборе. Когда Елочкин подошел к капитанской землянке, денщик раздувал у входа самовар.
— Барин дома?
— А те-е зацем?
Елочкин чувствовал себя крайне беспокойно. Ему надо было увидеть Лабунского как можно скорее. И объясняться с любопытным дуралеем он не имел ни малейшего расположения.
— Нужен мне твой капитан. Поди, доложись: Елочкин, мол, от подполковника Карбышева пришел.
— Елоцкин? — переспросил денщик, — эко дело! Да разве капитана моего добудишься?
— Неужто спит?
— А то… С утра водоцку хлесцет, чтобы загулять, просить его нецего, самого на загул так и тянет…
И он еще долго рассказывал о своем барине, все в таком же роде. Наконец, ушел-таки в землянку. Сердце Елочкина упало. Успех зависел теперь только от быстроты. Недавно вступил в действие приказ о пропуске солдат-специалистов через отборочные комиссии и об отправке их с фронта в тыл для работы на военных заводах. У слесаря Елочкина были все основания попасть на комиссии в отбор. И направление уже лежало за обшлагом его шинели. Председателем дивизионной отборочной комиссии был Лабунский. Вчера Карбышев видел его и говорил с ним о Елочкине. Итак, оставалось коротким завершением формальной процедуры обогнать сложную механику военно-полицейских мероприятий дивизионного штаба. Сердце Елочкина упало, дрогнуло, забилось, когда он услышал, что Лабунский спит. Но вот разговорчивый денщик вышел и сказал, приоткрывая дверь:
— Ходи, Елоцкин!
В землянке было жарко, душно, воняло спиртным перегаром, куревом и еще какой-то дрянью. У Лабунского было красное, потное лицо. Глаза его опухли. Из-под распахнутой рубахи смотрела голая грудь, так густо заросшая коричневой шерстью, что ее можно было бы принять и за волчье брюхо. Он зевал с неимоверным ожесточением, то и дело выхватывая изо рта сигару и вскидывая норвежскую бороду острым клином вверх. Он долго протирал глаза, прежде чем окончательно разглядел и распознал Елочкина.
— Здорово, брат! Что же это ты делаешь?
— Особого ничего не делаю, ваше благородие, — сказал Елочкин, — как у вас, господ офицеров, не знаю, а у нас, у солдат, котелки на плечах иной раз от мыслей лопнуть могут. Все — война: почему да зачем? Вот и бывает, что проговоришься…
Лабунский зевнул и взбросил бороду кверху.
— Так-то так, но… Очень мне сдается, брат Елочкин, что ты большевик. А?
— И мне сдается…
— Что?
— Будто ваше благородие — эсер.
Лабунский сорвался с табуретки и двинулся было на Елочкина с боем. Однако на полпути остановился и, широко расставив длинные ноги, выставил вперед огромный кулачище.
— Видишь? Таких — два; и от каждого мертвяком пахнет. Очумел? Думаешь, ежели ты мне жизнь спас, так и верхом на мне ездить можно? Врешь! Дудки! О чем это ты зачирикал? Выгнать тебя?
— Как угодно, — сказал Елочкин, смутно догадываясь, что теперь-то уж Лабунский все сделает, чтобы сплавить его, Елочкина, из дивизии и с фронта в Россию, — как вам угодно! Гоните!
Лабунский зевнул и сел на табуретку.
— Вот что: уговор дороже денег. На сегодняшнем случае, Елочкин, мы наши счеты кончаем. Ты меня спас, — очень хор-рошо. И я тебя тоже спасаю. Отлично! Предупреждаю раз и навсегда, — конец. Ни в какие свои планы включать меня больше не смей. Узнаю, — не пощажу. Теперь — сегодняшний случай. Я Дмитрию Михайловичу обещал. Значит — сделаю. Давай твои бумажонки!
Елочкин протянул служебную записку командира телеграфной роты. Лабунский написал несколько слов на обороте.
— Все. Теперь дуй в комиссию, к секретарю. Остальное он устроит. Кажись, нынче в ночь отправляют вас. Марш!
— Покорнейше благодарю, ваше благородие, — сказал Елочкин, чувствуя, как его ноги дрожат от нетерпения, но считая неделикатным уходить, пока не произнесены все полагающиеся слова, — от души вас…
— Не дури! Душа — пар. Заруби только на своем носу, что мы — квиты. Прощай!
Елочкин повернулся и вышел. Лабунский смотрел ему вслед. «Как корове седло, годится мне теперь это дурацкое эсерство, — думал он, — слава богу: георгиевский кавалер; женат на девушке из весьма состоятельной семьи… Гм! А вот с этаким филином свяжешься и не заметишь, как рюху дашь…» Он еще раз пристально посмотрел на дверь, за которой скрылся Елочкин. Доброе, горбоносое лицо солдата, как бы обрызганное лучами ясных глаз, и его тяжеловатая, кряжистая фигура представились ему на мгновение с удивительной отчетливостью, и он громко сказал своим хриплым басом:
— Ска-а-тина!
Глава одиннадцатая
Осенью Минск подвергся наводнению. Его затопило великим множеством молодых людей в фуражках, совершенно офицерских, но только с круглыми чиновничьими кокардами; в погонах, очень похожих на офицерские, но с чиновничьим галуном. И почти все эти молодые люди имели на ногах шпоры, а у левого бока холодное оружие. Шашка прыгала, скакала, звонко шлепала по голенищу и, с предательской неожиданностью застревая между ступнями, повергала иных прямо наземь. Неопытные солдаты отмахивали юнцам «честь» и даже топали при этом ногами. Юнцы благосклонно принимали «честь». Но бывалые солдаты при встрече с ними и ухом не вели; некоторые же, проходя мимо, вызывающе поплевывали на мостовую. И тогда юнцы делали вид, что не замечают. Словом, Минск наводнился земгусарами.
Под этим названием разумелась молодежь, сумевшая заслониться от призыва в армию службой в бесчисленных учреждениях Всероссийского земского союза. Летом управление ВЗС при штабе Десятой армии располагалось верстах в сорока от фронта, в местечке Ивенец; а к осени переехало в Минск. Дом под № 50 на Петропавловской улице — хозяйственный отдел управления — стал центром бурной деятельности. Земгусарское многолюдье кипело в маленьких низких комнатах, заставленных пузатыми шкафами; на облитых чернилами столах громоздились пыльные картотеки; трескучие голоса ундервудов и ремингтонов наперебой забивали друг друга. Земгусары ходили, сидели, курили, рассказывали анекдоты, ухаживали за машинистками, звякали шпорами и так осторожно придерживали шашку, словно боялись, как бы она не выстрелила. Иногда кому-нибудь из этой тучи бездельников вдруг требовалась деловая справка. В адрес такой-то дивизии… столько-то вагонов… Когда? Откуда? Было совершенно бесполезной затеей искать ответ в картотеке или в папке с перепиской. «А вы спросите у Михайлова». Отличный совет! Михайлов знал все. Другого такого Михайлова в управлении ВЗС при штабе Десятой армии не существовало. Это был очень еще молодой человек, с круглым, свежим, ясным лицом и прекрасными карими глазами, в которых так и виделось чистое утро жаркого южного дня. В обклад лица темнела небольшая бородка; от молодости она казалась чем-то не настоящим — вроде театральной наклейки из отдельных волосков. Михайлов занимался в особой комнатушке, среди шкафов и картотечных ящиков, но один, без машинисток. Ни шпор, ни шашки он не носил. Погончики на его плечах почему-то совсем не блестели. Зато диагоналевые, сильно заношенные, гимнастерка и брюки чрезвычайно блестели. В небольшой коренастой, подтянутой фигуре этого молодого человека было много четкого, ладного и аккуратного. Очень может быть, что в недавние гимназические времена ему случалось выступать даже и в роли галантного кавалера. Здесь же, со своей редкой способностью все знать и помнить, он был незаменим. Михайлов никогда и никому не отказывал в справках, хотя был всегда чрезвычайно занят своей собственной, прямой, работой. Его письменный столик был постоянно завален докладными записками, отчетами, сводками и сотнями всяких других документов, густо покрытых его неразборчивым «куриным» почерком. Непонятно, когда он успевал все это подсчитать, проверить, скомбинировать в нужных «аспектах» и привести в удобочитаемый вид, — тем более, что добрая половина его рабочего времени уходила на разговоры с посетителями. К наплыву и постоянной смене этих посетителей все в управлении давно привыкли. Никто никогда не интересовался, что это за люди, зачем они нужны Михайлову или он — им. Никому и в голову не пришло бы спросить об этом Михайлова. Да и неизвестно, что бы он на такой вопрос ответил. Одного бы только не сказал: правды. Кроме работы по должности, Михайлов нес еще одну обязанность, неизмеримо более важную, нужную, необходимую для армии, для народа, для России. Он сколачивал нелегальную революционную организацию, с отделениями в Десятой и Третьей армиях Западного фронта и с центром в Минске. Он же был и главой этой организации. Пути большевиков, ехавших через Минск из России на фронт и с фронта в Россию, встречались и пересекались в служебной комнатке Михайлова, на Петропавловской № 50. Именно здесь эти люди получали направления, указания, помощь и советы. Если они почему-нибудь не могли прийти сюда днем, сам Михайлов приходил к ним вечером или ночью. Стоило Минску закрыть усталые глаза, как неутомимый юноша появлялся на Рыбном рынке, среди руин и зловония прижавшихся к грязному ручью подвальных квартир; или прогуливался по тенистым аллеям городского сада, внимательно наблюдая, как поблескивает между стройными елями серебристая Свислочь. Можно было также в эти часы встретить Михайлова сидящим у бассейна с фонтаном близ зимнего театра или быстро входящим на Захарьевской улице в один из огромных домов «модерн». Но чем бы ни случалось ему заниматься по ночам, днем он неукоснительно пребывал на служебной работе, — возился с бумагами, выдавал справки. И — беседовал с посетителями…
* * *
Посетителей было двое; оба — солдаты. Разговор велся вполголоса.
— Я так рассуждаю, — говорил один из солдат, постарше, с сединой в густых стриженых волосах и глубокими серыми глазами на широком красном лице, — служба в царской армии стоит мне поперек глотки. Но если в результате войны неизбежна революция, так надо не этот, личный, а другой, общественный, вопрос решать: где от меня во время революции больше пользы будет — в армии или в Питере? Много думал и вывод сделал, что в армии. Могут, конечно, паче чаяния, шансы на революцию и упасть. Ну, тогда удеру из армии, — вот и все. Вы про оборонцев спрашиваете. Я на них просто смотрю. Не настоящее это оборончество. Так, кутята какие-то… Сами себя на заводе обороняют, больше ничего. Еще когда Куйбышев, Валерьян Владимирыч…
— Вы знали Куйбышева?
— С осени четырнадцатого. Он тогда секретарем больничной кассы на «Треугольнике» был. А с декабря — членом ПК по пропаганде. На «Скороходе», у нас, на Путиловском, беседы вел…
— Где он теперь?
— Да уж второй год в каких-то Тутурах, под Иркутском. Отсидел в питерской тюрьме и — поехал дальше.
— Ходить бывает скользко по камешкам иным, — задумчиво сказал Михайлов и, сцепив пальцы обеих рук, охватил руками коленку.
Так прошла минута, другая. Вдруг Михайлов встал, поставил ногу на стул, облокотился о коленку и принялся внимательно разглядывать мутное окно. Кто думает, попав под засов в тюремную одиночку, как ему лучше стать или сесть, чтобы мыслям было просторнее? И хоть был сейчас Михайлов не один на один с собой, но тюремная привычка действовала. Оба солдата знали, что немалая часть короткой жизни этого человека прошла за решеткой, и, уважительно прислушиваясь к его молчанию, ждали.
— Итак, что же произошло? — сказал, наконец, Михайлов и весело улыбнулся. — Вас, Юханцев, погнали с Путиловского в армию, а вас, Елочкин, гонят из армии на Путиловский. Действительно, свято место пусто не бывает. Надо только, чтобы завод ничего не потерял от замены.
Именно это обстоятельство и тревожило Елочкина.
— Вот приеду на завод, — сказал он, — с фронта приеду. От вопросов отбою не будет. Главный вопрос: «Как с победой?» Я, конечно: «Забудьте, друзья, думать!» — Ну, а как и впрямь на победу напоремся?
— «Впрямь» ничего не будет, — твердо ответил Михайлов, — для того, чтобы было «впрямь», — мало мужества, нужно еще и уменье. Недавно у Бучача части нашего стрелкового корпуса прорвали главную позицию противника и атаковали тыловую. А поддерживали их всего-навсего… три орудия. Спрашивается: где же были остальные сто орудий корпусной артиллерии? Оказывается, не успели продвинуться, стояли на старых местах и потому помощи своей пехоте оказать не могли. Разве так побеждают? Нет. И с немцами на нашем, Западном, фронте тоже ничего не выходит. Соберут кулак для атаки, рванутся, первую линию сокрушат. Но тут-то и стоп машина: то блокгауз какой-нибудь никак разбить не удается, то немецкие резервы почему-то сзади атакуют наших или во фланг. Немцы смеются над нами. Летом они спокойно уводили с Западного и Северо-Западного фронтов свои резервы и останавливали ими наступление Юго-Западного фронта. Да и на Юго-Западном фронте подкрепления наши нигде не группировались в сильные ударные части, а разбрасывались по всему фронту. Нигде не удавалось достичь крупных результатов. Продвинулись на сто верст, взяли четыре тысячи пленных. А у самих — огромные, ни с чем несообразные потери. Лето стоит нам шестисот тысяч убитыми и ранеными. И на этом все кончилось. Разучились применять основное стратегическое правило: «Всякому маневру отвечает свой контрманевр, лишь бы минута не была упущена».
Михайлов выражал свои мысли коротко и точно. Только стихи поэтов, овладевших культурой мечты с помощью математических формул, могли бы состязаться в ясности с его речью.
— А вот подписали в августе конвенцию с Румынией, — сказал Елочкин.
— И как только Румыния вступила в войну, так сразу положение на русских фронтах стало хуже. Во-первых, пришлось ослабить фронты, послав в Добруджу четыре дивизии; во-вторых, левое крыло Юго-Западного фронта, которое упиралось раньше в нейтральную Румынию, теперь повисло в воздухе; в-третьих, пришлось увеличить протяжение наших фронтов на несколько сотен верст…
— Замечательно вы, товарищ Михайлов, разбираетесь, — восторженно проговорил Юханцев, — вот бы кому генералом быть — вам, ей-ей!..
Михайлов засмеялся и, пощипывая бородку, посмотрел зачем-то на потолок. И в этом его движении было опять нечто прежнее, старое, тюремное.
— Видно, я родился военным, — сказал он, продолжая улыбаться, — всегда мечтал повоевать. Всегда интересовался войной. Четырнадцатый год застал меня в ссылке. И превратился я там в объяснителя военных событий: меня спрашивают, а я толкую. Да ведь и вся-то революционная работа есть, собственно, школа воспитания в военном духе. Но я крепко надеюсь…
— На что?
— Будет революция, а за ней — гражданская война. И дадут мне в команду полк. Только обязательно с эскадроном и батареей.
Наблюдая за лицом Михайлова, можно было ясно видеть, как его мечты, оторвавшиеся на миг от настоящего, вновь повертывают к нему свой полет.
— Заметили вы, Елочкин, что толки о наплевательском отношении к солдатской крови начинают приобретать в войсках страстный характер?
— Очень даже.
— Вот отсюда и надо, товарищи, устанавливать взгляд на оборонцев. Нет, Юханцев, оборонцы — не кутята. Никакие кутята не жмутся так близко к глазной заводской кассе, не ищут сенсаций, не хлопочут о безопасности в управлении воинского начальника, не стремятся попасть на твердое жалованье и не умеют так звонко пошуметь при надобности, как оборонцы. Было бы трудно, почти невозможно бороться с этим охвостьем, если бы война несла одни лишь бедствия и ужасы рабочему классу. К счастью, это не так. Война бесконечно тяжела для рабочего класса. Но она просвещает и закаляет его лучших представителей. Уже никто не сможет теперь убедить передовых рабочих в том, будто Англия. Франция, Россия воюют с германским милитаризмом во имя защиты культуры. Нет, они знают, что война ведется с рабочим классом всего мира. И цель ее в том, чтобы заново переделить мир, заставив порваться во взаимной вражде международную солидарность пролетариата. Что такое сейчас «европейский» социализм господ Шейдеманов? Это теория истребления друг друга рабочими разных стран. Недавно Ллойд-Джордж сказал: «Чем больше снарядов, тем гуманнее война и тем скорее она кончится». Позиция всех оппортунистов — непротиводействие войне. Только буржуй может думать, что империалистическая бойня завершится миром между правительствами борющихся стран. Этого буржуй хочет. Но так не будет и не должно быть. А мы, большевики, обязаны хотеть, чтобы война, начатая правительствами, была закончена народами. Ибо лишь в этом случае будет возможен справедливый и демократический мир.
Солдаты стояли, затягивая пояса на шинелях. Они собирались уходить. Никогда еще с такой ясностью не представлялась им картина того, что совершалось в России. Да, действительно жить все труднее. Нет хлеба, а тысячи пудов его гниют, чтобы принести торговым акулам несметные прибыли. Дело не в военном только, но и в хозяйственном разгроме. Однако буржуазия думает лишь о военных прибылях и готова воевать до бесконечности. Выход из положения — в революционной борьбе. Итак: война — войне! Этой войне…
Прощаясь, Михайлов говорил:
— Пропаганда классовой борьбы — первейший долг большевика. Все, что делает и говорит большевик на войне и в тылу, должно быть направлено в одну сторону. Долой войну империалистическую! Да здравствует война гражданская!..
Прав Михайлов, прав! Со всех сторон поднимается радостное, светлое, сильное. Будничная гладь нелепо каторжной жизни все чаще, все яростнее взрывается забастовками. Все гуще дымится кратер великого вулкана революции, и в глухом ожидании дрожит Россия. Слова «партия» и «большевики» тысячами уст произносятся с пугливой тоской, а миллионами — с надеждой и преданностью. Да здравствует война гражданская! Прав Михайлов, прав!
* * *
Михайлов лежал в углу своей комнаты, которую снимал у хозяйки, на парусиновой койке, до пояса прикрытый шинелью. Он был бледен; нос его чуть-чуть вытянулся и заострился. Но общее выражение лица было любопытное и насмешливое. У койка, внимательно глядя на часы и слушая пульс больного, сидел военный врач Османьянц. Спрятав часы в карман и опустив холодную руку Михайлова на шинель, он сказал:
— Нельзя так, дорогой! Уверяю вас, нельзя! Вы живете, как будто у вас не одно, а по крайней мере дюжина сердец. Нельзя обедать через день, где попало и как попало. Я вам очень серьезно говорю: кончится скандалом…
Михайлов и доктор Османьянц познакомились летом. В Ивенце у Михайлова открылся апендицит. В разгаре острого приступа его перевезли в Минск, и здесь Османьянц благополучно вырезал отросток. С тех-то пор и завязались их отношения. Нет-нет да и возвращалось к Михайлову неприятное ощущение противной, томительно-тягостной боли, и каждый раз вместе с болью появлялся доктор Османьянц.
— Хотите знать, в чем разница между знахарем и врачом? — говорил он. — Я вам скажу. Знахарь загоняет, болезнь внутрь организма. Он считает, что дело сделано, как только исчезнут наружные признаки болезни. А врач стремится выгнать болезнь из организма. Он борется с причинами заболевания. И для этого прежде всего должен поставить верный диагноз.
— Очень интересно, — сказал Михайлов, улыбаясь, ловя отражение своей улыбки на лице Османьянца и с удивлением не обнаруживая его на нем, — какой же диагноз вы ставите?
— Пока не ставлю, Михаил Васильевич, никакого. Но боюсь…
— Чего?
— Язвочки…
— Ха-ха-ха! — развеселился Михайлов. — Неужто вам так понравилось меня резать?
— А вы не напрашивайтесь, — сердито сказал Османьянц, — не торчите в Минске, не голодайте. Поезжайте в Ивенец, живите размеренной, аккуратной жизнью, держите диету и посмотрите, что будет: рукой снимет.
— Но ведь вы знаете, что я не могу уехать из Минска. «Побеждает только тот, кто не щадит своих сил…»
— «Ее» ждете? Близко? Как бы не проморгать? Несбыточная вещь! Ей-ей, на крючок попадетесь. Вчера заглянул к вам в управление — опять двое солдат…
— Замечательные солдаты, Нерсес Михайлович!
— И все — нижние чины, — упорствовал Османьянц, — хоть бы для приличия какой-нибудь офицер забрел. Впрочем, и это опасно. И не заметите, как налетите на… Лабунского.
— Лабунский? Кто это?
— Сапер один. Я его в львовском госпитале резал.
— Хм!..
— Что?
— Я от одного из вчерашних солдат слыхал про Лабунского. Люблю запоминать все, что ни услышу. И ведь непременно пригождается. Так вы его резали?
— Не очень сильно, но… Осколки из ног вытаскивал.
— Кричал?
— Н-нет. Не из таковских. Храбрости необыкновенной. Но храбрость — вроде закрученных кверху усов. Ужаснейший вспышкопускатель. Думаю, эсер. Как? Откуда? Не знаю. Вероятно, из семечка…
— Из какого семечка?
— Из самого обыкновенного. Возникает человек из семечка, как огурец или редиска, а уж потом…
Доктор открыл жестяной футляр с очками, подышал на мутные стекла и старательно протер их.
— Растет человек из семечка. Куда? Да куда угодно…
Он порылся в портфеле и извлек оттуда немецкий журнал.
— Вот… Спрашиваю вас, Михаил Васильевич; куда этакие люди растут и что из этого в конечном счете может получиться?
— Вы — о Лабунском?
— Нет. Это — «Мюнхенский медицинский еженедельник». Совсем недавний номер. Попал ко мае от пленного немецкого врача. Статья доктора Фукса. Читаю по-русски: «Учитесь ненавидеть! Учитесь уважать ненависть! Учитесь любить злобу! Меньше поцелуев и больше ударов. Я восклицаю: да здравствует вера, надежда и ненависть! Ненависть в еще большей степени, чем надежда и вера!» Хорошо?
— Очень. И кто же этот мерзавец, Фукс?
— Главный врач сумасшедшего дома в Эммендингене… Да-с! Мерзко. И почему это на свете так много всякой интеллектуальной падали?..
* * *
Серо и тоскливо глядело утро октябрьского дня. Красные станционные постройки еще не обсохли после дождя. Мокрую рябину густо покрывали гроздья спелых ягод, хваченных ночным морозом. Серебрилась рыжая трава, поблескивали болотные кочки. Наконец, засверкали крыши домов, купола церквей. Вот он, Петроград…
…Солдат Елочкин исполнял на Путиловском обязанности монтера по ремонту заводской электросети. Со всех сторон доходили до Елочкина разговоры о том, что завод ожил после секвестра. Рассказывали, будто за прошлый, пятнадцатый год вышло с Путиловского тысяча пятьсот шестьдесят шесть орудий; а за текущий шестнадцатый — две тысячи восемьсот двадцать восемь. Освоен был, наконец, ускользавший до сей поры из рук шестидюймовый снаряд, Все это было верно. Простаки из рабочих щелкали языком и причмокивали.
— Погоди, еще, может, и всыплем немчуре. Ты вот, Елочкин, с фронта прибыл. Всыплем, а?
Елочкин отвечал чистую правду:
— Солдат на фронте за победу больше не бьется.
— Почему?
— Потому что с выдохшимся сердцем биться за победу нельзя.
— А если с тыла подпереть?
— Мобилизация промышленности? Красиво получается. А по сути дела — что? Сбивается всероссийский союз капиталистов для закабаления рабочего класса…
— Д-д-да!..
Скоро Елочкин оказался в центре таких, с которыми спорить не приходилось. Они отлично понимали, что от внутренней неразберихи, от неуменья воевать, от бесталанности генералов поражение неизбежно и без революции. А ведь она-то шла, подходила…
— И разрушит революция прежде всего армию, которая не сумела победить…
Елочкин приехал на завод, еще чувствуя себя солдатом. За долгие годы службы это солдатское самоощущение въелось в тело, всосалось в кровь. Теперь он был монтером, но попрежнему носил погоны и шинель, отдавая честь, ел глазами и проделывал множество условных фокусов, к выполнению которых накрепко бывает приторочен солдатской дисциплиной человек. Так же точно вели себя и другие, присланные с фронта на завод, солдаты. Но завод — не полк, мастерская — не рота. Коренных путиловцев угнали. Однако воздух, которым дышали здесь эти люди, не исчез вместе с ними. Теперь им дышали солдаты. И Елочкин с радостным удивлением примечал по себе и по другим, как быстро сползала с путиловских солдат их фронтовая шкура, и превращались они в самых подлинных рабочих. Директор завода генерал Дубницкий вывесил приказ: «Замечено мною, что многие из нижних чинов, прикомандированных для работ на зароде, не отдают установленной чести и вообще держат себя, как не подобает нижним чинам. Объявляю, Что виновные в нарушении воинского чинопочитания будут подвергаться взысканиям». Солдаты-рабочие молча читали приказ. По лицам бежали ухмылки.
— «Замечено тобою»… Еще и не то заметишь!
Это сказал Елочкин. Он не хотел говорить, — сказалось нечаянно, само собой. В первый момент ему стало не по себе. «Кажись, перебросил…» Но в следующую же минуту определилась мысль: ничего не перебросил, а, наоборот, только выразил вслух как раз то, что у каждого вилось в мыслях. Переглянулись, смеясь; разошлись, и едко заскрипели у станков злые голоса, толкуя о неизбежном…
…В начале ноября завод взбудоражился арестами, обысками, выемкой дел из больничной кассы. Заводские большевики захлопотали. Надо было организовать выдачу двойных пособий женам арестованных. Сборы в пользу семейств, лишившихся казенного пайка, надо было так устроить и провести, чтобы получилось из этих сборов широкое агитационное мероприятие. В лавке заводского потребительского общества неожиданно исчезли сахар, масло и мука. Спекуляция разлилась по заставным тупикам. Женщины с черного хода врывались в пустые пекарни, ловили и избивали мародеров-торговцев…
Солдаты шли, грозно стуча сапогами по мерзлой мостовой. Елочкин стоял на тротуаре и смотрел им вслед.
— Скажи, пожалуйста, солдатик, куда же это их гонят?
Спрашивала старая чиновница в седых буклях, с кривым костылем в искалеченных артритом, подмороженных руках.
— А я, мадам, не солдатик.
— Как?!
— Так.
— Да как же?
— Да так. Не солдатик я.
— А кто же вы? Офицер?
— Нет, и не офицер. Я — солдат. Но не царский солдатик, а солдат революции, — вот кто!
— Ай! — закричала старуха и кинулась от Елочкина в первые ворота.
Может быть, это и было мальчишеством. Даже наверно. Однако бывают минуты, когда молодой человек и думает, и говорит, и делает молодо, и тогда нельзя его удержать. Елочкин сказал правду: к новому году он перестал быть просто солдатом и сделался солдатом революции. Это он вел дела с рабочими завода Розенкранца, которые изготовляли для восстания револьверы, гранаты и патроны. Он закупил на складе огнестрельных припасов сто бомб по три рубля за штуку. Имел он также касательство и к получению оружия от гарнизона Петропавловской крепости и из Гельсингфорса.
Елочкин расхаживал по заводу с чемоданчиком, лесенкой и мотками проволоки, а кругом рабочие, не скрываясь, толковали о близости революции, о неизбежности ее победы.
— Да почему?
— Очень просто: солдаты поддержат. Ячейки партийные во многих частях есть.
— Например?
— На Охте — Новочеркасский полк. На Сердобольской улице, где Выборгский трамвайный парк, — семнадцатая автомобильная рота…
— Да еще и запасная самокатная там же, — говорил Елочкин, проходя мимо.
Глава двенадцатая
За время войны характер Николая Ивановича Заусайлова значительно изменился к худшему. Вот он уже полковник; вот он командует полком. Тут бы ему и разнежиться в мечтах о генеральстве; тут бы и запрыгать вокруг начальства. А он и в ус не дул. И начальник дивизии генерал Азанчеев, когда заходила «наверху» речь о Заусайлове, только плечами пожимал. «Пророк Иеремия…» Так и прилипла к Заусайлову обидная кличка: «Ерема». Однако почему же «Ерема»? Почему пророк? Заусайлов был достаточно закаленным и опытным боевым офицером, чтобы иметь собственный взгляд на происходящее. Так, например, перед наступлением он заблаговременно и пытливо добивался точных сведений: сколько и какого типа дано тяжелой артиллерии? Какие резервы и в каком расстоянии пойдут за первой линией? Сосредоточены ли силы и средства на главном направлении удара? Не разбросаны ли они на чрезмерно большом фронте с недостатком повсюду? Не слишком ли много войск демонстрируют, прикрывают, обеспечивают и т. д., то есть попросту не участвуют в деле? Заусайлов почти никогда не получал на эти вопросы правильных ответов. И поэтому, уже до начала операции, переставал верить в ее успех. Он не скрывал своего неверия, наоборот. С какой-то удивительной смелостью, раньше ему отнюдь не присущей, он громко говорил в штабе дивизии о том, что и эта операция, по обыкновению, не подготовлена. «Помните, — говорил он, — под Лодомеркой? Точь-в-точь то же было. Ну и, конечно, наложили нам, как надо!» Замечательно, что пророчества его почти всегда сбывались. Именно они-то и заслужили Заусайлову его прозвище. Но пророчествовал полковник с досадой и горечью. Каждая новая неудача все больше и больше надламывала в нем какой-то существенный хрящик, заставляя Заусайлова жестоко страдать.
В былые времена, до войны, Заусайлов относился к царскому строю в России, как к голому факту, ничего в нем не критикуя и не задаваясь никакими вопросами. Он выполнял присягу, которую принял как офицер, и этим, собственно, ограничивалось все его отношение к монархии. Другого не было. А теперь, раздумывая о возможном исходе войны, он говорил себе: «Гм! Возникает вопрос ди-на-сти-ческий…» Со всех сторон лопались мыльные пузыри слухов, споров и газетных сенсаций. Солдаты толковали о Петрограде: фунт хлеба стоит рубль, мясо дают только дворянам и помещикам, новое кладбище открыли для тех, кто с голоду околел… Офицеры с жадностью следили за всем, что делается в Государственной думе и во дворце. Царица душу готова отдать за немцев. А царь слаб, как дитя. Заусайлов думал: «Пахнет переворотом довольно явственно…» На третьем году войны он уже не сомневался: армия не может победить из-за гибельного влияния тыла; и ненавидел за это тыл. «Сволочи… Я бы их!» Присягу он выполнял хотя и с прежним старанием, но совсем не попрежнему. Полагалось, например, четыре пулемета на батальон. Это были русские, штатные пулеметы. Мало! Между тем летом войска нахватали множество австрийских пулеметов. В полку у Заусайлова таких трофеев было больше тридцати. При позиционной войне, когда ротные участки растягиваются до трех тысяч шагов, это — счастье. Прекрасно понимая значение пулеметного огня, Заусайлов скрывал свое богатство и, рискуя головой, подписывал фальшивые сведения. Что же получалось? Только бессовестно надувая начальство, мог он теперь выполнять свою присягу не за страх, а за совесть…
* * *
Дивизия стояла в верховьях Серета, близ села Лопушна, посреди дремучих лесов. Со всех сторон поднимались выпуклые стены исполинских карпатских высей, увязшие снизу в древесных чащобах, а сверху прикрытые острыми пиками голых хребтов. От села Лопушна, большого, красивого, с посыпанными гравием улицами и живописными берегами Серета, вплоть до города Кременца, тянулись позиции, которые перед июльским прорывом были заняты войсками Одиннадцатой армии. Теперь же, на западном участке этих позиций, была расположена дивизия генерала Азанчеева. Упорно держалась оттепель. Дороги так размокли, что походную кухню по грунту еле выкатывала четверка. Грачи неподвижно сидели на деревьях, сумрачные, черные, нахохлившиеся. И вдруг, выглянув утром из землянок, люди увидели, что вся эта осенняя гнилость сразу пошла прахом. Снег лег на рыжие и красные, как лисий мех, сутулые спины гор, и Карпатский хребет, словно зверь, выставил из голубых лесов серебристое брюхо. Но реки еще не замерзли и казались свинцово-черными среди белых берегов. День был по-зимнему ясный. Краешек солнца выглядывал из-за облаков. Пониже облачной гряды все заметнее обозначалась бледнозеленая полоска совсем чистого неба.
Солдаты весело фыркали, обтирая снегом лицо и руки, умывались. Славная стоянка…
Карбышевы жили в Лопушне на хозяйственный лад. Заключалось это главным образом в том. что Лидия Васильевна развела здесь поросят, и каждый раз, когда приходилось поросенка резать, плакала навзрыд и даже уезжала за тридцать верст в городок Куты, чтобы не присутствовать при смертоубийстве. Приказ наштаверха о реорганизации полевых инженерных войск не был для Карбышева неожиданностью: давно к тому шло. Все саперные батальоны переходили на штат инженерного полка. При дивизиях надлежало формировать отдельные саперные роты. Командиры этих рот становились дивизионными инженерами, а командиры инженерных полков — корпусными инженерами. Задача дивизионного инженера — фортификационное усиление района дивизии. Рабочие — из резервных частей дивизионной пехоты. Собственно, приказ этот никак не затронул служебного положения Карбышева и не внес ничего нового в его работу. Должности дивизионного инженера до сих пор не было, по еще осенью четырнадцатого года на Бескидах Карбышев уже действовал как дивизионный инженер. Потому, когда он явился к начальнику дивизии за указаниями, Азанчеев рассмеялся и сказал:
— Яйца курицу не учат, любезный полковник. Я совершенно полагаюсь на вас. Конечно, вы делаете все возможное. Но вот вопрос: а как сделать невозможное? Кто за это возьмется?
Карбышев никак не ожидал подобных речей от Азанчеева. Было в этой неожиданности что-то странно непонятное к потому тревожное. Если Азанчеев говорил это, то что же он думал? И что же должно было с ним произойти, чтобы он так заговорил? Карбышев молчал. Азанчеев внимательно вглядывался в него. «Как и большинство военных инженеров, довольно-таки демократическая фигура», — констатировал он с инстинктивной неприязнью и вздохнул.
— Да, это — большое несчастье, полковник… В правительстве засела нравственная гниль, господствует засилие честолюбцев. В стране — анархия и паника.
Всюду процветают шкурничество и взятки. Наверху плавают проходимцы и авантюристы. Все непрочно, все шатается, все в какой-то бестолковой смуте нелепостей и загадок. Куда же можно прийти с этаким багажом?
Карбышев не верил ушам. Он закусил губу так, что она побелела, и молчал.
Азанчеев махнул рукой.
— Удивлены, полковник? Да, это я, я, я говорю вам. И вы не будете со мной спорить, так как согласны. Невеселая штука, Россия! Или мы — глупый, легкомысленный, насмешливый народ; или мы — умный народ, с энергией, с волей, а насмешливость наша — признак скорого высокого взлета.
Он круто повернулся на каблуках и кругами заходил по комнате.
— Молчите? Извините меня, но вы сейчас похожи на божью коровку, которая падает на спину и прикидывается мертвой, как только к ней прикоснутся. Зачем вы прячетесь? Чего вы боитесь? Вы — один из тех офицеров, которые…
Карбышев спросил быстро и коротко:
— Чего вы хотите от меня, ваше превосходительство?
— Чего? Я скажу вам. Вы — голос армии, голос лучшего, что есть в нашей несчастной, издерганной, истерзанной, разваливающейся армии. Надо сделать невозможное: оздоровить, исцелить армию, загасить спонтанную гангрену ее истомившегося духа. Если никто не возьмет этого на себя и если никто не поможет тому, кто возьмет, — конец. Тогда все погибло.
— Повидимому, вы берете это на себя?
— Да, беру. Я уезжаю в Петроград. И я найду там правду! Ваш долг, полковник, помочь мне…
«Хорош гусь! — подумал Карбышев, — а ведь он и в самом деле что-то затевает…» И Карбышев не ошибался. Уже не в первый, а может быть, в двадцатый раз Азанчеев отвечал на вопросы своих удивленных подчиненных: «Еду искать правду!» Но он лгал. Просто он почуял близость революции. Он был уверен, что ее начнет и возглавит Государственная дума. Для людей даровитых, энергичных, деятельных, умеющих и любящих рисковать, наступало время интересных шансов. В Петрограде Азанчеев добьется встреч с думскими либералами из октябристов, кадет, а может быть, — на месте будет виднее, — даже из трудовиков и эсдеков. Он расскажет им страшные вещи о неспособности старших генералов, выбор которых обусловлен всей внутренней политикой, о брожении среди солдат, о неизбежности поражений. Он хорошенько припугнет и потребует от них именем армии переворота. Заверит, будто вся армия видит в одной лишь Государственной думе все свое спасение. Никому и в голову не придет, что Азанчеев не разговаривал ни с одним солдатом и понятия не имеет, чего хотят в действительности солдаты. Члены Государственной думы будут приятно польщены. «Какой умный, передовой, образованный и просвещенный генерал!» Они скажут кокетливо, что сделать ничего не могут. А на ушко шепнут: «Если что случится, ждите вызова в Петроград!» Когда невозможно остановить движение, надо пытаться сделать другое: направить его с тем, чтобы ребенок-народ причинил себе как можно меньше зла. Для этого офицеры должны войти в союз с известной частью солдатской массы, раздавить с ее помощью анархию и сохранить силу армии. Нельзя оставаться в стороне. Надо идти и бороться. У солдат возникает какая-то организация. Надо раскрыть ее, вступить в нее, внести в солдатское дело офицерскую культуру, повести за собой эти серые ряды… Словом, у Азанчеева были жадные зубы, и ему непременно хотелось участвовать в суматохе.
Но для такого плана Карбышевы необходимы. И Азанчеев смотрел на подполковника, как голодный удав на кролика.
— Мне очень важно знать, что вы думаете… Общая система… армия… война…
Карбышев был далек от разгадки истинных намерений бойкого генерала. Однако самые смутные опасения рождались в нем. И он ответил на них быстрым ударом пулеметной очереди:
— Что касается общей системы, то думаю: подлость и пошлость язвами въелись в больное тело России; и начни мы возглашать теперь в церквах многолетие Милюкову Первому, — все равно не поможет. А о войне полагаю, что исторически оправдываются лишь те войны, которые ведутся во имя человеческого прогресса. Эта же…
— Вы свободны, полковник, — сухо сказал Азанчеев, — благодарю вас, — и фыркнул, точно к носу его подступила горчица.
* * *
Начались весенние дожди. Реки, стекавшие по восточным склонам Лесистых Карпат, заметно вспухли, раздались вширь и стремительно понеслись вперед. Туманы окутали хребет. Огромные пики, торчавшие к югу от Лопушны и превосходно видные в хорошую погоду, — Черная Гора, гора Поп-Иван — растаяли в непроницаемых клубах белой мглы. Леса дышали сыростью. Карбышев мыкался по участкам позиции, грязный, мокрый и неутомимый. Лидия Васильевна говорила мужу:
— Дика, ты такой деятельный и трудолюбивый, что я и представить себе не могу, как ты будешь жить после войны. Вот кончится война и…
Выдалась редкая минута, когда они стояли рядом на берегу Серета и смотрели на реку. Тут было дивно. Прозрачный сумрак весеннего вечера помогал очарованию. По всей ширине разлившейся реки плыли аквамариновые башни, изумрудные замки, причудливо окаймленные коричневыми остатками густо унавоженного зимнего пути. Проруби стояли то боком, то вкось, словно окна узорчатых ледяных домов. Вода подбывала. С каждым плеском она подходила все ближе к береговым сараям, — на аршин, на пол-аршина. Уже и забора нет, он под водой. Подо льдом, глубоко внизу, что-то грозно хлопало. Быстрый, резкий треск бежал во все стороны…
— Пофантазируем вместе, — отвечал Карбышев, ласково глядя в озабоченные серые глаза Лидии Васильевны, — если война кончится, а революции не случится, я тотчас выйду в отставку, поступлю в Архитектурный институт и сделаюсь архитектором-художником. Хорошо? А если, — что гораздо вернее, — революция грянет, тогда…
— Что?
— Тогда — дело иное… Чуешь? Живется точно накануне чего-то, и страстно хочется чего-то дождаться… Чего?
— Не верю я в революцию. Уж очень много слов. Кабы словами можно было сделать счастье народа, оно было бы давным-давно сделано. Между тем говорится все, что только можно сказать, и не делается ничего.
— Верно. А почему?
— Не знаю.
— Спроси у Гете.
— Гете, ответьте, пожалуйста!
— Потому что для новой истины нет ничего вреднее старых предрассудков. Уж очень много прохвостов играют на дудочке смирения, прощения, терпения и любви.
— А я все-таки в революцию не верю…
— Веришь — не веришь… Любит — не любит… «Раз в крещенский вечерок девушки гадали…» Да, еще и Азанчеев по такой же системе политические пасьянсы раскладывает…
Лидия Васильевна обиделась.
— Удивительная манера у тебя, Дика, обливать людей холодной водой. Я только сказала свое мнение. Могу сказать? Могу. При чем же тут Азанчеев? Он — крайне неприятный человек. Потом «крещенский вечерок». Из девиц…
— Знаю, знаю. Из девиц много исторических личностей вышло: Клеопатра, Юдифь, Екатерина Вторая, Сонька-Золотая Ручка…
— Нет, невозможно с тобой разговаривать, Дика… Просто невозможно!
Через несколько дней после этого «невозможного» разговора Карбышев вернулся с участка много раньше обыкновенного и, с разбегу влетев в дом, закричал:
— Ну, кто прав: я или ты?
— А что случилось? — спросила Лидия Васильевна.
Он подошел к ней и крепко обнял.
— Запомни нынешний день, — все, все запомни, до мелочей. И меня, сегодняшнего, запомни навсегда. Слышишь?
— Неужели…
— Да! Да! Она самая: революция!..
…Итак, открылась новая, совершенно новая страница истории. Что на ней напишется? Не все представляли себе это одинаково. Карбышев был полон радостных и светлых ожиданий. Заусайлов предчувствовал дурное. Начальство назначило на третье марта парад и молебен. Все церемонии прошли торжественно и чинно. Гремели многолетья, войска охотно кричали «ура!». В их настроении чуялся живой подъем. Кончилось торжество речами. Очень понравилась речь военного чиновника 14-го класса Головленкова. «Это не только революция, граждане, это эпоха! — восклицал оратор, — новая эпоха пришла! Кто не понимает, — пропал. Бороться с новой эпохой нельзя, — глупо. Например: представьте вы себе человека, который вышел навстречу поезду, стал посередь железнодорожного полотна, распятил руки крестом и шепчет: „Сухо дерево! Мать пресвятая пятница! Ан, бес, не наскочишь!“ Он шепчет, а поезд летит, рассыпая искры и грохоча… Погиб глупый, темный человек! Понимаете, граждане? Эпоха… эпоха… эпоха…» Все хорошо. Но вечером Заусайлов пришел к Карбышевым сумрачный и расстроенный. Приложившись к ручке Лидии Васильевны, тщательно обтерев платком лысину, отстегнув от пояса шашку и поставив ее в угол, — все это делалось каким-то нарочито медленным образом, — он пристально поглядел на Карбышева и сказал:
— А ведь ничего хорошего, Дмитрий Михайлович, не получилось!
— То есть?
— Ровным счетом ничего. Все роты взяли на парад боевые патроны…
— Зачем?
— На тот случай, если парад окажется ловушкой, и офицеры начнут расстреливать солдат из пулеметов. Вот оно — истинное настроеньице-то!
Заусайлов опустил голову и хрипло договорил:
— Пропали мы теперь все!
Лидия Васильевна испуганно смотрела на мужа. Но Карбышев смеялся.
— Не все же мы, Николай Иванович, пропали. Головой ручаюсь, — не все! Эволюция? То есть переход от одного безобразия к другому? Нет, уж благодарю покорно! Уж лучше тогда, как вы говорите, — пропасть…
Карбышев подошел к окну и распахнул его. Март выглядел туманной пучиной, в которой неумело барахталось солнце. Теплые весенние вздохи грузно проходили над землей, слизывая залегший под заборами последний снег. Кое-где чернели бугры жирной земли, бурно корежился Серет, ломая наносную колодь и со стоном распирая поддающиеся берега. На огородах клевали червей вороны и галки, семьями топтались воробьи…
Огромное большинство офицеров, с которыми сталкивался Карбышев в марте семнадцатого года, было твердо уверено, что великая бескровная революция не только совершилась, но уже и завершилась — прошла; что Временное правительство быстрыми шагами идет к учредительному собранию, а учредительное собрание столь же скоро приведет Россию к «приличной» и «вполне приемлемой» форме монархической конституции; а что Совет солдатских и рабочих депутатов уже и сейчас представляет собой что-то вроде нижней палаты будущего парламента. Из сумятицы мнений, взглядов, убеждений, проклятий и благословений, из правды и лжи, честности и коварства, спутавшихся в общий тугой клубок, большинство офицеров извлекало для себя одно твердое воззрение на будущее: надо сохранить боевую мощь армии. Известно, что после долгого сидения в окопах, войска больше слушаются своего внутреннего голоса, чем приказов начальства. Приходилось семь раз примерить, чтобы отрезанное было полезно для войны и не выглядело вместе с тем контрреволюцией. Старые горлодеры-полковники вдруг приобрели вкус к политической мистификации. Даже Заусайлов говорил как-то Лидии Васильевне: «Теперь ясно, что нашему брату делать надо». — «Что?» — «Умом ворочать, а не спать». И вдруг — «Приказ № 1»…[20]
На бесчисленных Заусайловых, служивших тогда в русской армии, приказ № 1 упал, как бомба, начиненная ядовитыми газами. Они сразу почувствовали себя бессильными и безвластными. Ответственности за ход войны никто не снял с них. Обязанности остались — права исчезли. «Будь проклят человек, придумавший этакую гадость!» Совсем другие настроения и мысли вызывал приказ № 1 в Карбышеве. Он говорил жене:
— Это ли не счастье? Рушится великая стена. Когда-то неодолимая преграда, она превращается в ничто. Но злая память об обидах и притеснениях не пропала…
То, что Карбышев понял год тому назад, в Петрограде, у Нарвской заставы, действовало теперь на него неотразимо. Он все глубже и глубже уходил в зовущую перспективу и почти ощущал, как старый, серый и грязный мир оскудевает целями и смыслом, а новый, вдохновенно тревожный мир сосредоточивается в нем самом.
— Знаешь, почему революция выбрала своим цветом красный? — спросил он как-то жену.
— Почему?
— Красное — цвет горячей человеческой крови. Он — самый яркий выразитель того, что двигает людей на борьбу за право и счастье…
…Карбышев ни в чем не пытался противостоять открытию, громадный смысл которого вел его за собой. Он принимал это новое с полнотой и безусловностью. Еще давным-давно, на Дальнем Востоке, в несчастную японскую войну, готовился он наедине с самим собой принять именно это новое, а не какое-нибудь другое.
И теперь с радостным удивлением видел в себе старое сочувствие к нему живым и свежим. Инстинкт общественного человека всегда был силен в Карбышеве, не давая ему ни на минуту успокоиться, уснуть, замереть. Этот инстинкт держал нараспашку ворога его жадной мысли, всегда готовые принять неизвестное, но желанное. Порывы революционной бури не только не пугали Карбышева, — они восхищали его своим нарастанием. Перед их светлым величием все, что он раньше читал, и что слышал от умных старых людей, и что казалось таким важным, нужным и ценным, вдруг обернулось теперь горсточкой тусклой золы на дне громадной мартеновской печи. Бледный, но спокойный, без колебаний и без дрожи в руках, он снял с себя погоны задолго до того, как солдаты начали сдирать их с офицеров. Между тем еще не окончательно расхлябавшаяся машина войны продолжала работать. Дивизия получила пополнение людьми. И среди тех, кто предназначался для укомплектования подведомственной Карбышеву отдельной саперной роты, он сразу узнал Юханцева…
…Рядом с Карбышевым Юханцев казался великаном, вроде древнего Антея, несокрушимого от близости к матери-земле. К этой-то земляной горе и прикоснулся беспокойный подполковник в инстинктивных поисках сырой могучей силы. Вспоминать — пересматривать, переосмысливать жизнь. Это верно в отношении всяких воспоминаний. То, о чем вспоминал теперь Карбышев, было судьбой человека-большевика. Карбышев знал, как судьба свела Юханцева со стариком Наркевичем, как столкнула его с Родзянкой. Он видел, как Юханцева гнали под конвоем через Нарвскую заставу к воинскому начальнику. Он хорошо знал молодого Наркевича. Знал Елочкина. Но сразу договориться до всего этого было невозможно. Шло сначала медленно, потом стало убыстряться. И, когда, наконец, договорились до всего, словно мостик лег между этими, по всей видимости, столь разными людьми.
— Навстречу революции мы тогда очень рвались, — сказал Юханцев, — торопились: чуяли, что близко она. А вышел недоворот.
— Недоворот?
В глубоких глазах Юханцева зажглись огоньки задорного блеска.
— Дело весеннее: сперва придерживается, а уж потом хлынет! Так и с революцией: главное впереди.
Он подумал, как бы решая, говорить ли еще больше или не говорить. И все-таки сказал:
— Я ведь ленинец, господин полковник. Стало быть, и речи мои таковы. Вот теперь приехал товарищ Ленин. Тезисы читали? За каждое слово хоть в огонь, хоть еще куда. А тут — коалиционное правительство, парламент… И все приспособлено для продолжения войны и одурачивания народа. Явный, по-нашему, недоворот. Временное правительство, что ли, правит народом? Ничуть не бывало. Миллиардные фирмы Англии и Франции. Да работай Временное правительство на Россию, не будь оно лакеем у госпожи Антанты, ему нынче Германию к миру принудить все равно, как чихнуть, было бы. АН, нет! Не туда гнут…
Земля, на которой стоял Антей — Юханцев, дышала все шире и глубже. Буйный ветер ее могучего дыхания все выше, все круче подбрасывал встревоженную мысль Карбышева. И тягостный дух бессильного прошлого все дальше и дальше отлетал от него.
* * *
Наступило цветистое лето. Загорелись пышные ковры полей. Спрятались под темной зеленью обрывистые склоны холмов. Стало кругом пестро и ярко. Восьмая армия передвинулась под Станиславов. К этому времени изобилие технических средств, которыми располагали русские войска, сделалось фактом. На ящиках с артиллерийскими припасами красовалась горделивая надпись: «Снарядов не жалеть!» Припасы хранились в парковых городках и подавались оттуда по железнодорожным веткам до самых батарей. На многих участках фронта подбирались сотни тяжелых орудий самых крупных калибров.
Карбышев делил историю войны на три периода: а) четырнадцатый и пятнадцатый годы — превосходная армия без технических средств; б) шестнадцатый год — плохо обученная армия при крайнем недостатке технических средств; в) семнадцатый год — почти необученная живая сила вместо армии, а технических средств вдоволь. Итак, были миллионы солдат, но армии не было. Заусайлов грозил кому-то кулаками.
— Довольно! Революция произошла — и кончено. Довольно политики! Либо политика, либо война! К черту партии и программы! Я хочу умереть за Россию…
— Сделайте одолжение! — весело отвечал ему Карбышев, — ничего нет проще! А в том, что происходит, вы ровно ничего не понимаете. Революция, по-вашему, кончена? Да ведь она еще только начинается!..
Жара казалась невыносимой. Пыль так густо висела в раскаленном воздухе, что было почти невозможно дышать. На шоссе — теснота. Мчались грузовики; ординарцы скакали на звонко цокающих копытами взмыленных конях; громко сопели и кашляли мотоциклы; гремели фурманки; тяжко шагала насквозь пропотевшая пехтура. Вдруг все это шарахнулось в сторону. Сотня всадников на поджарых горских лошадях, с сухими лицами и горбатыми носами, в серых черкесках и рыжих папахах, вырвалась вперед. За ней бесшумно скользил блестящий, длинный, закрытый автомобиль…
Казак распахнул дверцу автомобиля. Это был сытый, холеный, могучий и красивый, настоящий лейб-казак. Керенский вышел из машины, весь желтый, — ботинки, гетры, брюки и френч, лицо и фуражка, — худой, с длинными, как у Вия, веками и бровями, сомнамбулически[21] сонный, почти полуживой. За ним выпрыгнул, любезно улыбаясь, генерал Азанчеев. Потом — адъютанты. По всей дивизии закипела суматоха. Было известно, что военный министр объезжает войска перед генеральным наступлением. Но был какой-то общий, одинаково хорошо всеми ощущаемый изъян в отношении войск и к военному министру и к генеральному наступлению: отношение это не было серьезным. Знали, что Керенский объезжает соседние корпуса и дивизии, но пальцем о палец не ударили в предвидении встречи. Теперь же, когда военный министр был налицо, начали бестолково и шумливо суетиться, как бы подчеркивая чрезмерностью суеты недостаточность своего уважения к гостю. И встреча принимала неуловимый характер чего-то балаганного. Войска строились. Полковые оркестры играли встречный марш. Керенский со свитой останавливался перед полками и говорил. Теперь в нем не было ничего лунатического. Наоборот. Движения его сделались резкими и порывистыми. Длинные веки прыгали. Глаза наливались кровью. Худые щеки покрывались прыщеватым румянцем. Голос взбирался на самые высокие ноты, звенел, ломался и падал вниз. Многим начинало казаться: военный министр чертовски похож на заядлого шизофреника, вообразившего, что у него в мозгу гвоздь.
— Русский народ — самый свободный в мире… Завоевания революции в опасности… Революция совершилась без крови, — безумцы-большевики хотят полить ее кровью… Предательство перед союзниками… Взбунтовавшиеся рабы…
Стоя перед полком Заусайлова, он продолжал выкрикивать это же самое. Но тут к потоку его красноречия неожиданно припуталось одно словечко, от которого он никак не мог отцепиться…
— Жалею, — кричал он, — очень жалею, что не умер два месяца назад. Обетованная земля новой России носилась передо мной в лучезарном блеске великого возрождения. Я мог умереть и — не умер. Теперь я спрашиваю вас, солдаты. Вы получили волю и землю, вы стали самыми свободными солдатами на свете. Отчего же, я спрашиваю вас, вы не хотите умереть за блага, дарованные вам революцией? Почему?..
Он задохнулся, мотнул по-лошадиному головой и жадно проглотил соленую слюну. Полк стоял «смирно», с музыкой на правом фланге, с фанфарами и красными флагами, держа ружья на караул. И вдруг спокойный, громкий, слегка насмешливый голос ответил министру из задних солдатских рядов:
— Не было у нас ни воли, ни земли, так и жизни мы не жалели. А теперь пожить охота!
Как пшеница под ветром, колыхнулся строй полка. Вспыхнули еле слышные смешки — один, другой. Азанчеев тихонько спросил министра:
— Прикажете найти?
— Не надо, генерал. Наша сила в моральном воздействии. Иную силу применять мы не можем.
Смешки расползались, не затихая. Хриплый солдатский голос улюлюкнул:
— Пужни яво, пужни…
— Смир-рно! — рявкнул Заусайлов.
Командиры батальонов и рот повторили команду.
Стало чуточку тише.
— К но-оги! На плечо! Напра-аво! Шагом марш!
И роты одна за другой повертывались и уходили со. смотрового поля.
— Попросите ко мне полкового командира! — приказал Керенский.
Заусайлов подошел не спеша, глядя прямо перед собой, но как бы не видя того, к кому шел. Лицо у полковника было синеватое, глаза тусклые, губы дергались под длинными усами, — он изнемогал от ненависти к человеку, который хотел с ним говорить.
— Вы можете мне сказать, полковник, как настроен ваш полк?
— Вы сами видели, господин военный министр.
— Нет… Но я хочу знать, пойдут ваши солдаты в наступление или… Пойдут или не пойдут? Как вы думаете?
Заусайлов подумал и впервые произнес то самое модное слово, от которого его мутило, точно от морской болезни:
— Постольку, поскольку…
Трудно понять, что можно было усмотреть хорошего в этом ответе, но Керенский обрадовался.
— Благодарю вас, полковник!
Он протянул Заусайлову руку. Николай Иванович вытянулся, стал «смирно» и судорожно прижал руки к бёдрам.
— Полковник, я протянул вам свою руку, чтобы…
— виноват, господин военный министр, — отчетливо проговорил Заусайлов, — я не могу вам подать руки!
Прыщи на лице Керенского расцвели под напором ударившей в голову крови. Он странно, как-то удивительно жалко сгорбившись, отступил.
— Взыщите с этого офицера!
Правда — холодная вода. Керенский не любил холодной воды. Он предпочитал плескаться в теплых лужах. Как русалка… Хороша русалка! Заусайлов повернулся и пошел прочь…
…Солдаты дурачились:»Хошь ай нет? Мы тебе Керенского, а ты нам… деревенского, — ухо на ухо менять будем?» Офицеры судачили: «Черт знает, что за фигура! Этакий дофин[22] от революции…» «Хорош военный министр! Кварташка[23] какой-то…» «Да, уж наружность… Сразу видать, что сволочь…» Керенский укатил тотчас после смотра. Но Азанчеев задержался в «своей» бывшей дивизии. Он состоял при военном министре в должности начальника его личного кабинета и уже был представлен к производству в генерал-лейтенанты. Его военно-политическая карьера быстро шла в гору, — так быстро и легко, что он и не ожидал ничего подобного, уезжая из армии в Петроград на поиски «правды». И вот теперь Азанчеев сидел в кресле, на квартире своего заместителя по командованию дивизией, окруженный командирами бригад, полков и отдельных частей, и, упиваясь значительностью своего нового положения среди этих давно ему знакомых людей, изрекал как пифия с треножника. Разговор шел о революции, контрреволюции, реакции, реставрации… Никогда еще лживый голос и обманчивые глаза Азанчеева не казались Карбышеву противнее, чем сейчас.
— Но что же все-таки думать, господин генерал, о настоящем моменте? — спросил кто-то из генералов.
— Я не думаю ничего, — отвечал оракул, — всякий настоящий момент — для меня уже прошлое. И я думаю не о настоящем, а о будущем.
Однако этот ловкий словесный курбет решительно никому не пришелся по вкусу. Было ясно, что если даже и удавалось Азанчееву приоткрыть иной раз завесу будущего, то разглядеть за ней что-нибудь, кроме узенького поля для гимнастики своего собственного ума, он все-таки никак не мог. Жалобы на развал дисциплины и непослушание солдат потоком горячих слов вылились на Азанчеева.
— Надо привыкать, господа, — продолжал он вещать, ни капельки не смущаясь, — создается новая армия, на совершенно новых началах. Это — сознательная армия. Без эксцессов нельзя. Терпите во имя родины, господа!
— Хорошо, господин генерал. Но ежели мы будем только терпеть и думать о будущем, то кто же убережет армию от разложения?
— Гораздо важнее, господа, уберечь революцию от разложившейся армии. Но это уже вовсе не ваше дело. Это — дело правительства.
— Да ведь правительство-то воробьиное: дунешь и улетит!
Это сказал неожиданно выступивший вперед Заусайлов.
— Вы? У-гу… А вы еще не под арестом, полковник? Почему?
Впрочем, в развязности Азанчеева было что-то поджимистое и трусливое, точь-в-точь как и у самого военного министра. Поэтому он и поступил сейчас так, как делает актер на сцене, когда смысл игры не позволяет ему принять реплику партнера, — обратил речь к третьему лицу. Этим третьим лицом оказался Карбышев.
— Никогда еще с начала войны ни одно наше наступление не было так тщательно подготовлено и подкреплено такой могучей техникой, как то, которого ждут теперь от нас союзники. Это наступление не может быть безуспешным. Победа должна быть, она непременно будет. Ваше мнение, полковник?
Как в волшебном фонаре, засветилось перед Карбышевым широкое и простое, упрямое и смелое лицо солдата Романюты. И глубоко вдохнулся воздух солдатских настроений. Как назвать этот воздух? Карбышев не знал. Но он давно и хорошо знал его, как извечное прошлое крестьянского миросозерцания, как жаркую атмосферу издавна пропитанного горячим потом земледельческого труда. И знал, что именно это мужицкое сознание, а не какое другое, сначала вело Романюту вперед, а теперь зовет назад. А что такое Романюта? Армия. Карбышев вытянулся.
— Боюсь, что победы не будет, господин генерал.
— Что?
— Так точно.
— Почему вы позволяете себе это говорить?
— Потому что знаю, как мало склонен сейчас солдат добиваться победы. Она ему не нужна.
— Потрудитесь объяснить вашу мысль.
— Слушаю-с. Солдат бесконечно устал от войны. Окопы ему надоели до смерти. Его неудержимо тянет домой, к земле. В руках такого солдата техника бессильна. Победа уже не манит и не зовет. Она — мираж. А счастье, к которому рвется солдат, желанно и свято, как сама жизнь.
— Счастье… Что вы имеете в виду?
— Мир и землю, господин генерал.
* * *
Наступление началось восемнадцатого июня. Его открыла артиллерийская подготовка такой невиданной, небывалой силы, что не только первая, но и вторая, и третья линии неприятельских укреплений почти мгновенно превратились в гладкое поле. Пока грохотали тяжелые пушки, пехота посмеивалась, сидя в блиндажах: «Да чего уж… Довольно! Ничего и не осталось!..» Но вот пришло время подниматься пехоте в атаку. И тут сразу обозначилась удивительная вялость и медленность ее действий. Некоторые роты вовсе не захотели выйти из окопов. Другие рассыпались в тонкую цепь и залегли, а потом ползком вернулись назад. Целые полки топтались на месте Были части, от которых в атаку пошли только офицеры со своими денщиками. Между тем белые облачка неприятельской шрапнели маячили все ближе и ближе. Вспыхнет вдруг такое облачко, постоит секунду и выпустит из себя в воздух характерное звяканье разрыва. Лопнул снаряд, огненный дождь опалил землю. А облачко еще долго, долго стоит на своем месте, плотное, почти не меняющее формы…
Восьмая армия наступала под Станиславовом. Дивизия, в которой служил Карбышев, благополучно выбралась из Лопушна, достигла Черновиц и двинулась дальше. Полки занимали австрийские окопы и оседали в них: приказаний не было. Подкрепления еле подходили, а пополнения не подходили вовсе. Переброска вспомогательных частей из Седьмой армии безнадежно задерживалась. Артиллерия отставала. А ведь наносить главный удар должна была именно Восьмая армия…
Черновицкий поезд быстро домчал Карбышева и Лидию Васильевну до Станиславова. Здесь они расстались: Дмитрий Михайлович выехал верхом на рекогносцировку позиций, а Лидия Васильевна отправилась в штаб армии, чтобы передать начальнику инженеров письменный рапорт мужа о прибытии. Полковник пробежал красными глазами по бумажке и бросил ее на стол.
— Вот уж вы-то, сударыня, напрасно в этот кавардак влипли…
— Позвольте, — обиделась Лидия Васильевна, — я — жена… Я — сестра…
— Да, да, и жена, и сестра, а все-таки напрасно. Наш фронт прорван, под Тарнополем, и нынче ночью мы покидаем Станиславов.
* * *
Армия катилась по шоссе и по грунтовым дорогам, сквозь густые и высокие лиственные леса, которыми покрыты хребет и скаты Карпатских гор почти вплоть до линии Станиславов — Коломыя — Черновицы. Земля дымилась едкой пылью под ногами стремительно отступавших войск. Парки, обозы, какие-то рабочие дружины с топорами и лопатами, какие-то пехотные части, команды, госпитали и походные кухни — все это сбилось в гремучий, клокочущий, кипящий, звенящий, скрипящий, гудящий, неистово бурный поток. Полк Заусайлова тянулся в хвосте этого потока. Прикрываясь арьергардом из состава полкового резерва, он отходил с непрерывными боями, главным образом по ночам, оставляя после себя сторожевые части и огни, чтобы обмануть наседавшего противника и оторваться от него. Первое удавалось, второе — нет. Промежуточные рубежи, которые постоянно приходилось занимать полку, были для него непосильно широки. В ротах оставалось по сотне человек, почти без офицеров, штыков в полку было не больше полутора тысяч, а протяжение оборонительных фронтов никогда не бывало меньше пяти верст.
Русским позициям, расположенным в Галиции большей частью лицом на запад, тарнопольский удар пришелся во фланг. Отход был быстр. Связь между отходившими войсками чрезвычайно скоро, утерялась. Скользя вдоль параллельно растянутых позиций, армия и не помышляла о том, чтобы занять эти позиции и укрепиться на них. У пехоты не было ни разумения, ни навыка для решения подобного рода задач. Ее никто никогда не обучал выполнению простейших саперных работ. Карбышев думал: «Какая грубая и глупая ошибка! Насколько легче было бы отбивать наступление, будь пехота хоть чуть-чуть осаперена…»
И вот армия отходила, не задерживаясь ни на каких рубежах, скомканная, вспученная, мечущаяся без пути, — не армия, а толпа, опасная для своих и безопасная для неприятеля, — отходила, бросая батареи, зарядные ящики, обозы. Где-то на шоссе, у пушек, выпряженных и опрокинутых на крутом повороте, — лошадей и прислуги след простыл, — встретились Карбышев и Заусайлов. Солдаты, не получавшие хлеба трое суток, а горячей пищи — два дня, кололо чудом попавшегося им в руки поросенка. Немецкие аэропланы крутились по верху, то пряча, то показывая черные кресты на крыльях.
— Провоевались! — мрачно сказал Заусайлов, — с-сволочь!
— Кто?
— Да кто же? Керенский…
Заусайлов ничего не успел сказать больше. Карбышеву показалось, будто его подхватило и унесло приливной волной вдруг набежавшего солдатского моря. Это же самое показалось и Заусайлову, когда Карбышев внезапно исчез из его глаз. Немного сказал полковник. А хотелось ему сказать многое. И Карбышев отлично знал, что именно. «Конечно, царское правительство слушалось союзников и боялось их. Тут и договоры, и обязательства всякие. Но все это в меру. Оставалось нечто, похожее на самостоятельность. Все-таки оно было правительство не без гордости, с мухой в носу, и по ногам ходить союзникам не позволяло. А вот Временное с подлецом Керенским, — это уж просто — приказчик, и ничего другого. Велят, — пожалуйста-с! Не велят, — как прикажете-с! Тут уж ни гордости, ни самолюбия, ни этой самой „божьей милостью“, ничего и в помине не стало. Приказчики — нанятый народ!» И опять же Керенскому по мордасам: «Св-волочь!» Все это было так понятно и так явственно подразумевалось, что Карбышев даже и не пожалел о внезапно прервавшемся разговоре с Заусайловым. Но «заусайловское» налезало со всех сторон. И солдаты, только что зарезавшие поросенка, возбужденно перекликались: «На Керенского глядеть нечего. Он нас, так его пере-так, до самой пропасти довел… погибнуть можем…»
Шли по обоим берегам узкого в этих местах Прута — по низкому, левому, и высокому, правому. Мосты на реке, все, как один, были или взорваны, или сожжены. Броды после недавних дождей еще не открылись. Маневр, как конечная форма прорыва фронта, неизбежен в позиционной войне. Возобновление разрушенных и наведение новых переправ, так же обязательно в этой войне, как и в маневренной. Отступление, если стать на военно-инженерную точку зрения, представляет собой, с одной стороны, уничтожение переправ и порчу дорог за спиной отступающих войск, а с другой — постройку дорог и мостов на лежащих перед войсками путях отхода. Поэтому армия шла, строя и ломая, ломая и строя, сокрушая и восстанавливая, слепо подчиняясь странной необходимости этих противоречивых и беспорядочных усилий. Дела саперам было по горло…
Ум Карбышева был так устроен, что в самой запутанной связи явлений ему удавалось разыскать ясное начало их внутреннего смысла. Уловив тенденцию в развитии частностей, он устанавливал систему общего движения, выводил правило, определял закономерность. Мысль Карбышева владела редкой способностью объяснять сложное при помощи простого, усматривать легкое в трудном, постигать целое через его элементы, а идею — через факт. Вглядываясь, вдумываясь, стараясь понять и сделать понятным, Карбышев ни на минуту не прекращал этой глубокой мыслительной работы. Живая любовь к делу и острая заинтересованность в происходящем заставляли его немедленно отзываться на каждое наблюдение, на всякий опыт и на любой вопрос. Чем дальше, тем отзывчивость становилась шире, и тем больше людей начинало знать о ней.
Под Черновицами к Карбышеву явился Юханцев. Служа в инженерных войсках, Юханцев не переставал чувствовать себя тонким мастером по сверлению и заточке орудийных стволов. И отсюда возникало в нем не вполне серьезное отношение к примитивной и бедной технике, с помощью которой решались на войне почти все практические саперные задачи. Особенно поразил Юханцева один недавний случай. Надо было переправить пушки через речку. Как ни казалась речонка узка, а для наводки через нее моста все-таки не было ни времени, ни материала. Юханцев смекнул: выкопать телеграфные столбы, укрепить на обоих берегах и, сладив из них подобие качелей, перебросить на качелях пушки через русло. Так и сделали: вышло отлично. Но Юханцев недоумевал: «Да где же тут военное инженерство? Одна простота…» К Карбышеву он пришел по другому поводу, но с тем же недоумением.
— Солдат я недавний. Дозвольте, господин полковник, с вопросом не по команде?
— Спрашивайте.
— Рвем мосты до самых малых пролетов, поворотные круги на станциях, — слов нет, надо. А когда велят весь жилой поселок при станции спалить, неужто и такое по науке военного инженерства полагается?
— Кто велел?
— Поручик Батуев.
— Поручик ошибся. Начали жечь?
— До вас не начинали.
Вопрос был серьезный. Офицеры и генералы винили в провале июньского наступления большевиков, а солдаты — генералов и офицеров. То, о чем спрашивал Юханцев, было прямым следствием провала. Спрашивал большевик. Отвечал офицер.
— Распоряжение поручика я отменяю, — сказал Карбышев, — а насчет «военного инженерства» дело обстоит не так уж до смешного просто, как вы, Юханцев, полагаете…
И он пустился объяснять, в чем военно-инженерный смысл разрушения и почему необходимы в этом деле расчет, система и дисциплина. При широком маневрировании, при быстрых отходах с разрушением приходится спешить. И поэтому уничтожать то, чем продвижение противника все равно затруднить невозможно, и не трогать того, что может ему пригодиться, значит попусту тратить силы. Например, сжечь жилой дом при железнодорожной станции, а водокачку оставить в целости — нелепо…
— Спасибо, господин полковник, — серьезно сказал Юханцев, — стало быть, и простота бывает научная, и науку к простоте склонить можно.
* * *
У Черновиц оторвались от топких берегов Прута и потянулись к Днестру по лесистым и холмистым долинам, уже видевшим, как два года назад отходили здесь русские войска. Остатки окопов, кое-как отрытых в то тяжкое лето, то и дело попадались под глаз. Но эти старые позиции были теперь в самом запущенном состоянии. Во многих местах они поросли высоченной рожью. Обстрел был стеснен, и войска, не задерживаясь, шли мимо забытых окопов по болотным низинам, через речки и запруды, сквозь густые перелески, — все дальше и дальше, все ближе подходя к российской границе. И в России уже было слышно, как армия кричит: «Вся власть Советам!»
Начальство кипятилось, приказывая остановиться, занять позиции и укреплять их для упорной обороны. Заусайлов охрип.
— Стой! Ни с места! Занимай окопы!
Солдаты ухом не вели.
— Не очень шумите, господин полковник! Разве это позиция? Канавка… И что за укрытие, коли кольев всего два ряда?
— Братцы! Работать надо!
— Ах, ты!..
И весь сказ. Полк шел на восток…
Темная улица села имела какой-то оцепенело-испуганный вид. Но не в безлюдье было тут дело. Так именно выглядят города и деревни после того, как через них пройдет много, очень много войск. Утром, когда рассвело, стало видно, что накануне в селе и вокруг него стояла большая кавалерийская часть. Как и везде, на местах кавалерийских стоянок, трава была выщипана, вытоптана, прибита к земле. Повсюду — солома, зерна овса, ячменя, обрывки веревок… Ветер поднимал и разбрасывал пепел потухших костров. Светлое и чистое, спокойное летнее утро с грустным удивлением смотрело на это поругание мирной красоты, еще недавно здесь царствовавшей в природе. Итак, где вчера стояла конница, сегодня остановилась пехота. Идти на восток еще дальше пехота уже не могла. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Корнилов только что приказал расстреливать отходящие с позиций части, а Керенский восстановил смертную казнь на фронтах…
Между Прутом и Днестром, по линии деревень Онут — Топороуцы — Боян, сохранилась от пятнадцатого года отлично укрепленная полоса. В семи верстах за ней имелась вторая, такая же. И, наконец, в глубоком тылу, почти у границы — множество полос, полузаконченных постройкой. Отход между Прутом и Днестром совершался беспорядочно. Противник сильно напирал на правый фланг отступавших войск, громил его из тяжелых пушек и обстреливал химическими снарядами. Фланг быстро подавался назад. А левый фланг, наоборот, отходил медленно, держа связь с еле подвигавшимися в горах карпатскими частями. И поэтому получилось так, что, когда правофланговые корпуса вышли в район старых укреплений, направленна их боевого фронта пришлось под углом к наличным позициям. Выравнять фронт по наличным позициям было нельзя: это значило бы оторваться от соседа слева и повиснуть в воздухе. Между тем правофланговый корпус уже отдал без боя несколько укрепленных полос, а его соседи слева еще не подошли и к первой полосе. Естественно, что как только армия остановилась, возникла неотложная необходимость тотчас приступить к возведению новой укрепленной полосы по линии Боян — Ракитно — Рашков, а за ней — второй, с отсеками между обеими. Считаться с тем, что вся эта местность уже была изрезана окопами, не приходилось. Карбышев принял участок от Новоселиц до Раранче — Слободзия — Недобоуцы. Все это были цветущие, очень зеленые, тенистые, длинные села. Участок Карбышева выходил за левое крыло Юго-Западного фронта и оказывался на правом крыле Румынского фронта. Позиционная линия проходила через Раранче — Слободзию так, что восточная половина деревни была в русских руках, а западная — в австрийских. Стада белых гусей бродили по зеленым улицам Раранче, то и дело переходя границу…
* * *
Холмистая гряда начиналась у Хотина, близ Днестра, и тянулась на запад, заросшая по высокому гребню густым буковым лесом. От гряды отбегали к Днестру глубокие и развилистые овраги. Австрийцы с большим удобством для себя могли их использовать в качестве подступов при атаке. По этой причине наряды для охраны и разведки усиливались изо дня в день и перестрелка не прекращалась. На стыке Юго-Западного и Румынского фронтов, там, где лежал карбышевский участок, распласталась между речками пойма — мертвое пространство, которое никак не попадало под огонь. Тарахтели винтовки, татакали пулеметы, грохали пушки, а крестьяне, знай себе, пахали на безопасном междуречье. В чистом утреннем небе неуклюже покачивалась колбаса. Это русский артиллерийский наблюдатель, засев еще на рассвете в, корзинку, корректировал орудийный огонь. Вдруг из зеленых кустов прибрежья взвился кверху желтый австрийский бипланчик. Вот он взбирается выше, выше… Вот он идет полным ходом на колбасу…
«Бах! Бах!..» Ясное небо затянулось пеленой черного дыма. Рассекая край дымного столба маленьким парашютом, наблюдатель птицей летит вниз и ловко прыгает наземь. А биплан? Его как и не было…
— М-мерзавцы! — говорит Заусайлов, — в разведку только затем и ходят, чтобы спать. Биплан-то ведь ночевал у нас под носом в кустах. Нет, уж это не солдаты!..
Карбышев был озадачен не меньше. Левый фланг его участка довольно точно совпадал со старыми окопами. Но правый фланг загибался. Передним краем обороны должны были служить ходы сообщения. Однако проволочные заграждения имелись только с фланга, а спереди — отсеки. Карбышеву предстояло превратить эти отсеки в укрепленную полосу. Целые дни проводил он на работах и в рекогносцировках. Австрийцы окапывались, прячась в высоких хлебах. Карбышев сам подползал к австрийской проволоке и снимал на планшетку ее прихотливые повороты. Сам выхаживал свой участок из конца в конец, проверяя разбивку, трассировку, ныряя по развалам свежевырытой земли, с прилипшими к сапогам черно-красными комьями, весь вымазанный в золотой глине. Ночью он попадал домой — за десять верст от работ, в деревеньку Малинешти. Еврейская школа в полуразвалившейся халупе… толстая седая хозяйка… огромные пышные перины… встревоженная, заждавшаяся Лидия Васильевна…
Часть II
И се глас вольности раздается во все концы…
Радищев
Глава тринадцатая
Когда строительный участок на реке Прокураве, близ Коломыи, был упразднен, солдаты работавшего на этом участке полка голосовали: идти в бой или не идти? Так как голосование производилось под огнем противника, то и закончилось быстро: «Не в силах мы больше фронт держать!» И полк повернул к русской границе. Австрийцы кинулись его преследовать.
Прапорщик инженерных войк Наркевич не успел оглянуться, как очутился в Могилеве-Подольском. По городу шатались солдаты ударных батальонов с голубыми щитками на левых рукавах гимнастерок. На щитках были измалеваны белой краской черепа и кости. «Экая глупая бутафорщина!» — подумал не видевший до сих пор ударников Наркевич. На одной из главных улиц города, в большом старом доме с колоннами, сгрудились вместе штабы фронта и Восьмой армии. У подъезда стояли на часах толстогрудые и толстоногие бабы из женского батальона смерти с одурело-восторженными физиономиями.
Внутри дома с колоннами было так тихо и безлюдно, что Наркевич, пробродив с полчаса по коридорам, приоткрыл, наконец, какую-то дверь и очутился в неоглядной по размерам пустынной комнате. Это была штабная столовая. За длинным столом пил холодный чай старый инженер-генерал в пенсне, чисто выбритый и веселый. Он говорил что-то очень смешное двум хорошеньким сестрам милосердия, с крашеными перекисью, почти белыми, волосами. Сестры громко хохотали и поглядывали исподтишка на вошедшего в столовую черноглазого прапорщика. «Генерал Величко», — догадался Глеб. Величко сделал серьезное лицо и подозвал заблудившегося офицера. Со вниманием выслушав коломыйскую историю, он приказал Наркевичу немедленно ехать в Новоселицы.
— Поступите там в распоряжение идеального начальника: подполковник Карбышев. Что? Знаете его по Бресту? Оч-чень хорошо. Должность — младшего производителя работ. Да еще и дружиной будете командовать. Итак, милый юноша, марш!..
Поезд состоял из двух десятков платформ с прессованным сеном — целый эшелон под охраной солдат с винтовками. К нему было прицеплено несколько вагонов третьего класса, грязных и расхлябанных, до отказа набитых всякого звания людьми. В один из них втиснулся Наркевич. Поезд медленно катился мимо лесов и речек, громадных сливовых садов и деревень. Окна белых домиков ослепительно лучились, отдавая вечеру блеск прекрасного солнечного заката. Кто-то громко читал газету. «Третьего августа в Москве открылся второй всероссийский торгово-промышленный съезд. Известный член „Совещания общественных деятелей“, инженер…» От мгновенно возникшего острого предчувствия Глеб вздрогнул, как от удара. Да, так оно и есть! — «…инженер Наркевич произнес глубоко прочувствованную приветственную речь».
— Не революция, а кукиш в кармане!
Человек в солдатской шинели, с бритой головой, резкими и крупными чертами полного лица, похожий на молдаванина, повторил, горячась и от волнения слегка заикаясь:
— Для солдат — кукиш…
Он быстро огляделся, и темные глаза его сразу остановились на Наркевиче. Ямка на широком подбородке задвигалась. Тяжелая фигура, крутые плечи, могучие руки и жирная шея — все зашевелилось и заходило.
— Я вас спрошу, господин прапорщик, — ваше офицерское дело теперь какое? Дисциплина, погоны… а что-то, мол, дальше будет?.. И, конечно, — злость непомерная к большевикам. Ну? Ясно: ударились было в кадетство, — стоп! Надо же с развалом солдатским бороться. И пошли тогда — праветь. Все? Ничего больше нет. А солдатам с каждым днем виднее, что эсеры и Керенский — за войну. Раз за войну, — значит, и за отсрочку дележа земли. Солдатам нужны мир и. земля, а не учредительное собрание. Вот и кукиш! Рвут солдаты с эсерами… Превращаются в большевиков…
Наркевич подумал: «Как он неопрятно укладывает мысль в слова…» Сам Наркевич всегда старался подогнать свою мысль к полной точности, а речь — к чистоте. Вольное обращение с догмой и неуважительное отношение к схеме были ему инстинктивно противны. Черные точечки в темных глазах Наркевича жестко сверкнули. А молдаванин все говорил и говорил — отрывисто и непоследовательно, но убедительно и страстно.
— Прав?
— Совершенно правы, — сказал Наркевич.
В углу вагона два приятеля лущили семечки.
— Что же это, брат, за штука — философия?
— Наука, как деньги рвать. Без науки такой пропада-аим! Обучи, Васька, — ха-ха-ха!
— Дурья башка у тебя, Федор, не дай бог!
— Дурья — не дурья, а в собачий ящик не запхаешь!
В вагоне загоготали.
— Философия — наука самая глубочайшая, — наставительно сказал кто-то.
— Какая? — вдруг ворвался в разговор молдаванин, — не всякая! Рабочая… А такой философии, чтобы для всех одна была, — такой философии быть не может. Гусиное пойло с перцем, а не наука… Я вот, например…
Подъезжая к Новоселицам, Наркевич знал уже всю историю молдаванина.
— О большевиках, меньшевиках, революциях я еще ничего и не слыхивал, а суть дела чуял. Что? Ну да классовую борьбу. Для одного себя жить не стоит! А по натуре и психологии я человек действенный. И действовал…
Он засмеялся широко и весело.
— Народный мститель… Летом прошлого года по всем бессарабским станциям развесили мою рожу. В «Голосе Кишинева» объявили: за поимку и выдачу такого-то награда в две тысячи рублей. Раз, два — и сцапали. Переслали в одесскую тюрьму. Приговорили к веревке. Обжаловал… Главнокомандующий заменил смертную казнь каторгой без срока. Мерси! Из смертника в вечника. Да, плохо рассчитал старый жеребец!..
Молдаванин рассказывал, добродушно хохоча, и было видно, как гулкий смех разливался волнистыми перекатами по его громадному, сильному телу.
— Плохо рассчитал… В мае тюрьма — настежь. Вылез из камеры, — батюшки! И море, и порт, и улицы, и белые акации, и весна горланит. Ну нет, думаю, не время, — ни, ни, ни… И махнул из Одессы на Румынский фронт, рядовым в полковую разведку. Тут мне все и раскрылось. Готово!
— Что, готово? — спросил Наркевич.
— Оно самое!
Он почесывал густую щетину на синей скуле, не желая говорить яснее.
— Да ведь и я — большевик, — засмеялся Глеб, вдруг почувствовав, как слабеют шарниры, на которых крепко держалась минуту назад его замкнутость.
Что-то внутри сдало, отступило, отвалилось.
— Ой ли?
Богатырь так сжал в своих железных пальцах руку Наркевича, что она смялась и побелела.
— А я — член армискома из шестой, — Котовский… Григорий Котовский!..
Карбышева не было дома.
— Они на передовых, — сказал денщик.
— А супруга?
— Тоже. При них. Совместно.
Денщик воодушевился свежими воспоминаниями.
— Ведь до чего… На прошлой неделе Лидия Васильевна говорит: «Кирилл, бери посуду, неси в избу к полковнику Заусайлову, там нынче будем чай пить». Я говорю: «И вечно вы, сестрица, придумаете». — «Неси без разговоров». Понес. Они — за мной. А там и Дмитрий Михайлович подошли. Сели за стол. Только углубились — бежит вестовой, лица нет, орет, будто резаный: «Сестрица! Сестрица! А квартиру-то нашу…» — «Что?» — «Снесло…» — «Как, то ись?» «Да так, снарядом… Под чистое место…» Поверите? Вот до чего. Как есть, они — ангел-хранитель при них…
Шрапнель со свистом пролетала над шоссе. То там, то здесь оглушительно грохало, — рвался снаряд, и волна горячего, душного воздуха ударяла в лицо Наркевича. Его лошадь шарахалась, и Глеб закрывал глаза. Но движение по шоссе не прекращалось. Вот проехала повозка, затем походная кухня; проскакали два орудия, потащилась полурота пехоты. Завидев впереди, налево за канавой, халупку, Наркевич ощутил тепло в груди и мысленно улыбнулся: здесь должен быть Карбышев. И лошадь пошла крупной рысью, почти не обращая больше внимания на разрывы. А между тем здесь-то и было от них жутковато. Поблизости стояла батарея, и австрийцы били по ней тяжелыми. Спрыгнув с лошади и привязав ее к плетню, Наркевич шагнул в халупу, и сразу налетел на груды противогазовых масок, на бочонок с водой и на горы соломы для костров. Сидя за некрашеным, деревянным столом, несколько офицеров спорили, размахивая руками, и пили что-то, звонко чокаясь серебряными стопками. На столе валялись засаленная колола карт и листок бумаги с цифрами. В горнице было так надымлено, что Глеб не сразу разглядел офицерские лица. Только серое платье, косынка и фартук с крестом на Лидии Васильевне тотчас Оросились ему в глаза. Скоро определилось и остальное. Ораторствовал Заусайлов. Усы его сердито топорщились.
— Вы говорите, что ударный батальон без суда и следствия расстрелял двух рабочих пятой инженерно-строительной дружины? Так? Согласен: воз-му-ти-тельно! Покарать виновных! И — довольно. И — все. Да, все. Потому, что, как ни вертите, а это всего лишь частный, единичный случай. Я же — не о частном случае. Я — о таком… Вот нашлись арапы: взяли, да и объявили Россию республикой. Это не частный случай, и вообще не случай, а… исторический факт! Но ведь факт-то беззаконный… Ведь права-то арапам никто не давал…
— Никто, — охотно согласился Карбышев, — положительно никто…
Как и всегда, он был подтянут, подобран, сосредоточен в себе, со взглядом, возникающим глубоко-глубоко и загорающимся изнутри.
— Просто налетел ветер революции и сорвал вывеску.
Заусайлов онемел от негодования.
— Па-азвольте! — наконец с трудом выговорил он, — как же так? Вы — русский офицер…
Мгновенно-быстрое движение глаз и губ пробежало светлым зайчиком по темному лицу Карбышева, Однако он ничего не успел сказать.
— Прапорщик Наркевич! Скворец небесный!
Глеб точно в воду прыгнул — так зашумела в его ушах халупа.
— На службу?..
— Величко прислал…
— Командиром дружины?
— Превосходно.
— Уже полгода, как произведены?
— Можно сказать, заслуженный старый офицер, ха-ха-ха!
— Хотите чаю? — спросила Лидия Васильевна.
— Берите лучше стопку! — предложил Заусайлов.
— Увольте, господин полковник!
— Это что за новости? Где люди, там водка. Обратная теорема: где водка, там люди. Противоположная теорема: где нет людей, нет водки. Обратная противоположной: где нет водки, нет людей.
Пока Заусайлов наливал из чайника без крышки, Карбышев говорил Глебу:
— Увидите здесь много интересного: войска без фортификации… фортификация без войск…
Карбышев говорил и внимательно поглядывал то на Заусайлова, то на Наркевича.
— Вы, господа, — старые знакомые. И вот что я думаю: Наркевич примет тыл от Слободзеи до Недобоуц; а по ночам будет выводить своих рабочих на передний край для укрепления участка, занятого вашим полком, Николай Иваныч…
— Слушаю-с! — сказал Наркевич.
Заусайлов с притворным равнодушием пожал плечами.
— Сделайте одолжение. Очень рад!
На самом же деле он вовсе не был рад. В глупой необходимости скрывать свою застарелую антипатию к Наркевичу он не предвидел для себя ровно никакого удовольствия. Карбышев — умный человек, а не понимает простых вещей. Черт побери этих умников!
— Поработаем, черт побери! — облегчил Заусайлов душу.
Карбышев и Наркевич шли с передовых пешком. Уже смеркалось, а они все еще не спешили. Заложив руки за спину, Карбышев шагал и шагал вдоль линии окопов, рассказывая, объясняя, рассуждая вслух. Пули посвистывали; глухо отдавался в ушах грохот дальних разрывов. «Проверяет меня? — гадал Наркевич, — или действительно не думает об… этом?» Наконец, они втянулись в деревенскую улицу. Все здесь было разрушено, размызгано, разбито, исковеркано, — точное подобие армии, загнанной противником в эти места. Вдруг Карбышев показал на электрический фонарь, стройный и форсисто-тонкий, единственный предмет, вполне уцелевший на разоренной улице.
— Не находите, что у фонаря дурацкий вид?
— Пожалуй…
— И чем-то смахивает на Заусайлова… А?
* * *
Рассказов по войскам ходило много. Верили им далеко не все; но никто не относился к ним безразлично, Под Черновицами рассказывали, будто генерал Опимахов продал тамошние позиции немцам за сорок тысяч рублей. Услышав такие разговоры, Романюта только рукой махнул. «И как людям брехать не надоест…» Но, когда прошли мимо Черновиц и вышли к самой границе, Романюта хоть и не поверил в историю с сорока тысячами рублей, но рукой уже не махал. Трудно держать нервы в порядке. Не способствуют нервы и принципиальности, наоборот: притупляют…
Участок заусайловского полка тянулся по восточному склону пограничного холмистого отрога. Рабочая дружина Наркевича стояла верстах в десяти позади. В течение суток Наркевич по крайней мере дважды появлялся на заусайловском участке. Сперва — днем. В это время дружина работала в тылу, а Глеб бродил по переднему краю, разбивая позиции. Затем возвращался к дружине. Часов в шесть вечера рабочие роты, — одна с винтовками, а три с лопатами, — выходили вперед. Шли почти всегда под дождем и прибывали на место к десяти часам, окутанные непроницаемой тьмой. К этому же времени и Наркевич вторично добирался до участка — верхом или на пролетке — и принимался расставлять свои роты соответственно с дневной разбивкой. Обычно одна из рот копалась в первой, линии окопов, а прочие — в ходах сообщения. По мере того, как отрывались окопы, разравнивалась и маскировалась насыпь. Затем строились козырьки для охранения от артиллерийского огня. На рассвете роты снимались и шли назад, солдаты — мокрые, с сапог до фуражек вымазанные в глине и грязи, шли сонные, еле передвигая ноги. Когда приходили, утро бывало в разгаре; стаи горластых, уток шлепали желтыми лапами по стылой воде зеленых луж; и Хотинское шоссе — единственный хороший путь между Новоселицами и Недобоуцами — уже представляло собой картину самого живого движения…
Новые отношения с Наркевичем тяготили Заусайлова. Было что-то обидное в том, что старый, заслуженный офицер, исключительно по причине своей недостаточной осведомленности в вопросах фортификации, оказывался полностью в руках сомнительного мальчишки, только что выпущенного ускоренным порядком из инженерного училища и прошедшего в Проскурове какие-то пустяковые курсы младших производителей военно-инженерных работ. Черт знает, что такое! Заусайлов приходил к Карбышеву — жаловаться на неудобство положения. Если Карбышев не сидел за обеденным столом, он непременно возился над кроки позиций, что-то исправлял в них, улучшал, заново вычерчивал полосы и отсеки. Заусайлов смотрел, поглаживая усы и вздыхая.
— Ну, что это вы делаете? Полосы укреплений вычерчиваете?
— Да.
— Каких?
— Это не реальные позиции.
— Не ре-аль-ные? А какие же?
— Как бы вам объяснить? Это — принципиальные позиции.
Заусайлов вздыхал, грустно покачивая головой. Он не понимал, что такое «принципиальные» позиции и для какой надобности они могут быть нужны. Да и мысли его вовсе не лежали теперь к этаким отвлеченным вещам. Они попрежнему сверкали как бы в потемках, но теперешней яркости не достигали еще никогда. В начале августа Заусайлов стал членом офицерского союза и с тех пор был твердо убежден, что военная диктатура есть единственное средство спасения России, а подготовка ее — первейшая обязанность каждого офицера. Когда в Москве шло Государственное совещание, он жадно ловил в газетах намеки на то, чего с таким нетерпением ожидал. После сдачи Риги Карбышев сказал: «Вот Корнилов и выполнил свою угрозу — сдал Ригу, чтобы хорошенько напугать». Заусайлов оглянулся, — не слышит ли кто? — и ответил шепотом: «Погодите еще недельку, — увидите, что будет…» Очевидно, ему было известно что-то такое, о чем Карбышев не имел понятия. Срок разворота корниловского «действа» он предсказал точно. И сейчас мысли Заусайлова гуляли очень далеко от карбышевских кроки.
— Эх, — мрачно говорил он, — хоть руку секите, а Наркевич ваш — большевик!
— Возможно.
— А большевики — не герои моего романа.
Карбышев поднимал лицо над чертежом.
— Не в вашем романе дело, а в том, что они первые заявляют прямо: «Нельзя торговать Россией!» Армия погибла, а Россию они хотят спасти.
— От чего хотят спасти?
— От позора. Сухомлиновщина, кадеты, керенщина — вся эта мразь только тем и занималась, что распинала Россию на кресте неподготовленных наступлений. Вела ее к неизбежному погрому. Вы и сами это не хуже меня знаете.
— Верно, знаю. И все-таки…
— Что?
— Остаюсь при своем мнении.
Карбышев наклонялся над чертежом.
— Дело ваше.
«Телеграфный столб!»
* * *
В сентябре Заусайлов и Наркевич разлучились. Штаб дружины перебрался в Хотин. Глеб устроился на житье в селе Рукшине, дом на пригорке, старые кусты сирени, сад и дубовая рощица. Внизу — проточный пруд с ключевой водой, плотина, обсаженная ивами, мельница и ракитник. Здесь, около села, за леском, работали теперь, не отрываясь, на своей тыловой полосе его роты. Погода портилась. Как-то ночью задул сильный ветер. Редкий холодный дождь забил в лицо. Наркевич развел роты, но не поехал в Рукшин, а остался на работах — раскатал палатку, завернулся в нее и заснул. Когда его разбудили на рассвете, он дрожал. Зубы его стучали, волны ледяного озноба бежали по телу, ноги подгибались. В Недобоуцы он приехал на пролетке, с трудом добрался до постели, разделся и лег.
— Пане ласковый! — суетилась возле него хозяйка, — а не надо ли пану чего-нибудь?
Но Наркевича так трясло, что он не хотел ни есть, ни пить, с отвращением принимал лекарства, которые привозила ему Лидия Васильевна, и сквозь горячий полусон лихорадки смутно улавливал окружающее. К хозяину приходили люди в дубленых полушубках, расшитых цветными узорами. «Слава Иисусу!» «Слава во веки!» И сейчас же заводили разговор о каком-то лесе…
Через неделю болезнь оборвалась. Температура соскочила, ознобы прекратились, и Наркевич поднялся с кровати, похудевший, изжелта-бледный, с глубоко ввалившимися глазами. Странное беспокойство быстро вывело его из избы и привело прямо на правый фланг тыловой недобоуцкой позиции. Это был очень благополучный фланг, так как строился в довольно густом березовом лесу и был совершенно замаскирован деревьями. Наркевич долго шел до насыпи окопа и, наконец, остановился. Да где же все-таки правый фланг? Где так плотно прикрывавший его березовый лес? Ничего этого не было. Высокие, тонкие аисты медленно и важно вышагивали между свежими, пахучими пнями. А леса не было…
…Наркевич часто приходил к Карбышеву за приказаниями и советами, и всегда так получалось, будто Карбышеву только того и надо было. Почти всегда перед ним оказывалась в развороте тетрадь с кроки позиционных схем. И сейчас же он ухватывал подходящую схему и пускался объяснять и истолковывать ее применительно к вопросу, с которым пришел Глеб.
— Поймите, Наркевич, — говорил он, — полевая фортификация — искусство. Как и всякое искусство, она ищет путей для своего развития…
И он принимался чертить: «Видите?» — «Ясно. Благодарю вас». Это были ценные указания. Но, давая их, Карбышев и сам работал, — он исследовал задачу с тем, чтобы решить ее неожиданно-новым способом. И уж потом решал так, как она еще не решалась. Почему-то Наркевичу это никогда не удавалось. По общему мнению, он довольно хорошо знал свое дело. Но сам в глубине души не разделял такого мнения. И особенно не разделял, сравнивая себя с Карбышевым. Тут с чрезвычайной отчетливостью припоминалось ему одно из давних впечатлений. Наркевичу было лет восемь или девять, когда родители его уехали года на два во Францию и взяли его с собой. Однажды они всей семьей попали в Арле на городскую ярмарку. Было очень живописно и весело. Вертелись карусели, и юбки девушек раздувались, как паруса. Арльские девушки — красивейшие во Франции. Точно громадные живые цветы — тюльпаны, волюбилисы и мохнатые розы, порхали они на гибких веревочных стеблях. Вокруг шумели балаганы. Кривлялись актеры, монахи собирали милостыню, и фокусники с высоких деревянных помостов удивляли своей ловкостью наивных провансальцев. Один из фокусников работал шарами. У него было пять блестящих разноцветных шаров, которыми он играл в воздухе. Шестой шар, вероятно, запасный, лежал у ног этого поворотливого человека. Кончая номер, он бросал шары в толпу, и доброволец, — какой-нибудь деревенский Жак в синей кофте, широкополой коричневой шляпе и деревянных башмаках, — подавал ему шары для новой игры. Фокусник работал мастерски. «Алло!» — крикнул он бешено, и шары посыпались в толпу. Женщины смеялись, мужчины неумело пытались подражать артисту. На помост полетели монеты, и очередная коричневая шляпа уже подбирала шары. Неизвестно, был ли этот Жак очень хитер или очень глуп, но, протягивая фокуснику шары, он, кроме пяти, прихватил и шестой. Артист, наскоро подсчитывая блестящие мелкие су, не заметил подвоха. Привычным и быстрым движением он выбросил шары. Они взлетели пестрой гирляндой в воздух и… покатились по доскам помоста. Толпа загоготала. Вдруг всем стало ясно, что фокусник умел работать только с пятью шарами. Шестой испортил ему день…
Что-то было в Глебе такое, чем он был крепко привязан к нормативу, к правилу, к «пяти шарам». Чем-то пугало его нарушение догмы. И, удивляясь смелой находчивости Карбышева, сам он ни за что не нашел бы в себе и десятой доли предприимчивости, позволяющей в необходимых случаях шагать через букву. В конце концов неудача арльского фокусника была с какой-то странной, внутренней, стороны близка Глебу, — ближе, гораздо ближе карбышевской находчивости. И. вот — исчезновение леса на правом фланге недобоуцкой тыловой позиции оказалось для него, по существу, не чем иным, как шестым шаром в игре. Наркевич стал втупик. Что оставалось делать? Он отправился к Дмитрию Михайловичу.
— Выздоровели?
— Так точно. Но вот что у меня случилось, господин полковник…
И Наркевич доложил, как обнажился фланг из-под снесенного леса, и окопы, соответствующим образом построенные, демаскировались и вышли в чистое поле.
— Кто же вырубил лес?
— Рукшинские крестьяне.
— Зачем?
Наркевич криво усмехнулся.
— По… праву революционной вольности. Как прикажете поступить?
Карбышев задумался. Его немигающий взгляд был устремлен на Наркевича. Но Глеб не чувствовал этого взгляда. Карбышев смотрел, но не видел; искал, а находка не давалась. Минута… другая…
— Эврика!
Темное лицо зажглось. Глаза ожили.
— Вот что вам надо сделать. Слушайте!..
И шестой шар заработал с такой же точностью, как и все остальные.
* * *
После краха «корниловщины» армия кипела. И жизнь Карбышева представляла собой непрерывное горение нервной силы. Что день, что ночь — все равно. Чем дальше, тем меньше времени для отдыха, для еды. Разговоры с офицерами, совещания с комитетами и «комитетчиками», толки с сельскими властями, приказы, воззвания… Все в волнении, все хотят знать, что было и что будет, — требуют, кричат. И они вправе волноваться, требовать и кричать. Во всем, что происходило кругом, Карбышев ясно видел главное: армия неудержимо большевизировалась. Солдаты группами уезжали зачем-то в Одессу и возвращались оттуда самыми настоящими большевиками. С августа в инженерном полку появилась большевистская ячейка, и Юханцев состоял ее секретарем. Выборы ротных и полковых комитетов происходили под ее прямым воздействием, и естественно, что эсеры с меньшевиками оказывались в этих низовых комитетах на заднем дворе. Наркевич то и дело проводил объединенные заседания солдатских комитетов и докладывал постановления Карбышеву. «Согласны, Дмитрий Михайлович?» — Карбышев не спорил. Но когда большевики повели борьбу за выборы делегатов на корпусной съезд, за контроль над штабами и полевым телефоном, за захват фронтовых газет, он стал допытываться.
— «Вся власть Советам!» Но ведь это и раньше было.
— Лозунг был тот же, — отвечал Наркевич, — но содержание теперь другое.
— Чем?
— Тем, что Советы теперь стали большевистскими.
Карбышев задумался, как недавно над внезапным исчезновением леса.
— Стойте! Значит, это лозунг новой революции? Господина Керенского с Корниловым — на один крючок?
— Да. Это призыв к диктатуре пролетариата…
— Путем восстания?
Наркевич молчал. Карбышев видел, что ротные и полковые комитеты стоят на большевистском пути. Здесь и было то самое, к чему стремилась солдатская масса. Оно-то, собственно, и разумелось под словами:. большевизация армии. Не так обстояло дело в армейских и корпусных, верхушечных, комитетах. Там были сильны эсеры и меньшевики. В корпускоме играл роль главного оратора Лабунский. Итак, Наркевич и Лабунский постепенно определялись до полной ясности, — но каждый на свой лад. Да и все офицерство начинало походить на слоеный пирог. Оно резко делилось на «корниловцев» и на «демократическое». Кто куда тяготел, видно было с первого взгляда.
— Споришь с Карбышевым? — спросил Наркевича Юханцев.
— Нет. Он все понимает.
— Отчетливый мужик!
Карбышев явным образом относился к «демократическому» офицерству. А Заусайлов, наоборот, был самым настоящим «корниловцем». Из-под Коломыи прибыла для работ на второй войсковой полосе китайская рабочая рота и поступила в ведение Наркевича. Заусайлов потребовал китайцев на передний край. Наркевич отказал. Начался крупный разговор. У Заусайлова от злости прыгали усы.
— Эх, вы…
— Что?
— Большевик вы этакий! Вот что!..
— Вы произносите это слово, господин полковник, как бранное. Я…
Наркевич и всегда был бледен. После болезни еще побледнел. А сейчас в лице его не было ни кровинки.
— Я запрещаю вам…
Заусайлов схватился за наган.
— П-п-азвольте! Как вы, обер-офицер, смеете таким образом говорить со мной, полковником, а? 3-заб-былись!..
* * *
Армия голодала. Чечевица, да сельди, да неполная дача хлеба, — это еще хорошо. В полку у Заусайлова вышел скверный случай: поймали солдата на воровстве. Попадался он не в первый раз — то селедку сопрет, то хлеб. Съест половину, остальное вернет и смеется: «Вдругорядь не клади плохо. Я отдал, а другой не отдаст». Случай был не из важных. Но Заусайлов посмотрел на дело иначе, — отправился в батальон, где произошло воровство, и произнес речь. По дороге к батальону адъютант доложил:
— Господин полковник, пришло пополнение…
— Где же оно?
— Здесь, справа пристроено к батальону.
«Вот и хорошо! — подумал Заусайлов, — пускай послушают». Он начал говорить, не здороваясь с солдатами.
— Нынче — украл, завтра — брататься пошел… Тянись к свободе, рви цепь рабства, черт с тобой, но не смей, мерзавец, сбрасывать с себя долг перед родиной. А таких среди вас много. Просто пользуются революцией, чтобы затоптать обязанности и долг…
На старых солдат эта речь не произвела большого впечатления. К Заусайлову в полку привыкли, — помнили его капитаном, ходили вместе с ним брать перемышльские форты. О речах его отзывались так: «Чего там? Все байки да вранье…» Но на сей раз слушателями Заусайлова оказались еще и новые, только что прибывшие в полк, совсем чужие солдаты. Это были новобранцы из Проскуровского полка, где только что произошли громкие «эксцессы» между солдатами и офицерами. Особенно плохо пришлось там членам офицерского союза. Заусайлов знал о крайней «ненадежности» пополнения, но рассчитывал сломить его дух. Покончив с батальоном, где обнаружился вор, он двинулся на правый фланг, — особо поговорить с проскуровцами.
— Смирно!
Но солдаты пополнения, как стояли вольно, так и остались стоять. Лишь те, что были поближе, начали нехотя подравниваться. Однако и здесь фланговый продолжал дымить цыгаркой. Заусайлову ударило в голову.
— Ошалел, сукин сын! Брось папиросу!
— А зачем бросать? — отвечал солдат, — она денег стоит…
И засмеялся. Этот смех, будто холодная вода из пожарной кишки, окатил Заусайлова. Еле устояв на ногах, он махнул рукой, повернулся и пошел к себе, сопровождаемый дружным солдатским хохотом. А тот, что курил цыгарку, теперь уже не смеялся.
— Как есть корниловец! Первой пулей его… дикобразину!
После этого случая Заусайлов перестал спать в избе. Он проводил ночи снаружи, под навесом, сидя в пролетке и держа у руки винтовку, поставленную на взвод. Он считал нужным всегда быть наготове и, заряжая револьвер, думал: «А седьмой — себе…» Ему казалось, что надо заранее договориться об этом с собой для того, чтобы в нужный момент не растеряться. Он уже ни на кого и ни на что не рассчитывал — только жгуче ненавидел Керенского и боялся солдат. А солдаты ненавидели Заусайлова, потому что смотрели на него и подобных ему офицеров, как каторжники смотрят на свою цепь.
* * *
Никто бы не сказал, что капитан Лабунский воевал мало или плохо. Нет, он воевал много и хорошо. Иначе и быть не могло, потому что он искал для себя на войне славы. В этих поисках славы он крепко связал свое личное будущее с будущим революции. Еще в четырнадцатом году Лабунский мечтал о революции. Она представлялась ему перспективой блестящих карьер, разворотом огромных житейских планов. К этому времени он уже умел великолепно излагать философию Оствальда и мог по пяти часов подряд говорить о том, что объективного мира нет, а есть мир явлений. Но ожидания затягивались, и он женился на Наде Наркевич. Офицерский Георгий и выгодная женитьба чуть было не свели его с путей революционной исключительности. Было время, когда он готов был удовлетвориться достигнутым. Но тут-то и свалился на голову февраль. Лабунский встретил февральскую революцию, как родную мать. Он не сомневался, что революция вызовет в войсках подъем патриотических чувств и снова зажжет погасшее в них стремление к победе, ибо победой закреплялся переворот. Ведь и во время великой французской революции все это было именно так. Однако летнее «наступление Керенского» с треском провалилось. Всему свету стало понятно, что подъема нет как нет и победы как не было, так и не будет. На этом, собственно, и Лабунский вынужден был прекратить свои поиски военной славы. Другой бы на его месте растерялся. Но с Лабунским этого не случилось. Он быстро сообразил, что слава и популярность — родные сестры. Лучшее средство завоевать популярность — проталкиваться вперед, валя всех, кто оказывается на дороге. Он живо пролез в корпусной комитет и двинулся добывать популярность речами. В дивизиях, в полках резко усиливались тогда большевистские настроения. То здесь, то там земля качалась под ногами соглашателей. Эсеровские главари корпускома говорили: «Надо послать Лабунского, — лучший у нас оратор, — приберет к рукам». Лабунский ехал, произносил «нитроглицериновую» речь и «прибирал».
Получалось довольно хорошо. Только материальная сторона существования несколько смущала деятельного капитана. К его старой привычке резаться в карты прибавились две новые, усвоенные уже после женитьбы: к хорошим сигарам и крепкому коньяку. Все это требовало денег, денег. А между тем в один прекрасный день Надежда Александровна, тоненькая, худенькая, но, как уже прекрасно знал Лабунский, совершенно в некоторых вопросах несгибучая, объявила мужу, что она ни за что не попросит больше у отца ни копейки денег. «Это что за новость? Почему?» — «Потому что отец порвал отношения с Глебом». — «Хорошо. А при чем мы с тобой?» — «Ты, конечно, ни при чем. Я же…» Лабунский так и не понял, но страшно вспылил и разгорячился. Это было в конце июля. Он сел и написал тестю в Петроград небольшое, деликатное и вместе с тем. настоятельное письмо. Александр Станиславович ответил без промедления. Он коротко сообщал, что все свои денежные средства и дивиденды находит нужным передать в полное и безотчетное распоряжение «республиканского центра» и категорически запрещает тревожить его впредь какими бы то ни было домогательствами. Вот это было настоящее крушение! И уже таков был характер Лабунского, что ответить за беду должен был тот, кто был в ней меньше всего повинен, — жена.
Итак, выяснилось, что женитьба на Наде Наркевич отнюдь не была «шагом» к упрочению позиций в жизни. Она оказалась всего-навсего глупой уступкой случайному чувству влюбленности, которое ушло еще быстрее и легче, чем пришло. Хитрое сердце Лабунского не болело. Но злости своей он скрывать не хотел и не мог. И Надежда Александровна с отчаянием видела, какому жестокому, эгоистичному, наглому и бесчестному человеку отдана ее чистая, светлая, добрая, нежная любовь. Пьяные друзья мужа из корпускома, рыхлые колоды захватанных карт, бутылочные этикетки, облака дыма, грязные тучи обид и насмешек ужасали Надю. Когда-то такие ясные, глаза ее тускнели от слез. Она худела, бледнела, Бояться мужа сделалось ее болезнью. Наконец она решила увидеться с братом Глебом, рассказать ему все и спросить совета…
* * *
Подходил срок выборов в учредительное собрание. Солдаты говорили: «За учредиловку постоим, а на Временное правительство начихать нам!» Карбышев жил теперь в Новоселицах, на самом крайнем с юга конце своего участка. Но когда ему случалось выезжать из Новоселиц на позиции, — все равно куда: в Боян или Ракитну, в Рукшин или Хотин, — он видел, как от Прута до Днестра, везде, где стояли войска тринадцатого и тридцать третьего корпусов, на любом дорожном перекрестке, развевался горячий призыв: «Голосуйте за большевиков!» И Карбышев знал: это работают Юханцев и Наркевич; это они отвоевывают в полковых, ротных и дружинных комитетах победу большевистскому списку — № 5. Борьба за этот список велась главным образом с эсерами и меньшевиками. Но и кадеты еще не окончательно угомонились и кое-где пускали пузыри. Их выборный список носил девятый номер. Карбышев слышал, как в Ракитне, на солдатском собрании, Юханцев крикнул какому-то фельдшеру: «Эх, ты, номер девятый!» И будто заклеймил фельдшера самым постыдным клеймом: собрание загоготало, заулюлюкало, и кадетский последыш, багровый от стыда, тут же исчез с митинга. Всем теперь было ясно, что кадеты только и могли существовать, как думская оппозиция при Романовых. Не стало Романовых, не стало Думы — ныряй на дно…
Взвод делал козырьки, когда прискакал конный разведчик с приказом — немедленно идти к роте. «Зачем?» Разведчик не знал. Но догадка висела в воздухе. Еще вчера Романюта слышал, что власть в Петрограде и Москве взята большевиками. А сегодня с утра по всем, только что переизбранным, большевистским комитетам уже толковали, как бы провести митинг и объявить на фронте Советскую власть.
Солдаты сбегались на площадь в Рукшине, к тому месту, где стояли четыре гаубицы без панорам. Площадь, плетни и заборы, крыши и даже деревья — все было серо от солдатских шинелей. Толпа колыхалась и гудела. Красные знамена с дружной звонкостью плескались над автомашиной. Здесь — трибуна.
— Юханцев, выходи! Председатель!
Кричали те, которые знали, что ночью родился в дивизии военно-революционный комитет и что Юханцев — его член.
— Юханцев! Председатель!
Юханцев ловко вскочил на колесо, с колеса перемахнул на платформу и тотчас заговорил:
— Товарищи солдаты! Совершилась новая, великая революция. Народ взял власть, и никто никогда не отнимет ее теперь у народа. Сотни лет проходили в борьбе. Были Степан Разин, Емельян Пугачев… Рождались, бились, умирали… А народ попрежнему стонал в неволе. Века понадобились, чтобы пришел Ленин. И вот партия большевиков стала впереди народа, чтобы вести его к счастью. Мир и земля — счастье народное. Только Советская власть…
— Да ты погоди, — раздался откуда-то звенящий от злобы голос, — ты что говоришь-то? Аль большевики завтра с немцами мир заключат?
— Верно, Жмуркин! Ты его спроси, спроси…
Юханцев рванулся вперед.
— Не заключат! Я и не говорю, что заключат! Глупо думать, что большевики вынут из кармана да положат перед нами мир, хлеб и землю, словно кисет с махрой. За мир, за землю еще бороться надо…
— Ну и будем бороться вместе с большевиками! — крикнул кто-то. — Главная причина — знать, за что дерешься!
— Хорошо сказал товарищ! — подтвердил Юханцев. — Солдаты! Будьте на стороже! У нас митинг. Слово свободное — для друзей, для врагов. А вы заметьте: кто говорит красно и дипломатично, тот мыслит черно и капиталистично…
— Вот это да! Ха-ха-ха! Как есть, правду сказал…
— Например, комитет спасения родины и революции…
— Известно: комитет спасения контрреволюции. Вот те и правда…
— Ха-ха-ха! За правоту-то нас раньше по роже били…
— Товарищи солдаты, тише!
И митинг открылся…
Взобравшись на грузовик, прочно упершись длинными прямыми ногами в его платформу, ссутулясь и медленно пропуская между пальцами густые завитки темнобронзовой бороды, Лабунский собирался говорить, твердо зная, что в грязь лицом не ударит. Юханцев прокричал:
— Слово — представителю корпусного комитета…
Толпа колыхнулась; задние насели на передних.
Всплески шума спадали. Лабунский поднял руку и… Популярность — прекрасная вещь, но и у нее есть обратная сторона.
— Как же у вас, у эсеров, Керенский-то сбежал? Да еще в дамской шляпке…
Толпа прыснула смехом — где гуще, где реже. Лабунский опустил руку с такой силой, точно кнутом хлестнул, и под рукой свистнуло.
— Солдаты! Фракция большевиков корпускома предъявила вчера комитету требование о признании Советской власти. Комитет отклонил это требование, так как считает большевистское восстание преступлением перед родиной и революцией. И комитет прав. Солдаты! Захватывая власть, большевики нанесли русской революции изменнический удар в спину. Огнем междоусобной войны, кровавым торжеством контрреволюции грозят они России. Не захвата власти одной партией, а соглашения между обоими лагерями демократии желает страна. Но если наши призывы повиснут в воздухе и соглашение, станет невозможным, пусть большевики пеняют на себя! Времена полумер и колебаний для подлинно революционной демократии прошли. Идет девятый вал. Бьет час двенадцатый. Да, тяжел был гнет последнего века. Самодержавие влекло нас от поражения к поражению, обрекая на позор. Но свет, зажженный офицерами-декабристами, никогда не потухал среди нас… И мы…
Лабунский говорил отрывисто и резко. Его могучий хриплый голос широко разносился над площадью. Было в его речи что-то завлекательно непонятное: девятый вал… час двенадцатый… Все вместе рождало в слушателях цепенящее ощущение загадочной силы. Среди собравшихся здесь солдат далеко не все знали, что эсеро-меньшевистские армейские и корпусные комитеты уже не имеют настоящей опоры в массе войск, что они — вчерашний день революции. И на этих-то не знающих речь Лабунского действовала как заклятье. Вдруг в толпе раздалось:
— С зимнего пути на летний свел капитан, да тем и заговелся. Эх, ты!
Мысль радует и влечет к себе, когда она и красива и сильна. Но она же отталкивает, когда прячет свою жалкую трухлявость под сильным словом.
— Переизбрать их! Большевиков заместо их послать!
Какой-то огромный черный солдат схватил ружье наизготовку.
— Стрелять их надо-ть! Вот что!
Лабунский взглянул в белые от бешенства глаза солдата и взял себя в руки. Нет, этот не выстрелит. И вообще: раз кричит, значит не выстрелит. Но дело было даже и не в том, выстрелит этот или не выстрелит, а совсем в другом. Речь неожиданно провалилась. Надо было тут же сломить срывавшие ее настроения. Лабунский переступил с ноги на ногу и сжал кулаки.
Его лицо, обычно смугло-красное, с оттенками свинцовости и легкой синевы, было сейчас коричнево-бледным и страшным.
— Смотрите мне на грудь! Видите — белый крест? Вы знаете: он не дается даром. Для чего же я уцелел? Чтобы умереть… за право народа сказать свое слово на учредительном собрании. Таких, как я, много среди офицеров, а еще больше среди солдат. Сотни тысяч…
— Миллионы!
— Погоди, Жмуркин, не мешай!
— Да, миллионы… Нас так много, что мы — везде. Моя жена — сестра милосердия. До сих пор она перевязывала под огнем кровавые солдатские раны, днем и ночью отбивала у смерти жертву за жертвой. А вчера… — Лабунский остановился не то для того, чтобы передохнуть, не то еще зачем-то, — вчера моя жена ушла… куда? В женский батальон смерти. Там, под знаменем учреди…
— Вы врете, капитан Лабунский! Я — брат вашей жены. Она действительно ушла от вас, но вовсе не в женский батальон. Она — у меня.
Наркевич стоял перед грузовиком. Лабунский — на грузовике. И они молча смотрели друг на друга…
На пустую бочку из-под моченых арбузов вскочил полковник Заусайлов. Как он очутился на этой бочке? Заусайлов вовсе не собирался идти на митинг, а пришел. Не хотел слушать никаких речей, а речь Лабунского не только выслушал, но еще и так возмутился ею, что стоял сейчас на бочке, сам готовый говорить. Заусайлов не знал, что именно будет говорить. Революция мчалась вперед. Хода ее не остановить никакими речами. То, что произошло в Петрограде, — смерть старой царской армии. О чем бы ни сказать, все поздно, ненужно, глупо. Однако ведь втащила же какая-то невидимая сила Заусайлова на бочку, чтобы он говорил. О чем? Он вспомнил о Лабунском. Вот оно…
— Солдаты! Сейчас перед вами врал и проврался эсеровский поползень, капитанишка этот… Лабунский. Что мне о себе толковать? Нечего… Да, со слезами хороню старое… да! А этот… Восемь месяцев правила эсеровская сволочь Россией, травила честных людей. Теперь же подобрала хвосты, распустила со страху слюни… Еще, пожалуй, проврется, как Лабунский, да и запросит: спасайте! А насчет большевистской заразы…
— Что? Долой! Долой его!
— Да разве его слушать можно! Он вроде как. прусский аграрий является…
— Им войну подавай! Им от войны — чины, награды, а нам — что? Корниловцы! Сукины дети!
— Сшибай его к лешему в болото!
Огромный черный солдат, собиравшийся ссадить Лабунского с грузовика, теперь подбирался к бочке.
— Ай впрямь приканчивать надо эту канитель! Нехай их черви едят! Хватит нам…
— Да ведь это самосуд!
— А что ж? Своим-то судом правильнее и спорее!..
Так как Заусайлов не хотел уходить с бочки, Наркевич столкнул его.
Митинг кипел. Романюта внимательно смотрел на лица людей, окружавших трибуну. Как на лесной опушке не встретишь двух одинаковых деревьев, так и здесь не было двух одинаковых лиц. Но как лес один, так и вся эта огромная солдатская толпа была одной толпой. Другое дело — всходившие на машину и говорившие речь за речью офицеры. Здесь острая наблюдательность Романюты с жадностью направлялась на то, чтобы каждого из них понять по лицу. И — странное дело! — это удавалось ему без ошибки. Он глядел то на одного, то на другого и думал: «Этот сюда повернет, а тот, пожалуй, туда…» И они повертывали именно так, как ждал того от каждого из них Романюта.
Вдруг кто-то начал подталкивать его в бока и в спину, и, чем дальше, тем сильней.
— Выходи, Павлуха, выходи!
Широкая физиономия Романюты как-то болезненно сжалась в скулах, точно ее хозяин не просто сконфузился, а еще и застрял в тугих тисках. «Не пойду!» Но сомнение растаяло скорей, чем пришло. «Да чего трусить? Не боги горшки лепят!» И он поклонился, опустив вдоль колен жилистые плети длинных рук…
— Обращаюсь ко всем сознательным солдатам, — говорил Романюта, почему-то не слыша своих собственных слов и оглядываясь с удивлением и испугом, — я, товарищи, не большевик… Я только вижу, что из себя вышла окопная мука солдатская… И без новой власти мы жаждали и страдали… А вы уже, господа офицеры, не считайте, что у вас есть упор на армию. Полковник Заусайлов — про «большевистскую заразу»… Это — спустя лето в лес по малину!.. Потому что…
Романюта не знал, как лучше высказать свою мысль, и выражение его широкоскулого лица стало беспомощным и жалким. Он молчал, быстро облизывая сухим языком горячие губы. Карбышеву захотелось помочь бедняге. Для этого надо было ухватить оброненную Романютой мысль — и подбросить ее солдату, как делает учитель, подсказывая школьнику вдруг позабывшееся слово.
— Потому что «большевистская зараза» есть сила, — громко проговорил Карбышев, — и сейчас она — единственная сила, которая может заново устроить нашу развалившуюся жизнь…
— Верно! Верно!..
— Бог Ваньку не обманет, Ванька сам молитву знает…
— Слово — прапорщику Наркевичу!
Глеб легко взлетел на грузовик. Глаза его сверкали, худая, тонкая фигура казалась острым лезвием перочинного ножа.
— Товарищи! Буржуазия приучила вас считать то, что ей выгодно, законом жизни, а то, что вам нужно, признавать за невозможное. Проливать рабочему кровь за чужое богатство — это вполне возможно. А признать, что рабочему никакого нет смысла помогать военной наживе промышленников, это невозможно. Почему? Но ведь так получается, товарищи… И выходит, что капитал есть отечество, за которое мы должны жизнь отдавать, а сокращение хозяйской прибыли — то же самое, что гибель культуры. Экое гнусное лицемерие! Что же теперь произошло? Пролетариат в Петрограде выступил за свое право, за свое освобождение от ига капитала. И возникла новая власть. Идти против нее рабочему, крестьянину, солдату — значит идти против самих себя, против народа. Кто против Советской власти, тот на стороне буржуазии. Следовательно, он враг народа. Сегодня на наших глазах пытался незаметно прошмыгнуть в буржуазный хлев капитан Лабунский, а за ним прямиком полез туда же полковник Заусайлов. Их дело, — пусть лезут. Но мы будем знать, что в нашей борьбе за жизнь, за труд, за свободу, за новую Советскую власть они не с нами, а против нас!..
— Господа, конечно… Горбатого могила исправит…
— Хотят, чтобы у них все свое было. Пускай, говорят, и революция тоже наша будет…
— Нет уж, это — дудки. Революция-то наша! Наша!..
«Марфутка»[24] гудела в высоком небе, как трамвай. Карбышеву казалось, что он внимательно слушает ее гуд. Но на самом деле это было не так. Он думал, а «Марфутка» помогала думать, и когда подошло время прыгать на грузовик, он очень хорошо знал, что скажет и даже в каких именно словах.
— Я инженер, друзья, — заговорил он, — и слова мои будут инженерские. Думали вы когда-нибудь, почему так редко удаются штурмы укрепленных позиций? По одной из трех причин. Или проволока оказывается нетронутой, несмотря на точные штабные расчеты, — что-то где-то не сошлось. Или проволока разбита, но за ней оказалась другая, на каких-то там особенно низких кольях, — ведь всего не предусмотришь. Или, наконец, и проволока разбита, и окопы противника разворочены, словом, все расчеты оправдались, но… Что же такое случилось? Пехота потеряла сердце и не хочет больше наступать. Бывает?
— Сколько хошь бывает! — отозвалось на площади. — Очень просто!
— И я думаю, что не миллионы бойцов, не удушливые газы, не сорокадвухсантиметровые Берты вывели Россию из строя, а совсем другое. Война не нужна народу, и он знает об этом. Ошибки тут быть не может, ибо народ никогда не ошибается. За ним — чутье правды. Глупы те, кто не понимает этого. А у того, кого одарил народ пониманием своей правды, — и свет разума, и право революции, и власть. И потому я, старый царский офицер, говорю сегодня вместе с вами, солдаты: да здравствуют товарищи большевики!
Речь Карбышева понравилась. Сначала захлопали где-то далеко; потом — ближе; наконец — везде.
— Этот такой… И скажет, и научит, и за собой, коли что, поведет!
Митинг постановил: выразить недоверие соглашателям, признать Советскую власть, послать делегатов с приветствием первому рабоче-крестьянскому правительству и поручить Наркевичу с комиссией составить наказ для делегатов. Толпа поредела. Люди расходились по кучкам и толковали о наказе.
— Главное дело, чтобы наставление верное было, а не обман!
Между кучками бегал Жмуркин.
— Большевики, большевики, — приговаривал он, — что ж? И распрекрасно! А только дело-то они знают? Не выйдет так, что накорежут, да и не поправишь потом? Жизнь-то, братцы мои, как лес: что раз потеряешь, того уж не сыщешь. Разве кто другой когда-нибудь подымет…
— Ничего, — отвечали ему, — довольно нас знающие за нос тягали. Теперь сами за дело примемся. Плохо ли, хорошо ли, — как нибудь выйдет!
В стороне Заусайлов и еще несколько офицеров шепотком обсуждали положение. На митинге многое определилось. Если не все, то главные карты легли раскрытыми на стол. Особенно ясен был Наркевич: заядлый большевик. Уже два или три поручика прошли мимо него, как бы не замечая. Один или два капитана довольно откровенно уклонились от рукопожатия.
— Да и Карбышев тоже хорош, — сказал Заусайлов, — предупреждали меня насчет него, — не верил, а теперь сам вижу… Хорош! Уж вы меня извините, господа, я ведь прямо в свой буржуазный хлев лезу, — иначе никак не могу. А корпус офицерский все-таки надо от Наркевичей и от прочих позорящих его элементов очистить! Да-с!
* * *
Комиссия по составлению наказа работала в Хотине. Дело шло дружно, почти без споров. Наказ складывался как бы сам собой. Во-первых, полное признание власти Советов и Совнаркома; во-вторых, немедленная передача земли земельным комитетам; в-третьих, заключение мира; в-четвертых, переизбрание общеармейского и фронтового комитетов; в-пятых, расформирование ударных батальонов. Члены комиссии из солдат требовали еще немедленного устранения от дел старого корпусного комитета. Но Наркевич без труда доказал им, что в наказе такой пункт был бы лишним: корпуском не заживется на свете. И действительно верхушечные комитеты — армейские, корпусные — повсюду либо явочным порядком разгонялись солдатами, либо сами слагали полномочия, не дожидаясь перевыборов…
И вдруг в комиссию ворвался запыхавшийся Лабунский и предъявил мандат корпускома. Комиссия именовалась в мандате «согласительной», а капитан Лабунский «членом решающего голоса». Новый член заглянул в проект наказа и разразился в полную силу своего «решающего» голоса:
— Армия обязана сопротивляться попытке захватить власть. Арена борьбы перенесена из Петрограда и Москвы в армию. Здесь мобилизуются силы. Отсюда они двинутся на Петроград и Москву, чтобы не оставить камня на камне от большевистской авантюры. Или восстановление власти народных избранников и созыв учредительного собрания, или открытие фронта. Мы — у последней черты… Впереди — приостановка железнодорожного движения, отпадение от центра, голод, разбой, анархия, гибель… Гибель России. Вот — резолюция корпускома…
— Нам не надо этой резолюции, — сказал Наркевич.
— Как так?
— Да… Корпусной комитет — кучка людей, которых завтра не будет…
— Поч-чему?
— Потому что мы вас, комитетчиков, завтра же переизберем.
— Опять насилие?
— Нет. Только отказ в доверии.
— Но ведь вы же нас и выбирали…
— Вы, господин капитан, поймите, — вразумительно сказал Романюта, — мы уже и вчера отказывались идти в наступление за буржуев, а вы хотите, чтобы сегодня пошли…
На носу Лабунского выступили крупные капли пота. Он потянулся рукой к карману за платком, но платка почему-то не оказалось. Тогда кулак его двинулся прямо к носу, но и до носа не дошел, а сразмаху упал на стол.
— Что ты знаешь? — рявкнул Лабунский. — Что ты сам-то понимаешь?
Вера в высшие идеалы совершенно по-новому окрылила мысль Романюты. На глазах у него осуществлялись лучшие замыслы человечества, разрешались самые трудные задачи жизни. Как же мог он остаться в стороне от этого света и не озарить им своего сознания?
— Ну? — хрипел Лабунский, — молчишь? Покривился, что старое корыто? Ах, дескать, как мало прожито, как много пережито! Так, что ли?
— Все это вы напрасно, — тихо ответил Романюта, — знать-то я, конечно, не все знаю, а понять могу все!
Настала минута, когда все, сидевшие за столом комиссии, заговорили разом. И минута эта затянулась.
— К солдатскому делу насильно прикручены мы, а зачем прикрутили нас, мы о том и не ведаем…
— Раз я не ученый, так от меня и спроса быть не может. Потому мы не в комитете, а в окопах сидим…
— Вишь, примчал — глаза нашему брату вязать. Знаем!
Шумная минута тянулась, тянулась и вдруг оборвалась на хлипком звонке полевого телефона. Наркевич схватил трубку.
— Что? Что? Ну, и… Спасибо, Юханцев!
Глеб встал. У него был торжественно-радостный вид.
— Никому, товарищи, не удастся использовать революцию для продолжения войны. Бороться против большевиков — не значит бороться с одним из социал-демократических течений. Это значит бороться с самим народом, повертывать его историю вспять, — дело безнадежное.
Он протянул Лабунскому его мандат.
— Возьмите, капитан, вашу филькину грамоту. Корпусной комитет только что сложил свои полномочия. Будем считать наказ принятым, товарищи?
— Ур-ра!..
На выходе со двора участковой конторы, где заседала комиссия по наказу, Лабунский столкнулся с Карбышевым. Увидев мрачное капитанское лицо, Карбышев рассмеялся: он уже знал о внезапной кончине корпусного комитета.
— Хороним старика?
— Оставьте меня в покое.
— Хорошо. Я понимаю, что вам не до шуток. Тогда — поговорим серьезно.
— О чем?
— О том, что приключилось с вами на митинге в Рукшине. Не в первый уже раз вы врете и проваливаетесь на моих глазах. Как вам не стыдно, Лабунский?
Капитан поднял опущенную голову и тряхнул бородой.
— И вы не в первый раз задаете мне этот вопрос. Неужели все еще не ясно?
— Нет.
Лабунский не то засмеялся, не то просто растянул рот в какую-то свирепую гримасу.
— Ч-черт… — нервно пожимая плечами, пробормотал он, — все вам знать надо. Зачем? Дело элементарное. Морали-то ведь нет…
— Что же есть?
— Кр-расота!
И он пошел со двора, слегка сгорбившись и меряя землю аршинными шагами.
Глава четырнадцатая
Восьмую армию возглавил военно-революционный комитет. Декреты Советского правительства о мире и о земле были встречены в войсках взрывом восторженной радости. Нельзя было теперь не видеть, что без пролетарской революции решения для этих вопросов не было. И вот решение пришло в молдаванскую деревню, распластанную на снегу и грязи, под полого сползавшим к мутному ручью полем, и деревня сделалась местом второго рождения для множества пришельцев, сохранивших под казенным шинельным сукном свою собственную живую душу. Однако вторично войти в жизнь, расположиться в ней по-хозяйски, по-свойски, можно было только дома — под Москвой, под Калугой, под Тверью. Солдаты рвались домой. Только и слышно было: «Когда же нам отправка-то будет?» Или: «Дома — жена, дети, — не щенята, чай!» Съедены консервы, пропал кукурузный хлеб. Сапоги раздрябли, как лаптищи в дождь. Но никто не обращал никакого внимания на эти печальные обстоятельства. Без хлеба, без сапог — домой! И Романюта, вдумчивый, степенный, осторожный солдат, был в совершенной власти таких же точно настроений. Он с удивлением вспоминал себя прежнего — под Перемышлем и после выздоровления от тяжкой раны, когда возвращался на фронт с упорным желанием бороться и победить для спасения своего дома, своей семьи. Вспоминал и дальнейшее — длинную полосу неудачных атак и отбитых штурмов, отходы, тяжкие арьергардные бои. Да, не прошло все это даром ни для Романюты, ни для его товарищей. Как Илье Муромцу, им нужно было коснуться родной земли, чтобы набраться новых сил для второй жизни. Романюта отлично понимал, что с ним происходит. Но объяснить, — даже самому себе объяснить это понятное, — он не умел. «Всякое у меня чувство выела… война эта!» — говорил он.
Роты, батальоны, полки исчезали с позиций. За ними снимались оставшиеся без прикрытия батареи. Эшелоны один за другим уходили в тыл. Вместе с людьми ехали в тыл пулеметы, винтовки и патроны.
Заусайлов чувствовал себя в отчаянном положении. Его главная беда заключалась в старой офицерской склонности, воспитанной поколениями, в глубоко укоренившейся привычке служить лицу, а не идее. Кончилась «служба государю», — осталась пустота. Он знал, что восстановить монархию невозможно; понимал, что новых династий уже не выбирают. «Искать смерти? — думал он, — подожду. Но и жить-то этак — лишнее». На руках у него оставалось немалое полковое имущество: несколько сот тысяч денег, около тысячи комплектов прекрасного обмундирования, вагон чая, вагон сахара, несколько автомобилей, аппарат Юза, радиостанция с ее начальником, штабс-капитаном Печенеговым.
После несчастной истории, приключившейся с беднягой искровиком накануне войны в Бресте, он так и не оправился. У Печенегова был до пришибленности смирный вид. О чем бы ни случалось ему заговаривать, скверная тема о шпионаже, шпионах и их горькой судьбе как бы сама собой, с роковой неизбежностью, подвертывалась ему под язык. Еще когда полком командовал Азанчеев, изловили шпиона и привели в полк. Точных доказательств вины не было — подозрений много. Азанчеев приказал расстрелять этого сомнительного человека для острастки холостыми патронами. Поставили. Скомандовали. Но стрелять не пришлось, так как шпион уже лежал на земле мертвый. Он умер перед залпом, сердце его разорвалось от страха. Это происшествие доконало Печенегова. Ужас не отходил от него ни на шаг днем; а ночью наваливался и душил, заставляя спросонья кричать благим матом. «Мало вам, капитан, соли на хвост сыпали!» — с нескрываемым презрением говорил ему Заусайлов.
Но все это кончилось после революции. Ужас Печенегова перед возможностью непоправимых ошибок правосудия исчез; зато мстительная ненависть к солдатам, из-за которых он чуть не погиб в Бресте, сделалась теперь его главным, а то, пожалуй, и единственным чувством. Он настойчиво торопил Заусайлова: «Принимайте решение… Выбирайте… Слышите, Николай Иваныч? Время не ждет». Заусайлов отмахивался. «Выбрать… Очень это не простое дело — выбрать. Чтобы выбрать, большая воля нужна и должна эта воля уметь действовать. А так — что же?» Долго еще продолжал Печенегов суетиться и теребить полковника. Уж не лучше ли положиться на свою собственную звезду? И вдруг Заусайлов сказал:
— Решил: буду в Испанию пробираться…
— Почему в Испанию? — пролепетал изумленно Печенегов.
— Не могу без этого… Понимаете?
— Без чего?
— Хоть и пустой в Испании королишко, а все-таки король!
— Да ведь не доберетесь?
— А тогда видно будет…
* * *
Лес был все еще желт по-осеннему. Однако золотые кроны деревьев и золотая земля были уже прикрыты снегом. Лес был красный и вместе с тем белый…
Вербовщики ходили по офицерам, предлагали деньги на проезд, говорили о том, что они — агенты единственной законной власти и что предложения их равносильны приказанию. Тем, кто не поддавался на уговоры, грозили расправой. Заглянул такой вербовщик и к Лабунскому.
Школа политического надувательства и мошеннических компромиссов, которую прошел Лабунский летом в эсеровском корпускоме, окончательно развинтила его бесхребетный костяк. Он все примерял да примерял, а отрезать боялся. Он говорил себе: «Да, мир и земля — лампочка Аладина. Кто взял эту лампочку, тому служат духи, тому в руки идет и дается власть». Из этих соображений возникало в нем темное поползновение — перекинуться к большевикам. Честности в этом поползновении не было ни на грош. Правда, обмануть большевиков — дело нелегкое. Но можно было бы и попытаться: «Кто смел, тот два съел». Однако главное препятствие сидело все-таки в самом Лабунском. Его ницшеанская «сверхчеловечность» никак не хотела мириться с отсутствием громкой фразы в большевистской революции, и поэтому Октябрь казался ему чем-то вроде серо-будничной формы политического переворота. С другой стороны, железная твердость поведения большевиков отпугивала Лабунского неумолимостью мертвой хватки за самое живое место буржуазии. И, наконец, за восстанием он ясно видел бушующую петроградскую улицу, то есть то самое, к чему привык относиться с полным пренебрежением. «Егалите, — думал Лабунский, — егалите и братарните, — ч-черт, их возьми!»
Но еще меньше завлекательности было для него в том, что делалось на Юге. Лабунский достаточно хорошо знал господ генералов, да и свой брат, рядовой офицер, был ему настолько близко знаком, что сомневаться в неизбежном провале военной контрреволюции его расчетливая голова никак не могла. Если бы взяли это дело в свои руки эсеры, — другой разговор. Тогда можно было бы и поквитаться с улицей. Но эсеры боялись подступиться к генералам…
И вот однажды к Лабунскому явился Печенегов и заговорил, оглядываясь с опаской:
— Будем говорить откровенно. Я пришел узнать: какие у вас планы?
— А у вас?
— Это очень скверная манера — отвечать на вопрос вопросом. Она свидетельствует об уклончивости и недобросовестности.
— Но ведь не я пришел к вам.
— Я своих планов и не скрываю. Надо бежать от антихриста! Слышите — пахнет серой?
Лабунский побагровел, даже посинел, посвинцовел от злости. Его гремучий голос раскатился по халупе:
— Серой кормят чумных собак. Вы не ветеринар? Печенегов развел руками.
— Какой я ветеринар?! Я — офицер, как и вы…
— Ошибаетесь!
— То есть… вы… я… мы — офицеры…
— Чушь! С тех пор как я снял погоны, я не офицер. Поняли?
Несколько минут Печенегов соображал. И вдруг действительно понял.
— Верно! — с неожиданной твердостью сказал он, — прохвост вы, а не офицер, — и повернулся к двери.
* * *
За последние два-три месяца перед Октябрьской революцией ужасно надоели всем слова. Люди стремились к делу. Но одни лишь большевистские призывы звали к действию. А все прочее скользило и лилось мимо бесконечным потоком слов. Эти слова до такой степени надоели, что когда кто-нибудь начинал произносить речь или просто рассуждать вслух, обращаясь к окружающим, у слушателей возникало странное ощущение удушающей, томящей пустоты. Из слова выпали смысл и значение — то, чему можно верить или не верить, с чем можно соглашаться или спорить. На многих это обстоятельство действовало подавляющим образом и, присоединяясь к размышлениям у разбитого корыта, совершенно отбивало вкус и охоту к дальнейшему существованию. Жертвой подобных настроений оказался генерал Опимахов. Если человек не знает, ради чего ему стоит жить, то уж, конечно, и жить ему не стоит. Выпроводив ночью очередного вербовщика, Опимахов вернулся к себе в кабинет и как был — в нижнем белье и накинутой на плечи серой шинели с красными отворотами — присел к письменному столу. Просидев в немой неподвижности минут двадцать или полчаса, он вынул из стола красивый маленький браунинг из вороненой стали, не спеша взвел курок, приложил к седому виску и выстрелил…
О самоубийстве Опимахова Карбышев узнал уже в январские дни, когда Восьмая армия объявила себя большевистской, Девятая — украинской, а командующий Румынским фронтом генерал Щербачев начал собирать карательные отряды и двигать их против революционных частей. Открывался новый фронт — гражданской войны. Его появлению сопутствовало в армии массовое исчезновение с переднего плана борьбы всякого рода неуравновешенных лиц. Одни попросту прятались, другие уходили из жизни, как Опимахов. Но были среди офицеров и такие, как Карбышев, — вполне готовые к новому делу. Засучив рукава они высматривали, за что бы взяться. И новое дело, со своей стороны, тоже искало их. Наступление генерала Щербачева на Могилев-Подольский, где стоял штаб Восьмой армии, становилось реальной угрозой. Тогда армейский ревком вызвал Карбышева в Могилев. Ему поручалось окружить город кольцом укрепленных позиций…
…Сдавая свой приднепровский участок, Дмитрий Михайлович заехал в Хотин и остановился у Наркевича. Надежда Александровна все еще жила у брата; горе сушило ее сердце, как мгла, от которой вянут цветы и свертываются на деревьях листья. Было решено, что она не вернется к мужу. Да и Лабунский не предпринимал никаких шагов к тому, чтобы возвратить жену. Зато частым гостем Наркевичей сделался теперь Юханцев. И прежде он то и дело мелькал на участке между Новоселицами и Хотином. Но в самом Хотине почти не появлялся. Теперь же обстоятельства начали так складываться, что ему как бы уже и не оставалось мимо Хотина никаких путей. И поэтому первый человек, которого встретил Карбышев, войдя в халупу Наркевича, был именно Юханцев.
— Приехал вас проводить, Дмитрий Михайлович! А за вами и самому надо будет в Могилев подаваться; велят красную гвардию формировать…
Карбышев быстро взглянул в его оживленное, но как-то не совсем открыто улыбающееся лицо. Затем перевел острый взгляд на задумчивый профиль Глеба, на встревоженные глаза Нади и воскликнул, смеясь:
— Эх, Яков Павлыч! Лучшее средство всякой агитации — правда. А вы…
— Что?
— Да коли едете в Могилев, значит, не меня провожать, а с теми, кто остается, прощаться надо. Так ведь?
При других обстоятельствах Юханцев бы не поддался: «Нам скрывать нечего», — и так далее… Но на сей раз язык его не вертелся. «Хитряга Карбышев!» Известно, как бывает, когда на воре вдруг загорается шапка. Загорелась она и на Юханцеве. Давным-давно, может быть, даже никогда не случалось с ним, чтобы он не знал, как покрепче ответить, как половчее отбить словесный удар. И никогда не думал, не выбирал слов, — всегда сразу. А тут вдруг запутался между проводами и прощаньем, попался на фальши, застыдился себя и других и, охваченный внезапным приступом детской робости, еще недавно сильный, смелый и решительный, а сейчас нелепо улыбающийся и глупо молчащий, все гуще и гуще краснеющий под наплывом смущения, — застыл посредине наркевичевской хаты, растерянно опустив на глаза щетинистые брови. Есть мелкие людишки, о которых говорят, что они не умеют смущаться; правильнее было бы сказать о них иначе: они умеют смущаться, так как привыкли делать это совсем незаметно, не привлекая не только сочувствия, но и простого внимания к своему бесстыдству. А в действительности не умеют смущаться люди крупной, юханцевской породы — прямого, честного, открытого склада; им это трудно и тяжко: они не привыкли скрывать себя, — и когда доведется такому человеку смутиться, то чем больше он и сильнее, тем выглядит пристыженнее, тем жальче на него смотреть.
— Пойдемте-ка лучше чай пить, — сказал Глеб. — Надя! Вскипел чайник?
— Давно…
Надежда Александровна уже разливала чай по стаканам. Но был, очевидно, в устройстве вскипевшего чайника какой-то дефект, или, может быть, тонкая рука молодой женщины почему-нибудь дрогнула, — только в тот самый момент, когда Юханцев придвинул скамейку к столу, сел, умостив на краю скамьи свое большое, могучее тело, и поднял на Надю все еще смущенные, добрые и словно извиняющиеся в чем-то глаза, крышка неожиданно сорвалась с чайника и упала прямо в юханцевский стакан.
Вечером Юханцев уехал в Рашков, Надя легла спать на хозяйской половине, а Карбышев и Наркевич затеяли один из тех разговоров, которым лишь стоит начаться, чтобы растянуться потом с большими или меньшими перерывами на целую жизнь.
— Единственно правильная революционная тактика, — говорил Наркевич, — развертывание классовой борьбы. Гражданская война… Она неизбежно следует за революцией. Что такое — гражданская война? Это военный способ решения спора…
— О классовом господстве?
— Да, именно… Революционного спора о классовом господстве. У этой войны особый характер, — жестокий и очень серьезный. Она не знает, не может и не должна знать примирения…
— Я все это понимаю, — сказал Карбышев, — боль народная, рабство народное, война народная — это моя боль, мое рабство, моя война… Я не могу не понимать.
Глеб встряхнул жестяную лампочку, стоявшую на столе, — он хотел проверить, достаточно ли в ней керосина, — и черные тени собеседников, как огромные летучие мыши, заметались и запрыгали по бревенчатым стенам.
— Ехать в Могилев по вызову ревкома — значит, выступить в гражданской войне на стороне Советской власти.
— Разумеется, — подтвердил Карбышев, отбирая у Наркевича лампочку и прочно ставя ее на стол, от чего тени на стенах перестали метаться.
Действительно Карбышев и без дидактических рассуждений Глеба отлично знал, почему и зачем едет в Могилев-Подольский.
Давным-давно, еще под Перемышлем, генерал Щербачев приобрел репутацию человека с железным характером, так как безжалостно укладывал полки и бригады в очевидно неподготовленных операциях. Румынский фронт, которым он теперь командовал, был в его руках весьма удобным инструментом для новых авантюр. Фронт находился вдалеке от революционных и промышленных очагов России. Солдаты жили там на отшибе, среди населения, с которым не умели объясняться, нос к носу со своим офицерством. Даже газеты большевистские не попадали на Румынский фронт. Поднимая эти войска против Советской власти, Щербачев начинал гражданскую войну. А ревком Восьмой армии в Могилеве принимал вызов.
— Очевидно, вы хотите знать, Наркевич, — сказал Карбышев, — насколько сознательно я поступаю, когда делаю выбор, — да?
— Да.
— Так бы и спросили. Вы правильно говорите о гражданской войне. Но я бы кое-что добавил. На сопротивлении прошлого должна окрепнуть революция. Победами над прошлым должны оправдаться ее необходимость и своевременность. Я в этом убежден. Дело тут не в классовом чувстве — это вопрос особый. Но я просто люблю народ и верю ему. Всю жизнь я провел с солдатами и рабочими, да и сам, собственно, тоже солдат и рабочий. А как не любить себя и свое? Кому верить, как не себе?
Теперь уже Карбышев ухватил лампочку и встряхнул ее. Тени выскочили из углов, заерзали; замотались, закачались под потолком. И Наркевич отнял лампочку, поставив на стол.
— Послушайте, что я вам расскажу о себе, — говорил Карбышев, — всякий вопрос легко сделать схоластическим. Но, не зная всего, обо мне судить невозможно. Я сын военного чиновника. Не велика птица — военный чиновник. А семья была из восьми человек. Я самый младший. Отец умер… Патриархальная старушка-мать… Пенсия… Два брата уже учились в кадетском корпусе. Но меня на казенный счет не взяли, и ходил я в корпус из дома в шинельке… Башлычок да перчатки… А в Омске очень холодно по зимам… Намерз! Ах, как намерз, — на всю, кажется, жизнь! Почему же был я на этаком невыгодном положении? Слушайте. Старший брат мой, Владимир, учился в Казанском университете вместе с…
Карбышев приостановился. Но в приостановочке этой не было ровно ничего похожего на осторожное выискивание слов. Гораздо вероятнее, что она понадобилась ему просто по причине множества и разнообразия мыслей, вдруг столпившихся в голове.
— Вместе с Лениным. И за участие в студенческих беспорядках был из университета изгнан. Сидел в тюрьме… Печать неблагонадежности легла на нашу семью… Вот почему, учась в кадетском корпусе, оставался я на собственном коште.
Карбышев уперся локтями в стол, а кулаки прижал к вискам. От этого его черные блестящие глаза сделались уже, растянулись в длину, и все лицо изменилось, вдруг перестав быть русским. Наркевич с удивлением глядел на него. Ему казалось, что он видит его в первый раз. Карбышев усмехнулся.
— Инорльодец? Да, во мне это есть. Я — степняк, казачина, киргизская кровь. И потому ужасно люблю волю. Все смогу вытерпеть, а неволю — нет, и терпеть не захочу, пойду напролом, надсажусь, погибну. Если случится мне когда-нибудь сесть за решетку, заранее говорю: услышите про Карбышева. И тогда, в кадетском зверинце, я тоже мечтал о свободе. Есть у меня талантик. Я — хороший рисовальщик. Детское воображение мое летало вокруг Академии художеств. Но где ж там? Кончил военно-инженерное училище в Петербурге и уехал саперным офицером в Сибирь. Политически я все еще был ничем. Только на японской войне пришел конец верхоглядству… Ну, и довольно обо мне. Теперь, Наркевич, о вас. Все-таки, это очень в вас странно…
— Что?
— Революционный педантизм.
— Как?
— Да, да… Революционный педантизм…
— Позвольте: о чем вы говорите? Во-первых, революция и педантизм исключают друг друга. Во-вторых…
— Милый Наркевич! И я так думал. Но вот — вы, И оказывается, что педантизм в революции возможен, Не вообще, конечно, а… в индивидуальных проявлениях. А вы именно такое проявление. Я долго вглядывался в вас: что вы за необыкновенность? И только сегодня, только сейчас разгадал. Вы — педант от революции, Глеб!
Наркевич криво усмехнулся.
— Из парадоксов в стиле Оскара Уайльда. Но значительно хуже. А потому — пропускаю мимо ушей…
Лампочка чадила, мигала, шипела и, наконец, выбросив из стекла длинный и яркий огнистый язык, потухла. В горнице стало темно-темно. Вероятно, было около трех часов ночи. Хозяин и гость лежали на скамейках, укрывшись шинелями. Гость спал, хозяин все еще передумывал свой разговор с ним: «Советская власть уничтожила сословия и чины. Может ли пожалеть об этом Карбышев? Нет, нет, не может! Почему? Потому что он не педант. Но он говорит, будто я… педант. Я… пе-дант… А что это такое: пе-дант?…» И Наркевич, натянув шинель на ухо, — уж такая была у него с детства привычка, чтобы нырять под одеяло с головой, — начал медленно забываться и засыпать.
* * *
Что ни дверь — вывеска или дощечка: зубные врачи, присяжные поверенные, сапожники, модные ателье, — экая чепуха творится в городе, который собрался отстаивать Советскую власть! Могилев-Подольский был мирен и тих; он выглядел в высшей степени буржуазно. Но несколько батальонов щербачевской пехоты и два полка щербачевской конницы уже шли к нему на всех парах. В городе был расположен маленький отрядец: стрелки, конники, броневики и самокатчики. Революционный совет Восьмой армии только что приказал этому отряду занять позиции впереди города, выслать охранение и выдвинуть разведку к Днестру, чтобы войти в соприкосновение с неприятелем. На дворе дома с колоннами, где помешались Реввоенсовет и штаб армии, густо толпились люди, лошади, пронзительно скрипели двуколки и пролетки, хрипели автомашины, и под всем этим дулась кверху густо унавоженная, непролазная грязь. По лестнице штабного здания бежали в обе стороны десятки, а может быть, и сотни солдат, то в одиночку, то целыми группами. Карбышев поднялся, остановился у двери с белой бумажкой: «Политический комиссар», — подумал и вошел…
Задача была уже известна: требовалось окружить город укрепленными позициями и привести в оборонительное состояние мосты через Днестр. Но способы решения задачи предлагались такие, каких Карбышев не предвидел.
— Вы, вероятно, знаете, — говорили ему, — что у нас действует «выборное начало». Ваша кандидатура выдвинута на должность начальника инженеров Восьмой революционной армии. Однако… Дело в том, что особый полевой штаб усиленно формирует сейчас красногвардейские отряды. Без красной гвардии мы, как без рук. Юханцев… Вы ведь знакомы с Юханцевым?..
— Мне все понятно, — сказал Карбышев, — строить позиции и укреплять мосты — это солдатская работа, солдатская и инженерная. Для нее необходимы люди. В Восьмой армии людей больше нет. Да и самой Восьмой армии уже нет. Зато есть, или, вернее будет, красная гвардия. Только с ней я и смогу что-нибудь сделать. Так?
— Правильно…
— Юханцева вы вызвали? Я его действительно знаю. Поэтому прошу назначить меня отрядным инженером в его распоряжение. Пожалуйста!
— Вот об этом-то мы и хотели… Очень, очень хорошо!
Итак, отрядный инженер маленькой красногвардейской части оказывался нужней, чем начальник инженерных войск целой армии. Законы гражданской войны — особые законы. Карбышев видел прямую, реальную необходимость своего превращения и старался понять его внутренний смысл, — вывести закономерность. Правда, декрет о создании Красной Армии еще не был подписан, но Ленин и Сталин уже одобрили главные положения ее организации и формирования. Впереди, в кровавых тягостях гражданской войны, предстояло постепенно выработаться военной силе нового класса. Это — впереди. А красногвардейская атака на капитал уже открылась…
Приехал Юханцев и прежде всего распорядился снять телеграфные аппараты на всех ближайших станциях к городу. Карбышев пожалел, что не догадался сделать это сам до приезда Юханцева. Законы гражданской войны — особые законы. Ее «технология» и ее психология близки и родственны друг другу, — не то, что в любой из войн между правительствами различных стран. Установить и понять такой факт — мало: к нему надо было привыкнуть. Карбышев привыкал, наблюдая, как один красногвардейский отряд таскал за собой тяжелое орудие; другой — по пушке на роту; третий — аэроплан. Многие бывшие солдаты, из старых боевых пехотинцев, убедившихся во время войны с Германией на собственном опыте в недостатке связи с артиллерией и авиацией, не желали теперь допускать отсутствия артиллерийской и авиационной поддержки и в этих именно целях заводили свои собственные пушки и самолеты. То же происходило и с шанцевым инструментом. Наивность? Кустарщина? Фантазия? Ничего подобного. Это новые законы новой войны. И, роя окопы кругом Могилева, Карбышев все чаще говорил Юханцеву:
— Техника полевой фортификации — дело несложное. Чтобы пехота справлялась с простейшими окопными работами, саперная нянька вовсе не нужна…
— Да ведь учить-то надо?
— Главное, чтобы вкоренилось; лопата и винтовка — одно целое.
Приходили свежие эшелоны красногвардейцев — штыков по триста в каждом. И Карбышев ставил их на земляные работы, наделяя лопатками вместо ружей. Красногвардейцы ехали биться, стрелять, а вовсе не копаться в мерзлой грязи. И все-таки не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь ослушался. Саперы показывали, стрелки отрывали окопы, одну полосу за другой.
— Ну, как на выборном положении? — усмехался иногда Юханцев, — поди, все не этак?
И Карбышев усмехался.
— Все этак. Ведь меня не удивишь. Бывал я и раньше по службе выборным.
— Это когда же?
— В Инженерной академии старостой на выпускном курсе — тоже выборное лицо.
Юханцев качал головой.
— То, да не то… А, впрочем, дело идет.
В феврале германские войска начали захватывать Украину под видом помощи Центральной раде. Затем были разбиты под Псковом и Нарвой. Созревали англо-французская и американская интервенции на Севере, американская и японская на Дальнем Востоке. Фальшивые карты все чаще мелькали в предательских руках Троцкого. Брестские переговоры о мире то вовсе срывались, то судорожно затягивались. Наконец, Седьмой съезд партии утвердил Брестский мир. И опять Юханцев проэкзаменовал Карбышева.
— Много Россия перенесла, много потеряла, Дмитрий Михайлыч, а?
— Верно, — согласился Карбышев.
— Трудно забыть, тяжело, — как же быть-то?
Взгляды Юханцева и Карбышева, светлый и темный, встретились, перекрестились, снова сошлись и уперлись друг в друга.
— Забыть — великая жертва, — тихо, твердо и, против обыкновения, медленно произнес Карбышев, — но всякий, кто действительно хочет спасения родины, должен принести ей и эту жертву. Я — готов…
Непрерывная деятельность, суетливый недосуг, постоянное многолюдство — все это, как вино, било в голову. С апреля красногвардейские отряды начали преобразовываться в батальоны, а батальоны сводиться в полки. В мае отряд Юханцева состоял из пяти тысяч штыков, имел бригадную организацию и штаб. Карбышев исполнял обязанности бригадного инженера. История могилевских укреплений — не простая история. Именно здесь, под Могилевом-Подольским, Карбышев впервые получил возможность практически «осаперить» пехоту. Старая, но постоянно забываемая пехотными командирами русской армии мысль о важности окапывания, с его легкой руки встала здесь на прочные ноги боевого опыта. И командиры красногвардейской пехоты, прошедшие под Могилевом карбышевскую школу, уже никогда больше с этим опытом не расставались.
* * *
Еще в сентябре прошлого, семнадцатого года, после сдачи Риги, когда угроза германского наступления висела над Петроградом, генерал Величко разработал план инженерной обороны столицы. Тогда же он и представил его Временному правительству. Но с тайными замыслами Керенского план Велички никак не сходился. Керенский отнюдь не имел в виду оборонять Петроград: наоборот, он хотел сдать его немцам. А Величке это и в голову, конечно, не приходило. Ссылаясь на опыт луцкого прорыва, когда со всей очевидностью обозначилась слабость австрийских тыловых оборонительных полос (первая линия несла на себе всю силу русского натиска, так как общая схема полос была лишена глубины), Величко требовал перенесения главной обороны на вторую и последующие линии. А первой он предоставлял только выдержать начальный удар, отражая его главным образом пулеметным огнем. Идея эта никакого внимания к себе не привлекла.
Прошло немного времени — меньше полугода. Весна подкрадывалась буранными ночами и теплым блеском тихих полдней. Австро-германцы опять наступали. Двадцать первого февраля восемнадцатого года Ленин объявил: «Социалистическое отечество в опасности!» Немного времени прошло с тех пор, как совершилась Октябрьская революция, но все уже было по-другому. Отыскался план Велички, и автор его был назначен главным руководителем инженерной обороны Петрограда и подступов к нему. Старик радовался и твердил: «Заметьте: всегда так было, всегда… Раз война — я на боевом поле. С самого восемьсот семьдесят седьмого года — всегда так… Ну, и теперь — тоже. Идет война, я — на посту!» Так началась советская служба знаменитого фортификатора…
* * *
Седая роса лежала на желтой прошлогодней траве, и казалось, будто ленивое мартовское солнце вовсе не торопилось ее сгонять. А потом вдруг журавли потянули, озерца разлились, запахло землей и почками, грачи пошли за плугом, зазвенел жаворонок…
В апреле окончательно определилась основная структура центрального военного аппарата Советской власти. Главное военно-техническое управление вошло в его состав почти целиком. Оно разместилось в Сергиевом Посаде под Москвой и занялось регистрацией военных инженеров и техников, желающих получить назначения «на должность при сформировании технических войск и учреждений». Величко состоял тогда председателем Коллегии по инженерной обороне государства при Главном управлении.
Однажды он сидел в своем служебном кабинете. За прудами ворчали глухари, наверху хрипели вальдшнепы. Окна кабинета смотрели прямо на Гефсиманский скит. За окнами кончался май: в саду бледнела сирень, липа заготовляла белый цвет и благоухали нежные, светлые, свежие березы. Старая дощечка еще не исчезла со скитских ворот: «Вход женщинам и собакам воспрещается». Эта забавная надпись уводила иной раз память Константина Ивановича в дремучий лес проказ давно прошедшей шаловливой молодости.
Но сейчас он глядел на дощечку невидящим взором. Сейчас он был серьезный, умный, вдумчивый, готовый все понять и многим озаботиться старик. «Елочкин, Елочкин, — повторял он, по-стариковски жуя губами, — да, наверно, это и есть тот самый солдат-телеграфист…» Перед Величкой лежало большое письмо, дважды большое: и по размеру желтых бумажных листов, и по их числу. Он только что прочитал это обширное послание раза три подряд и теперь думал: «Удивительно! Если бы все искры народного света слились в единое пламя, ведь и признаков тьмы не осталось бы на земле…»
— Понимаете? — говорил он кому-то из своих подручных, — понимаете, о чем пишет из Уфы эта изобретательская солдатская голова? Идея никак не воплощена реально. Да и будет ли воплощена, аллах ведает. Но она поразительна по логике и смыслу!
— В чем же идея? — спросил подручный.
— А вот… Этот самый Елочкин считает необходимым, чтобы старая теория тяготения тел была изучена заново, — так сказать, переизучена с непременной задачей: найти способы ставить преграду волнам тяготения. Понимаете? Я, например, беру карандаш и кладу под него пластинку, которая не пропускает волны, влекущей карандаш к земле. Что тогда происходит? Естественным образом карандаш освобождается от силы тяжести и взлетает кверху…
— Фантазия, Константин Иванович, — сказал подручный, — и вовсе при этом не оригинальная. Вспомните-ка роман Уэллса «Первые люди на море»…
— Фантазия? — разгорячился Величко и запрыгал в кресле, как крышка на кипящем чайнике. — Уэллс? Эх, вы! Да ведь то и замечательно, что Елочкин никакого Уэллса никогда не читал, а все сам придумал. А то, что вчера еще темная, православная, монархическая Россия несет сегодня знамя правды, права, справедливости и свободы через весь мир, — это как? Фантазия? А?
И он возмущенно махнул сухой и жесткой рукой.
— Ведь этот Елочкин тему задал для огромной научно-исследовательской работы, поймите!
Член коллегии усмехнулся.
— Ну, уж исследователь! Был солдатом, колья забивал…
Величко яростно плюнул. Да, с такими «господами-товарищами» далеко не уедешь!..
Елочкин напомнил о себе Величке. В связи с этим и еще многое вспомнилось. Ах, как нужны толковые люди! И вот Константин Иванович промаршировал из кабинета в большую комнату отдела, где велась регистрация специалистов и на длинных столах громоздились ящики с выдвижными гнездами разноцветных учетных карточек. Войдя, он, по обыкновению, быстро ковырнул глазами шеренгу девушек, сидевших у столов, и сказал самой хорошенькой:
— К вам, Машенька, к вам… Попробуйте только не найти, — у-ух, что с вами сделаю!
— Поверьте, Константин Иванович, — ответила хорошенькая девица, — абсолютно не боюсь, Кого искать?
— На «к» глядите, на «к»… Неужто не боязно?
— Вас-то? Ни-ни. А как фамилия?
— Величко.
— Что?
— Тьфу!
Девицы-хохотуньи прыснули. И веселый смех старика потонул в переливчатом звоне их птичьих голосов.
— Хоровод! С ума свели! Засмеяли! Карбышева ищите, Машенька, Карбышева, военного инженера, бывшего подполковника. Попробуйте не найти!..
Машенька все еще продолжала давиться смехом: трудно удержаться, коли сердце молодо и смешливо.
— Ну и нет никакого Карбышева, Константин Иванович, — что хотите, нет!
Величко сразу перестал смеяться.
— Что вы говорите? Д-досадно!
Он быстро обернулся к пузатому бюро, за которым начальник регистратуры углубленно подбивал на счетах пятизначные итоги.
— Плохо, батюшка, очень плохо. До сей поры не позаботились, чтобы Карбышева на учет взять.
Начальник регистратуры встревожился.
— Карбышев… Карбышев… Позвольте… Карбышев…
— Да-да! Отличный инженер из кармана у нас выпал, эх! Потрудитесь разыскать, где бы ни находился, и вызвать!
Из Воронежа в Москву Карбышевы приехали в теплушке. В Сергиев Посад из Москвы добрались с обозом. В Посаде их приютила старая лаврская гостиница. Здесь, под веселый пасхальный перезвон монастырских колоколов, нагрянул к ним шумный, веселый, каламбурящий Величко. Считалось, что он жил в Москве. Но Посада не покидал по два-три дня и в эти дни обязательно обедал у Карбышевых. Только старые люди знают настоящую цену памяти. Они любят запах цветка за то, что он помогает им что-то припомнить. Любят оперную арию как отзвук далекой минуты. Любят человека за добрую прикосновенность к исчезнувшей жизни. Этим последним и Карбышев был дорог Величке. Но не только этим. На испытанную силу его инженерской мысли и на честность гражданских чувств Величко хотел опереться в своей новой громадной работе по обороне границ государства. Так и очутился Дмитрий Михайлович в штабе Коллегии по обороне страны на должности старшего инженера…
Величко кричал за обедом:
— Пигмеи, хамелеоны, пустобрехи, выкидыши темных политических комбинаций, гниль и плесень: лень, недобросовестность, интриги, взяточничество, грызня, торжество эгоизма, бесстыдно прикрытого великими и святыми лозунгами, дряблость и запуганность, всяческий смрад, — ведь все это было! Так и было! И к тому же дурацкая мысль: «Я — вне политики». Да еще в древнегреческих республиках закон наказывал остракизмом граждан, избегавших участия в столкновении партий. Но история злопамятнее народа, — сказал Карамзин, и был совершенно прав. И теперь от яркого света правды ясно до боли в глазах, до самой последней очевидности: ох, как мы мало любили родину!
Величко поблагодарил Лидию Васильевну за обед, старательно обцеловывая ее маленькие ручки, — седой, колючий и поворотистый.
— Нет, мы с вами, Дмитрий Михайлович, так не можем. Мы оба любим родину, дело, работу. Поэтому выкладывайте ваши соображения начистоту. Итак, вы утверждаете, что инженерная оборона государства должна выводиться из политических и стратегических условий и средств государственного масштаба?
— Да, Константин Иванович, утверждаю.
— Согласен, — сказал Величко, усаживаясь поглубже на диване, повыше поднимая плечи и пожарче раскуривая трубку, — совершенно согласен. Признайтесь, Лидия Васильевна: когда вы выходили за него замуж, вам и не мерещилось, что он так умен? Ах, эта вечная девическая недогадливость! Дальше, прошу вас!
Карбышев действительно говорил начистоту — точно, твердо, в высшей степени отчетливо.
— А дальше возникает серьезнейший вопрос: что же нужнее государству для обороны его границ: крепости или укрепленные районы?
— Фью-ю-ю! Вон вы куда забрались…
Величко был упрям, не выносил противоречий и вместе с тем очень любил спорить.
— То есть, позвольте…
— Если признавать оборону, как и вы, Константин Иванович, всегда делали, за переходное состояние к атаке, то…
— Погодите, погодите…
Спор уходил вглубь и ожесточался на частностях. Вдруг Величко соскочил с дивана и затряс сухенькими кулачками.
— Перегиб, чудовищный перегиб! Н-н-невозможно, любезный друг, никак!
Желтые кулачки мелькали.
— Н-никак! Укрепление полей сражения самими войсками, любезный друг, всегда имеет легкий характер. Возражать против этого, надеюсь, и вы едва ли станете. Таким путем можно создавать известное закрытие от огня, помогать стрелку пользоваться впереди лежащей местностью, улучшать обстрел. Но на то, чтобы укрепленная пехотой позиция могла всерьез сопротивляться штурму или артиллерийскому огню, решительно не советую, батенька, рассчитывать, — прошибетесь. Да и того еще не забудьте, что войска терпеть не могут работать на позициях…
Все это было и так и не так. Отчего почти всегда бесплодны споры? Почему никто никогда ни в чем не мог убедить Величку? Впрочем, и Карбышева убедить было нелегко…
* * *
Май подбегал к душистому, цветистому, зеленому концу. Открывалось светлое, жаркое лето. И вдруг в тихом городе Челябинске бахнули пушки, затарахтели пулеметы, запели винтовки — закрутился омут восстания, и звонкой кровью облилась недавняя тишина. Отозвалось в Самаре. Здесь родился «комуч». За уродским словцом — реальная сила учредиловцев-эсеров. Восьмого июня белые заняли Самару, а через неделю — Омск. Огонь мятежа разлился по Заволжью и Сибири. А в Сергиевом Посаде не покладая рук трудилась коллегия, и зоркий Величко готовил для Всеросглавштаба прямо глядящий в будущее проект. Карбышев обдумывал свою подлинно солдатскую мысль в солдатских же словах: «Главное, чтобы к хвосту не пришили…»
— Ты что-то затеял, — говорила обеспокоенная Лидия Васильевна.
— Да вот, чтобы к хвосту не пришили…
— То есть?
— Буду проситься у Велички на восток!
Глава пятнадцатая
Восточный фронт, со штабом в Арзамасе, возник в середине июля. К началу августа он тянулся от Казани через Симбирск, Сызрань, Хвалынск и Вольск; у Балакова переходил на левый берег Волги; затем пересекал Николаевский уезд. А от Николаевска на Александров-Гай шел уже фронт уральских казаков. Когда белые захватили Казань, на линии Сызрань — Хвалынск — Саратов закипели жестокие бои. Благодаря этим боям силы белых оттянулись из-под Казани на Сызрань и Хвалынск. Это очень помогло Красной Армии. Девять дней отбивала она Казань и — отбила. Белые откатывались за Волгу у Симбирска и Вольска. Первая армия Востфронта зарабатывала молодую славу. Имя политкома, вдохновлявшего ее на победы, прогремело по фронту, разнеслось по всей стране: Куйбышев.
Красота ненастной русской осени чем-то напоминает красоту человеческой печали. И при взгляде на грустный осенний пейзаж, как будто перед лицом горя, растет и ширится душа. Бурен ветер, но не пугает. Низко бегут черные тучи — мимо. И все шел бы да шел сквозь туман и брызги по унылым просторам желто-грязной земли. Именно в такое-то время Карбышевы приехали в Арзамас. Лидия Васильевна осталась в поезде — податься некуда: церквей в городе больше, чем домов, а Дмитрий Михайлович отправился являться «в распоряжение». Военно-полевые строительства росли уже в это время на Волге как грибы. И Карбышева, что называется, с ходу назначили начальником такого строительства в только что освобожденный от белых Симбирск. Отходя, белые взорвали мост у Симбирска. Надо было его немедленно восстановить, — вот и работа. Однако вырваться из Арзамаса было не так-то легко. Колесо штабной работы повертывалось очень живо. Начинжвост[25] приказал:
— У Азанчеева — заседание по штатам. Вы знаете нашу точку зрения. Надо отстоять во что бы то ни стало. А то они… Прошу вас, потому что сам всего не могу, а…
— У Азанчеева?
— Да. Вы его знаете? Тем лучше. Идите, дорогой, идите…
Азанчеев занимал одно из самых ответственных положений в штабе Востфронта. Но когда Карбышев вошел в его набитый людьми кабинет и, приютившись у двери, принялся сквозь волны махорочного дымя разглядывать знакомую фигуру председателя, он в первую минуту даже и понять ничего не мог. Потому ли, что Азанчеев сильно похудел, или потому, что сбрил усы, но он совершенно перестал походить на себя. У него было теперь какое-то вовсе некрасивое, нервно-злое лицо, ничем не напоминавшее прежнего красавца. И только глаза все так же прятались, скользя, убегая, как бы совсем исчезая по временам с физиономии. Но председательствовал он уверенно, находчиво и твердо — по-азанчеевски.
Вдруг дверь кабинета приоткрылась. В ее разъеме отчетливо обозначилась растрепанная женская голова. За головой энергично вдвинулся в кабинет шелковый дамский халат, несвежий и затасканный. Вошедшая особа обвела заседавших ожесточенно-гневным взглядом. Затем ее прекрасные темные глаза остановились на Азанчееве. Презрение и ненависть ярко сверкнули в них. Карбышев подумал: «Красивая… мегера!»
— Леонид Владимирович, — проговорила она, судорожно давясь клубком бешенства, — ты решительно обо всем забыл! Мишелю давно пора варить кашку!
В углу громко засмеялись. Сердитая жена Азанчеева скрылась так же мгновенно, как и появилась. За стеной пронзительно заплакал Мишель. Было совершенно ясно, что комната, соседняя со служебным кабинетом Азанчеева, была обиталищем его семьи…
Закрывая заседание, Азанчеев попросил Карбышева задержаться.
— Вы не представляете себе, как я рад…
— Я тоже, генерльал…
Карбышев произнес неуместное и ненужное сейчас слово не по ошибке. Ему хотелось отомстить этому человеку за что-то прежнее, очень скверное, и он думал, что слово годится для отместки. Так и вышло. Впалые щеки на картонной физиономии Азанчеева мертвенно побледнели.
— Т-сс! Зачем вы… Как это можно, в самом деле…
Он оглядывался: а вдруг кто-нибудь слышал? С сердца Карбышева свалился противный груз отвращения. Он взял себя в руки и прикинулся виноватым.
— Простите, Леонид Владимирович! Сила привычки… Еще хорошо, что превосходительством не…
Азанчеев кисло улыбнулся.
— Да, вы неосторожны… Право…
Люди с особой легкостью верят тому, чему им хочется верить. Это случилось сейчас с Азанчеевым: он действительно поверил, что Карбышев ошибся. И ошибка эта была приятна. Ему даже почудилось, что с человеком, который может подобным образом ошибаться, пожалуй, не обязательно застегиваться «на все четыре булавки»[26].
— Я никак не думал найти вас здесь и в этой роли, Леонид Владимирович, — сказал Карбышев, — и очень удивился, узнав…
— Разве это так удивительно? Я всегда любил новое…
— До тех только пор, пока оно ничем не угрожало старому.
Карбышев опять кольнул, и опять Азанчеев не ощутил укола.
— Скажу вам правду: я очень колебался, принимая решение. Но хорошо понимал, что чисто военные, то есть офицерские, организации не могут иметь ярко выраженной, а тем более социальной идеи, и потому никогда не увлекут за собой широких масс. Они действуют успешно, — вспомним историю, — только при дворцовых переворотах. Гражданское мужество и решительность военных вождей всегда оказываются ниже их профессионального боевого мужества. Пример — декабристы на Сенатской площади. Я колебался. Но в конце концов выбрал все-таки этот путь — с красными, с большевиками.
— И не жалеете?
— Как вам сказать? Времена такие, что личная жизнь и унижение становятся чем-то нераздельным. Только служба и спасает. Да, конечно, это не прежняя служба…
Азанчеев вынул из своей застежки еще одну булавку.
— Я был произведен офицером в Преображенский полк, в третью роту. Эта рота — «морская». Она считалась хозяином ботика Петра Великого. Как только открывалась навигация, наша рота ежегодно выходила с ботиком на Неву, а крепость салютовала ботику орудийным огнем. Третья рота — красавцы с черными бородами. В пятой — рыжие бороды; в восьмой — светлые. Четвертый батальон — стрелковый, — сплошь живые и быстрые великаны. Святыня полка — знамя, с которым он дрался под Полтавой. Может быть, это и не интересно вам. А я вспомнил сейчас потому, что недалек ноябрь, а девятнадцатого — праздник преображенцев, славная память битвы под Нарвой…
Он вздохнул глубоко, глубоко — печальным, затяжным вздохом. Мысль его медленно, с явным трудом отрывалась от прошлого и переносилась в настоящее.
— Все это было, было и ничего этого больше нет. Все — другое. В августе меня чуть было не назначили начальником Всеросглавштаба, — сказал он, внимательно следя за впечатлением, которое это сообщение должно было произвести на Карбышева, — но я отделался. И слава богу! Я никогда не был карьеристом, а теперь… Вы слышали? Открывается академия Генерального штаба Красной Армии. Это — дело другое.
— То есть?
— А я бы очень не прочь попрофессорствовать. Вот мое настоящее дело… Но мы все говорим почему-то лишь обо мне. Расскажите же, пожалуйста, и о себе, о ваших планах, о том, как вы представляете себе свое участие в гражданской войне и самое гражданскую войну. Я с большим интересом вас слушаю…
Карбышев пожал плечами. Действительно до сих пор говорил только Азанчеев и только о себе. Заметив, наконец, как это глупо и невежливо получается, он приостановился. «Я вас слушаю»… — и сейчас же опять заговорил сам.
— Должен вам сказать, что я все-таки ничего не понимаю в гражданской войне. Иногда мне кажется, что это даже вовсе не война, а просто какой-то кинематограф.
— Кинематограф?
— Да, именно… Политическая фильма на тему «Поехала кума неведомо куда». Вот вы собираетесь в Симбирск. А известно вам, как мы взяли Симбирск? Ведь только потому и взяли, что Симбирск — родной город Ленина.
И он принялся рассказывать историю, хорошо известную здесь, но которой еще не знал Карбышев. Едва дошел до Первой армии Восточного фронта слух о покушении на Ленина эсерки Каплан, как политком Первой Куйбышев созвал красноармейский митинг. «Освободим родину Ильича от белых!» Первая тотчас двинулась на Симбирск. Через два дня Куйбышев телеграфировал Ленину: «Взятие вашего родного города — это ответ на одну вашу рану, а за вторую — будет Самара!» Ленин отозвался: «Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и силы. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за все жертвы». Здесь Азанчеев сделал такое движение обеими руками, которое должно было выразить его полное недоумение.
— Теперь судите сами: настоящая это война или всего лишь такое напряжение политической раскаленности, при которой сами ружья стреляют?
Карбышева поразил рассказ Азанчеева. Но рядом с его величественным и прекрасным смыслом узколобость азанчеевских рассуждений была нестерпима. Карбышев вскочил со стула, быстро обежал кабинет и остановился перед его хозяином.
— Леонид Владимирович! Неужто так трудно разглядеть в гражданской войне прямое продолжение революции? Без этого вы никогда не уразумеете природы гражданской войны. Она — результат победы, которую одержала революция. Побежденный класс сопротивляется классу-победителю, и этим вызывается гражданская война. Идет борьба государственной власти рабочего класса и с иностранной интервенцией и с буржуазией своей страны…
— С буржуазией — за диктатуру?
— Да… И поэтому гражданская война — неизбежная, необходимая, прогрессивная война…
— Простите меня, — вдруг заявил Азанчеев, — я больше не желаю разговаривать на эту тему.
Карбышев пожал плечами.
— Как вам угодно. Но странные, очень странные, — я бы сказал, — бесполые у вас мысли…
— Что делать… Мы — военные люди. Наша тема — не политическая, а тактическая сущность гражданской войны. Впрочем, к сожалению, и эта сторона вопроса покамест совершенно темна.
Карбышев опять заспорил.
— Не совсем так. В той мере, в какой тактика гражданской войны должна будет определить фортификационные формы, уже и сейчас кое-что ясно.
— Вы — гениальный «товарищ». Что же, например, вам ясно?
— Ясно, что в условиях гражданской войны приобретут очень большое, не только военное, но и политическое значение так называемые укрепленные районы.
— Вот как! Слушаю вас с величайшим вниманием. Неужели это ваше собственное измышление?
Карбышев пожал плечами.
— Конечно, нет. Или вы не заглядываете в директивы, которые к нам идут из Москвы?
— Черт побери! Заглядываю.
— И что же?
— Ничего.
Все-таки Карбышеву хотелось высказать вслух мысли, густо толпившиеся сейчас в его голове. Действительно последние московские указания прямо наталкивали его на целую систему интереснейших идей. Уже много раз замечал Карбышев, как точно выраженная словом идея необычайно быстро созревает в видимых формах для дальнейшего использования на практике. Идея — слово — чертеж — позиция. Посредством слова облегчается мысль, в чертеже слово уплотняется и затем оживает в земляных сооружениях.
— За маневренный период мировой войны, — начал говорить Карбышев, — по части укрепленных районов не было сделано решительно ничего. В позиционный период этой войны укрепленных районов тоже не существовало. Были укрепленные полосы с расчетом на отбитие фронтальных атак и — только. Теперь все это кончено. Гражданская война открывает совершенно новую перспективу…
— В чем?
— В тех чертах своей тактики, которые принципиально отличают ее от мировой войны. Невозможно не видеть, как тяготеют ее операции к населенным пунктам, как жмется она к шоссейным, к железным дорогам, как командуют ее маневрами реки и леса. В этом — новый характер гражданской войны. И такому характеру должна соответствовать фортификация.
— Чем?
— Укрепленными районами…
Азанчеев задумался.
— Укрепленных районов, действительно, не было не только у нас, но и у немцев, и у союзников. Кажется, и впрямь Москва хочет выжать из старой фортификации нечто новое.
Карбышев торопливо говорил:
— Самое новое заключается не в голой идее применения укрепленного района к задачам гражданской войны, а в другом.
— Очень интересно.
— Мы должны использовать укрепленный район как опорный пункт не только в военном, но и в политическом смысле.
— Москва путает военную тему с политической. А может быть, это вы спутали?
Карбышев не слушал.
— Укрепленный район — материальная и организационная база, — говорил он, — это опорный пункт Советской власти… Теперь слово, стратеги, за вами, а мы, инженеры, сделаем все необходимое…
Азанчеев отдувался, быстро записывая что-то в блокноте. И вдруг Карбышеву вспомнилось, как, вернувшись с Бескидов под Перемышль, он наивно выболтал этому самому Азанчееву свою тогдашнюю идею подготовки атак артиллерийской стрельбой гранатами по проволоке, как Азанчеев тотчас перехватил идею и выдал ее за свою. Сейчас повторялась почти такая же история. Только идея была другая, — не маленькая, лично Карбышеву принадлежащая, а громадная, ленинско-сталинская, общая для всех идея. И время иное, тоже громадное. Но маленький человек Азанчеев играл попрежнему большую роль. Карбышев потихоньку улыбался, глядя, как живо бегал по бумаге карандаш Азанчеева. Он даже радовался быстроте карандаша. Усвоив, присвоив себе идею, Азанчеев, наверно, захочет искать для нее путей успеха. А так как он может сделать больше, чем Карбышев, — пусть делает. «Слово, стратеги, за вами!..»
* * *
Высокий человек, с пышной вьющейся шевелюрой и большими серыми глазами, телеграфировал раненому Ленину от имени бойцов Первой армии: за одну ленинскую рану армия возьмет у белых Симбирск, за другую — Самару. Человек этот хорошо знал, что делал, давая такое обещание от имени бойцов. За Симбирском рухнули Ставрополь и Сызрань, и Первая армия продолжала рваться к Самаре, вдоль железной дороги и на пароходах по Волге. Вечером седьмого октября по улицам города мерно зашагали красноармейские отряды. А ночью политком Первой Куйбышев уже устанавливал в Самаре Советскую власть. На следующий день перед большим трехэтажным домом «Гранд-отеля» забурлила многотысячная демонстрация рабочих. Над главным подъездом дома висел балкон с нелепой решеткой стиля «модерн». На балконе столпились члены Реввоенсовета Первой армии. Широкоплечий, чуть-чуть сутуловатый, великан в кожаной тужурке радостной речью приветствовал освобожденный город. Это был Куйбышев — первый председатель. Самарского губисполкома…
Пропустить противника на западный берег Волги было нельзя. Надо было превратить Волгу в неодолимый для него водный рубеж обороны и подготовить этот рубеж к активному сопротивлению. Руководители полевых строительств совещались у начальника инженеров Востфронта. Неопределенность будущего многих пугала. Некоторые прямо рассчитывали на самое худшее. Почти никто не сомневался в том, что у белых — тяжелая артиллерия. Мысль отступала перед тревожными, воспоминаниями о позиционной войне: глубокие позиции, убежища от шестидюймовых снарядов… Карбышев пробовал рассеять гипноз. Но о своеобразии гражданской войны, об особой роли укрепленных районов мало кому хотелось слушать. Твердили: «Прожекторы… Минные заграждения… Шестидюймовые пушки Кане…» И только, когда выяснилось, что для подготовки Волги к активной обороне необходима прежде всего тщательная рекогносцировка ее берегов, разговоры и шум притихли.
Кому же поручить такое трудное дело? Студеные облака белого морозного воздуха катились по фронту. До ледостава на Волге оставалась неделя. От кого же можно потребовать фантастической быстроты в работе? А ведь обрекогносцировать берега предстояло от Тетюш под Казанью через Сенгилей, Ставрополь, Самару до Сызрани. Это — пятьсот верст. Кроме десятиверсток, не было никаких карт, никаких географических или гидрографических описаний. Рекогносцировочная партия получала пароход — и все. Когда это окончательно выяснилось, начальники полевых строительств дружно зашумели:
— Поручить Карбышеву… Карбышеву…
Почему именно — Карбышеву? Отчасти потому, что полевое строительство, которым он начальствовал, уже понемногу укрепляло волжский рубеж у Симбирска, работало в Самаре, производило рекогносцировку у Батраков и Сызрани. Но это — лишь отчасти. А главное заключалось не в том. Среди собравшихся в кабинете начальника инженеров фронта хлопотливых и разговорчивых «начвоенполестро» не было ни одного, который в той же мере, как и Карбышев, обладал бы свежестью точной мысли, безотказной готовностью и упорной охотой к делу. «Вокруг — мороз; впереди — неделя; глазомерные съемки, эскизные чертежи позиций; нет… не могу!» — Так думали «начвоенполестро», а вслух кричали:
— Карбышеву… Карбышеву…
— Дмитрий Михайлович? Глас народа — глас… Ну, как бы это сказать? А?
— Слушаю-с! Сперва поеду с партией до Тетюш, а оттуда — вниз. Выедем четвертого ноября. Вернемся — двенадцатого.
— Успеете?
— Да. Но…
— Что?
— Если люди будут бездельничать или путаться под ногами, я…
— Конечно, конечно… Мы всячески поддержим…
— Если потребуется — под суд.
— Экий вы… Ну, хорошо, хорошо!..
Двенадцатого ноября рекогносцировка берегов Волги действительно была закончена. Двадцатого Карбышев доложил ее «данные» начальнику инженеров фронта. «Данные» представляли собой прежде всего обстоятельное описание пунктов важного оперативного значения, удобных для активной обороны левого берега, выгодных и невыгодных для переправы, а затем — детальные проекты необходимых позиционных сооружений. Карбышев проектировал двойные тет-де-поны у Симбирска, Ставрополя, Самары и Батраков, укрепления у Тетюш и Сенгилея, позиции для тридцати четырех артиллерийских групп и еще одну отсечную. К «данным» прилагался рапорт о назначении следствия над полдюжиной саботажников.
* * *
На северном крыле Восточного фронта было плохо. Сдав белым Пермь, разбитые войска катились на запад. Армия Колчака спешила соединиться с англичанами, наступавшими с севера. Созревала непоправимая беда. Комиссия ЦК партии — Сталин и Дзержинский — выехала к месту катастрофы. Третьего января комиссия была в Вятке…
Что ни день, все отчетливее определялся маневренный характер гражданской войны. Для подгонки городов и селений к задачам обороны требовались большие военно-строительные работы. Под Саратовом, под Самарой они получали громадный размах. С декабря Карбышев обосновался в Самаре. Здесь ему подчинялось шестое военно-полевое строительство, одно из самых крупных на Восточном фронте. Карбышев строил Самарский укрепленный район. Никогда не работал он с таким воодушевлением, как в эту люто-морозную зиму восемнадцатого — девятнадцатого годов. Никогда не был так убежден в необходимости того, что делал, не знал с такой твердостью, как и что именно надо делать. Масштабы работы захватывали, — вся энергия и воля, весь темперамент расходовались без остатка. Позиции Самарского укрепленного района возводились не на одних лишь подступах к Самаре; они вырастали и под Сызранью и у станции Кинель. Эту последнюю, кинельскую, позицию возводил второй отдел карбышевского строительства. И вот, когда тридцатипятиградусный мороз звенел, перекатывая по земле горы белого тумана и рисуя на небе узоры из геометрических фигур, космы инея свисали с рабочих лошаденок до копыт, а люди тщетно прятали от льдистого ветра опаленные полярным холодом лица, Карбышев, выехав на Кинель, чтобы видеть своими глазами, как идет там работа, очутился у села Несмышляевки.
* * *
Перелом был создан посланцами Ленина: наступление белых на пермском направлении остановлено, попытка английских интервентов связаться с чехами и Колчаком сорвана, последствия тактической катастрофы ликвидированы. И положение Восточного фронта сразу улучшилось, так как успех на левом фланге отозвался удачами повсеместно. Оренбург и Уральск один за другим перешли в руки красных войск. Что сделали представители ЦК? Они сорвали планы белых по захвату Москвы с северо-востока, сковали их силы там, где они вели себя по преимуществу активно, и двинули вперед центральные и правофланговые армии Восточного фронта. Но армии эти были малочисленны и слабы. В Четвертой, взявшей Уральск, было, например, всего-навсего семнадцать тысяч человек, а растянута она была по фронту на триста пятьдесят верст. Ей еле удавалось прикрывать с юга и юго-востока саратовское и самаро-сызранское направления. В это время Реввоенсовет Республики назначил командовать ее войсками ярославского окружного военного комиссара Михаила Васильевича Михайлова-Фрунзе. Новый командарм привез с собой из Иваново-Вознесенска полк, сформированный из тамошних ткачей. Азанчеев шептал: «Кинематограф…» Итак, назначение состоялось. Но Фрунзе еще не вступал в командование.
Номер в гостинице «Националь», где разместился командарм, был, завален военно-историческими книгами. Беспрерывно то приходили к Фрунзе, то уходили от него руководители местных партийных и гражданских организаций. Связаться с ними было первейшим делом Фрунзе: в немедленном установлении этой связи он видел партийную основу своей военной работы. Новый командующий перелистывал книги, вчитывался в приказы по фронту и армии, в оперативные сводки, разговаривал с людьми. Плотноватый шатен с простым, светлым, бесхитростным лицом и ровным, никогда не повышавшимся голосом, он тщательно готовил себя к будущему. Январь ушел на эту подготовку. Диагоналевый военный костюм, сильно блестевший еще в Минске на земгусаре Михайлове, теперь окончательно износился. Особенно скверно было с коленками. Заказали новый. Фрунзе надел и похвалил. Но что-то было в новом костюме отвлекавшее, мешавшее погружаться в мысль. Фрунзе еще раз похвалил новый костюм, а потом снял и опять надел старый. Кто-то высказал недоумение по поводу затяжки с его вступлением в командование. Фрунзе улыбнулся. «Есть одно мудрое жизненное правило». — «Какое?» — «Сначала изучи, а потом решительно действуй!» Тридцать первого января девятнадцатого года он принял, наконец, Четвертую армию Восточного фронта и обратился к ней с приказом за № 4019.
Снежный блеск слепил глаза, ломило лоб, и в горле слипалось. Но Карбышев был не из зябких. Он живо ходил туда и сюда, повертывался и вглядывался в местность, Холмистая и лесистая, она позволяла скрытно передвигать войска с одной невидимой позиции на другую. Прекрасная местность! А что же сделано на ней по части фортификационных работ? Звонко топая сапогами по снегу, все плотней и плотней укутывая помороженное лицо заиндевевшим башлыком, младший производитель работ докладывал:
— Тянем сплошную траншею…
Действительно траншея тянулась через холмы и перелески, утопая в сугробах, прямая, ровная, и глаз не видел ей конца. Карбышев вспомнил недавно утвержденный проект. Все исковеркано… Все — вверх ногами… Чертова неумелость!
— Длина?
— Двадцать верст.
Карбышев отлично свистел, но талантом этим пользовался не часто. Однако сейчас он свистнул так протяжно и мелодично, что в воздухе как бы повис изумлением и тревогой рожденный чистый звук.
— Безграмотность… вот что бывает, когда бессмысленно заучиваются формы!
Младший производитель работ звонко топотнул ногами.
— Позвольте, товарищ начальник! О какой безграмотности вы говорите? Я с фортификацией достаточно знаком… Я всю германскую войну пробыл на фронте…
Вспомнив в эту минуту, как трудно бывало ему всегда ориентироваться в поле и как однажды, при отходе, случилось вывести окопы фронтом не к противнику, а от него, он почувствовал некоторое внутреннее беспокойство и добавил с досадой:
— Да, кроме того, и вы меня знаете…
Он раздвинул складки белого башлыка, и на Карбышева выглянуло давно знакомое, красивое и чистое, но сейчас опаленное холодом и покрытое волдырями лицо.
— Батуев?
— Так точно.
«Авк Батыев» был оскорблен до слез, и они действительно катились по его багровым щекам.
— Я всю германскую…
— Да ведь вы потому и говорите о германской, Батуев, что не знаете основ фортификации…
— Не понимаю!
— Постарайтесь понять. Фортификационные формы германской войны — всего лишь один из частных случаев того, что может строиться на поле. А сама фортификация подвижна и изменчива, как формы военной борьбы.
— Но есть же принципы…
— Какие? Вечные?
— Д-да…
— Нет таких принципов.
— А характер местности и сила артиллерийского огня? А маскировка?
— Принцип один: все эти условия то и дело меняются. Вот сюда, например, и легкая пушка не проедет, да и огонь у нашего противника самый слабенький, а вы такой маскировки понастроили, что загородили весь обстрел. Запомнилось вам кое-что из германской войны, заучили вы кое-что, и уж отказаться от заученного не можете. Эх, вы! В этом именно и заключается бессознательное отношение к делу. Ведь вы же и местность учитывать совершенно не умеете. Ухватили трафарет и… А тут — леса, холмы да болота!
Скверный привкус полузнания, который так ясно проступал в работе Батуева и в его рассуждениях, подействовал на Карбышева раздражающе. Нельзя, никак нельзя допускать этакого безобразия! Невозможно, чтобы подобные ошибки сходили с рук, как бывало раньше! Впрочем, и раньше Карбышев никому не спускал их. А теперь… здесь… под носом у неприятеля… и какого неприятеля! Дмитрий Михайлович резко повернулся к Батуеву.
— Я вам прямо скажу: и не думайте, что германская война сделала из вас настоящего военного инженера… Ничего подобного!
Батуев вздрогнул. Судорога злости изуродовала его лицо.
— Продолжайте учить, коли хочется, — вызывающе сказал он, — посмотрим!
— Да, надо учить… Слушайте! Выяснилось, что бои на Восточном фронте ведутся за города и деревни, — за те места, где войска находят себе кров и пищу. Позиции без жилья, если они даже и хорошо укреплены, обходятся войсками без боя. Характер войны — ультраманевренный. Все операции группируются возле дорог. Артиллерия участия в боях почти не принимает. Все это совсем непохоже на позиционный период германской войны. Значит, и фортификационные формы нельзя брать оттуда, а надо придумывать их заново.
— Например?
— Формы позиций должны быть самыми легкими, — группы, группочки. Эти группы надо располагать возле селений. А если селений нет, надо строить жилье.
— Ну, знаете… Всегда мы считали, что селения — самое опасное соседство для позиций… Мы их всегда обходили…
— А теперь я вам приказываю поступать наоборот. Сейчас селения должны определять направление позиций. То, что было бы грубой ошибкой в позиционной войне, теперь — правило. А так как селения лежат обычно в лощинах, у воды, то…
— Чудеса в решете… — пробормотал Батуев.
— Словом, все, что вы тут настроили, никуда не годится. Линейные укрепления в маневренные условиях гражданской войны — чепуха. Укрепленная линия вовсе не должна быть сплошной китайской стеной рубежей. Совершенно достаточно, если она прикрывает лишь те точки и направления, которые облегчают маневрирование. Комбинация из нескольких опорных пунктов, включая тыловые, — это узел сопротивления…
— А почему это лучше «китайской стены»?
— Вот почему. Когда сплошной рубеж бывает прорван в одном месте, волей-неволей приходится очищать его на всем протяжении. Стало быть, такая китайская стена просто не нужна. А узлы сопротивления надо развивать до той степени, которой требует важность прикрытых ими на позиции точек и направлений. Тут и действительная огневая связь между опорными пунктами, между узлами и еще многое другое, вам, вероятно, более или менее известное. Поняли?
— Разумеется.
Холодное пламя бушевало на месте солнечного пятна, смутно выступавшего до сих пор из белой прорвы буранного неба. Сыпалось сверху и по низу дуло, как в трубе. Словно чья-то метла гнала белую пыль по снежному насту. Поземка с присвистом хлестала по ногам. Красные блики на снегу постепенно принимали лиловый оттенок. День заваливался за синюю черту горизонта.
— Морозяка! — поежился, наконец, Карбышев, — едем, Батуев, к вам в деревню чай пить…
* * *
На улице было очень холодно. Свет в окнах казался зеленым. Над огородами висели густые клубы белого тумана. Батуев с трудом отходил от мороза и злости. Только обивая сапоги у крыльца избы, в которой стоял, он возвратил себе способность говорить более или менее спокойно, хотя и несколько деревянным языком.
— Помните, Дмитрий Михайлович, телеграфиста Елочкина? Был такой у Лабунского на Карпатах…
— Елочкина я еще по мирному времени, по Бресту знаю. А что?
— Я здесь у отца его стою.
— Неужели? А где сам Елочкин?
— Недавно мобилизован и поехал под Пермь…
Отец Елочкина оказался крепким, сухощавым стариком, с живыми острыми глазами; голова у него была лысая, как биллиардный шар, а борода — двойная, широкая, как у адмирала Макарова на портретах.
— Пуфтим, боэрь![27]
Карбышев посмотрел с удивлением. Старик, разъяснил:
— Это я — по латинскому. Когда в Бессарабии с полком два года стоял… Пожалуйста! Зимно нынче, холодно, — приговаривал он, расставляя по столу битые чайные чашки на черепках, бывших раньше блюдечками, — хоть и без жены, один, вдовцом, прозябаю, а чаек из последнего держу. Настоящий чаек, китайский, он же и копорский, по месту произрастания, а коли совсем попросту сказать, «Иван-чай». Ведь вот — чай… чай… Не бог весть что, — трава, а приятно…
Старик был разговорчив и подвижно-деловит. Он говорил, а руки его двигались и с удивительной незаметностью, как бы само собой, делалось у него под руками то одно, то другое. Вот уже и чай разлит, и до сына Степана договорились, а кряжистая, шишковатая спина дяди Максима все мелькает в разных углах избы, и сам он никак не может угомониться. Узнав, что Карбышев с давних пор знал Степана, старик ужасно обрадовался.
— Таланы, сударь, бывают разные. Есть такой талан, чтобы по-господскому манежиться, а есть и такой, чтобы трудом выбивать. Степка мой — трудовик. И слесарь приметный, и по грамотности стихи ладит, и еще… весной в центр большущее письмо отправил. Говорил, будто в науке изобрел. Уж как это — судить не могу… Мой талан, стариковский, один был. С самой турецкой войны наживал его, а тут собакам кинул. Ха-ха-ха!
— Что за талант? — осведомился Карбышев.
— Ревматизмом он был болен с турецкой войны, с Шипки еще, — сказал Батуев, — погоду загодя чуял — лучше нельзя. Предсказывал, точно барометр…
Старик закивал головой.
— Во, во… Бывало постановлю: быть невзгодью. Мужички меня, Фоку, и спереди и сбоку. А чем баро… барон-от виноват, коли погода дурна? Ха-ха!..
Елочкин махнул рукой.
— А теперь шпортился! Лег перед войной германской в больницу. Так они, маята, возьми, да меня и вылечи. И лишились мужички здешние самого верного предсказателя. Раньше за болезнь в ругню меня брали, теперь — за здоровье. Ха-ха-ха!
И Карбышев смеялся, и Батуев, прекрасно знавший эту историю. Но всех веселее смеялся старик.
— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Да мне на них, на здешних-то, плюнуть! В Неомышляевке-то у меня ни роду, ни племени, ни тычинки! Солдат ведь я. Панья матка бога![28] Это я — по-французскому. Когда в Польше с полком стоял, очень отлично выучился…
Старик говорил, расхаживая по избе, и время от времени с любопытством поглядывал на Карбышева. Гость тоже был подвижен, но не суетлив, и нравился хозяину обстоятельностью своей повадки. Вдруг подсев к Карбышеву, дядя Максим перешел на «ты».
— А что я скажу, сударь… Гляжу на тебя, вижу: ведь и ты, вроде как Степка мой, тоже из трудовиков, — ай нет? Человек ты трудистый, удумчивый. О нужном хлопочешь. Да и простой же ты человек! Вишь, и лик-то у тебя в шадринках — не из татаровей?
«Шадринками» дядя Максим называл по-уральски темные пятна на щеках Карбышева, действительно, похожие на неглубокие оспинки.
— Я у Аксена, — старик кивнул в сторону Батуева, — ни об чем спросить не могу. Он и сам-то не больно знает, да еще по дворянской своей вольности такого нанесет, что сложить негде. Зяблое семя из земли не торопится, — по положению. А у тебя спросить хочу.
— О чем?
— О большевиках.
— Спрашивай.
— Вот они теперь власть забрали, имеют ее, власть. А куда дальше стремятся? Чего достигают? И того им мало, и сего не вполне. Вот и война… Из-за чего она?
Карбышев порылся в нагрудном кармане гимнастерки и вытащил из пачки бумаг одну — папиросный листок, густо покрытый синим машинописным шрифтом. Он развернул листок. Сверху стояло: «Приказ войскам IV армии Восточного фронта от 31.1.1919 года за № 4019».
— Коли спрашиваешь, слушай: «Здесь, на фронте, решается судьба рабоче-крестьянской России; решается окончательно спор между трудом и капиталом. Разбитые внутри страны помещики и капиталисты еще держатся на окраинах, опираясь на помощь иностранных разбойников. Обманом и насилием, продажей родины иностранцам, предательством всех интересов родного народа они все еще мечтают задушить Советскую Россию и вернуть господство помещичьего кнута. Они надеются на силу голода, который выпал на долю центральных губерний, вследствие отторжения от России богатых хлебом окраин. Напрасные упования!»
Старик слушал с закрытыми глазами. Теперь он открыл их и прошептал восторженно:
— Прости нас, господи, в предпоследний раз! Ну, и голова! Так и вложил в душу!..
Долгий разговор подходил к концу.
— А мужики что думают? — спросил Карбышев, — все в одно? Или кто куда?
— Не все, не все, сударь, — тихо, с какой-то грустной значительностью проговорил старик, — нет, не все. У коих кармашек пухлей, те — супротив. Очень! Весьма! А наш брат, конечно, по-своему судит: кто поголей, побесштанней, эти — да. Эти прежнего терпеть не могут. К новому лепятся. Ведь тут как сказать? У меня лошадка дома одна-единая. Одна лошадь, а везет по-разному. Свое положу — везет да башкой махает. А случалось барское возить — с места не идет, шкуреха, еле из-под кнута дергает, — тяжело ей барское-то! Вот ведь как!
— Понятно! — засмеялся Карбышев, с удивлением замечая на лице Батуева неприязненную гримасу. — А кулаки, говоришь, на стенку лезут?
— У-у-у, не приведи, господи!
И дядя Максим уже совсем шепотом договорил:
— С места мне не сойти, коли не забунтуются! Факт!
* * *
В феврале был отбит натиск белых с подступов к Волге. Но натиски могли еще не раз повториться. И тогда Самарскому району предстояло бы выполнить свою роль полевой крепости с общим протяжением позиций на сто пятьдесят верст. От Нового Буяна и Заглядовки до Майтыги и Воскресенского на юге, от Ставрополя и Усы на западе до реки Самары на востоке, — все это был укрепленный район. С его огромной территории одно за другим выезжали советские учреждения, и население исчезало целыми деревнями. Карбышев был начальником инженеров района. Не проходило дня, чтобы Фрунзе не вызвал его к себе или не приехал на позиции сам, чтобы осмотреть новое укрепление, посоветоваться и приказать, — всегда аккуратный, всегда подтянутый и простой, совершенно простой. Много всяких начальников видел Карбышев, но этот человек был первым, которого он готов был признать за начальника без скидки на форму и чин, без надбавки на знаменитость, — начальником в небывало полном, существенном и, главное, новом смысле старого слова. Был у него и еще один, непосредственный и прямой начальник, которому он подчинялся с такими же увлечением и охотой. Это — комендант Самарского укрепленного района Куйбышев…
Если бы Карбышева спросили в те кипучие дни: «А где вы живете, товарищ?» — он бы не сразу ответил. Конечно, не в голой степи, не в случайно подвернувшейся избе, не на сеновале, — а где? Вероятно, в Самаре. По крайней мере Лидия Васильевна, несомненно, жила в Самаре. Сперва на Дворянской улице, а потом на Соборной площади в квартире с балконом. «Когда же она переехала?» — «Не знаю». — «А кто ее перевез?» — «Хм!..» Калейдоскоп жизни был так ярок, и шум ее так густ, что приглядеться, прислушаться положительно не хватало времени. А счастье зрело, росло в самарской квартирке с балконом. И радостью обжигалось сердце, стоило вспомнить о нем. Лидия Васильевна должна была сделаться матерью в самом начале лета…
Однако как бы ни был захвачен своей работой Карбышев, его прямой начальник был еще занятее. Политический комиссар и член Реввоенсовета Четвертой армии, комендант укрепленного района Куйбышев то и дело председательствовал на партийных конференциях и съездах Советов, в губисполкоме и горсовете, в ревтрибунале и на митингах в цирке «Олимп». Именно его избрали делегатом на Шестой Всероссийский съезд Советов, Партийно-политическим и административным обязанностям Куйбышева положительно не было счету, но он выполнял их все. Для его богатырской натуры не существовали ни перегородки между днем и ночью, ни время вообще, ни расстояния, ни трескучие морозы жестокой тогдашней зимы. То днем, то ночью сопровождал его Карбышев в объездах по отделам строительства, и везде, где они появлялись, работа горела. Окопы рылись в рост, колючка тянулась в три ряда, и во множестве сбивались блокгаузы. Старые степные курганы превращались в блиндажи для артиллерийских наблюдательных пунктов; перекрытые сверху накатником, строились блиндажи эти очень прочно.
Сильный и ловкий, ходит по позициям Куйбышев. Видит, как ерошат люди степную гладь, как тащат мешки с песком, с углем, с замерзшей в булыгу картошкой. Видит, от беспокойства дрожит; и вдруг летит тулуп с его плеч, лопаются петли на кожанке, сам Куйбышев взялся за дело, — тащит мешок за мешком. А потом — отдых в полуготовом блиндаже, у добела раскаленной жестяной «буржуйки», в жаре, духоте, тесноте, за кружкой нестерпимо горячего чая. Куйбышев и кожанку сбросил — сидит в гимнастерке, гладит усы, редкие под носом и густые к краям губ, — настоящие татарские усы.
— Белые? — говорит он, — на белой пыли белая черта. Вот и все!
Он упирает прямо в Карбышева свои большие серо-голубые глаза.
— Вот и вы натолкнулись на этот белый оттенок, когда рекогносцировали Волгу. Рассказываете: подал, дескать, рапорт, а толку нет. Я думаю, что Азанчеев подмял под себя ваш рапорт. Но дело не в том. Вопрос — как заставить? Это не значит — принудить. На моем, революционном языке заставить — это с умом подойти, разъяснить необходимость, убедить, раскрыть глаза. Вот как надо заставлять людей работать на революцию! И не следует путаться в словах…
Он слегка поежился, как бы стесняясь того, что пришло на язык. Но застенчивость и веселость жили в нем рядом. Он засмеялся и сказал:
— В детстве я все путал слова «караул» и «ура». Приду, бывало, в восторг и заору: «Караул!» Струшу чего-нибудь: «Ура!» Ха-ха-ха-ха… Давно это было, еще до Омска…
— Разве вы из тех мест, товарищ Куйбышев?
— Пожалуйста, не дивитесь: в девятьсот пятом году окончил полный курс Омского кадетского корпуса.
Мелодичный свист Карбышева неожиданно разнесся по блиндажу.
— Что это с вами?
— Ничего. Стало быть, мы — однокашники.
— Как так?
И тут начались счеты, справки, выкладки и догадки.
— Итого — я на восемь лет вас моложе…
— А корпус я кончил раньше вас на семь лет.
— Ну, конечно, так и выходит: пока вы доучивались в Питере да гнули службу на Дальнем Востоке, я околачивался на кадетской скамье. Но заметьте: еще мальчишкой, с девятьсот четвертого, примкнул к большевикам. Сунулся после корпуса в Военно-медицинскую академию… Выгнали за политику… Отец мой был полковником. Так взялись, что и по нему пришлось. Очень за меня тогда взялись, очень…
Куйбышев неслышно шевелил полными губами, будто высчитывал что-то.
— С пятого по шестнадцатый восемь арестов — в Омске, Томске, Питере, Самаре. Судили три раза. А ссылали четырежды — в Каинск, Нарым, под Иркутск и в Туруханск. Биография? А?..
Вскоре после памятного разговора с Куйбышевым приблизительно в тех же местах, опять в блиндаже и у раскаленной железной печурки, довелось Карбышеву отогреть заехавшего на позиции Азанчеева. Леонид Владимирович с кем-то неудачно для себя сцепился в штабе фронта и был оттуда довольно ловко «спущен» в штарм Четвертой. Зато здесь твердо стал на ноги, сразу захватив роль всезнайки и эрудита. Да и по должности оказался ближайшим к командарму лицом. Одно время ему мерещилось, что гражданская война будет чем-то вроде церемониального марша. Красноармейцы наденут на себя венки, возьмут в руки трубы и литавры, запоют, зашагают, и все вокруг рушится и падет. Но постепенно выяснилось нечто совсем другое. И это другое ужасно не нравилось Азанчееву. Одно дело лезть в огонь под Седлиской, — то было для него дело свое, кровное, близкое, многообещавшее и даже выполнившее кое-что из обещанного, — белый крестик Георгия, генеральство… А тут? Что это такое? Мороз, голодовка, коклюш у ребенка, истерики жены, совершенная беспросветность в будущем, какие-то дурацкие карьерные просчеты, — и для чего все это? Зачем? Почему?..
Гость и хозяин сидели возле «буржуйки», молча наблюдая, как огнистые зайчики прыгали на ее оранжевых боках. Леонид Владимирович был, как теперь это с ним часто случалось, в самом пессимистическом, почти подавленном настроении духа. Так они молчали довольно долго. Наконец, Азанчеев ожил, достал из кармана стеганых штанов мешочек с махоркой и принялся неумелыми пальцами скручивать «козью ножку».
— Вы получили на прошлой неделе, — вдруг спросил он, — эту самую… Ну как ее? Ну — «карьи глазки»?
— Воблу?
— Да. Воблу. Получили?
— Получил.
— А как вы ее едите?
Карбышев усмехнулся.
— Ударю раз пять по столу и…
— Плохо. Нельзя так.
— Почему?
— Много отходов.
— А как же надо?
— В печную отдушину на десять минут, а затем — в мясорубку. И — никаких отходов.
Он говорил это очень серьезно. Даже ни тени улыбки не было на его унылом лице.
— Я не понимаю, — с досадой сказал Карбышев, — как можно предаваться этакой меланхолии.
— Вам, вероятно, нельзя, а мне можно. Помните, я однажды говорил вам, что тяготею к профессорской работе? Академия Генерального штаба открыта. Она разместилась в Москве, на Воздвиженке, в великолепном здании Охотничьего клуба. Товарищ Свердлов произнес на торжестве ее открытия прекрасную речь. Ну скажите мне, Карбышев… Ну что я тут делаю? Ну разве не там мое настоящее место, где еще сохраняются остатки старой военной науки, где, повидимому, собираются сейчас люди, олицетворяющие собой эту науку, и которым лишь революция помешала стать полководцами? Почему же я здесь, а не там?
— Революция помешала вам стать полководцем?
— Кто знает? Во всяком случае человек, не окончивший академии генерального штаба, не может рассчитывать на то, чтобы сделаться настоящим полководцем. Он всегда останется игрушкой в руках своего начальника штаба.
— Вы говорите странные вещи. Ведь ни один великий полководец, начиная с Александра Македонского до Суворова и Наполеона, не кончал академии генерального штаба. В войну семьдесят седьмого года прославился Гурко. Но он академии и не нюхал…
— А Скобелев?
— Скобелев кончил академию последним. А вот в японскую войну почти все высшие начальники, с Куропаткиным во главе, были из офицеров генерального штаба. И что же вышло? Куриная слепота…
— Довольно, довольно, — сказал Азанчеев, и тон холодной насмешки явственно прозвучал в его голосе, — я все это не хуже вас знаю. Но я говорю вам, что тоскую по своей среде. Я очень внимательно наблюдаю за нашим командармом. У него вид хорошего земского врача. Однако он может объясняться по-французски и даже английские журналы читает со словарем. Я скажу вам искренне, что иногда любуюсь им и спрашиваю себя не без изумления: «Что же в конце концов выйдет из этого человека?»
— Заметьте: Фрунзе не кончал академии.
— Д-да… Иногда, размечтавшись, я вижу себя в Москве, среди старых товарищей генштабистов. И будто бы мы учредили орден бывших офицеров генерального штаба. А магистр…
— Вы?
Азанчеев не ответил. Не мог же он объяснять, как ужасно действует на его нервы неудовлетворенная потребность в людях, к которым можно относиться свысока на, самом законном основании, без жалкой игры в равенство, без мимики, намеков, недомолвок, аллегорий, усмешечек и анекдотов… Низко опустив голову, он застыл перед печкой в тяжелой неподвижности. Карбышев быстро встал и еще быстрее выскочил из банной духоты блиндажа на холод, под звезды, в чистый и звонкий ночной простор…
Глава шестнадцатая
Лабунский ехал в Заволжье, где не нынче-завтра собиралось подняться кулачье. Только тем и задерживался «чапанный»[29] бунт, что не было у него главаря. Лабунский ехал по эсеровским явкам, на кулацких подставах, с коротенькой бороденкой, в рваном полушубке под дырявым зипуном. Кто едет? Никто не знал. И все-таки механика явок действовала отлично. Пара «шалых», — она же — «разоренные», — завертывала в городишко: здесь Лабунский ссаживался с саней и шел в аптеку. — «Провизорша Анна Ефимовна Гельбрас…» — «Есть такая…» Провизорша глядела сухой колючкой. «Что нужно?» — «Да, вот… рецептик…»
Дальше — чудо. Лабунский кажет листик чистой бумаги, и в Анну Ефимовну тотчас же вселяется бес самой бурной деятельности. «Секундочку… Халат снять…» Она ведет Лабунского на край городка, за огороды, в мещанский домик. Здесь путешественнику дают умыться и перекусить, укладывают его спать в спаленке с образами и старинным пузатым комодом у стены. Лабунский долго разглядывает коробочки, фотографии, рюмочки с деревянными пасхальными яйцами и глиняных барашков, аккуратно расставленных на комоде. «Русская интеллигенция, — думает он, — никогда не была по-настоящему действенной. Даже народники… В массе своей и они бездействовали. Яд непротивления отравлял самосознание. Анализ поглощал динамику…» На этом кончаются мысли. Ему кажется, что он заснул и проснулся одновременно. Между тем прошла ночь. Мужик с кнутом трясет его за плечо. «Пора, браток… Не гоже лошадь знобить». Так ехал Лабунский из города в село, из села в деревню, из деревни в город. Провизорша передавала его лавочнику; лавочник — часовщику; часовщик — школьному учителю; но никто из них не догадывался, что едет вождь «чапанного» бунта…
Механика явок безотказно действовала до Волги и за Волгой, до самой Кипели, но здесь случилось непредвиденное. В Кинели Лабунскому следовало задержаться для выяснения обстановки. Хитрый «чапанный» вождь остерегался прямых расспросов. На явочной квартире показалось ему подозрительно. А разведка исподволь требовала времени. Февральский день был короток, мороз жесток, и его щекочущий запах проникал даже в избы, а в животе «катались андроны». Лабунский начинал уже клясть судьбу, не подозревая, что она старается для него изо всех сил. На большой Кинельской улице судьба столкнула его нос к носу с Батуевым. Как ни удачна была театрализация, Батуев сразу узнал Лабунского и развел руками.
— Да что это с вами? Да куда же вы?
К вечеру Лабунский очутился в Несмышляевке, в избе старого Елочкина, и, рассупонившись, красный, потный и довольный, глотал, обжигаясь, огненный «Иван-чай».
— Слушайте, Авк, — говорил он Батуеву, — мы с вами не вчера познакомились. Кажется, черт вас возьми, могу спросить прямо: чем тут у вас пахнет?
— Знать не знаю, — отрезал Батуев, — и, главное, знать не хочу. Коли угодно, спросите старика. Ему все известно. А вы его сына из беды выручили. Спросите…
Дядя Максим чесал спину.
— Сиверко, больно сиверко, — повторял он, внимательно разглядывая Лабунского, — каляно… А чем у нас пахнет? Да что… Богачей много. Привыкли, как бывало: пыхтят, стучат молотилки. Ну и… А бедных-то еще побольше. Вот теперь ждем погоды… Один — лошадь забыл завозжать. У другого — гужи ослабли, кобыла сама отпрягается. Маята.
Лабунский рассердился.
— Балаганщик, дед, ты! Я сына твоего от беды спас, а ты со. мной как? В объезд да боком. Чего боишься?
— Бояться — у меня в мыслях нет.
— Врешь, бетонная голова.
— Не вру.
— Да, русский мужик, православный, не может, чтобы не бояться. Вот я положу иголку на бумажку, а снизу поведу магнитом, ты и помрешь со страху: волшебство!
Батуев расхохотался. Но лицо дяди Максима сохраняло грустное выражение важности и спокойствия. Он медленно покачал головой.
— Балаган и будет. А про дело я вам, сударь, так скажу. За Степку благодарность вам вечная. Только вы меня не трожьте.
— Кто тебя трогает?
— Вы, сударь. А я за большевиков жизнь отдам!
— Эге! С каких это пор, дядя Максим? — воскликнул пораженный Батуев.
— Как ты ко мне ночевальщика намедни приводил, — так с энтих самых пор. Есть такой — Карбышев, Аксен привел. Огласил мне тогда Карбышев по приказу и от себя, что есть большевики. И уж так я все понял!
Лабунский взглянул на Батуева. Но тот смотрел в сторону. «Сукин сын», — подумал Лабунский и сказал:
— А ты бы и меня про большевиков спросил. Сам, поди, знаешь: где одно, где другое, а правда посередке.
— Бывает, бывает, — согласился старик, — однако спрашивать мне вас, сударь, не приходится.
— По какой причине?
— Гадать не стану, а приехали вы сюда не с добром. Верно?
Дядя Максим глядел сурово. У Лабунского под ребрами потянуло холодком.
— И не мне след у вас спрашивать, а вам меня слушать. Есть у нас власть — хорошая, чистая. А вы к кому нанялись? Не стыдно? Ноне они вас тут ждут, будто с надобностью, а засим что будет?
И Лабунский, и Батуев слушали самым примерным образом.
— Что будет? — с тревожным любопытством осведомился Батуев.
— А вот… Был у нас крестьянин. Увидел раз девушку-нищенку, польстилась она ему, он ее замуж и принял. Разодел, в санях, что ли, катал, — да! А она все нищенского своего дела не бросала, — чуть что, сейчас с рукой: «Подайте!» Он ее — бить. Знамо дело, она смирялась. А наделает из тряпья кукол, зажмется в чулане за крючком, посажает их по углам да и ходит, кланяется, тоненьким голоском выводит: «Подайте милостыньку, христа-ради!» Мужик однова услышал, крючок сорвал, уцепил девку за волосья., да под зад из дому. Вот вы, господа, и сообразите, что к чему!
— Не понимаю! — сказал Батуев.
— Ты, Аксен, понять не старайся. А им, — дядя Максим показал на Лабунского, — им очень надо!..
Батуев проснулся задолго до света. Взглянул на часы: пять. С остервенением зевнув, сел на скамье и осмотрелся. Старика в избе не было. Острый огонек самокрутки попыхивал в той стороне горницы, где было вчера постлано Лабунскому для спанья.
— Авк! — вдруг сказал Лабунский. — Долг кончается там, где начинается невозможность!
— Очень хорошо, только вы меня оставьте, пожалуйста, в покое, — жалобно отозвался Батуев.
— Вот тут-то и начинается невозможность. Не могу оставить.
— Это — свинство!
— Карбышев — начальник инженеров района?
— Да.
— Пристает?
Батуев оживился.
— Ужасно! Что ни сделай, все не так, ни к сроку, ни к отчету, — беда!
И он принялся рассказывать о приезде Карбышева на позицию под Несмышляевкой, — о том, как Карбышев третировал, наскакивал, умничал, выдумывал, грубо и дерзко критиковал; как все это было обидно для самолюбия взрослых и образованных людей, которые ни с того, ни с сего попадали в положение мальчишек-недоучек, и что надо было бы с этим покончить, — но как?
— Просто, — сказал Лабунский, — надо жаловаться.
— Кому? Азанчееву?
— Глупо.
Лабунский круто повернулся на своем соломенном ложе. Самокрутка вспыхнула и ярко осветила на одно короткое мгновенье его напряженное, решительное, жесткое лицо.
— Авк! — почти крикнул он, — а вы и не чуете?
— Не чую!
— Так слушайте, черт возьми! Старик ваш прав. «Чапанный» бунт — дурацкая затея. Рву с кулачьем. Сегодня же еду в Самару. Завтра начинаю служить в Красной Армии…
— Да возьмут ли вас?
— Ого! Тряхну Карбышева, Азанчеева… Возьмут! А тогда…
— Ну?
— Тогда мы свалим Карбышева.
— Каким образом?
— Вы напишете в Москву…
— В Москву?
— Да. Величке в ГВИУ. Моя жена отвезет письмо. Величко растает и…
— Ваша жена?
— Ну, да… Моя новая жена…
— Не знал, — поздравляю!
— Софья Борисовна… Артистка оперетты… Сейчас она — в Самаре. Но только…
— Что?
— Только надо, чтобы жалоба на Карбышева шла не от одного вашего лица. Ведь не вам одному он грубил?..
— Конечно! — восторженно подхватил Батуев. — После рекогносцировки Волжской Луки он даже следствия требовал… Есть люди, есть!..
— И отлично! — сказал Лабунский. — Жена поедет в Москву, ей надо по театральным делам. Возьмет письмо. И Карбышева мы спихнем. Я сяду начинжем района. Вы ко мне помощником… Теперь чуете?
— Пожалуй, да!
— С ложью-то, господа, весь свет пройти можно, — вдруг заговорил дядя Максим, входя в избу и видя, что постояльцы его не спят, — да зато уж назад николи не воротишься…
— Брысь! — рявкнул Лабунский.
* * *
Эсеры врали: будто едет главарь, будто приехал, будто храбрее его на свете нет. Но кулаки уже не верили. «Смылся, пужливый черт!» — с ненавистью кричали они. Было ясно, что медлить больше нельзя ни часу. Колчак открыл наступление на фронте в шестьсот километров. Белые захватили Уфу. Пятая армия, измученная, обескровленная, почти не сопротивляясь, откатывалась к Волге. И вот в то самое время, когда значение волжских укрепленных позиций могло стать решающим фактором борьбы, огонь восстания вспыхнул под Самарой, перекинулся к Сызрани, Сенгилею, Ставрополю, Мелекесу и заполыхал по всему Самарскому укрепленному району сплошным пожаром стычек, схваток между красноармейскими отрядами и бандами повстанцев-чапанов. «Ур» становился западней. Надо было как можно скорее раздавить мятеж, вожаков выловить, а шайки истребить. Задача не из легких…
«Особый» отряд двигался на восток от Несмышляевки по незнакомым местам, без путей, целиной. Ныряя между сугробами, подхлестываемые вьюгой, люди тянулись гуськом, даже и не пытаясь разговаривать. Ветер срывал слова с их губ и отшвыривал в такую даль, что от слов ничего не оставалось. Зато какой-то странный звук, далекий и печальный, плыл над полем, заполняя весь его простор, и тогда чудилось, будто плачет воздух. Так они тащились долго, очень долго, пока не втянулись в лес…
На равнине свистело в полную мочь. Буран все усиливался, и ветер метался над полем, как неоглядная стая обезумевших от страха гигантских птиц. А в лесу было тихо. Качались только верхушки деревьев, бросая вниз комья снега и чуть-чуть поскрипывая. На полянах же царствовал покой. День кончался.
Лес все глубже и глубже проваливался во тьму. Он уже не казался обыкновенным лесом, какой всякому встречался сто раз; ночь постепенно превращала его в непостижимо-враждебную, жестокую тайну, подстерегавшую свои жертвы грозным уменьем губить без следа. Однако стемнело еще не вполне. Привычные глаза кое-что различали. И, хорошенько всмотревшись, можно было разглядеть впереди черную линию широкого лога.
— Стой! — тихо сказал командир «особого» отряда, — здесь, товарищи, разберемся…
У людей были багровые лица, белые брови, воспаленные глаза. Разведя людей на три группы, командир неслышно расставил их по местам.
— Ложись!
Поползли, проваливаясь в сугробы, обминая снег коленками и локтями, заботливо вскидывая кверху штыки и дула, одышливо хрипя и отдуваясь. Так дотянулись до переднего ската лощины и тут замерли. Ошибки не было: на дне ночевала банда. Кое-где дотлевали, курясь, остатки разложенных с вечера костров. Между кострами в навалку лежали спавшие люди. Ни охранения, ни даже отдельных часовых… Карбышев приподнялся и глянул на своих, — он вел правую группу. Они ждали, напряженно следя за каждым его движением. Он встал на ноги и взмахнул винтовкой, — они вскочили. Быстрый, легкий, он ястребком прянул вниз, и словно рванул за собой полсотню красноармейцев. Бойцы рассыпались по логу. Отчаянный крик не совсем очнувшегося от сна человека пронзил мерзлую тишь ночи. Крик еще не замолк, как грянули выстрелы. И тогда грохот пальбы, стоны и брань сразу слились в один общий, ни с чем несравнимый и не прекращавшийся ни на минуту звук рукопашного боя. Свалка кипела по всему логу, спотыкаясь на головешках вчерашних костров и отжимаясь красными пятнами на плотно утоптанном в борьбе снегу…
Одна часть банды осталась на месте. Другую повели «сдавать». В сумраке тяжелого зимнего утра серыми призраками брели раненые красноармейцы. Морозный ветер со свистом поднимал над степью пухлые груды снега и, перемешав его с песком, тучами нес вперед, леденя и насквозь прохватывая человеческое нутро, огненной болью втыкаясь в полуослепшие глаза…
К рассвету степная суматоха несколько улеглась. Поземка прибилась, и весело заискрился синий снег. Вздулось мерзлое, красное солнце, докарабкалось до гребня леса и здесь раскололось пополам. Облитые его светом снежные дали загорелись. Любуясь утром, Карбышев шел по лесной опушке. Она вставала передним прозрачной стеной раскидистых берез. Снег лежал по лесу гладко, наслоенный пелена на пелену, легкий, чистый, в искрах и блестках там, где ударяло в него сверху солнце, ласкающе-синий — в тени. Ровные, прямые, строгие, поднимались из снега стволы огромных елей. Какие-то старые, кривые деревья толпились по краям полянок. Низко опустив заснеженные ветки, они будто слушали ими величественную тишину. Над деревьями холодно просвечивало небо. Мороз звонко постукивал в лесу. За выступом рощи — просека, а по просеке — прямой ход к Несмышляевке. Карбышев вспомнил теплую избу дяди Максима и обжигающий горло «Иван-чай». Село, наверное, сильно опустело. Но дяде Максиму нет никакой причины уходить от своих. Впрочем… Карбышев старался представить себе трудность положения старого Елочкина в мятежном селе и то, как было бы всего правильнее ему поступить. Впереди красноармеец что-то кричал другим и показывал на выступ рощи, от которого крутым раскатом отбегал свежий след двух санных полозьев. «Сани недавно проехали», — подумал Карбышев, и посмотрел по тому направлению, куда указывал красноармеец. У прямой и высокой, крайней с угла березы вполне явственно и вместе с тем непонятно чернела фигура сидящего человека. Этот человек сидел на снегу, в полушубке, выставив ноги в серых валенцах к самому следу только что проехавших саней. Что же это такое? Возле человека накапливались красноармейцы. Некоторые, взглянув, отходили. Другие глядели, не отрываясь. И Карбышев тоже подошел. У березы сидел дядя Максим, наспех притороченный красным поясным кушаком за шею к стволу, синеватый, с чуть-чуть высунутым языком и с руками, удивительно похожими на две огромные прелые редьки. По всему было видно, что его сперва удавили, — может быть, этим же кушаком, — а потом привязали. Довезли же сюда, наверно, в санях, — живого или мертвого, не все ли равно? Но во всяком случае для того, чтобы получилось «на страх врагам». Работа была самая «чапанная»…
— Товарищ командир, — сказал Карбышеву, смущенно оглядываясь, какой-то молоденький красноармеец, — там, в просеке, ребята хотят несмышляевского старосту кончать…
— Кого? — переспросил Карбышев, странным образом не понимая, о чем говорит красноармеец, кто такой несмышляевский староста, и все еще продолжая думать о дяде Максиме, — кого?
— Старосту… Ночью взяли…
— Ага!
Красноармеец был прав: между сидящим у дерева Елочкиным и тем, что готовилось сейчас совершиться в просеке, — прямая связь. И Карбышев быстро зашагал в просеку.
* * *
Тринадцатого марта мятежники сдали советским войскам город Ставрополь, и это было концом восстания. Карбышев вернулся в Самару. Но дел у него не убавилось, — наоборот. Он заседал теперь еще в военно-полевом суде над мятежниками и раньше позднего вечера домой почти никогда не возвращался. Лидия Васильевна скучала, томилась беспокойством ожидания, тревожилась всегдашним неведением: когда придет? Чем меньше видела она мужа, тем дороже и радостнее было ей его видеть. А когда он появлялся вдруг раньше, чем предполагалось, и весело прятал усталость под шуткой, неутомимо-быстрый и живой, она говорила себе: «Вот и счастье нынче свалилось». Никогда не были ей так милы торопливая мысль Дики и острый блеск его глаз, как теперь. Готовясь стать матерью, она любила в нем не только своего мужа, но еще и отца своего будущего ребенка. И от этого любовь не удваивалась, не утраивалась, а умножалась бесконечно. Вся жизнь Лидии Васильевны становилась любовью к мужу.
В один из дней, когда она, по признакам и соображениям, лишь ей одной понятным и доступным, поджидала Дику раньше обыкновенного, дверь карбышевской квартиры растворилась и на пороге обозначилась длинноногая фигура с удалыми глазами на опереточно-нетрезвом лице.
— Лабунский!
— Прошу любить и жаловать!
Он целовал руку Лидии Васильевны, кашлял, сморкался в грязный и рваный носовой платок, снова целовал и кашлял. Несмотря на мороз, он был одет легковато: солдатская шинель с прожженной полой, летняя гимнастерка под шинелью и на шее жгут свалявшегося шарфа. Лидия Васильевна мигом все это заметила, и ей стало жаль Лабунского: «Да, уж не голоден ли он?» Она захлопотала. Но вопросы набегали один за другим.
— А где жена?
Лабунский сделал рукой жест безнадежности.
— Окончательно?
— Э-эх! Сто пудов сентиментальной глупости — вот что такое тоненькая, худенькая Надя!
Он ухватил себя пальцами за кадык, словно для того, чтобы поставить его на место, и старая цыганская песня разлилась по квартире в раскатах гремучего голоса:
Я спою вам, друзья, про любовь,
Всех страданий виновницу злую.
Каждый вспомнит свою дорогую,
И сильней забурлит ваша кровь…
— Эх!.. Все бы объяснил, да гитары-ры не хватает!
Очевидно, он ничего не хотел объяснять, и Лидия Васильевна поняла это. Она не перестала жалеть его, но к этому чувству прибавилось еще что-то, совсем иное, тяжелое. И поэтому, кроме обычной радости, она испытала еще и облегчение, когда в квартиру вбежал Дика…
Перед Карбышевым стояло прошлое. И повернуто оно было к нему именно той своей стороной, которая только что остро вклинилась в настоящее эсеровским бунтом самарских кулаков. Всякие бывают совпадения, — порой самые удивительные. Но нужно же было эсеру Лабунскому появиться в этих местах именно теперь, когда мятеж еще дышал, издыхая!
— Здравствуйте! — с оттенком недоумения в тоне, быстро сказал Карбышев, — вот уж, действительно, «благодарю, не ожидал»! Откровенно говоря, я был уверен, что вы — на той стороне.
— На той? — пролаял Лабунский. — С какой же это стати?
— Насчет стати — не стоит!
— Лабунский почуял отталкивание и сейчас же усилил нажим. Он оглянулся.
Лидии Васильевны в комнате не было.
— Я — человек зрячий и… с нюхом. А вы хотите, чтобы я в контрреволюционном ватерклозете барахтался…
— Нюх не позволяет?
Лабунский еще усилил нажим.
— Дело не в нюхе, а в том, что хочу послужить, поработать честно. И вы мне обязаны помочь.
— Чем?
— Берите с руками, с ногами, с головой. Запрягайте. Покрикивайте…
— Будто вам этого захотелось?
— А что же мне еще делать? Мое прямое место — в военно-полевом строительстве. Инспекторско-строительное отделение, — пожалуйста. Саперная часть, — прошу покорно. Так сяду на загорбок, что и не сбросишь. Вы меня знаете. Обоз — наплевать, хоть и обоз: сто двадцать лошадей с повозками — дело немалое. А инженерные батальоны при стрелковых дивизиях, саперные роты при складах?..
«Откуда он все это знает?» — вдруг пришло Карбышеву в голову. А Лабунский, уже обстоятельно поговоривший вчера с Азанчеевым и успевший набраться от него всяких сведений, бойко продолжал:
— Конечно, назначения в инженерные части идут через упроформы фронтовых и армейских штабов. Но…
— Знаете что, Аркадий Васильевич, — очень скоро и решительно скартавил Карбышев, — ешьте форшмак, пейте чай. О прочем — ни слова. Я не берльусь помогать вам в ваших делах…
Лабунский поперхнулся, глаза его выпучились. Он отодвинул тарелку с форшмаком и несколько мгновений сидел неподвижно, борясь с удушьем, всегда подступавшим к нему при сильных припадках злости. Он совладал со спазмой, — подавил ее. Но от этого лицо его покрылось буро-багровыми пятнами и сделалось похожим на маску святочного людоеда. Злость продолжала томить его. И, вспомнив о письме Батуева к Величке, он с трудом произнес:
— Умный человек может делать только очень большие глупости…
— О чем вы?
— О глупости, которую вы сейчас сделали и в которой непременно раскаетесь.
* * *
Колчаковский генерал Ханжин наносил удар Пятой красной армии в направлении на Самару. Атаман Дутов действовал в районе Оренбурга, Орска и Актюбинска, — ему противостояли Первая, Четвертая красные армии и Оренбургская дивизия. Район Уральска занимали белоказаки. Положение на южном крыле Восточного фронта грозило бедой. Тогда Оренбургскую дивизию развернули в армию (Туркестанская) и присоединяли к Четвертой. Образовалась группа из двух армий (Южная группа). Командовать ею назначен был Фрунзе. Потеряв Уфу, Пятая армия непрерывно отходила на запад, хотя и с боями, но без всякой надежды отстоять и задержать натиск. Самая неотложная и деятельная поддержка была необходима этой армии, и Фрунзе отлично понимал это. Но для оказания поддержки требовались резервы. А их не было. Выделить резервы можно было только, уменьшив растянутость войск Южной группы. Однако фронтовое командование и слышать ни о чем подобном не желало. Наоборот, оно приказывало отодвинуть левый фланг Туркестанской армии до Орска и сменить там ослабевшие части Первой армии. Кроме разногласий с фронтовым командованием, еще один вопрос чрезвычайно заботил Фрунзе: как сделать Волгу неприступной, обезопасить Самару и Саратов, встретить белых во всеоружии на позициях гигантской полевой крепости? План обороны и инженерной подготовки Самарского укрепленного района составлялся Карбышевым, и так как район этот входил в Южную группу, Фрунзе считал своей прямой обязанностью самолично вникать в карбышевские проекты и направлять их общий разворот. Помогал ему Куйбышев. Приветливый и простой, жизнерадостный и жадный до всего, что есть в жизни нового, он, как и прежде, мелькал по району, появляясь то здесь, то там, а то и сразу в нескольких местах, — так по крайней мере мерещилось иногда людям. Карбышев объяснял и показывал. Куйбышев всматривался, расспрашивал, вникал, взвешивал на чутких весах догадки и говорил: «Недурно это у вас получается». План строился так, что одно прикрывалось другим. Непосредственные подступы к городу — самарской позицией. Фланги самарской позиции — уступами томиловского и красноярского укреплений. Важный железнодорожный узел Кинель — передовой позицией. Волжская Лука упиралась в плацдармы у Батраков и Ставрополя. А плацдармы связывались усинской позицией. «Недурно», — говорил Куйбышев, и Фрунзе утверждал карбышевские проекты.
— Обратите внимание, земляк, — сказал как-то Карбышеву член Реввоенсовета, — вороны так и бродят у хлевов…
— Вижу. Но что это значит, не знаю.
— Как? К перемене погоды.
— Давно пора.
Карбышев уже начал привыкать к своеобразию некоторых ухваток своего младшего однокашника. И сейчас, взглянув в его веселое лицо и нарочно-хитрые глаза, понял: ухватка.
— А в чем иносказание? — спросил он.
Куйбышев расхохотался.
— Да, я о перемене военной погоды… Как бы и впрямь она на вашем «уре» не сломалась. Уж очень… здорово!
Штаб помещался в здании бывшей земской управы. Три ступеньки между двумя белыми колоннами вели в комнату дежурного адъютанта. Отсюда — дверь с надписью на стекле: «Председатель Самарской губернской земской управы», и за дверью — маленький кабинетик командующего Южной группой армий Восточного фронта.
Наступал час совещания у командующего. В комнате дежурного адъютанта собирались участники совещания — подходили Азанчеев, Карбышев и другие.
Стеклянная дверь кабинета сверкнула и выпустила двух человек, — один повыше, другой пониже, но оба худые, небритые и с такими истомленными лицами, будто, пролежав в земле по крайней мере сутки, только сегодня вылезли на свет. Однако они с увлечением толковали о чем-то. Это что-то возникло в разговоре с командующим и теперь уходило из его кабинета вместе с ними. Два человека были: новый начдив двадцать пятой Чапаев и комиссар его — Фурманов. Сегодня утром они приехали в Самару из станицы Сломихинской по экстренному вызову Фрунзе. Ехали четыреста верст через мороз, под огненным ветром, ехали четверо суток с горбухой черного хлеба в дорожном мешке, останавливаясь на станциях только для того, чтобы глотнуть горячего. Но горячее не было чаем: это была талая снеговая вода, перекипевшая в станционных самоварах, темная, пресная, с тяжелым земляным запахом. Теперь они собирались немедленно повертывать назад, в Сломихинскую. Зачем понадобились они здесь командующему? Чем грознее складывалось положение на фронте, тем упорнее искал и нащупывал Фрунзе возможность спасительных решений. Такие возможности были. Но не было… чего? Важнейших условий, без которых никакое решение не может стать делом. Некоторые замыслы Фрунзе не были для его помощников секретом; о других — даже шапка его не знала…
Фрунзе взглянул на часы. До совещания — минута-две. Но и это время не должно быть потеряно. Он перечитал и подписал уже заготовленное отношение в Самарский губисполком: «РВС Республики поручены 6-ому Полевому Строительству Вост. фронта срочные оборонительные работы, почему РВС фронта приказал оказывать Строительству самое энергичное и полное содействие. В исполнение означенного приказа РВС IV армии просит Самарский Губисполком:
1) срочно объявить в районе, который укажет Строительство, трудовую повинность;
2) предоставить всех рабочих и подводы указанного района в исключительное монопольное пользование Строительства;
3) освободить в означенном районе рабочих от мобилизации и всеобщего обучения;
4) предписать Губпродкому, Совнархозу и другим учреждениям выдавать Строительству мануфактуру, табак, чай, сахар, керосин, спички и др. предметы, в которых нуждается население, для расплаты натурой».
— Правильно? — спросил он Куйбышева, передавая бумагу.
Член Реввоенсовета тряхнул густыми волосами.
— Карбышеву будет полегче. Значит, решил его задержать?
— Решил.
Фрунзе позвонил, дверь распахнулась, и кабинетик наполнился людьми…
Азанчееву никак не удавалось вырваться из плена воспоминаний. Они вцеплялись в него, как в жертву, беспрерывно понуждая сравнивать настоящее с прошлым. «Comparaison n'est pas raison»[30], — рассудительно повторял он, но ничего не мог с собой поделать. Так и сейчас, сидя в маленьком кабинете Фрунзе, с его серенькой обстановкой (земская управа!), на облезлом штофном креслице, он с тоской вспоминал офицерское собрание Преображенского полка. Широкая арка отделяла гостиную от столовой. В гостиной — мебель ампир, огромные батальные картины и портреты командиров полка. Посредине стены — большой темный холст: Петр Великий в старинной полковой форме. У простенков — диваны. Повсюду — пышные золоченые кресла и гигантская люстра под неоглядным потолком…
А Фрунзе говорил о том, что на правом крыле фронта войска Южной группы прочно удерживают большой плацдарм, что для непосредственной обороны Волги устраиваются системы укреплений, главным образом кольцевых, у Казани, Симбирска, Самары и Саратова и что хотя наступление Ханжина опять активизировалось, но задержать его необходимо.
— Сегодня мы должны обсудить идею контрнаступления с реальной стороны…
Азанчеев слушал то, что говорил Фрунзе, как бы из офицерского собрания Преображенского полка. Да, это так; будущего может не быть; настоящее должно перемениться; одно прошедшее — твердо, ибо его бережет воспоминание. Между тем выступил начвосо[31] Южной группы, за ним — чусоснабарм[32] Четвертой и еще другие начальники второстепенных управлений. Все хвалили мысль о контрнаступлении, и сами чем-то похвалялись, но ни один не сказал ничего, практически помогавшего делу. Азанчееву было так тяжко, и вид у него был такой подавленный, что это обращало внимание. Да он и сам понимал, что дальнейшее молчание его невозможно. Он сделал над собой жестокое усилие и как будто выскочил из пышной и величественной гостиной старого Преображенского полка.
— Товарищи! Мне очень трудно начать… Когда хочешь сказать правду, а она противоречит убеждению, — это очень трудно. Я прошу одного: спокойно и объективно взвесить факты. Да, Ханжин опять наступает. Да, Пятая армия разбита наголову. Почему — «наголову?». Потому, что она бежит, увлекая за собой Первую и Туркестанскую армии. Потому, что она бежит на Бугульму и Белебей, имея в виду Самару и Симбирск. Потому, что полки ее при первом натиске противника откатываются, сразу очищая огромные пространства. В штарме Пятой — полная растерянность и падение духа. Кругом — враждебная страна…
— Что вы этим хотите сказать? — спросил Фрунзе.
— Мужики… то есть крестьяне, ничего не забыли и ничему не научились. Восстание подавлено, но…
Куйбышев так круто повертывался туда и сюда своим железным телом, что кресло под ним трещало на всех гвоздях. Наконец, он не выдержал.
— Дичь! Вы говорите, Азанчеев, о крестьянах вообще, когда надо говорить о кулаках. Крестьяне вообще не бунтовали. Заметьте это. Зарубите. Не бунтовали! «Ничего не забыли, ничему не научились». Это не о крестьянах сказано, товарищ Азанчеев, — не о них! Думать по-вашему — восстанавливать армию и крестьянство друг против друга, предсказывать наше поражение в гражданской войне, пророчить гибель Советской власти…
— Я ничего подобного не говорил, — сказал Азанчеев, отдуваясь.
— Будто? Фронт крепок лишь тогда, когда надежен его тыл. Армия непобедима, пока ее поддерживает народ. Не дадим обижать крестьянство, нет, не дадим! Надо, чтобы оно чувствовало свою живую связь с Красной Армией, а вы… Об этом надо думать, а не о…
Если бы Куйбышев возражал не Азанчееву, его горячность, может быть, и показалась бы Карбышеву неосновательной, чрезмерной. Но он знал Азанчеева и допускал, что умный Куйбышев тоже разгадал главное в этом человеке: «Мысль изреченная есть ложь»[33]. Азанчеев был кругом неправ и тактически — тоже. Нет ничего проще и безответственнее, как сказать, умывая руки, что дело проиграно. Но ведь требуется совсем другое. Надо говорить о том, что необходимо для выигрыша дела. И Карбышев знал кое-что из того, что можно было бы сегодня об этом сказать. Он попросил слова.
— Когда Пятая отходила из-под Уфы, мост через Белую не был взорван. Как вам кажется, Леонид Владимирович, — подобные факты имеют значение с точки зрения организации контрнаступления?
— Я не знаю, чего вы от меня хотите, — огрызнулся Азанчеев.
Карбышев посмотрел на него своим пронзительным, немигающим взглядом. «Нет, брат, не корчись, а прямо говори».
— Как вы думаете, почему мост не был взорван?
— Наверно, впопыхах забыли.
— Может быть, это правда. Но, может быть, и не вся правда, а только часть ее.
— Это почему же?
— А вот почему. Маневр на гражданской войне имеет размах огромный. Отход продолжается неделями, месяцами. Средний суточный переход — десять, пятнадцать верст. Спрашивается: чем при этих условиях можно задержать натиск наступающего противника?
— Ничем.
— Ошибаетесь, можно. Есть средства. Одно из них — полное разрушение путей сообщения. Не делая этого, мы совершаем преступление. И наоборот. Начни мы наступать, успех маневра будет прямо зависеть от того, как быстро сумеем мы восстановить разрушенные переправы и построить новые. Я говорю, что можно и при теперешнем тяжком положении действовать активно. Говорю, чтобы возразить вам в основном: положение ничуть не безнадежное, и практическая возможность контрнаступления в наших руках.
Совещание кончилось. В кабинете, кроме командующего и Куйбышева, оставался один Карбышев. Фрунзе стоял перед ним в своей обычной позе непрерывно думающего человека, с руками в карманах.
— Итак, начало положено, — говорил он, — первая бригада двадцать пятой стрелковой дивизии овладела Лбищенском. Теперь туда едет Чапаев. Но Лбищенск — только самое начало. Кризис еще не созрел. Вы находите, что сегодняшнее совещание ничего не дало? Очень много… Очень… Надо все знать. И в этакое-то время вы вдруг назначаетесь главным руководителем военно-строительных работ Восточного фронта. Нет, нам без вас не обойтись. Вот и Валерьян Владимирович согласен.
— Как прикажете, товарищ командующий! — сказал Карбышев.
— Дело не в том, как я прикажу, а в том, что бросить Самару и уехать в Симбирск, когда здесь, именно здесь, а вовсе не в Симбирске, все решается, — нельзя. И вам самому должно быть ясно, что — нельзя. Группа наша берет на себя переход в контрнаступление. А условия? Если хотите знать, вы — одно из этих условий…
— Благодарю, товарищ командующий!
Давно, очень давно не приходилось Карбышеву слышать о себе таких значительных и высоких слов.
— Благодарю!
— Тогда — по рукам! Я так и поставил вопрос, когда сегодня говорил по прямому со штафронта. Мое условие: Карбышев остается в Южной группе до разгрома колчаковщины.
* * *
От молодых военных инженеров с Волги пришло в Москву письмо. Оно было адресовано в Главное военно-инженерное управление на имя Велички. Привезла и доставила его в ГВИУ молодая красивая женщина, брюнетка с лицом разгневанной греческой богини. Письмо передали Величке, но женщина осталась в приемной ждать, когда ее позовут. Величко был в те дни чрезвычайно занят. С одной стороны, он заканчивал книгу: «Военно-инженерное дело. Укрепление позиций и инженерная подготовка их атаки». С другой, — на нем лежало множество забот по главному руководству военно-строительными работами в Московском районе. Однако он, не откладывая, прочитал письмо. Это была коллективная жалоба на Карбышева, на его высокомерие, заносчивость, грубость и упрямство. Письмо было подписано двумя инженерами изыскательских партий и тремя строителями. Первая подпись была отчетливо выведена: «Авк. Батуев». Величко задумался. Ему всегда казалось, что он очень хорошо понимает Карбышева, знает, что он такое. Прежде всего военно-рабочий человек, который никогда никуда не опаздывает, ибо привык видеть в форме способ выполнения служебного долга. Затем — принципиальный человек, способный, когда надо, практически поставить вопрос, решительно сбросить прочь со счета все свои и чужие выгоды. Но вот умеет ли он играть поводами: то ослабить, то подтянуть их, с тем, чтобы властная рука чувствовалась постоянно, но не казалась ни грубой, ни жесткой? Жалуются на высокомерие, на заносчивость, на упрямство… Особенно — при укреплении плацдармов на флангах Самарской Луки…
Странно, очень странно! Величко поводил кругом мутноватыми глазами, и в глазах его была грусть, слезливая старческая грусть. Ему не хотелось разочаровываться в Карбышеве. Однако он взял красный карандаш и написал на жалобе: «Попросить тов. Карбышева укротиться, ибо нельзя распугивать людей. Величко». Дверь кабинета тихонько приоткрылась, и женщина с греческим лицом, доставившая письмо, осторожно просунула в щель свою изящную головку.
— Мне можно войти к вам, товарищ начальник?
Величко вскочил с такой легкостью, словно в нем вдруг развернулась какая-то очень тугая пружина. Привычке хорохориться при виде красивых женщин предстояло проводить его до могилы. Так старая лошадь-водовозка, ходившая когда-то под седлом в кавалерии, попав на парадное поле, где строятся и заходят эскадроны, слышит давно знакомые сигналы и скачет, вздыбив шею, чтобы пристроиться к шеренге первого взвода. Величко сбросил с носа пенсне, шаркнул, раскланялся и подставил кресло.
— Конечно, сударыня, конечно… Прошу вас, садитесь и рассказывайте. Вероятно, вы супруга одного из тех молодых людей, которые… Ох, уж эти молодые люди!
— Нет, — сказала женщина, — я жена Лабунского. Меня зовут Софья Борисовна. Я — артистка оперетты.
— Вот как, — озабоченно поднял Величко брови и слегка выпятил грудь, — вот как! Артистка… Оперетты… Это в высшей степени интересно. Может быть, вы даже и не знаете…
— Нет, я знаю. Мужчины всегда считают, что это очень интересно…
— Хм! А ваш муж? Он тоже — артист?..
— Нет, он не артист. Артисты — порядочные люди. А он…
Софья Борисовна вынула несвежий платочек и приложила к великолепным черным глазам.
— Что же он делает, ваш муж, сударыня?
— Он очень пьет… Он — бывший саперный офицер, его фамилия — Лабунский…
— Лабунский… Лабунский…
— Да. Очень пьет и до сих пор без службы… Вообще…
— Почему же вы от него не сбежите?
— А куда я побегу? Вот я приехала в Москву…
— Зачем?
— Я хочу устроиться в Московский театр. Помогите мне!
— О-о-о!
— Да, помогите! Я вас очень прошу! Мой муж отпустил меня с тем, чтобы я хорошенько ругала вам этого Кар… Карб… Но я не…
— Позвольте! А какое же дело вашему мужу до Карбышева?
— Понять не могу. Но он его не любит. Он никого не любит.
— А вас?
— Не шутите, я говорю серьезно. Помогите мне лучше устроиться в Московскую оперетту.
— А за что он не любит Карбышева?
— Он просил у него службы. А Карбышев отказал. Мой муж очень злопамятный. И, главное, он пьет…
— Я тоже пью…
— Боже мой! Я выпью вместе с вами. Только помогите мне устроиться…
Софья Борисовна была очень хороша в эту минуту. Ее нежные матовые щеки разрумянились. Полные розовые губы дрожали. А огненные глаза так смотрели на Величку, что у него мороз пробежал по спине. Но он не хотел пачкаться в этой истории. Он подошел к окну и взглянул на мокрую улицу, покрытую комьями снега и грязи, на сырые стены домов и обвисшее, как тряпка, сырое небо.
— Экая распутная… погода!
Затем вернулся к столу, взял красный карандаш и, зачеркнув свою первую резолюцию на жалобе волжских инженеров вместе с их подписями, написал вторую: «Отправить Карбышеву на усмотрение. Величко». После этого он обратился к посетительнице:
— Я решительно ничего не могу для вас сделать, сударыня. А муж ваш, как видно, чепухист, а может быть, и в самом деле негодный человек. До свиданья!
Глава семнадцатая
Накануне того дня, когда Фрунзе созвал совещание старших работников своего штаба, — то самое совещание, на котором крепко поспорили Азанчеев и Карбышев, — вопрос об объединении всех четырех армии Восточного фронта, действовавших южнее Камы (Пятая, Первая, Туркестанская и Четвертая), уже решился. По прямому указанию ЦК партии, эти четыре армии, вместе с укрепленными районами от Ставрополя до Сызрани, должны были объединиться в Южной группе большого состава под командованием Фрунзе. Открывая совещание, Фрунзе знал о решении, так как ночью разговаривал со штабом фронта. Он хотел разобраться во взглядах своих помощников на дальнейшее и сопоставить с их взглядами собственную точку зрения.
Армия колчаковского генерала Ханжина наступала на Бугуруслан и Самару. Ханжин вел наступление растянутым фронтом, безостановочно. На достигнутых рубежах не закреплялся и не затыкал резервами прорех. Такой способ действий белого генерала подсказывал мысль о возможности контрманевра. Для успеха надо было, во-первых, отказаться от наступательных действий в Уральской и Оренбургской областях, перейдя там и здесь к обороне; во-вторых, сократить фронт Южной группы; в-третьих, выделить крепкий резерв. Двадцать пятая дивизия Чапаева казалась наиболее подходящей для этой последней цели. Оперативная суть контрманевра была Фрунзе ясна: сосредоточить кулак под Бугурусланом, нанести отсюда решительный удар в общем направлении на север по левому флангу и тылу главной группировки белых (Ханжин) и этим сорвать их наступление. Идея контрманевра зрела. Командарм Первой поведет ударные войска из-под Бузулука в наступление. Сдерживать белых с фронта будет Пятая. Под Бузулуком соберется шесть дивизий и одна кавалерийская бригада. Но для этого от войск Южной группы потребуется множество очень смелых и сложных перегруппировок. Всем армиям, кроме Пятой, предстоит двинуть к Бузулуку отдельные дивизии и бригады, частью по железной дороге, частью походом. Идея зрела. Фрунзе проводил у юза часы. Лента бежала из аппарата. Телеграфист читал и потом отстукивал ответ:
— Задержите нажим на Пятую… Стремитесь разбить противника, который зарвался… Нужны активность и твердость… Распутица мешает нам, но она же мешает и противнику… Отход недопустим… Ожидаю исполнения долга и присяги…
Однако в штабе фронта никто не верил в удачу замысла Фрунзе. Мало того, что не верили. Фронтовое командование уже намеревалось перебрасывать оборону на Волгу, и штаб готовился к переезду из Симбирска в Муром. Да и у себя, в Южной группе, Фрунзе имел только одного единомышленника — Куйбышева. На совещании определился другой — Карбышев. Очень, очень немного…
* * *
Ежедневно, в десять часов утра, Фрунзе принимал доклад Азанчеева. Леониду Владимировичу нравилось придавать этим утренним докладам характер особой торжественности. Пятеро порученцев на цыпочках входили следом за ним в кабинет командующего с папками, блокнотами, свежеотточенными карандашами в руках и выстраивались у стены.
Фрунзе отнюдь не был наивен, но почему-то странным образом ошибался, полагая, что все люди умны и талантливы, что все они — как он. «Если мне по плечу, — искренне думал он, — то и всякий другой может то же сделать». И хотя разочарования нередко постигали Фрунзе, он все-таки никак не мог понять, почему X не может сделать того-то, а Y — того-то. Он был неизмеримо умнее и талантливее X и Y, но заметить разницу между ними и собой не умел. А может быть, просто не хотел в ней признаться самому себе. В крупной штабной роли Азанчеев довольно быстро разочаровал Фрунзе. Теперь же выяснялось, что даже как живой справочник, он все чаще и чаще бывал бесполезен. Фрунзе задавал вопросы:
— Доложите, где сейчас Иргизская кавбригада?
Азанчеев повертывался к Порученцу.
— Иван Петрович, доложите командующему!
— Когда выступила Оренбургская дивизия к Бузулуку?
— Василий Григорьевич, прошу доложить!
— Противник продолжает группироваться южнее Белебея?
— Николай Павлович!
Порученцы докладывали, Фрунзе смотрел в потолок. Это значило, что он крайне недоволен. И вот он уже перестает спрашивать и начинает отдавать распоряжения. Порученцы принимаются записывать, а Леонид Владимирович — возражать.
— Как прикажете, Михаил Васильевич, — говорил он, отдуваясь, — ваше приказание — закон. Но Оренбург и Уральск мы потеряем. Вы не желаете обождать, пока подойдут новые соединения. А сбивать мощные ударные кулаки из собственных сил Южной группы, это, извините, то же, что тришкин кафтан латать. Впрочем, как… Но Оренбург и Уральск потеряем…
Фрунзе отвечал со скукой в голосе:
— Да, можем потерять. Но замедлить удар нельзя. Как вы не понимаете, что его надо нанести быстро, сразу, теперь же. Оренбург… Уральск… Жаль, если потеряем. Но грош цена командующему, который боится риска частных неудач на второстепенных направлениях. Жертвовать второстепенным для главного я уже научился…
Он оглянулся на порученцев.
— Кстати, Леонид Владимирович… Я вам давно хочу сказать. Кончим эти архиерейские выходы!
Азанчеев вздрогнул. Глаза его сыграли в невидимку. Кривая улыбка скользнула по губам.
— Очень остроумно! Архиерейские… Да, конечно… Впрочем, как прикажете, Михаил Васильевич!
Он встал, сделал знак порученцам и вышел, всячески стараясь, чтобы спина его выглядела как можно равнодушнее.
* * *
Ветер изредка проносил над землей теплые волны весеннего тумана, и солнце проливало на мир еще холодную, но уже многообещавшую ласку. Апрель был на середине, когда Пятая армия, отступив от Бугуруслана, как бы пригласила белых идти на Бузулук. Между тем сосредоточение частей ударной группы под Бузулуком было еще очень далеко от конца. Белые очень легко могли бы занять бузулукский район раньше, чем соберется ударная группа: кроме Чапаевской двадцать пятой дивизии, там не было покамест ничего. Кризис на Восточном фронте, подходил к тому высокому градусу, когда угроза катастрофы становится до ощутимости реальной. Между внутренними флангами Пятой и Второй армий обозначился разрыв (по прямой) в сто пятьдесят километров. Все пространство к северу от Бугульмы до Камы превратилось в совершенно доступный для свободного движения белых коридор. Теперь Ханжину почти ничего не стоило захватить волжские переправы и выйти на сообщение армий Южной группы. И хотя между передовыми частями Ханжина и Самарой еще лежало расстояние в сто километров, но, в сущности, Восточный фронт был прорван, и Азанчеев оказывался частично прав…
Фрунзе выехал под Бузулук. Он хотел сам, своей настойчивостью, своей находчивостью собрать кулак из рассыпающихся войск, сам организовать, подготовить спасительный удар. Все новые и новые мысли, одна нужней другой, приходили ему в голову. Едва прибыв в Бузулук, он тотчас вызвал туда из Самары Карбышева. Фрунзе был на вокзале и отдавал какие-то распоряжения высокому, худому и смуглому командиру Иваново-вознесенского полка. Карбышев вбежал в кабинет начальника станции и остановился у порога. Фрунзе вынул руки из карманов и протянул их обе вперед.
— Извините, что сорвал с места. Но дело того стоит.
Карбышев предполагал увидеть его взволнованным, раздраженным, зорко подозрительным. Но все это было не так. На самом решающем месте, в самую критическую минуту командующий оставался знакомо прост, приветлив и доверчив, такой же, как всегда. И вместе с тем что-то неожиданно значительное, никогда не бывавшее заметным раньше, прибавилось к привычным чертам и странно изменило их. Что это было? Карбышев не мог понять. Фрунзе говорил:
— В Самарском укрепленном районе формируется подвижная группа из броневых частей. Приказываю вам обеспечить быстрое выдвижение этих частей в Бузулукский район. Для этого немедленно восстановите и усильте мосты на дорогах к северо-востоку.
— Слушаю, товарищ командующий!
Из вокзала на перрон Карбышев вышел вместе с командиром Иваново-вознесенского полка. Командир молчал, размышляя о чем-то, повидимому, очень важном. Но на перроне вдруг остановился и сказал медленно и тихо, слегка глуховатым голосом:
— Никогда Михаила Васильевича не видел таким…
— Каким?
— Как сейчас, в новой роли. То есть, я хочу сказать, — в центре этаких огромных планов и расчетов. Ведь вот давно и хорошо знаю. А тут вдруг передо мной не просто командующий, а… полководец! И когда только успел в нем этот полководец родиться?
* * *
В Самару к Фрунзе приехала жена, и он перебрался из штаба в небольшой угловой домик над Волгой. Софья Алексеевна была типичная «бестужевка»[34] предреволюционных времен — живая, быстрая, решительная, с таким запасом молодой, веселой энергии, которому, кажется, нет и быть не должно конца. Можно было не обратить внимания на тонкие черты ее лица или на яркий румянец щек, но владевший ею дух деятельности поражал с первой встречи. В домике над Волгой задвигались столы, стулья, кровати и диваны — все это с волшебной быстротой перемещается из комнаты в комнату и — странное дело! — в комнатах от этого сразу делается уютней и теплей. «Миша, я тебя переселила… Здесь — кабинет, тут — спальня…» Фрунзе идет за женой, чуть слышно посвистывая в глубокой задумчивости. Действительно ли он не замечает улучшений или только делает вид, будто не замечает, чтобы подшутить над страстью к ним жены?
— Однако… — наконец, говорит он, оглядываясь.
Это — продолжение мыслей, которыми занята его голова, и вместе с тем начало фразы, которая просится на язык.
— Однако и в самом деле хорошо…
…Фрунзе любил принять перед сном ванну. Маленький адъютант осторожно подошел к двери ванной комнаты и постучал. Этот живой и деятельный адъютант обладал таким на редкость спокойно-ровным голосом, что даже с эксцентрической хозяйкой домика над Волгой ладил, как никто другой. Фрунзе считал его совершенно своим, самым близким и самым верным.
— Михаил Васильевич!
— Что?
— Звонит Азанчеев. Требует вас к телефону.
— Но я… сижу здесь, моюсь.
— Сказал, конечно.
— А он?
— Говорит: зовите!
— Да в чем дело?
— Какой-то полк откатился.
Было ясно, что Азанчеев делал попытку подправить свое положение, заметно для всех пошатнувшееся с отменой «архиерейских выходов». Ночная вспышка активности должна была помочь беде.
— Знаете что, Сергей Аркадьевич? — усмехнулся Фрунзе. — Пошлите-ка его к черту!
— Слушаю.
Через минуту адъютант говорил Азанчееву в трубку.
— Леонид Владимирович! Командующий просит вас не беспокоиться. Он так и предполагал, что именно этот полк… Да, да… Именно этот. До свиданья, Леонид Владимирович!..
Утренние доклады Азанчеева кончились бесповоротно. Фрунзе приезжал к десяти часам утра в штаб, но шел не к себе в кабинет, а прямо в оперативное управление, к карте. Здесь он останавливался, заложив руки в карманы, и азанчеевский порученец читал ему сводку за ночь. Что ни сутки, то становилось все очевиднее: полуторамесячное наступление истомило белых. Разлившиеся реки мешали им двигаться. Обозы завязли в грязи. Артиллерия и парки болтались где-то далеко позади. Операция развертывалась «не по правилам», — без аккуратности, без согласованности, с постоянным нарушением всех традиций старогенеральского методизма. Но ведь такой-то именно хаос и нужен был Фрунзе для успеха его замыслов!
Вечером восемнадцатого апреля Чапаев попросил Фрунзе к прямому и доложил: разведчики только что захватили трех белых вестовых, которые развозили приказы по дивизиям; минуту назад Чапаев прочитал приказы; из них явствовало, что армия генерала Ханжина растянулась на фронте в двести семьдесят километров; правый фланг ее — севернее Волго-Бугульминской железной дороги, а левый — на тракте Стерлитамак — Оренбург… Фрунзе бросился к карте. Так и есть… На протяжении ста шестидесяти километров от Ратчины до Бугуруслана болтается один лишь шестой уральский корпус белых. Следовательно, между его дивизиями неминуемо должны быть разрывы в сорок-пятьдесят километров. Да и третий их корпус тоже… Словом, правильно действуя, можно не только разгромить шестой по частям, но прихватить и третий, подведя его тылы под удар…
Фрунзе сказал адъютанту:
— Однако купите мне табаку!
Как люди, не имеющие органического пристрастия к никотину, он закуривал одну папиросу за другой и бросал, не докурив. Однако ощущения первых затяжек помогали ему думать. Вглядываясь в карту, он сопоставлял, связывал, объединял незримые усилия воли человеческих масс. Не позволяя остывать их напряжению, он все жарче и жарче ковал свою главную мысль. Из смутного обилия деталей, — такой-то полк получил пулеметы, такой-то раздет, этот не прочь партизанить, а у того отличный командир, — складывалось целое — разнообразное и живое, пестрое, но единое. Полководческая идея утверждалась на частностях, как единство, и превращала собою частности в слаженную мощь. Фрунзе не пил, не ел, почти не разговаривал. Через сутки он перестал курить: забыл про папиросы и табак. Надолго? Может быть, на год или на два. Лицо его было бледно, темные круги отчетливо обозначились возле глаз, и по губам пробегала неприметная гримаса боли. Адъютант поставил на стол стакан с белым содовым раствором.
— Спасибо!
К Фрунзе подкрадывался припадок. Он ежился в кресле и жадно пил из стакана, все ускоряя и ускоряя глотки.
— Только в соду и «верю»…
— А не вызвать доктора Османьянца?
— Что вы, в самом деле!
Итак, против Пятой армии в районе Бугуруслана наступает третий уральский корпус противника, имея четыре пехотных полка к северу от реки Кинель, а к югу — дивизию горных стрелков, гусар и казачью бригаду. На усиление Пятой армии пойдут две бригады. И тогда Пятая должна будет не только остановить напор противника, но и отбросить его за Бугуруслан. Ударную бузулукскую группу Фрунзе пошлет в решительное наступление на Заглядино — Бугуруслан. Естественно, что оттесненный от Бугуруслана к северу противник с неизбежностью окажется отрезанным от сообщений с Белебеем. При таких обстоятельствах Первая армия сейчас же прекратит отход, атакует и скует шестой корпус противника. Да, это уже не идея, а настоящий конкретный план! Но пятна вокруг глаз все темнее, и губы кривятся от боли.
— Разрешите вызвать Османьянца?
— Однако… Вызовите-ка к прямому командарма Пятой…
Фрунзе говорил командарму Пятой:
— Приказываю готовиться к удару в разрыв между третьим и шестым корпусами противника… Он перебрасывает сюда со стерлитамакского направления части пятого корпуса, но еще не заполнил разрыва… Надо ударить по седьмой дивизии белых… Одновременно бузулукская группа двинется в разрыв между их седьмой дивизией и шестым корпусом… Выход — в тыл Бугуруслану…
Фрунзе сел на стул и закрыл лицо руками. Адъютант кинулся к телефону:
— Османьянца! Доктора Османьянца!
* * *
Белоказаки заняли хутор Астраханкин, что в девяти километрах от станции Шипово. Затем перерезали железную дорогу между станцией Деркуль и Уральском. Связь осажденного города с Саратовом порвалась.
Оборона Уральска делалась одной из крайних точек излома, по которому двигался к своему разрешению кризис на Восточном фронте. В деятельности Карбышева она тоже стала главной темой бесчисленных распоряжений, инструкций, расчетов и чертежей. Вернувшийся вечером с поля в контору строительства, Карбышев до поздней ночи работал «по Уральску». Затем — короткий сон; с семи утра — опять в поле. Иногда в глухой ночной час заезжал на строительство Куйбышев.
— Вот вы, — говорил он, — начинж… А что такое начинж? В его руках сосредоточена вся инженерная подготовка театра военных действий… Вот что такое вы, — да! И я хочу вас спросить, Карбышев, начистоту: отстоим мы Уральск?
— Непременно.
— Почему?
— Потому что белым не прошибить позиций, которыми окружен город.
У Куйбышева был сосредоточенно-серьезный вид. Он обдумывал слова Карбышева.
— Позвольте! Экая уверенность… Откуда? Странно. Уж не взбалтываете ли вы просто-напросто валерьяновые капельки для слабонервного Валерьяна? Напрасно, Карбышев…
— Я не аптекарь, Валерьян Владимирович. Я фортификатор.
— И что же?
— А в фортификации четыре сплошь и рядом больше пяти.
— Фокус?
— Никакого.
— Не понимаю…
— Видите ли… Укрепленный район в гражданской войне — отнюдь не простая тыловая позиция. У тыловой позиции нет и не может быть самостоятельного политического значения…
Куйбышев сидел молча, устремив взгляд в одну точку. Глаза его от сосредоточенности стали огромными, и лицо вытянулось.
— А укрепленный район в гражданской войне имеет такое значение. Он — крепость Советской власти. Стало быть, вы думаете, что если белые не прошибут уральских укреплений, то именно по этой причине? Аргумент довольно спорный. И Азанчеев нынче утром толковал мне то же самое, что вы сейчас. Но вывод отсюда он делает совершенно другой…
— Какой же?
— Он принимает в расчет реальную обстановку. А она из рук вон как плоха. Двадцать вторая дивизия в Уральске разложена партизанщиной. Белоказаки появились севернее города. Мало того, — они почти охватили Оренбург. Командарм Первой собирается за свой страх и риск отходить. Уже начал, мерзавец, эвакуировать штарм в Сызрань. Вот какая обстановка. А вы…
— Что же предлагает Азанчеев?
— Отвести войска Четвертой армии на Саратов, а Уральск… сжечь!
— Сжечь? — тихо повторил ошеломленный Карбышев, как бы не понимая этого слова, — сжечь? Как — сжечь?
Вдруг он понял.
— Четвертую армию — в Саратов… Уральск — сдать… Да ведь это — открытый путь белоказакам на Белебей!
— И я говорю! — крикнул Куйбышев. — Михаил Васильевич прогнал Азанчеева. Но не в Азанчееве дело. Оно в том, что сейчас теоретические рассуждения на тему о политическом значении уров в гражданской войне при нечестном использовании их вредны, а при честном — бесплодны. И поверить вам на слово, что ежели Уральский ур — опорная база Советской власти в районе, то тут никакая сила его не прошибет, я никак не могу! Это, мой дорогой, идейная, но не материальная основа для суждений…
— Есть и материальная.
— Интересно…
— Отдавая себе ясный отчет в политическом значении Уральского укрепрайона, мы сделали все для того, чтобы военно-инженерная подготовка полностью отвечала его политическому значению.
— Это вы о кольце уральских укреплений?
— О нем.
Куйбышев положил руки на залитый тушью, некрашеный, грязный стол, а голову — на руки. Его могучая фигура казалась в эту минуту олицетворением тоскующей мысли.
— Кольцо… кольцо…
Карбышев заговорил твердо, спокойно и уверенно:
— В равных условиях борьбы уры по-разному служат целям активной обороны. Что касается уральской кольцевой обороны, она…
Куйбышев поднял голову. По мере того, как он слушал Карбышева, ему становилось все ясней, почему так трудно взломать уральскую кольцевую оборону. Лицо его веселело; радость все ярче светилась на нем. Карбышев говорил, и Валерьян Владимирович сиял, слушая.
— А вы знаете, — сказал он, наконец, — может быть, вы и правы. Мне сейчас в голову пришло: если общевойсковой начальник хочет иметь возле себя незаменимого помощника при решении боевых задач, ему обязательно надо привлекать к разработке оперативных планов своего начинжа.
— Еще бы! — горячо согласился Карбышев. — Всегда…
— Всегда, всегда, — засмеялся член Реввоенсовета Южной группы, — всегда, кроме тех случаев, когда этого делать не надо. Например… Словом, Азанчеевых и среди начинжей немало.
* * *
Фрунзе видел, как все вокруг него измучено, истрепано, повержено бессилием неодолимой усталости наземь. Из уст в уста бежало: надо отходить за Волгу «на отдых!» К эвакуации готовились, что называется, «втихую». Азанчеев не спрашивал приказаний Фрунзе, он сам приказывал шепотком. Так же поступали командарм Первой под Оренбургом, начальник двадцатой «железной» дивизии и многие другие командиры. Неуловимые ветры опережали белых на подступах к Самаре, врывались в город, несли уныние одним, а тайную радость другим. Фрунзе вызвал Азанчеева. На столе белел стакан с содовым раствором. Лицо командующего было бледно, коричневые оттенки густели вокруг глаз. Он ударил кулаком по столу.
— Вы с ума сошли, Леонид Владимирович! Что за эвакуацию вы затеяли?!
Маленький быстрый адъютант записывал приказания: немедленно пустить в городе трамвай, открыть театр…
— Что можно поставить? «Русалку»? Отлично!
Адъютант записал: «Русалка»…
— Теперь вы поняли, Леонид Владимирович?
— Да…
— Все?
— Надеюсь…
— Главное: об эвакуации больше ни полслова. Наоборот!..
Корпус белого генерала Бакича переправился на лодках и паромах через разлившуюся речку Салмыш и вышел в тыл Туркестанской армии. Но через пять суток этого корпуса не существовало: он был разгромлен двадцатой стрелковой дивизией. Одновременно двадцать четвертая рубила белых на реке Деме. Это были первые признаки благоприятного перелома на фронте Южной группы. Наступление белых достигало той критической точки, на которой должно было захлебнуться. Войска генералов Ханжина и Белова, атамана Дутова были частью разбиты, частью приостановлены. Резервов у этих генералов не было. Распутица лишала их свободы при перегруппировках. По всему белому фронту — от Чистополя до Оренбурга — барахтались изолированные друг от друга корпуса и дивизии. Кризис созрел, подходили дни и часы, которых Фрунзе не мог пропустить… Контрнаступление — очень трудная операция. Для нее нужны умеющие быстро ориентироваться, разбираться в обстановке и распоряжаться начальники. Нужны стойкие, испытанные, втянутые в опасность войска. Нужна способность к маневру, к точному исполнению приказов. Хороши при контрнаступлении отчаянность и решительность. Войска не должны бояться обходов… Были ли у Фрунзе такие войска? Сколько их было? Двадцать третьего апреля он выехал к ним. А в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое подписал окончательный приказ о контрнаступлении. Номер этого приказа: 0119.
Глава восемнадцатая
Удар бузулукского кулака в шестидесятикилометровый разрыв между головным корпусом Ханжина и шедшим слева от него шестым уральским сразу нарушил взаимодействие и связь наступавших белых частей и вырвал из их рук инициативу. Словно заранее зная, как предстоит развернуться операциям, Фрунзе быстрыми и ловкими маневрами менял, к выгоде для себя, обстановку и не давал противнику ни минуты, чтобы передохнуть и опомниться. Поражение флангов и тыла быстро превращалось в общий разгром бугурусланской группы белых.
* * *
От тополя шел дух, береза распустилась. Пел соловей, ворковали горлинки. Голос иволги звучал нежными переливами. Май цвел наперекор войне. Но Азанчеев не видел и не слышал мая. По мере того, как определялся исход операции, он испытывал все большее и большее беспокойство. Он ровно ничего не сделал для успеха этой операции. Она еще только замышлялась, а он уже каркал и умывал руки. Когда Фрунзе повел разработку плана без его участия, он прикинулся обиженным и в качестве обиженного долгое время молчал и сторонился. Потом не выдержал, ввязался, потребовал сожжения Уральска и сел в крапиву. В конце концов все это грозило ему полным выключением из делового оборота. Никогда раньше Азанчеев не совершал таких трупных ошибок. Что же с ним произошло?
Да, конечно, он не мог принимать за настоящую армию толпу ничему не обученных, полураздетых людей. Не мог верить в полководческий гений человека, не нюхавшего не только академии, но и военного училища. С другой стороны, он лично знал генерала Ханжина и никак не мог сомневаться в его мужестве и командирских талантах. И все это вдруг так странно сместилось, перевернулось, заслонилось одно другим, что теперь Азанчеев считал себя попавшим в нелепейшее положение. «Прежде меня терпели, — думал он, — а теперь, пожалуй, предстоит терпеть мне». Он видел, что больше не нужен. От этого страдало не одно лишь самолюбие, а еще и то деятельное чувство, которое было всегда сильно в Азанчееве, но почему-то не подавало признаков жизни, пока в нем нуждались, и начало очень громко заявлять о себе лишь после того, как к нему перестали обращаться. Азанчеев жадно искал дела, которого для него больше не было. Оставались разговоры, пустая начальническая рисовка перед подчиненными и актерство со всеми в целях придания себе несуществующего веса.
— Вам известно, — спрашивал он, например, Карбышева, — что Михаил Васильевич приказал вчера начштарму Пятой немедленно строить укрепленную позицию к северо-востоку от Красного Яра по Сергиевскому тракту?
Азанчеев спрашивал с единственной целью: удивить Карбышева своей осведомленностью.
— Слушайте, Дмитрий Михайлович, — говорил он шепотом, — я могу вам сообщить очень важную новость. Вы знаете, я не занимаюсь распространением слухов, и то, что я вам сейчас скажу, — факт. Командующий фронтом…
И он пускался рассказывать, как комфронта, вмешавшись в распоряжения Фрунзе, во что бы то ни стало хотел навязать ему лобовой удар на Бугульму и для этого повернуть Туркестанскую армию на север, а Фрунзе протестовал, спорил и, наконец, категорически отказался. Рассказывая, Азанчеев от сильного внутреннего волнения вдруг начинает косить, хотя от природы и не был кос нисколько.
— Конечно, Михаил Васильевич очень талантлив… Но разве я не был прав, когда предсказывал потерю Уральска?
— Уральск еще держится, Леонид Владимирович…
— Последние дни… Александров-Гай захвачен белоказаками. Связь с Уральском со стороны Бузулука прервана. Вам этого мало?
— Мало!
— Не шутите! Уральск мы потеряли. И вообще… Вы знаете, что, по сведениям от перебежчиков и пленных, корпус генерала Каппеля выступил из Златоуста на Уфу?
— Не знаю. А почему вы с таким ужасом об этом говорите?
— С ужасом? Нет. Но я признаю за Каппелем серьезные способности.
— И я их не отрицаю. Сильная сторона Каппеля — быстрота перегруппировок. Но, дорогой Леонид Владимирович, ведь именно по этой части и мы не лыком шиты…
Какие бесполезные разговоры! И главное — в то самое время, когда Фрунзе уже отдавал приказ о производстве охватывающего маневра на Белебей для окончательного разгрома бугульминской группы противника, открывая этим приказом второй этап победоносной операции.
* * *
Куйбышев кричал в телефонную трубку:
— Сапог… гимнастерок… шинелей… патронов… ничего нет… Да как же это — нет? Разве вы не понимаете, что, когда я был в Криволуцком полку, я все это обещал бойцам? А впустую я обещать не могу. Что? Без разговоров! Чтоб было!
Он бросил трубку и возмущенно задвигался в кресле своим богатырским телом. Высокая, узкая желтая дверь, какие обыкновенно бывали в гимназиях и в банках, быстро открылась, и в кабинет вошел Фрунзе. С виду он был совершенно спокоен и даже улыбался. Но Куйбышев привык не доверять наружному спокойствию этого человека. По мелким-мелким, еле заметным для глаза признакам он всегда умел услышать в нем гулкий бой его сердца, почуять жар его крови, поймать на быстром полете встревоженную мысль. Фрунзе держал в руках бумаги и, словно чего-то в них не понимая, с удивленной улыбкой разглядывал синие машинописные строки.
— Что случилось?
— Или я сошел с ума, — сказал Фрунзе, кладя бумаги перед Куйбышевым на стол, — или они там… Вот — последние приказы командующего фронтом, отданные им тотчас по возвращении из Москвы. У меня отнимается Пятая армия. Делается это тогда, когда Пятая грудью встречает бешеный натиск бугульминских войск генерала Войцеховского. Только что разговаривал по проводу, — никакого толка. «Расчленение Южной группы — вопрос решенный». Надо ехать в Симбирск…
— Боюсь, что не в Симбирске зарыта собака, — мрачно проговорил Куйбышев, — не знаю, что будет, как будет. Но когда-нибудь лопнет мое сердце, — не выдержит вражьей подлости и — лопнет!
* * *
Лабунский сидел в кабинете Азанчеева, скромно составив вместе коленки и еле слышно постукивая пальцами по жестянке с табаком. Впрочем, всегдашняя развязность постепенно возвращалась к нему по мере того, как развертывалась беседа.
— Итак, Карбышев относится к вам настолько недружелюбно, — говорил Азанчеев, — что решительно отказался использовать ваши знания, опыт и мужество. Да! Этот человек ни к кому из своих прежних соратников не питает уважения, ни за кем не признает заслуг. Его уже одергивали из Москвы. Но… как с гуся вода! Возможно, что он видит в вас конкурента, — кто знает? Когда авторитет шатается, люди подпирают его плечом и при этом обязательно толкаются. Однако чем же я могу вам помочь?
— Пожалуйста! — прохрипел Лабунский, — прошу вас!
— Благожелательность — основное правило в отношениях между порядочными людьми. Вы нуждаетесь в хорошем совете. Слушайте. Карбышев вам отказал; здесь, в штабе Южной группы, вы уже ничего не добьетесь. Вам надо теперь действовать через штаб фронта и для этого сегодня же выехать в Симбирск. Литер на проезд получите у нас. Я назову вам людей, с которыми вы будете говорить в штабе фронта. Никаких ссылок на меня делать не следует. Это тем более излишне, что ваше появление в Симбирске совпадет с пребыванием там товарища Фрунзе. Почему надо ехать сегодня же? Очень просто. Два месяца назад Карбышев был назначен главным руководителем военно-инженерных работ на Восточном фронте. До сих пор его задерживал здесь товарищ Фрунзе. Но обстоятельства начинают так складываться, что и сам товарищ Фрунзе не нынче-завтра может утратить свое положение. И тогда Карбышев немедленно окажется в Симбирске. Вы понимаете: стоит ему вступить в свою новую должность, как места для вас не окажется уже и на всем Восточном фронте. Вот почему я советую вам спешить…
— В какую армию прикажете проситься? В Пятую?..
— Ни-ни-ни… Отнюдь! В Первую, в Туркестанскую, в Четвертую. Только не в Пятую. Причина? Так и быть, я скажу. Дело в том, что вопрос о замене товарища Фрунзе еще не решен окончательно. Кажется, его замена для кого-то нежелательна. Но мы имеем два приказа командующего фронтом, который только что вернулся из Москвы, и приказы эти направлены прямо против товарища Фрунзе. Отныне центр тяжести военной борьбы на Восточном фронте считается перенесенным к северу, за Каму. Белебейская операция товарища Фрунзе признается пустяком. И потому командование фронтом изымает Пятую армию из состава войск Южной группы и двигает на Мензелинск. За всем этим кроется нечто очень большое. Я почти вижу, как бикфордов шнур тянется из Москвы через Симбирск сюда, к нам, где, собственно, и должен произойти сокрушительный для товарища Фрунзе взрыв. Это имеет отношение к вам, дорогой Лабунский, ровно постольку, поскольку вероятное падение товарища Фрунзе повлечет за собой немедленное вступление Карбышева в новую должность, а Пятая армия, именно она, окажется у него в непосредственном инженерном подчинении. Спрашивается: зачем же вам нужно сажать Карбышева на свою шею?
— Вы абсолютно правы, — пробормотал Лабунский и подумал: «Эко счастье, что наскочил я на такого доброжелателя!»
И он принялся шаркать, кланяться и благодарить, тщательно соблюдая все правила старовоенной вежливости.
* * *
День отъезда Фрунзе в Симбирск был пятнадцатым днем Бугурусланской операции. Можно было подводить первые итоги. Они были немаловажны. Все три корпуса армии генерала Ханжина последовательно, один за другим, разбиты наголову. Там, где белыми наносился главный удар, то есть в самом центре Восточного фронта, противник отброшен на сто пятьдесят километров и от наступления перешел к обороне. Но окружить и вовсе уничтожить его все-таки не удалось. Помешали путаные распоряжения фронтового командования. Армия Ханжина не только существовала, — она еще и усиливалась свежими резервами (корпус Каппеля). В Уральской и Оренбургской областях продолжали бунтовать белоказаки; однако Уральск держался. Так обстояли дела в районе войск Южной группы. На севере они обстояли хуже. Там Гайда теснил Первую и Третью армии, и Казань переживала опасные дни. Что же надо было делать? Во-первых, добить врага в центре, — главное; во-вторых, подавить восстание белоказаков; в-третьих, приостановить наступление Гайды. Фрунзе находил, что решение последней задачи должны взять на себя армии Северной группы. А командующий фронтом считал, что для этого необходимо усилить Северную группу Пятой армией, отобрав ее у Фрунзе. Спорили долго и с трудом согласились на том, чтобы поделить Пятую армию между Севером и Югом.
Пока спорили, противник оставил Белебей. Войска Южной группы продвигались вперед, почти не встречая серьезного сопротивления. В мыслях Фрунзе уже складывался план овладения Уфой силами Туркестанской армии. Одновременно можно было бы приступить к активным действиям под Уральском и Оренбургом. Фрунзе вернулся в Самару, молчаливо настороженный, но с ясной и свежей головой, полной смелых и твердых решений.
Дачи, отведенные городским советом Фрунзе и Куйбышеву на Просеках, представляли собой большие, светлые летние дома. Но Фрунзе устроился не в большом доме, а в маленьком деревянном, игравшем прежде роль какого-то служебного помещения при даче. Отсюда в штаб и из штаба на дачу Фрунзе ездил верхом. Он очень любил лошадей и верховую езду. Ему подавали Лидку. Это была высокая, стройная лошадь, с блестящей, шелковистой шерстью, живыми широкими ноздрями и быстрым взглядом огненных темных глаз. Почуяв близость хозяина, Лидка радостно ржала и, нервно пританцевывая тонкими ногами, старалась так повернуться и стать, чтобы обнюхать хозяйское лицо и, отфыркнувшись горячим паром, засунуть морду под знакомое плечо. Фрунзе ездил хорошо, сидел в седле красиво и прочно, уверенно работая поводом и шенкелями. Посылая лошадь, не горячил ее; спокойная требовательность — обязательное свойство настоящего наездника. Глядя на Фрунзе в седле, никто бы не подумал, что стоит ему порезвей спрыгнуть наземь, как он уже и хром. Почти при всяком резком движении в его правой ноге вдруг вывертывалась чашечка, и тогда он не мог ходить. Осталось это от давних времен, когда казаки под Шуей волокли его, притороченного между парой лошадей. И случалось с тон поры много раз, что спрыгнет Фрунзе с коня, сядет на землю, вправит чашечку, а затем снова в седло и — пошел…
Белебейская операция продолжалась четверо суток. Она началась пятнадцатого мая; семнадцатого — красные башкирские части с боя заняли Белебей; а девятнадцатого — уже было ясно, что основной оперативный резерв белых — корпус Каппеля — разбит и отброшен на восток. Итак, противник опять понес поражение. Но, двигая на Белебей, кроме пехоты, еще и конницу, Фрунзе рассчитывал перехватить коммуникации Каппеля и не дать ему отойти к Уфе. А этого добиться не удалось[35]. И все, что уцелело у белых на фронте Южной группы после бугурусланского, бугульминского и белебейекого погромов, покатилось теперь на Уфу и Бирск.
Контрнаступление на Колчака требовало своего завершения. Фрунзе и раньше предвидел поход на Уфу. Но после Белебея необходимость такого похода окончательно определилась. Опять — папиросы вместо еды; сода вместо питья; темные пятна вокруг глаз; и почти не сходящее с языка адъютанта тревожное имя: Османьянц. Утром и вечером подавали Лидку. Она ржала, плясала, ласкалась; но хозяин не замечал ее преданности. В маленьком домике при даче на Просеках зеленый огонек настольной лампы упрямо не потухал до рассвета. В новом плане решительной победы рождался здесь для битвы на Востоке блистательный исход.
* * *
Долгоногий, длиннорукий, сутуловатый, могучий, похожий на очень хорошо обученного военному строю орангутанга, Лабунский вытянулся перед Фрунзе. Еще в Симбирске он начисто сбрил остатки своей великолепной норвежской бороды, а сегодня, готовясь к представлению, еще и приоделся. Последнее посоветовал Азанчеев: командующий не любит нерях. Фрунзе внимательно смотрел на Лабунского. Умные, смелые до дерзости глаза… На лице — готовность немедленно куда-то пойти и что-то сделать. Такие люди бывают очень полезны. Но они же могут быть до крайности опасны и вредны. Надо уметь им приказывать.
— Где я вас видел?
— Вы могли меня видеть, товарищ командующий, только в штабе фронта, где я получал направление в то самое время, когда вы там были.
Лабунский положил бумажку на стол. Фрунзе прочитал ее. «Жаль, что нет сейчас в Самаре Карбышева», — подумал он. Карбышев выехал вчера в Четвертую армию.
— Товарищ Азанчеев мне говорил, что вы — георгиевский кавалер. За что получили Георгия?
Много, очень много раз приходилось Лабунскому рассказывать эту историю. И не было среди его рассказов хотя бы двух совершенно похожих один на другой. И не было ни одного, который воспроизводил бы лишь то, что в действительности было. Привычка бахвалиться и фанфаронить подстегивала воображение Лабунского, и обилием выдуманных мелких подробностей постепенно заволакивалась, заслонялась в его памяти правда. Он ясно почувствовал, какой непонятной для него и чужой стала, наконец, эта правда, когда, отвечая на вопрос Фрунзе, стал рассказывать о взрыве подземной галерей на Бескидах. И на этот раз ему хотелось прихвастнуть. Но произошло странное: фантазия ни с того, ни с сего свернула крылья. Полузабытая быль вспоминалась с трудом, и получалось так, будто Лабунский говорил не о себе. Вместе с мелочами, отступавшими в тень, тускнел ореол фальшивого блеска, а то, что выходило, как главное, на передний план, никогда до сих пор не казалось Лабунскому главным. Заговорив о Елочкине, он отнес эпизод своего спасения этим солдатом не к мелочам, как прежде, а к главному, и вдруг понял, почему, точно слепой стены, держится правды: какой бы неудобно-голой ни была эта правда, говорить ее Фрунзе легче, чем лгать. Есть люди, к которым надо входить не большими воротами саморекламы, а потаенной, заветной калиточкой верного слова. Лабунский знавал таких людей. И знал, что Фрунзе таков. Вот он переспрашивает:
— Фамилия солдата — Елочкин?
— Да. Телеграфист. Осенью шестнадцатого уехал с фронта на Путиловский. Я был тогда в отборочной комиссии и отправил его, как слесаря, в Питер.
— Удивительно! — засмеялся Фрунзе. — Ведь я этого Елочкина знаю. История вашего подвига мне также известна. Все правильно. А где вы были и что делали в Октябре?
Лабунскому показалось, что он прыгает в пропасть. Следующий вопрос Фрунзе будет: «Эсер?» — И тогда — конец, потому что надо будет опять сказать правду.
— Я был членом армискома Восьмой на Юго-Западном фронте.
— В самом гнезде эсеровщины… — тихо усмехнулся Фрунзе, — но об этом я вас расспрашивать не стану. У меня другой вопрос. Можете дать мне слово честно служить в Красной Армии?
Взгляд Фрунзе сиял чистотой, лицо — приветливостью, рука готовилась к пожатию. Лабунский громко и продолжительно откашлялся, по привычке, выигрывая время, чтобы собраться с мыслями и изловчиться в ответе. Но чистота, истекавшая из ясных глаз Фрунзе, обессиливала его. Он чувствовал, как с головой погружается в эту чистоту, как смыкается над ним ее свежая и светлая волна. Так и не собравшись с мыслями и не изловчившись, он прогремел:
— Даю, товарищ Фрунзе, честное слово бывшего русского офицера, пережившего очистительные дни Октября, верно служить народу и его революции!
И с радостным безрассудством отдаваясь порыву небывалой искренности, — что за удивительный человек этот Фрунзе! — еще раз повторил:
— Честное слово!
Фрунзе написал несколько слов на бумажке из штафронта.
— Хорошо. Поедете в Туркестанскую армию. Начинж там стар и пассивен. А вы — молоды и энергичны. Армии предстоит большая работа. Сперва будете помогать старику, а потом… от вас зависит. Желаю успеха!
* * *
Двадцать первого мая началась деятельная подготовка Уфимской операции. Нанесение главного удара возлагалось приказом Фрунзе на правый фланг Туркестанской армии, который должен был обойти Уфу с юго-востока. При успехе маневра перед войсками Южной группы открывался путь на Урал. На фронте Туркармии уже начинали завязываться мелкие бои, когда Фрунзе с оперативной частью своего штаба, вечером двадцать третьего, выехал в Бугуруслан. Он хотел сам, лично и непосредственно, вывести свои войска на Урал. Но смотрел он много дальше Урала. Если на первом плане его перспективы лежала Уфа, то на последнем ясно виделась освобожденная Сибирь…
Туркармия наступала, тесня противника к реке Белой. Вдоль дороги, по которой ехал Лабунский, догоняя штаб армии, змеились окопы, чернели круглые воронки от снарядов и бесчисленные трупы, людские и конские, приникали к изрытой земле. Через сутки Лабунский был в штарме. Начинж, горбоносый старик с рачьими глазами, из прежних инженерных полковников, принял его с явной неприязнью. Вероятно, он уже различил длинную тень, которую бросало назначение Лабунского на его собственное будущее, и от этого нервничал. Знакомясь с Лабунским и просматривая его бумаги, он сердито ворчал: «Едут, едут… со всех. сторон едут… Саперов нет как нет, а начальства все прибывает… И зачем это, господи боже мой!» Он вздохнул.
— Ну, зачем вы ко мне приехали?
Лабунский вытянул голову из плеч, как бы отбивая ею удар мяча.
— От того, что вы мне это говорите, товарищ начинарм, я ведь никуда не исчезну. Следовательно…
— На ручки проситесь?
— Велик и тяжел, не удержите. Уж лучше пошлите в дивизию.
— Что? — удивился старик. — Не хотите оставаться в штарме?
— Не хочу.
— Странно! А я думал… Все за штарм цепляются… Гм! Что ж, превосходно! Тогда поезжайте в стрелковую. С богом!
* * *
Посреди темной зелени сосновых рощ сверкали серебряные пруды. За прудами и сосновыми рощами — низкие болотистые лески. Озера — как чаши, полные чистых слез. Тростник качался. Неуемными хорами крякали утки. Все это бывало особенно хорошо на утренних зорях, под гаснущим месяцем…
А стрелковая дивизия шла да шла на подводах, быстро наступая от Бузулука на Уфу. Противник отходил без боев. Задерживалась дивизия только на реках, то и дело преграждавших ей путь: Боровка, Кинель, Ик… К счастью, в дивизии было много красноармейцев из Самарской и Оренбургской губерний. Почти все они были отличными лодочниками, так как до военной службы работали на Волге и Урале. Они превосходно выбирали места для форсирования рек, умели скрытно приготовить переправу из того, что оказывалось под рукой, — ни одна веревочка, ни один гвоздик не пропадали, — и вообще действовали находчиво и внезапно. Но восстанавливать пролеты взорванных мостов было для них трудной задачей. Кое-где еще торчат сваи, а кое-где от них уже и следа нет. Развороченные перекладины проваливались я висели вниз. Батуев стоял на берегу реки и в тихом отчаянии разводил руками.
— О чем задумался, детина?
Авк вздрогнул и оглянулся. В десяти шагах от него, на пригорке, подпирая плечами светлое дымчатое небо, как привидение на ходулях, высилась саженная фигура Лабунского. Не спрашивая, как и зачем очутился здесь Лабунский, Батуев бросился к нему.
— Ну, чем же я буду забивать сваи, когда у меня ни одного копра нет?..
— А голова? — насмешливо прохрипел Лабунский. — Забыли про голову, Авк! Работайте головой. Я сейчас от начдива — представлялся. И он тоже считает, что главное — голова…
— Чья голова?
— Чья-нибудь. Если не ваша, так моя. Словом, Я думаю, Авк, что никаких свай забивать не надо.
— А как же?
— Старого моста не восстанавливать. Навести новый, на козлах. Будет и проще и скорее. Видите?
Лабунский показал в ту сторону, где белели сараи лесопильного завода с запасом готовых досок у забора и грудами булыжного камня.
— Видите? Лесу — вдосталь. И даже камень для башмаков — тут как тут… А ну, товарищи, дел-лай!..
Гремучий голос Лабунского катился по берегу. Одни красноармейцы тесали ноги и схватки для козел, переводин и перил. Другие устанавливали козлы и настилали мост. Гукали людские голоса, визжали пилы, пели топоры. И мост вырастал на глазах изумленного Авка…
* * *
Резервный корпус генерала Гайды, жестоко разбитый частями Пятой армии на реке Белой, у Азяк-Кулева, отскочил к Бироку. Части Первой армии ворвались в Стерлитамак. В этот день — двадцать девятого мая — Реввоенсовет Восточного фронта получил телеграмму Ленина: «Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной; напрягите все силы; следите внимательно за подкреплениями; мобилизуйте поголовно прифронтовое население; следите за политработой; еженедельно шифром телеграфируйте мне итоги». Этот день Фрунзе мог считать «своим» днем. После ленинской телеграммы никто уже не посмел бы в Симбирске говорить о районе действий Южной группы как о районе второстепенном. Да и говорить было некому, потому что командующий фронтом, так много мешавший до сих пор Фрунзе, был отстранен от командования в этот же самый день.
Итак, противник под нажимом Туркестанской армии отходил на Уфу, собираясь сопротивляться на реке Белой изо всех сил. Первая армия прикрывала левым флангом движение Туркестанской с востока. Пятая стремилась овладеть Бирском. Река Белая превращалась в рубеж, с которым прочно связывались расчеты обеих сторон. На этом рубеже завершался первый этап Уфимской операции. Но на нем же надлежало открыться и ее второму, последнему этапу. Колчаковцы старательно разрушали переправы. Железнодорожный мост близ Уфы, который при отходе от этого города в марте Пятая армия оставила целым, колчаковцы теперь взорвали. Наступление войск Южной группы развивалось медленно: за шестнадцать суток Туркестанская армия прошла всего сто двадцать километров. Третьего июня Фрунзе вместе со штабом Туркестанской приехал на станцию Чишма. Руководство действиями этой армии он брал непосредственно на себя. На следующий же день начались разведки и поиски на Белой. Противник широко растянулся вдоль реки, разместив свои береговые гарнизоны весьма и, весьма неплотно. Река была свободна для перехода во многих местах. И там, где она была свободна, красноармейцы вольно бродили по берегу, а некоторые даже и купались. Противник не шевелился. Почему? Он выжидал, когда точней определятся пункты переправы, чтобы именно у этих пунктов сосредоточить свои скудные резервы. Между тем мелкие партии пеших разведчиков не теряли времени. Началось у Красного Яра, где через реку переправилась разведка одной из стрелковых бригад. А затем пошло и пошло. Команды переправлялись, занимали участки на вражеском берегу, закреплялись на них, а к ночи уже и отбивали атаки…
Лабунский внимательно оглядывал Белую. Негладкая, светлая лента ровно и спокойно тянулась на север. Левый берег, с которого смотрел Лабунский, уходил в пойму, широкую, многоверстную, синюю под озерами, зеленую под болотами и кустарниками. Но еще больше леса и кустарников было на холмистом правом берегу, занятом колчаковцами. «Удобно, — подумал Лабунский, — для… тех». Солнце упало на Белую, и река сверкнула крутыми извилинами своего широкого русла. «Фланговый обстрел — дивный…» Лабунский взглянул на часы. Сегодня Фрунзе объезжал пункты и участки уже намеченных главных переправ. Утром его принимала двадцать четвертая стрелковая дивизия, — та самая дивизия, которой предстояло наносить основной удар в обход Уфы с юга; потом — вторая, в Аксакове; а теперь можно было с минуты на минуту ждать появления командующего и здесь. Лабунский еще раз взглянул на часы и быстро зашагал от реки…
Фрунзе беседовал с командирами и красноармейцами.
— Перед нами, товарищи, путь на Урал, — говорил он, — сперва возьмем Уфу, потом шагнем через горы, проберемся через степи, выйдем в Сибирь, в Туркестан и освободим от Колчака…
Он шагал через горы и степи, и те, «то его слушал, шагали вместе с ним. Их глаза открывались все шире и шире, чтобы видеть будущее.
— Так смелей же, товарищи, вперед!
Губы судорожно шевелились, шепотом повторяя нерушимой святости слово: «Вперед!» — и руки липли к винтовкам. Вперед… за вождем… через горы… «Это все так, — думал Лабунский, — но чтобы взять Уфу, надо переправиться через Белую. Горы — потом. А сейчас — Белая…» С переправой было скверно. Вчера начинарм прислал к Лабунскому каких-то гражданских инженеров. Они назначили для наводки моста срок до трех месяцев и уже засели было составлять сметы, но Лабунский выгнал их из дивизии. Затем явились техники и бывшие подрядчики. Один из подрядчиков, шустрый, разбитной малый, так и напирал на Лабунского, так и наскакивал: «Да никто тебе заменьше, как за три месяца, не возьмется… Никто… В сентябре сдадим!»
— Как тебя зовут? — спросил Лабунский.
— А тебе на что?
Кто-то из техников сказал:
— Не безобразь, Жмуркин!
Но Жмуркин отругивался:
— Сам не безобразь, мараказ! Суслон негодный!
Техник смеялся.
— Ему все можно! Самый у нас «тузовой» товарищ…
Ночью несколько человек из «технического персонала» наладили в кустах лодку для переправы на колчаковский берег и уже отплыли, но попали под огонь сторожевой партий, сидевшей на мыске под деревьями. Ночь была светлая. Изменников перестреляли в лодке, кроме одного, который выпрыгнул и поплыл. Этого поймали. Лабунский видел его сегодня утром и сразу признал в нем Жмуркина. Подрядчик ждал расстрела. Глаза его были покрыты мертвой пленкой, как бывает у людей в обмороке. Бывает это еще и тогда, когда люди столбенеют в пароксизме сокрушительной злости. Однако Жмуркин вовсе не впал в бесчувствие. Наоборот, самые живые ощущения владели его нервами и мускулами, туго обтянутыми горячей желтой кожей. Взглянув на него, Лабунский понял это. «А ведь не дастся… Уйдет». И почему-то пожелал Жмуркину удачи…
Абдул держал под уздцы лошадь командующего. Лидка еще не успокоилась после долгого бега. Абдул несколько раз провел ее шагом от места беседы до берега и назад, но она продолжала тяжко шевелить потными боками. Абдул был конюхом от природы и был глубоко убежден, что лошадь умнее человека и понимает многое гораздо лучше, чем человек. Попав на службу в конюшню командующего и состоя при Лидке, он то и дело умилялся, глядя на этого редкого коня. И сейчас Лидка круто косила выпуклый глаз влево, в ту сторону, где был Фрунзе. Живое и тонкое, левое ухо ее, вздрагивая, жадно ловило звук его голоса. «Ну, и лошадь, — умилялся Абдул, — лошадь!» Чья-то смуглая рука легла на горбатый нос Лидки. Она фыркнула и нервно огладила пушистым хвостом обе стороны своего гладкого крупа. Абдул удивился неожиданной смелости смуглой руки, и, еще не видя ее хозяина, уже догадался, кто он по давно и хорошо знакомым интонациям хриплого возгласа:
— Вот недаром говорится, что старый сапер везде пригодится. Здорово, Абдул!
— Здравия тебе желаи-им! — отвечал, радостно улыбаясь, Абдул.
Встреча с бывшим денщиком навела Лабунского на важную мысль: старый сапер везде пригодится. Лабунский не терял ни минуты. Помогали ему Батуев и еще какой-то красноармеец из прежних саперных унтер-офицеров. Вообще старых саперов удалось собрать около тридцати человек. В этом-то именно и заключалась важная мысль.
— Сколько времени на мост возьмете?
— Неделю!
— Рехнулись! Налечь, друзья, надо!
— Хорошо!
— Как?
— В трое суток сделаем!
— Опять — нельзя. Даю сутки!
Закипело! Старые саперы наводили мост. Три десятка людей ладили, ладили, и переправа действительно возникала. Но из чего они ладили? Из чего она возникала? Трудно, почти невозможно ответить! Впрочем, кое-что ясно. Колеса на мельнице шипели, медленно крутясь. И вдруг остановились. Мало того, вся мельница вдруг исчезла. Зато на переправе много прибавилось дерева, гвоздей, скоб и железа. Откуда-то гнали вдоль берега бочки, ящики, остатки разбитых белян. И опять пели топоры, звонко подтягивали им пилы. Свай не забивали, шипов не делали, гнезд — тоже, — где там! Зачем-то вернулись гражданские инженеры из штарма.
— Какой же это мост? Никакого моста нет!
Лабунский махнул рукой и хрипло засмеялся. Бревна с мельницы горкой лежали на берегу у спуска к будущему мосту. От только что обтесанного дерева щипко тянуло сладким и свежим духом. Проверив подготовку к переправе, командующий спросил Лабунского:
— Ручаетесь, что дивизия перейдет?
— Головой!
— Спасибо!
* * *
Переправа двадцать пятой стрелковой дивизии началась в полночь на восьмое июня. Первыми вышли на правый берег Пугачевский и Иваново-вознесенский полки. Часа через два они занимали рубеж, уже раньше закрепленный разведкой, а еще через два двинулись в наступление. Окопы белых чернели людьми, но были голы, открыты для атаки, слабы по профилю и удивительно бездарны по разбивке. Поэтому и бой оказался короток. Белая пехота живо очистила свои щели и кинулась наутек. Между тем главные силы двадцать пятой уже переправлялись. Из Красного Яра дошло, что и сам командующий переправился. К утру головные батальоны главных сил двадцать пятой, свежие, веселые, уже шли на смену Пугачевского и Иваново-вознесенского полков. А эти полки вели атаку на Степаново и Новые Турбаслы, всячески стараясь расширить — углубить по фронту — занятый на правом берегу плацдарм…
День восьмого июня был в половине. Яркое солнце висело под самым куполом неба, все больше и больше набираясь пламенной силы. Лучи его становились такими жестокими, что могли бы, казалось, разить наповал. Но они никого не разили. Сегодня этих нестерпимо жарких лучей не чуяли ни земля, ни люди на ней. Судьба боя ломалась. Подоспели резервы белых, и одна контратака за другой обрушивалась на передовые полки двадцать пятой. Было видно, как белые батареи выходили на рысях вперед, выскакивали на новые позиции, кое-как окапывались и сейчас же открывали огонь. Так было по всей линии от Нижних Изяк через Старые Турбаслы и Трампет до Степанова. Передовые полки двадцать пятой не выдерживали, отходили. Красноармейские цепи, дрогнув то там, то здесь, волнами откатывались к реке. Но и тут, на реке, к которой они пятились, было тяжко. Десятка полтора белых самолетов реяли над переправами, поливая их пулеметным огнем, посыпая осколками рвущихся бомб. Главные силы дивизии не шли под этот стальной ураган, — форсирование реки Белой остановилось. Судьба боя ломалась. Но судьба отходивших полков не была одинаковой.
Иваново-вознесенский просто пятился к реке. А Пугачевский, сверх того, очутился и под угрозой с тыла. И вот в это самое время, выгораживая пугачевцев, двинулся на деревню Александровку брошенный чьей-то невидимой рукой батальон, а в расстроенных цепях иваново-вознесенцев замаячила на высоком коне знакомая, влитая в седло, фигура.
— Фрунзе… Фрунзе… — летело по цепям. — Михаил Васильевич…
Это и в самом деле был командующий. Дрожа всем телом, Лидка взвивалась под ним на дыбы и круто повертывалась на задних ногах. Фрунзе размахивал маузером и звал за собой красноармейцев. Голос его был слышен только тем, кто был возле него. Но зато сам он явственно слышал, как поползла, гремя и ширясь по цепям, ослабевшая было ружейная пальба, будто огромные колеса с грохотом раскатились по мостовой…
Фрунзе присел на земле у куста и быстро вправил вывернувшуюся в коленке чашечку. Множество мыслей вихрилось в его голове. К двум часам положение восстановилось. Головные бригады двадцать пятой опять наступали на Степаново, Трампет и Старые Турбаслы. Но к четырем белые снова перешли в контратаку, ворвались в Александровку, насели на Пугачевский полк со спины, и положение сразу вернулось к прежней неопределенности. Фрунзе встал на ноги. Абдул подвел Лидку.
«Пули не убивают, — думал Абдул, — убивает судьба». Короткие, отчетливые звуки разрывов всколыхнули мутную даль и потонули в безбрежном просторе голого поля.
— Василий Иванович! — крикнул Фрунзе Чапаеву, который очутился поблизости, — аэропланы летят к переправам…
Он с досадой зарядил маузер, но выстрелить не успел: грохот разрыва ударил его в руку и в голову. Он шатнулся и на миг закрыл глаза. Однако устоял и даже сделал, несколько шагов. В голове клубился туман, густой и болезненно-жгучий. Перед глазами что-то прыгало, вертелось, сливалось и разливалось звездами лиловых цветов. Сквозь все это он разглядел бледное лицо Чапаева и кровь на его гимнастерке. Рядом лежала неподвижная Лидка, странно вскинув кверху заднюю ногу и в мертвой улыбке обнажив до десен две челюсти желтых зубов. К кровавому пятну на земле прилипла бритая голова Абдула с грозно нахмуренным, белым, как мел, лбом.
— С самолета, сволочи, брызнули, — сказал Чапаев, — «максим» да бомба…
— Вы можете идти? — быстро спросил Фрунзе.
— Стоять не могу, а идти…
— Тогда — пошли!
Они пошли, контуженный и раненый, стараясь тверже держаться на ногах, слегка наклоняясь вперед, как бы для разбега, оглядываясь и размахивая револьверами. Очень недолго, может быть, всего несколько мгновений, они шли в огонь и бурю боя одни, в рост, посреди мертво залегших красноармейских цепей. А затем цепи начали оживать. Что поднимало людей с земли? Что их толкало вперед, заставляя сперва догонять, а потом обгонять Фрунзе и Чапаева, с яростной неудержимостью рваться к врагу, прыгать на его голову в осыпавшиеся окопы, выбивать его из окопов, гнать, мять, брать на штыки и так, не давая ему ни отдыха, ни срока, отшвырнуть его, наконец, к вечеру за речку Шугуровку и только здесь остановиться?..
* * *
Ночью Фрунзе объяснял Чапаеву, как важен и полезен урок форсирования Белой. Во-первых, правильный выбор участков. Во-вторых, активная боевая разведка. В-третьих, широкое и находчивое использование местных средств. В-четвертых, захват и закрепление плацдармов, отражение контратак, непрерывность переправ и ввод вторых эшелонов… В сарае почти совершенно темно. Фрунзе встает и потягивается. От резкого движения в его голове повертывается жесткий комок огненной боли, и в глазах пляшут лиловые цветы.
— Однако, — говорит он.
На топчане, под шинелью, что-то шевелятся. Из мрака выглядывает худое и тонкое, бледное лицо Чапаева. Фрунзе кажется, что он видит даже его недлинные солдатские усы. Но тьма накатывается волной, и лицо исчезает.
— Плохо? — спрашивает Чапаев.
— Нисколько, Василий Иванович. Наоборот, — прекрасно. Завтра ваша дивизия возьмет Уфу. А теперь — спать.
И он выходит из сарая…
…Но это была беспокойная ночь. Часа в два к Чапаеву ввели человека.
— Кто?
— Из Уфы я… Рабочий… Уж и не знаю, как пронесло…
Человек был мокрый, грязный, с окровавленной черной лапищей и белым, как известка, лицом. О таких, именно о таких, как он, говорят, преклоняясь: «Герой!» Но сам он только дрожал от страха и радостно оглядывался, как бы не веря себе.
— Пронесло…
Чапаев сел на топчане, свесив необутые тонкие ноги без портянок. Сосульки прямых рыже-русых волос свисли на лоб и брови. А под бровями зажглись острые капельки глаз. Протянув вперед длинные руки, он обнял героя.
— Ну?..
…Утренняя атака белых, — знаменитая «психическая» атака, когда пять колчаковских полков шли под ружейно-пулеметный огонь густыми, как шерсть на баране, цепями, не отвечая ни одним выстрелом, стройно шагая в ногу и вскинув фуражки на затылок, — была отбита. Никак нельзя сказать, что бы получилось из этой атаки, не сообщи Чапаеву заблаговременных сведений о ее подготовке ночной перебежчик из Уфы. Но атака не была неожиданностью. Части двадцать пятой были к ней готовы и встретили ее, не дрогнув…
Чапаевцы наступали. К трем часам дня артиллерия белых мчалась на северо-восток от Уфы вдоль железной дороги. Путаясь на скаку в запряжках и постромках, лошади опрокидывали орудия, зарядные ящики и сбрасывали простоволосых ездовых. За пушками поспевали остатки ополоумевшей пехоты. И в редкие ее толпы то и дело врезались на карьере вереницы обозов и всяческих тылов…
День еще купался в ливнях неостывшего света, когда перед полками двадцать пятой развернулась сверкающая панорама большого города. Уфа красиво лежала на гористом углу междуречья. Тысячи окон ярко пылали огнями солнечных отблесков. По широким улицам шагали вступавшие в город красные войска. У Большой Сибирской гостиницы их встречал и благодарил Фрунзе…
Глава девятнадцатая
Были такие дни и ночи весной того года, что опасность соединения колчаковского и декикинского фронтов на Волге казалась очевидной. В Самаре слышалась стрельба. Карбышев пропадал на позициях. Лидия Васильевна ждала его по ночам на балконе. Утро наступало раньше, чем ей удавалось вспомнить о сне. А между тем она была уже на сносях. К всегдашнему страху за мужа присоединялся новый — за будущее дитя. Лидия Васильевна страстно желала, чтобы Дика поскорее принял свою настоящую должность в штабе Восточного фронта, сам переехал и ее перевез из Самары в Симбирск. Ей думалось, что руководителю военно-инженерных работ на фронте вовсе не надо мыкаться по боевым полям. А всякое место, где бы ни стоял большой штаб, представлялось ей средоточием безопасности. Она мечтала о переезде в Симбирск так долго, что, наконец, устала мечтать. Тут-то и состоялся желанный переезд…
Из-за беременности Лидии Васильевны ехали в Симбирск на пароходе. Для сопровождения жены Дика достал откуда-то старенькую акушерку. Лидия Васильевна гнала мысли от того, что ее ожидает. Акушерка, не закрывая беззубого рта, рассказывала истории о подкидышах, самозванных матерях и о том, как родился Керенский, которого она принимала. Два пушистых котенка дыбили серую шерсть под ласковой рукой Лидии Васильевны. Волжские берега двигались мимо, незаметно переходя из одной туманной картины в другую. Мягкий и прохладный ветер ударял в лицо, заставляя жмурить глаза. Спокойствие вливалось в душу и оседало в ней тихой радостью…
И вдруг: «Симбирск, Симбирск…» Пароход загудел и с поворотливостью большого белого бегемота начал заводить корму. Он шел к берегу, к пристани, над которой маленький городок, утопая в зелени, взбирался в гору. Сердце Лидии Васильевны дрогнуло и тревожно забилось. Именно здесь, в этом незнакомом городе, она станет матерью. Здесь, в Симбирске…
…В хорошеньком домике на Покровской улице Карбышевым отвели две просторные светлые комнаты. Вступая в новую квартиру, Лидия Васильевна с удовольствием огляделась.
— А здесь, и в самом деле, можно родить…
Карбышев вспомнил об этом шестого июня, когда событие, наконец, состоялось. Он долго смотрел на красное и сморщенное личико дочери, а потом сказал:
— Знаешь, мать, она будет у тебя умная…
— Почему ты думаешь? — слабо улыбнулась Лидия Васильевна, удивленно прислушиваясь к новому обращению мужа: мать.
— Да как же? Ведь знала, что раньше никак нельзя родиться…
Но Ляля кричала изо всех сил. Старенькая акушерка, принимавшая когда-то Керенского, качала седой головой:
— Вот и Керенский такой же крикливый был!..
Только дня через два Ляля перестала кричать. Карбышев осторожно протягивал руки за дочерью.
— Мать, смотри, как бы я ее вверх ногами не взял!
Он носил ее на руках по комнатам, а она неотрывно смотрела немигающими глазами на лампу…
* * *
Круг деятельности Карбышева в должности главного руководителя оборонительных работ Восточного фронта очень расширился. В тылу фронта копалось до десятка военно-полевых строительств, и все они состояли в его ведении. Совершенно напрасно думала Лидия Васильевна, что работа в большом фронтовом штабе угомонит ее мужа. Ничуть. Еще в Южной группе о Карбышеве говорили: «Настоящий полевой инженер». И он действительно любил быть с войсками, любил во всем разобраться на месте. Поэтому искать его в управлении — бывшем кадетском корпусе — было довольно бесполезно. Искать его надо было или на деревянных капонирах, что строились на Волге при въезде на Александровский мост и съезде с него; или на Поповом острове; или на железной дороге специального назначения, которую тянули от Симбирска на Мелекес; или в деревне, против города; или с другими партиями на изысканиях и работах, под непрерывными дождями, от которых совсем перепутался проросший в полях овес и белых грибов развелось превеликое множество. По мере продвижения фронта на восток все оперативно-важные пункты приводились в оборонительное состояние. Всякое наступление есть продвижение вперед по зоне разрушения, остающейся позади отходящего противника. В военно-инженерном смысле наступление — это прежде всего восстановление разрушенных мостов, переправ и починка дорог. Отходя за Урал, колчаковцы разрушали главным образом мосты, и восстановительные работы кипели по всему протяжению фронта. Неутомимый. Карбышев стремился все знать, все видеть, во всем участвовать своей умелой и опытной рукой. Но это становилось все трудней, все невозможней по мере того, как определялась громадность стратегических последствий контрнаступления Фрунзе. Меньше чем за два месяца пространство от Камы до Оренбурга и от Волги до Уральского хребта было очищено от белых. Войска Южной группы прошли с непрерывными боями от Бузулука до Уфы свыше трехсот пятидесяти километров. Одиннадцатого июля Фрунзе телеграфировал Ленину: «Сегодня в двенадцать часов снята блокада с Уральска. Наши части вошли в город». Через два дня стало известно, что командующим войсками Восточного фронта назначен Фрунзе.
* * *
Куйбышев уезжал из Симбирска в Астрахань на должность члена Реввоенсовета Одиннадцатой армии. Ему предстояло руководить вместе с Кировым обороной Астрахани. Перед отъездом он пришел к Фрунзе проститься и провести в душевных разговорах последний вечер. Фрунзе жил тогда около Карамзинского сквера, в красивом купеческом особняке из серого камня, с чугунными воротами у левой стороны. Зеркальные цельные окна придавали дому нарядный вид. И внутри было хорошо — просторно и комфортабельно. Хозяин принимал гостя в кабинете.
— Однако, — говорил Михаил Васильевич, — тут нам будет удобно…
Куйбышев стоял, опираясь на спинку кресла с такой силой, как если бы хотел подняться на руках. Его могучая грудь широко и свободно дышала. Сияющие глаза весело глядели. Приветливая, радостная улыбка бежала по лицу.
— Прямо-таки дворцовый аппартамент, — сказал он, — а вот в нарымской ссылке существует трущобно-поэтический уголок под названием «Максимкин Яр». В девятьсот десятом году там отсиживался Свердлов, и мне тогда удалось его оттуда извлечь. Были и у нас в «Максимкином Яре» аппартаменты… ха-ха-ха!
Он захохотал, представив себе с полной ясностью нарымский дворец. И, вероятно, в воспоминании этом действительно было что-то очень смешное, так как Куйбышев не только рукой махнул, а еще и ногой притопнул. Но Фрунзе не смеялся. Он тоже вспоминал сейчас нечто подобное и думал: странно, что не обходится арестантская молодость таких, как он или Куйбышев, людей без стихов. И юноша Фрунзе писал их в тюрьмах и между тюремными отсидками — то светло-грустные, тихо льнущие к сердцу горьковатым теплом, то звонко летящие в солнечный мир, боевые стихи. А Куйбышев…
— «Море жизни» в Нарыме написано? — спросил Фрунзе.
— Там…
Куйбышев вдруг перестал смеяться.
— В девятьсот десятом.
Гей, друзья! Вновь жизнь вскипает,
Слышны всплески здесь и там.
Буря, буря наступает,
С нею радость мчится к нам…
Это было куйбышевское стихотворение, буйно-жизнерадостное и зовущее, — его хорошо знала революционная молодежь десятых годов…
Вечер прошел. За зеркальными стеклами давно висел мрак. Куйбышев собирался уходить. Фрунзе и он обнялись, расцеловались.
— Не бойся гостя сидячего, — говорил Куйбышев, — бойся стоячего…
И все-таки, совсем уже выходя из кабинета, еще раз остановился в дверях.
— Об Азанчееве — два слова… Что такое — тень? Ничто. Но если реальный человек и ест, и пьет, и ходит, а тени от него нет как нет, то это — дело серьезное, и такой человек заслуживает весьма пристального к себе внимания. Азанчеев предлагал сжечь Уральск. Может, и было это с его стороны добросовестным заблуждением. Теперь Уральск освобожден. Но не в том же дело!
— А в чем?
— Не умею сказать иначе: от Азанчеева нет тени. Надо приглядеться, и… в этом вся суть.
Фрунзе расправил усы и потрогал бороду на щеках.
— Да ведь он и сам-то не больше, как тень…
Куйбышев пожал плечами.
— Вольному — воля…
Фрунзе улыбнулся.
— Я расстанусь с ним на днях. Он совершенно бесполезен.
* * *
Общее собрание сотрудников штаба Восточного фронта происходило в рекреационном зале бывшего кадетского корпуса. Народу собралось много, и ораторы выступали один за другим. Некоторые говорили коротко и ясно, как, например, Лабунский. А иные, как Азанчеев, — многоречиво и туманно. Карбышев слушал и готовил проект резолюции. Когда подошло время, он встал и, попросив слова, огласил проект: «Враги Советской России надеются голодом сломить сопротивление Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В этот критический момент трудящиеся должны еще теснее сплотиться вокруг своей власти. Фронт, которому было отдано все лучшее, должен позаботиться о тыле. В целях оказания тылу посильной помощи общее собрание постановило отчислять в течение месяца от своего пайка ежедневно по одному фунту хлеба».
Собрание кончилось, и зал опустел. Синие клубы холодного махорочного дыма тяжело оседали в углах нетопленой комнаты. У гривастой морды резного льва, украшавшего своим двойным туловом обе створки высоченной двери, стоял Азанчеев и неумело свертывал длинными белыми пальцами толстую папиросу. Судя по лицу и фигуре, он был погружен в состояние глубокой задумчивости. Однако, увидев Карбышева, тотчас пришел в себя и заговорил:
— Представьте себе, любезный Дмитрий Михайлович, думал о вас. Собственно, не столько о вас, сколько о себе, но во всяком случае применительно к резолюции, столь талантливо сочиненной сегодня вами.
— Что же вы думали?
— Сказать? Пожалуйста. Думал: могу я украсть полпуда муки или не могу?
— Ну и как? — с любопытством спросил Карбышев, — можете?
С некоторого времени ему казалось, что карьеризм, постепенно уступавший дорогу старческо-барскому стремлению к спокойной жизни, питал душу этого человека до сытости. Но Азанчеев сделал из ладоней рупор у губ и еле слышно выпустил изо рта коротенькое слово:
— Д-да!..
Затем убрал рупор и визгливо захохотал, все выше и выше поднимая гаденький тон хохота.
— Не ожидали? Впрочем, не волнуйтесь. Мое нравственное падение ничем не повредит выполнению сочиненной вами резолюции. И образцовая показательность ее глубокого морального смысла останется неприкосновенной. Дело в том, что я не успею украсть…
Азанчеев был человек, быстрый в мыслях и живой в речах. Его острая улыбка часто выглядела, как угроза. Но так скверно, как сейчас, он еще никогда не смеялся.
— Ничего не понимаю.
— Очень просто: рапорт об откомандировании меня в распоряжение штаба РККА уже лежит на столе у Михаила Васильевича. Кто знает, может быть, в Москве, профессорствуя в академии, я и спасу моего сына от истощения, от гибели, не прибегая к воровству. Как вам кажется?
— Мне кажется, что дело меньше всего в вашем сыне, — серьезно сказал Карбышев, — я ведь тоже отец, но…
— Конечно, конечно, — заспешил Азанчеев, — каждому — свое. Я, по собачьему обыкновению, верю только в мясо; а вам нравится голодная смерть; а Лабунский…
— При чем Лабунский?
Недавно командарм Четвертой донес командованию фронта о печальном положении Саратовского укрепленного района. Кроме заволжской, Покровской, стороны, укрепления не только нигде не были закончены, но даже еще и не начаты постройкой. Артиллерии — половина; комплект снарядов — неполный; командного состава — треть потребности. Фрунзе тогда же вызвал Лабунского и приказал ему ехать в Саратов на должность начальника инженеров Четвертой армии с тем, чтобы на месте покончить с беспорядками в Саратовском уре. И Лабунский собирался теперь в отъезд.
— При чем же Лабунский?
Азанчеев молчал, точно язык его защемило внезапно захлопнувшейся дверью. Было ясно, что, обмолвившись невзначай насчет Лабунского, он тотчас же и пожалел об этом.
— Так, к слову пришлось, — выговорил он, наконец, со вздохом, — у него ведь и детей нет. Ему — проще. Сегодня — здесь, завтра — там. У него очень милая жена, на редкость хороша собой, высокоодаренная актриса, превосходное меццо-сопрано, — вы ее не знаете? Это его вторая жена. И представьте, — она не хочет с ним ехать в Саратов. Она стремится в Москву, а он… — Азанчеев снизил голос, — он вчера жестоко побил ее. Совершенно обездушенный человек. Она прибежала к нам в слезах, в отчаянии…
Карбышев всегда догадывался об актерских способностях Леонида Владимировича, но по-настоящему оценил их только сейчас, когда Азанчеев вдруг изобразил, как искусственно рыдала, а потом улыбалась сквозь притворные слезы жена Лабунского, припав к плечу его собственной жены.
— Чем больше мы хотим, тем меньше можем. Но мы все-таки решили взять с собой в Москву эту несчастную, очаровательную женщину…
Карбышев подумал: «У Лабунского никогда не было семейного отстоя. И под Азанчеевым он зыбок. А скажи им об этом, — сейчас же полезут в философию. Ох, эта философия женатых холостяков! Нет, уж лучше семечки грызть». Он ясно представил себе чудовищную беспомощность женщин, не умеющих самостоятельным трудом заслониться от несчастий, на каждом шагу грозящих им со стороны «женатых холостяков». Так именно жалка жена Азанчеева. И чем нелепее крикливая повелительность ее вздорных манер, тем она жальче — беспомощней и беззащитней. Конечно, не всегда это так. Чистый и светлый образ Нади Наркевич промелькнул в мыслях Карбышева как живое воплощение нравственной силы и независимости, укрепившихся в благородном подвиге спасительного труда. Хорошо. Но тот ли это труд, которым хотел бы сам Карбышев вооружить для будущего свою дочь? Нет. Во всяком случае, нет…
— Скажу вам, Леонид Владимирович, правду, — вдруг сказал он, — нынешний разговор наш не из приятных, да, впрочем, других у нас с вами и не бывает. Но я доволен…
Азанчеев насторожился.
— Очень рад…
— Сами того не подозревая, вы подсказали мне существенную мысль…
— Позвольте! — энергично запротестовал Азанчеев, — тут что-то не то! Я не подсказывал вам никаких мыслей. Я искренне раскаиваюсь, если…
— Раскаяние, любезный Леонид Владимирович, — не столько сожаление о сделанном, сколько боязнь его последствий. Но вам последствия не грозят. Можете относиться к тому, что я говорю, совершенно спокойно. Речь идет о моей дочурке, о Ляльке…
— Я не понимаю…
— Я очень хотел бы сделать из нее такого же военного инженера, как и я сам.
— Что?
Азанчеев махнул рукой. Он ожидал чего-то совсем другого.
— Пожалуйста! — равнодушно сказал он. — Вы так хотите? Пусть будет… Несколько странно, конечно. Но… пусть! Хе-хе-хе!..
* * *
Войска Восточного фронта быстро шли вперед, занимая город за городом — Златоуст, Екатеринбург, Челябинск. После короткого боя был взят частями Пятой армии Троицк. Это значило, что колчаковская армада оказалась в конце концов рассеченной пополам. Отныне, уводя с собой одну ее половину, Колчак бежал в Сибирь; а другая половина, под командованием генерала Белова, катилась в Туркестан…
Еще в начале марта, когда создавалась Южная группа войск Восточного фронта, было ясно, что для поддержания связи с Туркестаном и дальнейшего продвижения в самый Туркестан необходимо прочно владеть Оренбургско-Уральским краем. В этом, собственно, и заключалась задача Южной группы. По мере того, как северные армии фронта выходили в Сибирь, Южная группа от них отрывалась, развертывая наступление на Туркестан. Постепенно Четвертая и Туркестанская армии группы получали значение самостоятельного фронта. Такой ход событий предвиделся еще в начале марта. Теперь же, после взятия Троицка, наступило время, когда новое положение дел на Восточном фронте должно было получить надлежащую организационную форму. Шестого августа Фрунзе выехал из Симбирска в полевой штаб Реввоенсовета Республики, одиннадцатого вернулся, а тринадцатого приказом Главкома Южная группа была переименована в Туркестанский фронт. Пятая и Третья армии остались в составе Востфронта, которому предстояло овладеть Западной Сибирью. Туркестанский же фронт втягивался в огненные просторы Средней Азии. И Фрунзе отбыл на восток, к своим войскам.
* * *
Карбышев достаточно хорошо знал общую тактику, чтобы не впасть в недоумение, не ослепнуть перед разительной по своему блеску картиной разгрома Колчака. Его глаза были зрячи и зорко присматривались к развитию полководческих действий Фрунзе. Вдумчивая мысль искала путей проникновения в тайну успеха и с военной настойчивостью шла по этим путям. Битва за Восток подходила к конечным стадиям; ее критические переломные моменты были позади; и Карбышеву казалось, что время для подведения первых итоговых черт под суммой опыта и наблюдений настало.
Прежде всего определилась общая природа гражданской войны — широкие, слабо насыщенные войсками фронты, решительные столкновения, инициативная роль частных начальников, маневренный характер действий. Затем обозначились главные принципы нового полководческого уменья, новой «науки побеждать». Карбышев ощущал живую реальность этих принципов, понимал их смысл, видел конкретное тактическое применение. Контрнаступление — сложный и трудный вид наступления. Чем тяжелее стратегическая обстановка, тем большего многообразия средств и способов активной обороны требует подготовка контрнаступления. Принцип этот выковался на опыте Царицына и Перми: здесь он впервые показал свою силу и отсюда перешел в полководческие руки Фрунзе для поражения Колчака. Но успешный переход от обороны к наступлению возможен только при безошибочном выборе направления главного удара и лишь в том случае, когда на избранном направлении действуют максимальные средства. И этот принцип, установленный на полях южных битв восемнадцатого года, оказался в руках Фрунзе губительным для Колчака. Разгром противника в октябрьские дни второго царицынского окружения со всей ясностью показал, как надо связывать наступление с широким применением маневра. И Карбышев видел полное осуществление этого принципа в действиях Фрунзе: оборона сочеталась с наступлением, массировались огневые средства: перегруппировки по фронту и из глубины почти не прекращались, охваты противника, обходы, окружения и кавалерийские удары по его тылам следовали друг за другом…
…Раздумывая над вопросами оперативного искусства, Карбышев все чаще прибегал к «счету большими числами»; решения важнейших практических проблем постепенно становились для него привычным делом, превращаясь в постоянный ход мысли. К осени девятнадцатого года на Восточном фронте было возведено двадцать пять укрепленных районов. Какое поле для наблюдений! Замечательные примеры Оренбургского, Уральского уров стояли перед Карбышевым. Но сумму заволжских наблюдений он старательно пополнял еще и многоразличным опытом других фронтов. История петроградской и особенно царицынской системы укреплений говорила сама за себя. Если выводить основные положения инженерной тактики из общих тактических свойств войны, то с несомненностью оказывалось, что в известных условиях этой борьбы уры с решающей пользой служат делу активной обороны. Так именно бывает, когда ур создается как элемент общего расчета командующего и своевременно занимается гарнизоном (без надежд на то, что отходящая армия сама его займет). А когда войсковые инженеры, не разбираясь ни в стратегическом смысле войны, ни даже в тактических вопросах, за свой страх и риск создают ур, он пропадает даром. Дальше. Как различны условия борьбы, так и уры обороняются по-разному. Кольцо уральских укреплений — один пример. Другой — поучительно-громадная роль царицынского ура в поединке с красновщиной. Опыт этого ура питал и воспитывал живую мысль Карбышева. И многое, очень многое обрисовывалось перед его творческим взглядом все отчетливей и ясней…
…У Карбышева была манера быстро сходиться с людьми, вникать в их дела, давать советы и уже никогда потом не терять интереса ни к самим этим людям, ни к тому, что получилось из его советов, принятых ими к исполнению. Постоянные разъезды по строительствам Восточного фронта сталкивали Карбышева со множеством людей и вопросов. Люди были всякие: старозаветные и новые, очень образованные и совсем малознающие, честные и сомнительные, партийные и беспартийные… Жили они жизнью кипучей и сложной, и стоило Карбышеву появиться на строительстве, как вихрь самых разных вопросов набегал и уносил его с собой. Он был не только очень хорошим военным инженером, но, кроме того, еще и умным, опытным, благожелательным, смелым и находчивым человеком. Он руководил только оборонительными работами фронта, но технические задачи обороны решал не иначе, как исходя из общего оперативного плана, а это в свою очередь с неизбежностью заставляло его мыслить политически и говорить партийным языком. Его появление на строительстве было всегда чем-то вроде праздника. В управлении и на участках задолго твердили: «Карбышев приедет, — все уточнит». Он приезжал — беспартийный специалист — и, начав с осмотра работ, удивительно быстро оказывался в самой гуще отнюдь не технических вопросов. Он разбирался в цифровой путанице финансовых книг, в балансах и сальдовых расчетах, подбивал на грязных костяшках миллиардные[36] итоги, и числа разбегались по местам, как солдаты в строящейся роте, а счетоводы чесали затылки, удивляясь беспомощности своих многолетних сноровок. Комиссар запирался с ним в кабинете. «Задурил мне голову начвоенполестро по книжкам, да с ученостью. А я печник. Ничего понять не в силах. Не дело так-то. Уж ты, товарищ главный руководитель, мне каким ни на есть разъяснением пособи, а ему внуши, чтобы носа не драл». Карбышев вслушивался, всматривался, вдумывался и помогал десятникам и прорабам, счетоводам и обозникам, начальникам и военкомам, — всем, кому надобилась его рассудительная, дельная помощь.
Осенью Карбышев приступил к «документированию». Под этим словом в управлении начинжвоста разумелось составление всякого рода «инструкций», «правил» и «указаний». У Карбышева было такое чувство, как будто он давно уже таскает за собой по военным полям тяжелый чемодан, битком набитый багажом опыта и знаний. Иногда приоткрывает чемодан и вынимает оттуда отдельные частички груза, но общий вес багажа от этого не уменьшается, а потребность освободиться от тяготы становится все настоятельнее. И вот пришло время, когда чемодан, наконец, широко раскрылся, и содержимое его, уже не по частям, а полностью и сразу, начало переходить в отовсюду протянутые руки. Радостное чувство облегчения испытывал Карбышев, проводя ночи за письменным столом. И по мере того, как двигалась вперед «документация», превращая запасы его личного богатства в общее достояние, радость удовлетворения становилась все полнее и чище. Всего лишь два месяца — сентябрь и октябрь — понадобились Карбышеву для того, чтобы возникли его обстоятельнейшие «Указания» по разработке схематичного проекта позиций. Теперь Карбышев готовил инструкцию о порядке производства инженерных рекогносцировок. Она содержала множество сведений, предложений и требований. Но ни одно из них не было измышлено без проверки или надумано за кабинетным столом. Каждое извлекалось автором из живой памяти и подкреплялось доказанной целесообразностью практических следствий. Еще и года не миновало с тех пор, как Карбышев рекогносцировал Волжскую Луку от Тетюш до Сызрани. Рекогносцировка эта считалась образцовой, да и в действительности была такой. Работая над «Инструкцией», Карбышев то и дело заглядывал в материалы «Образцовой рекогносцировки». Среди множества манускриптов, сразу бросавшихся в глаза крупным и твердым почерком карбышевской руки, здесь встречались и машинописные документы и листки бумаги, покрытые текстами других почерков. Карбышев внимательно перечитывал все это и, обдумывая прочитанное, подолгу останавливал неподвижный взгляд черных блестящих глаз на угольной лампочке, смутно мигавшей над столом красным проволочным завитком. За белой дверью, в соседней комнате, то вставала с постели, то снова ложилась Лидия Васильевна, и слышался изредка слабый писк беспокойной Ляльки. Карбышев быстро повертывал голову к двери, как бы взвешивая серьезность обстановки, готовый с легкостью вскочить и броситься на помощь к жене. Но тревога почти всегда оказывалась фальшивой: Лялька переставала пищать, сонные звуки баюканья все тише слетали с материнских губ — за стеной царила ночь. Карбышев наклонялся над бумагами, исполненный жгучей потребности сделать как можно скорее, как можно больше. Не тут-то было! Птичий голосок Ляльки опять звенел, поднимаясь все выше. И Лидия Васильевна звала:
— Дика!
Карбышев вернулся к столу. Да, то, над чем он трудился, составляя инструкции, правила, положения, — все это так же необходимо для военно-полевых строительств, как дерево, камень и земля. Начальник челябинского строительства Батуев писал: «Так мы запутались, Дмитрий Михайлович, что, отбрасывая в сторону всякое самолюбие, прямо скажу: без твердых письменных наставлений от вас разобраться почти невозможно… Ваши приезды до сей поры выручали. Но ведь вы один, а строительств много. И выходит, что письменные наставления — это как воздух для нас, как хлеб и вода». Письмо Батуева лежало на столе, под лампочкой, возле «дела» с документами по рекогносцировке Волжской Луки. «Дело» было раскрыто на памятном для Карбышева документе — на письме молодых инженеров Восточного фронта, которое они отправили весной в Главное военно-инженерное управление, жалуясь на невыносимую требовательность Карбышева, и которое вернулось назад от Велички с зачеркнутыми фамилиями жалобщиков. Два письма лежали рядом, Карбышев смотрел на них неподвижным взглядом. Да, сомневаться не приходилось. Оба они были написаны одним лицом.
* * *
В начале зимы Карбышев неожиданно появился в конторе Челябинского строительства и положил на письменный стол Батуева тяжелую кожаную сумку.
— Получайте!
— Что такое?
— Полное собрание сочинений…
Батуев набросился на сумку. Она была набита толстыми тетрадями со множеством расчетных таблиц, схем и чертежей. Он быстро перелистывал тетради, вполголоса читая рубрики оглавлений и подчеркнутые места. Брови так и прыгали над его изумленными глазами.
— Неужели, Дмитрий Михайлович, вы все это сами…
— Нет, с вашей помощью.
— С моей?
— Конечно.
Карбышев быстро обошел маленький кабинетик Батуева и остановился у окна спиной к раме. За окном лежала голубовато-белая зима, из домовых труб выбивались к серому небу прямые столбики печных дымков, ветви на деревьях обвисали почти до земли тяжелым кружевом инея. Мороз сверкал и искрился. Сквозь незамазанные, скверно пригнанные рамы тянуло жгучим холодом. Карбышев поежился, но не отошел от окна. И Батуев поежился.
— Чем же я помог вам?
— Навели на хорошую мысль. Нет-нет да кто-нибудь и подскажет. То Азанчеев, то вы…
Батуев оживился.
— Вы имеете в виду мое последнее письмо о необходимости инструкций? Я писал не от своего лишь имени, а от…
— От группы товарищей. Вы всегда так пишете?
Батуев вздрогнул. Тетрадь выскользнула из его рук и глухо ударилась о стол.
— Странный вопрос…
— Потом объясню.
— Что вы хотите сказать? — слегка захлебываясь от волнения, пробормотал Батуев.
Глаза его скосились в сторону окна с покорно-злым выражением виноватой собаки. Действительно, хоть он и не был еще уверен, то ли именно сказал Карбышев, что хотел, и то ли сам он услышал, что было сказано, но уже готовился к худшему. «Подлец Лабунский, — подумал он, неудержимо краснея, — и зачем только я тогда…» Карбышев молчал, и Батуев попробовал овладеть ситуацией.
— Отойдите, Дмитрий Михайлович, от окна, ради бога, отойдите, вы непременно простудитесь…
— Со мной этого не бывает, — возразил Карбышев и не шевельнулся.
Он смотрел на Авка, и ему казалось, будто он видит в первый раз его жесткие скулы под тонкой кожей на красивом смугло-розовом лице, плотно сжатые челюсти, злые до блеска, пристыженные глаза.
— Ну, — сказал Карбышев, — зачем же вы это тогда сделали, Батуев?
* * *
То, что называлось здесь шоссе, было нагромождением глубоко заснеженных косогоров и ухабов — провал на провале. Прыгая, ныряя, подскакивая, взвизгивая железными подрезами на прибитых колеях, по шоссе катились ротные санки. Кучер, в полушубке я белых валенках, грозил коню:
— Я те побрыкаюсь, леший!
И «леший», надеясь уйти из-под свистящего поверху кнута, налегал горячей грудью на изорванный хомут. Сани выезжали на укрепленный участок.
— Стой, чудило!
Два человека в коротких тулупчиках, спрятав лица под башлыками, пошли вдоль окопа. Бывая на строительствах, Карбышев всегда обращал внимание не только на то, как отрыты окопы, но и на то, как они применены к местности, как приспособлены к тому, чтобы огневые задачи решались как можно лучше. Интересовали его также всякие мелочи, — даже очень интересовали: как устроены бойницы, бруствер… И сейчас он был верен себе. Еще и четверти часа не пробыл на участке, а уже несколько раз ложился на живот, проверяя правильность расположения окопа; то и дело укладывал винтовку на бруствер, чтобы видеть, как ударит, — в землю или в небо. Ведь так обычно и бывает, когда окопы роются только для укрытия, а не для стрельбы. Бойницы…
Карбышев спрыгнул с бруствера. Бойницы хорошо перекрыты. Однако для головы нет места и стрелять нельзя.
— Надо переделать, Батуев!
Вышли на спуск к реке. Окопы бежали под боком. Карбышев остановился.
— А где продольный огонь? Как вы им будете поддерживать проволоку? Какая же это оборона реки? Почему, например, при постройке ходов сообщения вы никак не использовали выгод местного рельефа? А? Я вас спрашиваю: что же это такое?
Обида душила Батуева. От злости ему было так жарко, что он развязал башлык.
— Да вы не пыхтите, — засмеялся Карбышев, — помните наши споры прошлой зимой на Волге?
— Помню.
— И я помню. С тех пор многое изменилось. Теперь фортификация прямо служит целям маневренной войны. Детали ее вырабатываются, становятся правильными. Тактика предъявляет свои права.
— Ей-ей, не понимаю!
Батуев сказал это совершенно серьезно, и Карбышев подумал: «Почему это бездарные люди бывают так убийственно серьезны? Точно и не могут быть другими… А ведь этакая умственная тяжеловесность иной раз еще хуже глупости!»
— Значит, все еще не постигли? Фортификационные формы определяются тактикой. Это она намечает боевые порядки, а фортификация их окапывает. Следовательно, грани между тактикой и фортификацией нет. Каковы приемы борьбы, то есть тактика, таковы и фортификационные формы. Тактика борьбы за позицию зависит от множества переменных. Тут и обученность войск, и стойкость их, и вооружение… А от тактики, усвоенной войсками, зависят выбор позиции и ее устройство.
— Так я и знал! — со злобным отчаянием крикнул Батуев. — Зачем же тогда вы писали ваши инструкции?
— А вам хочется иметь шаблончик решительно на все случаи практики? Невозможно. Переменных условий, определяющих фортификацию, бесконечно много. И на первом месте — инициатива и уменье строителей. Тактическое решение позиционных задач — дело вполне субъективное. Одна и та же задача может решаться с одинаковым успехом, но совершенно по-разному. Вы спросите: в чем искусство, фортификатора? В том, чтобы, выяснив действительные формы борьбы, создать соответствующие им формы укреплений. Понимаете? Но грамотно и свободно владеть фортификационными формами, любезный Батуев, не всякому дано…
Но Батуев уже не слушал. К месту, где завязался спор, фырча и заносясь на раскатах, лязгая на ухабах, подходила крытая легковая машина. Батуев вытянулся. Из машины вышли три человека — командарм, член Реввоенсовета и начальник штаба. Командарм был высок и черняв, с сильной проседью на висках, в ладно сшитых сапогах из коричневой кожи. В лице и походке, во всей его суховатой фигуре ясно виделись решительность, требовательность и волевой напор. Когда он прыгал из машины, пола его бекеши распахнулась и открыла на штанине желтый лампас. «Сибирский казачина…»
— Да какого же черта, на чем это вы прикатили сюда, Карбышев? Или я бы вам другого способа не дал, а? Мы, слава богу, по этой части с сумой не ходим…
Он похлопал по облезлому крылу своей тарахтелки.
— И Батуеву в минус записать надо, — не умеешь, брат, гостей принимать. Слышу: спор… Тоже не годится. Ты, брат, смекай, что к чему, а спорить предоставь, кому посолиднее. Правильно, Василь Семеныч?
Начальник штаба подтвердил:
— Какие могут быть споры, если Дмитрий Михайлович в деле своем — бог?
— Мы о настильном огне говорили, — сказал Карбышев, — опускать окопы под возвышенность, или, наоборот, поднимать на склон…
— Ага! И что же, много Батуев здесь у нас чепухи нагородил? — спросил командующий. — Что-то маскировки не вижу. Все — наружу.
Наштарма был из старых генштабистов и любил козырнуть ученостью.
— Кажется, я не ошибусь, Дмитрий Михайлович, — сказал он, — если напомню, что японские фортификаторы о маскировке говорят: «Позиция как сфинкс: убивает того, кто не сумел разгадать ее тайну», а?
— Говорят, говорят… — уклоняясь тем самым от ответа на вопрос о Батуеве, поддержал Карбышев старика, — маскировкой в наших условиях приходится связывать почти все инженерные работы. Как? По-разному: например, устройство окопов на заднем скате возвышенностей. Когда у противника нет авиации, для него это самый неприятный сюрприз.
«Выручил! Выручил!» — с восторгом подумал Батуев.
— А в «Сборнике указаний», который вы нам, товарищ Карбышев, привезли, — по-хозяйски осведомился командарм, — все это есть? И как пушечку трех — или шестидюймовую укрыть, и прочее?
— Для инженерных батальонов и строительств, — сказал наштарма, — «Сборник» ваш, Дмитрий Михайлович, конечно, находка: нормы, расчеты. А войсковые командиры не возопиют ли от такой науки?
Карбышев ждал этого вопроса. Только он полагал, что его задаст не начальник штаба, а сам командарм.
— Видите ли, — проговорил он быстро и твердо, — надо раз навсегда условиться: расчеты для инженерных начальников — одно, для войсковых командиров — другое. Путаницы быть не должно. Для инженеров — точные нормы; для командиров — упрощенные выкладки. Это надо принять, как закон…
Молчаливый член Реввоенсовета кивнул головой. Похоже, что понял. Пять человек шагали по снежной тропинке над скатом к реке. Карбышев говорил:
— А технической безграмотности и невежеству пора объявить беспощадную войну. Если саперные командиры, техники строительств, десятники не желают знать своего дела, — с ними один разговор…
— Какой же?
— О саботаже.
— Правильно, — сказали сразу командующий и член Реввоенсовета.
…На выходе с участка командарм заметил убитость Батуева.
— Да ты обедал?
— Никак нет…
— Не умеете, Батуев, с начальством разговаривать, — быстро сказал Карбышев, продолжая «выручать» и для этого уводя разговор с нежелательного пути.
— Почему, Дмитрий Михайлович?
— Разве можно начальству отвечать: никак нет?
— А как же надо?
— «Обедали?» — «Так точно, не обедал…»
— Ха-ха-ха! — загремел «сибирский казачина».
И все засмеялись, даже Батуев.
* * *
Вечером Авк пришел к Карбышеву. Ярко пылала «галанка», в горнице было жарко. Дмитрий Михайлович сидел у стола в расстегнутой гимнастерке и рисовал цветными карандашами. Рисунок изображал огромную комнату, посреди которой, между монбланами схем и чертежей, виднелась фигурка крохотного человечка. Карбышев быстро бросал один карандаш, хватал другой, делал им что-то незаметное и снова бросал; а человечек, с каждой такой манипуляцией, все больше и больше становился похожим на самого художника.
— Садитесь, я вам рад, — сказал Дмитрий Михайлович, рисуя карикатуру на себя для штабной стенгазеты. — Пришли какие-то молодцы, вцепились, согласился. А я ведь знал, что вы придете…
— Неужели? — тихо спросил Батуев.
— Да. Вернее, надеялся, что придете. Хорошо сделали.
— Действительно, — прошептал Авк, — я не мог не прийти. Мне необходимо вам сказать…
Он поднял голову и прямо посмотрел в ожидающее лицо Карбышева.
— Я очень виноват, но… Мне бы и в голову не пришло писать в Москву… Я…
— Кто-то насадил червячка, а вы клюнули?
— Да, именно… Клюнул, как… пескарь.
— Только не вздумайте называть рыболова, — не хочу.
— Нет, назову, — вдруг крикнул, багровея Батуев, — за тем я и пришел. Это он… он…
— Я не хочу, — повторил Карбышев.
— А я не могу…
Авк вскочил, и табуретка, на которой он сидел, с грохотом покатилась в угол.
— Это он, подлец… Свинья… Это Лабунский…
— Я и без вас знал, что это он, — спокойно сказал Карбышев, принимаясь за карандаши, — а вот почему вам надо было его назвать, — непонятно…
— Дмитрий Михайлович…
— Что?
— Простите!
— Давайте руку, Авк!
Глава двадцатая
С декабря девятнадцатого по март двадцатого года Советское правительство четыре раза предлагало белопольским «наполеончикам» мир. Но магнаты и шляхта не желали мира; их неудержимо тянуло к войне. Антанта толкала белополяков на восток. В конце апреля они ринулись через границу и вскоре захватили Киев. Юго-Западный фронт сразу стал важнейшим из фронтов, на которых отбивалась от врагов молодая мощь революции. Штаб Юго-Западного фронта стоял в Харькове.
Белополяки были одной рукой Антанты; армия Врангеля — другой. Когда польские войска захватывали Украину, Врангель готовил удар по Северной Таврии. Силы международного империализма подпирали военную контрреволюцию, откуда бы она ни вела свое наступление. «Крымская заноза»[37] дала себя очень больно почувствовать в начале июня: Врангель высадил десант под Мелитополем и, прорвав фронт Тринадцатой армии от Перекопа на Каховку и Алешки, отбросил пятьдесят вторую и Латышскую дивизии на правый берег Днепра.
В тяжелые дни и грозные ночи прорыва приднепровский городок Берислав оказался в ближайшем тылу фронта и вдруг приобрел весьма немаловажное оперативное значение. Войска, перешедшие на правый берег реки, ускользнули из-под нажима противника только благодаря бериславской переправе. Для переправы служил здесь постоянный мост из разводной части и плотов. Огромные сосновые и еловые колоды были связаны между собой брусьями в плоты. И было таких плотов шестнадцать. Сколько ни случалось до сей поры Петру Якимаху бывать в Бериславе, — с отцом или в одиночку, по базарным или по другим делам, на подводе или на своих двоих, — он всегда смотрел на мост пристально и подолгу, любуясь прочной легкостью сооружения. И сроду не приходило Якимаху на мысль, что доведется ему когда-нибудь вместе с красными саперами рвать этот мост, а потом разводить. Однако довелось…
Петр Якимах? Откуда? Кто такой? Да просто деревенский парень из села Строгановки, что у самого Сиваша. Мальчуганом скакал Якимах по степям на белой кобыле, размашисто вскидывая локтями, словно то были не локти, а флаги, распущенные по ветру. Долго, долго ни о чем не думал Якимах. И казалось, что весь он во власти случая, да еще тех неуловимо-стихийных мотивов, по которым движется, например, вобла к волжскому устью. Но в уездной школе учитель заметил за Якимахом еще и другое. «Не надо на него наседать, — сказал он отцу Якимаха, — он сам до всего дойдет. Уж такая у него голова, что сама до всего доходить должна». Учителя этого расстреляли белые…
Сырая, свежая сила наполняла молодого Якимаха. Стоило взглянуть на его большую голову, плотно прикрытую ометом густых-прегустых волос, на его круглое глазастое лицо, чтобы почуять эту силу. Да и весь он был таков. Губы — влажные; взгляд — горячий, прямой; нос — длинный, честно-любопытный, с живыми тонкими ноздрями; фигура — стройная, крепкая, как бы изготовленная в каждом мускуле к быстрому движению вперед.
Сразу после того, как белые распространились по Таврии, вереницы деревенских парней и молодых мужиков с руганью и проклятиями потянулись на призывные пункты: Врангель объявил мобилизацию. Одни шли, потому что не знали, как избежать беды. Другие знали, как избежать, но по трусости брели за первыми. Третьи не шли, утекая, куда ни попало. Четвертые тоже не шли, а утекали к красным. И, наконец, — пятые; мобилизация не могла их коснуться, так как во время ее объявления они находились не дома, а на территории, занятой красными войсками. Именно в таком положении оказался Петр Якимах. Ни он сам, ни старый отец его, Филипп, — мобилизация застала их обоих в Бериславе, — глазом не моргнули, когда услыхали о том, что творится на левом днепровском берегу. До дома — рукой подать, а попасть туда труднее, чем если бы он был за тысячу верст. Обдумывая свои поступки, можно и колебаться и робеть порой. Но, когда думать поздно, надо предпочитать всему на свете смелость и действие. Филипп сплюнул, да так ловко, что изо рта вылетел давным-давно мучивший его желтый коренной зуб. «А и пускай его, сынок, — с облегчением сказал Филипп, — второй не вырастет, — назад пятиться негоже… Эх-ну!» Он усмехнулся и хитро глянул на Петра блестящими, мокроватыми глазками из-под кустистых бровей. И Петр посмотрел на отца. Он все понимал так же правильно, как и Филипп, но откуда шло к ним обоим это правильное понятие, ни тот, ни другой не разумели. Петр мотнул головой, соглашаясь, и волосы его надо лбом и ушами рассыпались, — кое-где светлые, как пшеничный колос на корню, а кое-где темноватые, как привялая рожь в снопе. По круглому лицу проскочило летучее выражение ясности, будто ветер сдунул с него пыль. «Да чего, — сказал он, полусмеясь, — конечно… Уж теперь оно так… Сам знаю…» — «Что знаешь?» — «Привычка у меня есть». — «Какая?» — «Все могу сделать, когда захочу!»
И действительно ночью Петр уже барахтался с красными саперами в черно-свинцовой воде Днепра, помогая им сперва рвать, а потом разводить бериславский мост…
В общей каше отхода, в неразберихе арьергардных боев совершались удивительные дела. Конники второй кавдивизии обмотали копыта коней своих тряпками, а колеса повозок соломой. В черной прорве безлунной ночи растаяла пустая гладкая степь. Кавалерия шла, как по воздуху, — не звякнет, не стукнет, не заскрипит. Но лошади рвались из поводов и набирали ходу, словно понимая, как нужна быстрота для такого рейда. Всадники тучей окружили село, вихрем вскакали в проулки. Дерзкий налет был удачен, Чеченская дивизия белых попалась, как кур во щи, и сам начальник ее, генерал-ичкеринец, стоял на сельской улице в одном белье, с перекрученными за спиной руками, опустив на грудь голову и размякшие усы. Через сутки пленный генерал отвечал на вопросы Сталина:
— Да, обмундирование, орудия, винтовки, танки, шашки врангелевские войска получают главным образом от англичан, а потом и от французов…
— Да, с моря обслуживают Врангеля английские крупные суда и французские мелкие…
Из показаний пленных было ясно, что Врангель, захватив богатые равнины Северной Таврии, намерен овладеть Донецким бассейном, а затем наступать на Москву. Между восточным изгибом нижнего течения Днепра и Азовским морем кипели бои. Тяжесть их несла на себе Тринадцатая армия. Ее части отходили, отбиваясь контратаками, и к двадцать четвертому июня, закрепились на левом берегу Днепра — от реки через Михайловку до Большого Токмака. Но тут-то и порвалась их связь с пятьдесят второй и Латышской дивизиями, осевшими на правом днепровском берегу, между Херсоном и Никополем. И тогда правобережные дивизии составили особую группу Тринадцатой армии, которая так и стала называться: Правобережной.
За десять дней, которые провел Сталин на станции Синельниково, ближайшее будущее обозначилось в ясных и строгих чертах: родился план разгрома крымской контрреволюции. Новых направлений для решительного удара по Врангелю могло быть два. Одно: Берислав — Чаплинка — Перекоп; оно выводило через семьдесят верст к Перекопскому перешейку и прямо грозило Крыму. Другое: Берислав — Вознесенск — Мелитополь; это било по коммуникациям и по тылу главных сил противника в Александровском и Ореховском районах. Исходным пунктом обоих направлений был Берислав с его покамест разрушенным пловучим мостом и на редкость удобными подъездными путями к переправе. Однако для того, чтобы наступать отсюда по первому, по второму или по обоим направлениям сразу, надо было сперва войскам правобережной группы форсировать Днепр, укрепиться на его левом берегу, устроить надежные переправы и прикрыть их от противника. Не могло быть сомнений в том, что и Врангель отлично понимал значение Берислава. Поэтому один из его корпусов охранял здесь Днепр с сильных позиций, в совершенстве пристреляв свою артиллерию.
При планировании удара по Врангелю именно с правобережного направления, из Берислава и Каховки, были приняты в расчет все условия, при которых возможен успех и невозможно поражение. Связь и взаимодействие между тем, что совершалось на белопольском фронте, и тем, что долженствовало совершиться здесь, в Северной Таврии, были совершенно ясны. Антанта толкала Врангеля в поход на Донбасс и дальше, подпирая таким способом противосоветский белопольский фронт. Какие же цели следовало ставить, нанося Врангелю удар перед воротами Крыма? Конечно, разгром основной массы его войск. Такие разгромы достигаются окружением противника. На идее окружения строился новый план. Правильно выбрать направление главного удара — взнуздать успех, заранее оседлать победу. Направление было выбрано так: главный удар падал из Берислава и Каховки на Калгу, а из-под Бердянска на Мелитополь. Вспомогательный удар приходился по Перекопу для перехвата путей отхода противника в Крым. Итог: окружение и уничтожение основных масс. Шестнадцатого июля в Мариуполь прилетела телеграмма Ленина: «Пленум ЦК принял почти полностью намеченные вами предложения. Полный текст получите, извещайте обязательно раз в неделю подробнее о развитии операций и ходе дел». Этой телеграммой Ленин отвечал на письмо Сталина. Так, в цветущем городке Мариуполе предрешилась гибельная судьба врангелевщины.
Широкая река разливалась по плавням, разбегалась по рукавам и, пристаиваясь в тихих заводях, медленно обтекала то песчаные, то лесистые пересыпи, — Днепр прихотливо и вольно подавался к морю неоглядной гладью синих вод. Ночь приходила. На самом Днепре, на Лимане Великом, на речонках Конке и Домахе, не слышно и не видно ныряли во тьме сотни людей, — красная разведка. Уверенно правя и гребя по черной, как деготь, ночной воде, бойцы Правобережной учились переправе на лодках и плотах. К форсированию Днепра были назначены пятьдесят вторая и Латышская дивизии. Для починки пловучего моста все было готово. В Бериславе собралось невиданное множество лодок. Тыловые склады и базы были набиты боевыми припасами. Гладились грунтовые пути, и усиленно тянулась проволочная связь. Не хватало только строительных материалов для укрепления плацдарма на левом берегу, когда его захватит Правобережная. Да еще и войска на ее усиление прибыли не сполна. Из Екатеринослава походом шагала пятнадцатая стрелковая. И хвостатые эшелоны пятьдесят первой все быстрей и быстрей катили свой грохот по железной колее, — эта дивизия шла из Восточной Сибири.
Войска подходили. На станции Апостолово выгрузилась докатившаяся, наконец, из Сибири пятьдесят первая и тотчас двинулась в Берислав. Пятьдесят первой предстояло форсировать Днепр во втором эшелоне, следом за пятьдесят второй. Это было пятого августа. А на следующий день, шестого, Сталин подписал план-директиву Реввоенсовета фронта о наступлении правобережной группы на Перекоп и Калгу и об обходе левобережными войсками Мелитополя с запада и юго-запада.
* * *
Из поездных составов, докатившихся до станции Апостолово, выгрузились одиннадцать тысяч бойцов и несколько батарей превосходной артиллерии. Отсюда пятьдесят первая дивизия потянулась походным порядком к Бериславу. Затем подошла пятнадцатая и сменила Латышскую ниже Берислава. За двумя дивизионами ТАОН[38] на крестьянских лошадях двигался пловучий парк понтонного батальона. Правобережная группа занимала фронт от устья Днепра до Никополя. Ее основные силы — Латышская дивизия и кавалерия — стояли у Берислава; пятнадцатая — к югу до реки Ингулец; пятьдесят вторая — от Каховки до Никополя. Комиссар правобережной Мехлис объезжал части войск. План наступления держался в строгой тайне. Но в полках и батальонах кипели митинги, шумели беседы.
Юханцев только что провел беседу в одном из полков резерва — в пятьдесят первой дивизии. Он говорил, потом его спрашивали, и он снова говорил. Кругом него были взволнованные бледные лица, сверкающие глаза, жарко дышащие груди, руки, нервно скользившие по холодным ружейным стволам. Что за народ! Жесткие закрутки полуседых волос на круглой голове Юханцева обмякли от пота и свисли на низкий лоб. И лоб был мокр, и щеки пылали, и рубашка — хоть выжимай да суши. А сердце стучит, как молот, высекая звонкий огонь слов. Чудная вещь — партийно-массовая работа! Нет работы лучше. Так поднимает она человека, что становится он и чище и светлее, чем был. Выходит на такую линию внутреннего поведения, что все мелкое точно отскакивает от него, а идейная сила растет, растет… Через тесную связь с партийным разумом как бы подключается человек к самой основе всего, что совершается в мире. И отсюда — начинает видеть в себе необходимую частность громадного. А чуткость воспитывается какая! Дивные самоощущения возникали в Юханцеве каждый раз, когда случалось ему провести беседу, подобную сегодняшней. И от всякой такой беседы надолго сохранялся в нем глубокий след радости за себя и за других, — за всех, кому открывается в настоящем высокая правда будущего. Он втискивался в красноармейскую гущу, раздвигая плечом горячие тела, норовя поскорее пробраться к выходу из барака, — трудовой день Юханцева был в разгаре, и впереди — немало других батальонов и рот, докладов, вопросов, ответов и радостной дрожи в гулком сердце. Пока Юханцев говорил, красноармейцы слушали его, смотрели на него, жадно ловя слова, движения лица и рук. Можно было подумать, что наружность этого крупного человека с глубоко ушедшими под брови серыми глазами навсегда запомнится его слушателям. Но вот он уже не говорит, — он просто идет из барака, проталкиваясь между людьми. Сказанное им сегодня запомнилось надолго, и сам он запомнился, — но только таким, каким был, пока говорил с людьми. А сейчас, в толпе, он — не он; он — как все и неотличим от прочих, совершенно так же, как его гимнастерка неразличима среди сотен других. Юханцев это знал и потому удивился, когда кто-то ухватил его за рукав гимнастерки.
— Здорово, товарищ комиссар!
Перед ним стоял высоченный детина с красными «разговорами» на груди. Широкое лицо его улыбалось. По скулам бегали круглые желвачки. Усы жестко топорщились. Бывает у иных людей необыкновенная память на лица: увидит кого-нибудь такой человек, а потом через десять — пятнадцать лет встретит и вспомнит подробно, где, почему и при каких обстоятельствах видел в первый раз. Именно такая память на лица была у Юханцева. И сейчас он, не колеблясь, сказал:
— Здорово, товарищ Романюта!
Так и глянуло на него из Романюты прошлое: тут и Октябрь на Днестре, и то, как ковалась в Могилеве-Подольском регулярная красная сила, и словесные бои на митингах, и кровь на ружейных штыках, и Наркевич, и Лабунский, и Елочкин, и Карбышев. Память вмиг расправила крылья и птицей пронеслась через горы, леса и реки, сквозь дым отжитого трехлетья к сегодняшнему дню. Романюта прибыл из Иркутска с пятьдесят первой. В Красноярске на вокзале нос к носу столкнулся с Карбышевым. Ехал Карбышев на должность начинарма пятой краснознаменной, в Иркутск. Семья — в теплушке… дочка крохотная… И Елочкин тоже в Иркутске, то есть не в самом Иркутске, — в Забайкалье, строит плацдарм на реке Селенге против американцев и японцев. Он — техник-строитель; а Романюта — помкомроты и временно был там на земляных работах.
— Давно в партии?
Желваки перестали бегать по скулам Романюты. На щеках выбился румянец.
— Беспартийный…
— Что ж так?
Действительно странно. Пятьдесят первая на треть состояла из заводских рабочих; коммунистов и кандидатов было в ней до пятнадцати процентов.
— Что ж так?
— А не все равно, товарищ комиссар?
— Вопрос серьезный.
— Да ведь я, товарищ комиссар, о чем говорю-то?
— Ну?
— Все одному народу служим, все под одним Цека ходим…
Серые глаза Юханцева впились в долговязого командира.
— Я тебя всегда за умного держал, — весело сказал он, — ты и есть таков. И что все под одним Цека ходим — тоже спору нет. А все-таки вопрос мой к тебе — серьезный…
Романюта покраснел еще гуще. И не нашелся, что бы еще сказать.
А сказать было что. Пронзительный человек Юханцев. Но не все проницает. Да, конечно, жизнь — не старая мечта, не обман, не подделка под жизнь. Открывает она перед Романютой себя, и видит он все новые и новые пути молодого дела, неизведанного труда. Похоже на то, как строили люди дома испокон веку, чтобы жить в них; и теперь тоже дома строят, но только совсем не по-старому, а по-новому, и новизне этой нет конца. Не нужно больше Романюте искать впотьмах, ходить вслепую, брать на ощупь. Найдена новая жизнь. И сам Романюта стал новым. Однако же и прежним быть не перестал. Вот сюда не доходит пронзительный Юханцев…
Несколько любопытных окружили Романюту. «Откуда знаешь комиссара?» — «Откуда комиссар тебя знает?» Кто-то спросил:
— А за что воевать, товарищ командир, правильнее — за Россию или за Советскую власть?
Романюта подумал и сказал серьезно.
— За Советскую Россию — вот за что!
— Верно! — послышалось со всех сторон, — а что ж! Другой-то России, не Советской, не бывать… Значит, за Советскую… Верно!
* * *
Общий план операции был таков. В ночь на седьмое августа, до рассвета, войска правобережной группы должны были форсировать Днепр в трех местах. Части, переправившиеся у хутора Попехина, наступали на Алешки и дальше на Большие Копани. Пятнадцатая дивизия переправлялась у Львова, занимала Корсуньский Монастырь и шла на Перекоп. Латышская и пятьдесят вторая наступали двумя бригадами от Берислава. Латышская закреплялась в районе Большой и Малой Каховок, а пятьдесят вторая двигалась на Мелитополь.
Выйдя на левый берег, латыши повертывали вдоль берега к бериславскому мосту, чтобы фланговым ударом поддержать переправлявшуюся здесь бригаду пятьдесят второй. Они же выходили по плавням на Малую Каховку, то есть в тыл частям противника, занимавшим плавни, с тем, чтобы выбить их отсюда. С каждой бригадой переправлялись два легких орудия. Для переправы служили лодки и понтоны. Между тем саперы уже исправляли пловучий мост у Берислава. Черный живой муравейник так и копошился возле моста. Люди рубили, возили, пилили, копали, улаживали, крепили, выкладывали. Пятьдесят первой дивизии с пехотными частями второго эшелона и артиллерией предстояло перейти по готовому мосту. Таков был общий план.
В полночь войска были подведены к местам посадок. Это был мертвый час осеннего безлунья, когда непроглядная тьма слепит живые очи и шенячья ощупь заменяет людям глаза. Куда ни повернись лицом, света нет на земле. Да и земли, и воды, и неба — ничего нет. Непроницаемый мрак проглотил пространство. Но время осталось. Около трех часов ночи первые партии передовых бригад одновременно отплыли от правого берега. И вскоре в той стороне, где пропали стрелки пятьдесят второй, раскатился, грохоча, ружейно-пулеметный огонь. Не нарвались ли стрелки при высадке на белые заставы?..
Саперы исправляли бериславский мост. Пловучие ребра моста двигались, сходясь на воде, послушные воле черных человеческих кучек. А черные человеческие кучки хлопотали изо всех сил, торопясь поспеть к какому-то, им одним известному сроку. На плоту стоял дивинжен[39] Наркевич. Высокий и худой, с бледным лицом и упрямыми глазами, он задрал голову кверху, — то, что совершалось там, наверху, казалось ему сейчас гораздо важнее отлично налаженной муравьиной работы внизу. Он ждал с досадой и тоской. И действительно луна высунула из черной бездны светлый полукруг. И полукруг этот начал увеличиваться с каждой минутой… Петр Якимах подкатывал к реке бревна. Он не глядел на небо; все его помыслы были здесь, на земле, под дрожавшими от усилий босыми ногами. Как ни старался Якимах рассмотреть берег сквозь чернеть ночи, это ему никак не удавалось. И земля-невидимка поглощала все его внимание. Вдруг что-то случилось. Мокрые камни, разбросанные по берегу, блеснули то здесь, то там. Луна? Босые ступни Якимаха явственно засветлели в черной грязи. Ночь голубела. Петр поднял голову и огляделся. Он ожидал увидеть нечто необыкновенное и… увидел.
Белые клочья облаков расползались по небу. Между ними то гасли, то зажигались крупные, яркие звезды. Выше моста, который наводили саперы, как раз насупротив островка, высунувшегося в этом месте из днепровской воды, от левого берега к правому гуськом тянулись несколько больших неповоротливых лодок, глубоко вжатых в воду тяжестью темных людских груд. Над грудами, в бледном свете лунных лучей, остро поблескивали тонкие полоски штыков. Якимах ахнул и перекрестился. «Барон!..» — И, уже не раздумывая, кинулся по берегу туда, где на плоту стоял дивинжен…
Наркевич донес по телефону в штаб дивизии: «Десант». Оттуда ответили: «Отбивай сам!» — «А мост?» — «Наводи». Тогда саперы Наркевича разделились: одни продолжали копошиться на мосту, а другие залегли на плотах и открыли по лодкам белого десанта прицельный ружейный огонь. Откуда-то подошла комендантская мостовая рота с пулеметами — и словно миллионы кузнечиков застрекотали над самой водой. Якимах потянул носом. У воды больше не было обычно свойственного ей и очень хорошо знакомого Якимаху запаха — сладкого, свежего, вольно вливавшегося в грудь. А новый, ни на что не похожий, душный и горячий запах боя, уже стоявший над водой, пока еще не был знаком Якимаху. Лодки белых, густо отстреливаясь, отходили за остров к своему берегу. Наркевич не верил глазам: «Неужели отогнали?» То, что происходило сейчас на Днепре, было очень редким случаем в истории форсирования водных рубежей: бой двух десантов на воде. «Неужели отогнали? Так и есть…»
Но дивинжен не знал главного. Бригада пятьдесят второй, натолкнувшись на заставы противника, продолжала переправу. До того, как показалась луна, она легко переносила бестолковый огонь противника, уверенно ожидая поддержки латышей. А когда луна засияла над всем миром, латыши уже шли по левому берегу Днепра, вверх по реке, выходя во фланг белых, к мосту и по плавням к Малой Каховке. С правого берега заревели пушки. Двадцать орудий били по Каховке, прикрывая переправу. Пятьдесят первая краснознаменная стояла у моста, готовая рвануться в бой.
Наркевич не знал всех обстоятельств дела и быстрое отступление неприятельского десанта относил полностью на боевой счет своих лихих саперов. Однако и на мосту работа не прекращалась ни на минуту. Было ясно, что белые не разбираются в ходе операции. Они вели непрерывный огонь по Бериславу, то есть в сторону от переправлявшейся красной пехоты, Зато мост не выходил из-под их огня. Раненые саперы кульками валились в воду. Якимах вытаскивал их, выносил на берег. Мускулы, как яблоки, накатывались под рукавами его полосатой рубахи. Почему мертвые тяжелее живых? Ветер свистнул над ухом и сорвал фуражку. Якимах наклонился, чтобы положить убитого наземь. Что такое? Откуда кровь, коли боли нет? Так начал Якимах воевать в ночь на седьмое августа…
К рассвету наводка моста была кончена. Полк за полком, батарея за батареей переходили по нему на левый берег. И Романюта перешел со своей, ротой. Войска, переправившиеся еще ночью, уже очищали плавни от неприятельской пехоты. Успех можно было считать несомненным. Правда, по мере того, как пятьдесят первая сосредоточивалась на левом берегу и втягивалась в бой, дело становилось все жарче. Белые отбивались бризантной шрапнелью. Широкие пучки пуль выбрасывались и вперед, по продолжению траектории, и вниз. В серых сумерках рассвета лица людей казались белыми как творог. «Ложись!» Затем: «Бегом, товарищи, за мной!» Но люди лежали. В голове Романюты вертелось: «Одному народу служим, под одним Цека ходим…» Хоть Юханцеву и пришлась эта правда по душе, а вопроса своего о беспартийности он все-таки не снял. Почему? За пригорком маячили три бронированных автомобиля; один из них, пушечный, но он же и самый малосильный из всех, еле шел. Однако хорошего мало. В стороне от лежавшей полуроты с адским грохотом разорвался снаряд. Земля вздохнула, как живая, и люди приникли к ней. Черный, удушливый дым пополз от места разрыва. Сперва заело до слез глаза. Потом шевельнулось в ноздрях; щекочущая судорога подкатилась к горлу, и красноармейцы принялись чихать взапуски… «Ну и ну!..» Романюта приподнялся и поглядел назад. Лица, недавно бывшие белыми, как творог, вдруг окрасились жизнью. «Вишь, раздуй те горой, как берет:..» За самой спиной Романюты кто-то коротко рассмеялся. Тогда Романюта вскочил и крикнул:
— А теперь, товарищи, бегом за мной!
* * *
Через сутки была отбита контратака белых на Каховку. Пятьдесят вторая и Латышская дивизии толкали противника к востоку и к югу, да так напористо, что и не заметили, как очутились у хутора Терны. Тут их остановил приказ Сталина. Это был тот самый приказ, из которого предстояло родиться знаменитому каховскому плацдарму. На позицию между Тернами и Любимовкой потянулись грузы колючей проволоки. Заворошились люди на постройке заграждений. У Большой Каховки войска вели второй мост через Днепр. В дело шли понтоны, баржи, катеры, паромы — все, что оказывалось и здесь, под рукой, и наспех подгонялось из Херсона. Белые отходили по радиусам. Территория плацдарма постепенно расширялась, и все отчетливее обозначались на ней три линии обороны: передовая, основная и предмостная. Отсюда надлежало со временем решительно бить неприятеля. А пока пятьдесят первая дивизия размещалась между кольцами каховских сооружений, — она составляла их гарнизон, — артиллерия гремучим потоком катилась к плацдарму с днепровских переправ. Тяжелые пушки устанавливались на правом берегу; их задачей было прикрывать смыкавшиеся с рекой фланги плацдарма.
Роту Романюты сразу поставили на отрывку окопов для стрельбы «стоя со дна рва», — дело не мудреное, но добиться, чтобы каждый красноармеец все понял, как надо, — нелегко. «Эх, — думал Романюта, — саперов, что ли, нет? А то в прежние времена всегда пехота инструкторов имела».
— Комроты?
— Здесь я…
— Здравствуйте, товарищ! Где это мы с вами встречались? Саперы не подошли?
— Ни души, товарищ дивинжен! А встречались раз сто…
— Хм!
Сегодня ночью Наркевич, как милости, выпрашивал у начинжа правобережной группы Лабунского разрешения снять своих саперов с днепровских переправ и перевести на плацдарм. Лабунский сказал, что сам сделает, но, по обыкновению, либо что-нибудь напутал, либо просто наврал. И вот работы на всей основной линии обороны доводились до конца средствами одной пехоты. Однако постройка проволочной сети и второлинейных окопов обойтись без саперов никак не могла. Окопы должны были быть типа взводных с ходами сообщения, а местами — даже и ротные. Пахучие штабеля свежеотесанных кольев виднелись справа и слева. Кое-где колья торчали из земли, то в два, то в один ряд, и между ними тянулась проволока. Просто чудеса…
— А вы — молодец, товарищ комроты!
— Рад стараться, товарищ дивинжен!..
* * *
Сталин вышел из машины. За ним — командующий правобережной группой и военком группы Мехлис. Сталин стоял на бруствере недоделанного окопа. Земля осыпалась. Но он стоял уверенно и спокойно, твердо упираясь ногами в гребень, и от этой твердости упора гребень переставал осыпаться. Наркевича поразила прочность, с которой Сталин, выйдя из машины на эту кое-как набросанную свежую землю, тотчас же и укрепился на ней. Кожаная фуражка на его темной голове смотрела козырьком кверху. Оглядываясь, он поднял руку к козырьку. Сейчас же уйдя из-под назойливо яркого солнечного блеска, глаза его перестали жмуриться, и Наркевич удивился, заметив, как свет их спокойного взгляда ровно лег на смуглое лицо. Мехлис докладывал:
— Основная полоса обороны — Екатериновка, Софиевка, Любимовка, южнее хутора Сухина, Днепр. Длина внешней линии — сорок километров. Глубина всей полосы до Каховки — двенадцать километров. Площадь плацдарма — двести шестнадцать квдратных километров…
— А начинж правобережной, — спросил Сталин, — понимает свое дело?
— Толков, — сказал Мехлис и почему-то еле заметно усмехнулся.
— Ну?
— Чуть пересаливает от азарта. До сих пор саперов держит на переправах.
— Саперы навели четыре переправы. Теперь их место здесь. Да и начинжа — тоже.
— Приказано, товарищ Сталин, — сказал командующий, — и пятьдесят подвод в его распоряжение.
Мехлис добавил:
— Председателю ревкома в селе Казачьем я велел собрать местных рабочих с топорами.
— Очень хорошо. Завтра к вечеру надо кончать.
— Боюсь, не выйдет, товарищ Сталин, — угнетенно сказал командующий группой.
— А вы не бойтесь, товарищ. Завтра к вечеру закончить постройку окопов для стрельбы стоя; проволочные заграждения установить по всей линия. Это — приказ, товарищи.
Он сказал о приказе самыми обычными словами и самым обыкновенным негромким голосом, но на слова эти и на голос что-то ответило в Наркевиче вихрем мыслей и чувств. Почему нельзя не сделать того, что приказано этим человеком? Командующий группой приложил руку к фуражке.
— Слушаю…
А Сталин уже шагал по гребню насыпи, худощавый и стройный, широкий в плечах, радостно обдуваемый свежим речным ветром. И подходившая к позиции саперная полурота, звонко отозвавшись на его короткое «здорово, товарищи», приостановилась на месте встречи и глядела ему вслед, словно боясь потерять этого человека из виду…
* * *
Лабунский прибыл в Берислав с полевым управлением и, приняв дела от начинжарма, немедленно приступил к работе с бешеной энергией. В его распоряжении были инженерные части четырех дивизий. Понтонные батальоны держали мост через Днепр у Большой Каховки. Мостовики чинили переправу через реку Ингулец. Дорожники исправляли путь между Бериславом и Апостоловым. А саперы наводили у юго-западной окраины города мост на плотах длиной в четыреста метров и грузоподъемностью в триста пудов. Наводили они и еще три переправы — на понтонах у Большой Каховки, мостовую через речку Козьмиху и паромную на канатах у Малой Каховки. Все плясало и вертелось вокруг Лабунского. В Кременчуге на пустом месте вдруг вырос склад лесных материалов. В Снегиревке — другой склад. Отсюда Лабунский уже начал было снабжать лесом не только инженерные части, но и лазареты, хлебопекарни, артиллерийские части, авточасти. Но затем выяснилось, что основной задачей начинжа группы является все же развитие укреплений плацдарма.
Лабунскому казалось, что он совершенно ясно представляет себе идею плацдарма. Мощный ур должен повиснуть над флангами и тылами белых, отвлекая к себе значительные массы их сил. Это — оперативный рычаг. Удержать его — значит сохранить одно из важнейших условий разгрома Врангеля. Не удержать — развязать белым руки для действий на обоих берегах Днепра. Наступая на Донбасс, Врангель одерживал один тактический успех за другим и захватывал территорию за территорией. А перед Екатеринославом вдруг остановился. Почему? Потому что сзади навис каховский плацдарм и требовалась целая армия, чтобы придержать дамоклов меч.
Объезжая передовую линию плацдарма по перепаханной холмистой степи, Лабунский думал: «Черт возьми! Да что же сказал бы по этому поводу Карбышев?» Отдельные окопы кое-как группировались возле кустарников и оврагов. Ни огневой связи, ни искусственных препятствий… Между тем именно здесь стояли войска. Окопы лишь кое-где соединялись ходами сообщения. Профиль «стоя со дна рва» в общем был соблюден. Но левый фланг линии, у Наркевича, примыкал острым углом к берегу Днепра, а на правом вовсе отсутствовал обстрел подступов. «Черт возьми! — думал Лабунский, — этакое безобразие!» То, что с плацдармом связывался конечный успех громадного дела, и то, что он, Лабунский, вдруг очутился на решающей позиции борьбы, и, наконец, то, что в натуре его было много тщеславия, самоуверенности и подвижности (таких людей на Руси звали когда-то «перелетами»), — все это, вместе взятое, поднимало в нем энергию и чрезвычайно взвинчивало сообразительность. Работа захватывала, и из вдохновения ее рождалась тайная мысль: здесь — карьера. Да и не было перед Лабунским никакой другой перспективы, которая могла бы сейчас манить его, звать и смущать. Не было… Однако «перелет» работал не за страх, а за совесть. «При чем тут Карбышев! Надо думать засучив рукава! Вот и все…» Итак, усилить фланги основной линии плацдарма устройством двух выносных линий. На левом фланге укрепить холмы, а на правом взять местность под обстрел. Затем придвинуть проволоку к окопам и вывести вторую полосу препятствий перед основной линией укреплений. Это и есть главное. А уж потом — опорные пункты на передовой линии, узлы сопротивления между основной и передовой, укрытия и землянки…
Лабунский и впрямь засучил рукава. Из снегиревского инженерного склада на автомашинах гнали к нему проволоку и скобы. Дивинжены заготовляли колья. Лабунский почти не расставался с полевым телефоном.
— К завтрашнему утру приготовить три эшелона крытых вагонов. Что? Не можете? Расстрел на месте и конфискация имущества. Все!
Он орал в трубку протодьяконским хриплым басом — не человек, а тромбон. Казалось, что трубка не выдержит, ее разнесет. И люди не выдерживали, пасовали перед бурей угроз. Но не все. На некоторых и это не действовало. И Наркевич, не раз присутствовавший при скандальных заскоках Лабунского, был из самых неустрашимых.
Когда группа правобережных войск была переформирована, в армию, — это произошло вскоре после начала боев за каховский плацдарм, — многое изменилось. Плацдарм перешел в участок армии. Лабунский получил большое назначение в штабе фронта и уехал в Харьков. Наркевича назначили начинжем армии. Бои за плацдарм показали, как умеет Красная Армия бороться на заранее подготовленной укрепленной позиции, имея в виду переход от обороны к контрнаступлению. В этом, собственно, и заключалось тактическое значение битвы за плацдарм.
К этому времени пятьдесят первая стрелковая дивизия пополнилась ударной огневой бригадой. Эта бригада имела по восьмидесяти станковых пулеметов на полк, артиллерию, бомбометы и минометы. Отбивая ночные атаки белых, Романюта сам садился за пулемет. Пехота белых приникала к взъерошенной очередями земле; оторвавшиеся от пехоты броневики, попав под сокрушительный артиллерийский огонь, ерзали и вертелись, стараясь поскорее убраться за внешнюю линию окопов. Батареям было нетрудно охотиться за танками, потому что внутри плацдарма был давно пристрелян каждый метр, а связь действовала безотказно.
После этих ночных боев странное чувство тревожной неуравновешенности мучило Романюту. Откуда оно бралось? Почему казалось Романюте, что для совершенной ясности и полноты его новой жизни недостает чего-то особенно необходимого? И чего именно недостает? До встречи с Юханцевым в Апостолове вопросы эти не возникали. Романюта был очень хороший комроты: опытен, смел, рассудителен, жил с бойцами душа в душу, отлично знал свои права и обязанности. И вдруг: «Почему не в партии?» Нельзя лучше ответить на этот вопрос, чем ответил Романюта. Но теперь, когда он сидел за пулеметом, во мраке ночи, пронизанном потоками невидимого огня, слышал, как растет, как поднимается до неба грохот канонады, чуял, как леденится дух от близкого скрежета чудищ-танков, — теперь, в эти святые минуты соседства со смертью, ему становилось стыдно за свой ответ. Да, конечно, Романюта не тот, каким был, когда ехал в пятнадцатом году из дома после ранения на фронт. И не тот, каким выступал на митинге в Рукшине. Но все еще и не тот Романюта, каким должен быть член партии, чтобы уметь обо всем подумать для партии, все для нее понять и любому бойцу объяснить непонятное, но не беглым случайным словцом, а долгой, хорошей, умной беседой. Что-то мешало Романюте быть таким, как Юханцев. Что мешало, он не знал. Но казалось ему, что помеха глядит из прошлого, и лицо у этой помехи глупое и страшное — заусайловское лицо…
…Склонив крупную полуседую голову к левому плечу, Юханцев старательно выводил шаткие буквы на измятом листе бумаги. Доска на треноге, заменявшая стол, качалась и дрыгала под его локтем. Багровый огонек коптилки плевался сажей. Но буквы ложились одна к другой, и из них постепенно складывалось донесение комиссару бригады. «В 23 часа, — писал Юханцев, — полк занял окопы, где сменил части соседних полков. Политработа в окопах проведена следующая: совещание политруков. Повестка дня: „Занятия в полку с коммунистами и кандидатами“. Беседы: в пешей разведке — „Красная Армия как защитница власти трудящихся“, „Строительство Красной Армии и классовый состав ее“; в 4-й роте — „Основной Закон — Конституция“. Настроение удовлетворительное. Как особо сочувствующего, отмечаю из беспартийного состава комроты 4-й Романюту. Я. Юханцев».
Глава двадцать первая
Фрунзе прибыл в Харьков двадцать шестого сентября утром и в два часа дня приступил к формированию штаба Южного фронта. Через сутки штаб работал.
Фрунзе был в Харькове, мыслями его владел Южфронт, но яркость московских впечатлений еще не ослабела. Как очутился он здесь, на юге? Фрунзе ехал на Западный фронт, когда его задержали в Москве и объявили о новом назначении — на Кавказ. В Кремле, у царь-пушки, Фрунзе встретился с Лениным. «Куда?» — «На Кавказ». — «Э, нет! Поедете на юг!» Действительно решение об образовании Южного фронта не только принято, но и оформлено постановлением Реввоенсовета Республики и директивой главкома. Фронт образован в составе трех армий — Шестой, Тринадцатой и Второй Конной. Мир, хлеб, топливо и металл… Шахтеры Криворожья, забойщики и рудокопы… Врангель — вторая рука международного империализма… Первая — Бело-Польша, вторая — Врангель… После разгрома Деникина, без французов и англичан, Врангель был бы ничто… А с ними он — сила…
— Помните, прошу вас, — говорил Ленин, — Врангелю необходимо нанести в Северной Таврии такое поражение, чтобы можно было на его плечах ворваться в Крым. Как только приедете, тотчас проверьте, — все ли броды известны, все ли изучены… Надо кончить войну до зимы![40]
Ленин не сомневался в успехе.
— У вас есть план. Это — организационное выражение условий победы на крымском участке Юго-Западного фронта. Задача, решением которой должна быть победа, поставлена. Теперь дело за вами…
Подробные установки Фрунзе получил от Политбюро. Цели и средства осенней кампании обозначались в этом документе с чрезвычайной четкостью и прямотой. Каждое слово в них было взвешено и выверено, как тяжесть молота…
* * *
Харьков показался Фрунзе красавцем. Квартира была отведена на Пушкинской улице, в большом белом доме внутри двора. Но командующий, внимательно осматриваясь, проехал вдоль всей Екатеринославской улицы, от начала до Университетской горки, и, глянув отсюда на город, широко и вольно вздохнул. Он ехал на юг и вез в себе настроения удивительной прочности, необыкновенной ясности. В ушах его звучали последние слова Ленина. Первое, что было необходимо, — помощники.
Фрунзе смело брал на себя ответственность за очень многое. Он умел требовать, добиваться, настаивать. Никто, кроме его любимого маленького адъютанта, никогда не видел, как случалось ему с грохотом швырять телефонную трубку на аппарат. Впрочем, возмущение тут же и отливалось через эту трубку. И в тот день, когда он вступал в командование Южным фронтом, она несколько раз с разлету стремительно стукалась о рычаг. Помощники были необходимы.
Фрунзе вспомнил, как легко и весело вел на Волге Куйбышев сложнейшие дела. Вот кого не хватает. И он телеграфировал в Реввоенсовет Республики, прося и настаивая, решительно добиваясь назначения Куйбышева на Южфронт. Атака Крыма потребует огромной инженерной подготовки. Между тем инженерные части стрелковых дивизий только что переформировались. Дивизионные инженеры должны будут теперь руководить работами не одних лишь саперных или дорожно-мостовых рот, но и всего состава дивизий в целом. Появились бригадные инженеры, которых не было раньше. Все это еще не утолклось, не сфасовалось. В штабе фронта болтался Лабунский. Он был энергичен, находчив, но как-то не вполне серьезен. Допустив Лабунского к исполнению обязанностей начальника инженеров фронта, Фрунзе тут же подписал телеграмму в Иркутск, которой вызывал Карбышева из Пятой армии в Харьков.
Фрунзе стоял в своем служебном кабинете перед картой Крыма, висевшей на стене. Он стоял, широко расставив ноги в сапогах из мягкой кожи и глубоко заложив руки в карманы брюк. «Направление главного удара, — думал он, — в такой полосе, где разгром врага обеспечен… И действительно — какая же может быть другая полоса, если не правый берег Днепра, не Берислав, не Каховка?.. Здесь — ударная группа… Отсюда — удар на Мелитополь и Перекоп…
Решает конница… Как молот, она падает на белых из резерва фронта и дробит их… Да, все это так… только так и может быть оперативно и тактически решена задача разгрома… Врангель натыкается на преграду… Соединение с белополяками срывается… Начало конца… И наряду со всем этим — плацдарм у Каховки… Прекрасная мысль!..»
Задача военного предвидения не в том, чтобы угадать события, а в том, чтобы правильно понять их общий ход и пути дальнейшего развития. Фрунзе смотрел на карту и ясно видел угрозу, способную разрушить план: главными силами левой колонны своих войск Врангель идет на Макеевку, огибая Юзовку с востока. Донбасс эвакуируется; да и на Кубани положение не из твердых. Общее наступление против белых не готово. Да оно и не возможно до подхода Первой Конной армии с Западного фронта. Что же остается? Каховка. Для осуществления плана необходимо теперь же нанести из Каховки несколько ударов по белым. Это позволит расширить плацдарм на северо-восток и закрепиться на никопольском участке. Без наводки нового моста у Никополя невозможно быстро развертывать войска, особенно конницу. Как был бы нужен такой мост вот здесь, у Горностаевки…
Фрунзе быстрым и легким шагом обошел кабинет и вновь остановился перед картой. «А может быть и так, что суть дела вовсе не в наступлении Врангеля на Донбасс… Надо только ясно представить себе общестратегическую обстановку, и тогда… очень, очень может быть, что это всего лишь вспомогательный удар… Тогда свою главную стратегическую задачу белые будут решать на правом берегу… И оборонительная вылазка с каховского плацдарма силой вещей превратится в далеко идущую вперед наступательную операцию…» А Первая Конная Буденного уже летит на фронт Кременчуг — Елизаветград. И крылья ей подвязал сам Ленин.
* * *
Седьмого октября Фрунзе получил сведения о том, что, хотя Рижский договор о прелиминарных условиях мира между Советской Россией, Украиной и Польшей будет подписан не позже следующего дня, но военные действия продолжатся еще не меньше недели, так как варшавское правительство отнюдь не спешит с утверждением договора. Фрунзе догадывался: подозрительная медлительность белополяков. несомненно, инспирирована из Франции, из Америки и должна находиться в связи с планами Врангеля.
Фрунзе не ошибся. В ночь на восьмое, перед рассветом, белые форсировали Днепр у Александровска и Ушкалки; пехота повела от Александровска наступление на запад, а конница от Ушкалки на Апостолово и Никополь. Весы успеха белых закачались. На одной из чашек лежала навязанная Врангелю из-за рубежа стратагема, на другой — Черноморское побережье, хозяином которого он больше всего желал стать.
Фрунзе разослал по Реввоенсоветам всех армий фронта циркулярную телеграмму: «Противником начато решительное наступление против нашей правобережной группы, рассчитанное на уничтожение ее до подхода наших подразделений. Это наступление имеет в то же время огромное политическое значение, ибо стоит в теснейшей связи с мирными переговорами в Риге и бьет на срыв их… Параллельно с нашими неудачами на юге растут польские притязания. Перед армиями Южного фронта стоит задача не допустить этого срыва и обеспечить путем ликвидации нынешних врангелевских попыток мир с Польшей. Необходимо внушить каждому красноармейцу, что сейчас решается дело мира не только на юге России, но и на западе. Республика ждет от нас исполнения долга». Фрунзе подписал телеграмму. Она не была ни боевым приказом, ни чисто военной директивой. Но еще на Восточном фронте Фрунзе взял за обязательное правило сочетать в своей работе оперативно-стратегические вопросы с политическими. И теперь считал установление между ними органической связи самым прямым своим делом.
Жестокие встречные бои громыхали близ Ушкалки, Бабина и восточнее Никополя. Вторая конная, разбросав свои части, не столько била белых, сколько с трудом от них отбивалась. Приходилось двигать подкрепления из резерва фронта. Когда же можно будет, наконец, перейти от обороны к наступлению? Это попрежнему зависело от подхода Первой Конной. А Первая еще не докатилась и до Александрии. Фрунзе писал в приказе: «Товарищи красноармейцы, командиры и комиссары! Дело победы и мира в наших руках. В этот последний грозный момент решения тяжбы труда с капиталом вся Россия смотрит на нас. Из края в край по родной нашей стране прокатился клич „Все на помощь Южному фронту!“ И эта помощь уже идет. От нас, от нашей воли, нашей энергии зависит счастье и благополучие всей страны».
Приказ был подписан ночью. А ранним утром, еще до света, наштафронта доложил командующему свежие данные, добытые полковыми разведчиками с правого фланга Шестой армии. Сомневаться не приходилось: второй армейский корпус противника готовился к атаке каховского плацдарма…
* * *
Бюллетень подива[41] призывал: «Красноармеец! Польша затягивает заключение мира. Она надеется на Врангеля, который думает нанести нам удар с юга и сорвать мир с Польшей. Разбей Врангеля! Отбей у польской шляхты охоту воевать с нами, заставь ее идти на мир!»
Юханцев говорил бойцам:
— Может, и сидел бы Врангель за своими перешейками смирно, да хозяева не велят. Вот и полез на правую сторону Днепра доказывать, что Красная Армия воевать не умеет. И не нынче-завтра насядет на наш плацдарм. Будь Красная Армия с бароном один на один, давно бы и пуха от него не стало. Хоть Врангель — сила, но не главная, а главная стоит за его спиной. Отбиваем мы у белых пулеметы Кольта, — чьи они? Американские. Берем пулеметы Шоша, — откуда? Из Франции. Бронемашины Остин — английские, Фиат — итальянские. Авиация почти вся, как есть, французская. Гаубицы сорокапятилинейные Англия ему поднесла. Седла, и те канадские. Чуете, товарищи?
— Чуем! — вразброд и хором отвечали слушатели.
Горячие глаза их остро поблескивали на хмурых лицах. «Отчего бы и не воевать барону, коли буржуи со всего света помочь норовят…» Юханцев огляделся. Как он любил эту жаркую духоту скапливающегося в воздухе гнева, грозные вздохи и внезапную бледность обескровленных ненавистью щек! Здесь рождается страсть, а из страсти — победа.
— И все-таки не может того быть, чтобы не побили мы Врангеля…
Будто звон вдруг разжавшейся тугой пружины, вырвался в ответ свежий голос:
— Зададим чёсу, головы не сыщет!
На парня зашикали:
— Т-ссс, Якимах!
Юханцев обернулся. Круглое лицо, глаза, как морская вода под солнцем, и фигура, в мгновенном порыве выдавшаяся вперед, словно не комиссар объяснял бюллетень политотдела, а любимая звала и никак не могла дозваться любимого.
— Уняньчим дитё, не пикнет!
— Почему думаешь? — с жадным предчувствием радости спросил Юханцев.
— Так ведь, товарищ военком… Пленного спросишь: «За что воюешь?» — «Не знаю», — говорит. А мы-то про себя знаем!..
Редкая беседа сходила без того, чтобы Якимах не поддался порыву и не разжал своих пружин. Гнездилась в нем стихийная сила, и остановить ее было нельзя.
— Петька — анархист, — смеялся потом главный ротный насмешник, рыжий, шадровитый парень, — анархия — мать беспорядка. Верно, Петр?
— Ни анархистом, ни дураком никогда не был, — огрызался Якимах, — а ты, брат, со мной не шути, когда я всерьез…
Его прямые, широкие плечи, железные руки, с ровными блестящими ногтями, стройные, сильные ноги — все это не очень-то располагало к шуткам. Но и «всерьез» получалось не всегда. Якимах любил помечтать, призадуматься. Его быстрая мысль любила облететь мир на крыльях древних русских загадок: иду туда, не знаю куда; ищу то, не знаю что. И если приступ мечтательности овладевал Якимахом посреди беседы, а привычка поддаваться настроению действовала сама по себе, то и случалось ему вдруг ни с того, ни с сего такое брякнуть, что шадровитый парень с неделю потом потешал роту петькиным «анархизмом» и все никак не мог успокоиться…
* * *
Четырнадцатого октября, перед рассветом, по всей двадцатисемиверстной длине оборонительной линии плацдарма заполыхал огневой бой. Особенно горяч он был на бугристых флангах линии, где как подступы, так и промежутки между участками позиций простреливались с великим трудом. Дрожащая в пламенных вспышках, неоглядная лента окопов прорывалась то здесь, то там. Многорядная проволока с визгом лопалась под напором ревущих танков. За танками бежала пехота. Стрелки пятьдесят первой, сбитые на южных секторах обороны, все скорей и скорей оголяли ее внешнюю линию. Уже не было места, где не рвались бы снаряды и не взлетали к небу фонтаны песка и пыли. Танки, с пехотой за спиной, все решительнее проникали на плацдарм, распространяясь между внешней и внутренней линиями обороны. Горбатые чудища ползли, опорожняя одну за другой десятки пулеметных лент. Вой гигантского боевого котла наполнял плацдарм. Судорожно вздрагивая, неуклюже повертываясь вокруг невидимой оси, скрежеща железом и лязгая сталью, чудища перли вдоль окопов.
Романюта ни одной минуты не думал, как надо бороться с нашествием танков. До сегодняшнего утра он и представить себе не мог, чем должен быть такой бой. А во время боя, — где и когда думать? По этой причине ему казалось, что все его действия, а также и действия его роты, которой он как будто даже и не приказывал ничего «особенного», складывались сами собой, не то по какому-то наитию, не то просто по необходимости. Когда танк подползал к окопу, Романюта и его бойцы прятались в щель, а, пропустив танк, выскакивали. Романюта кричал:
— По наступающей пехоте!..
Стрелки залегали и били с колена и лежа по белым цепям, которые бежали за своим танком, никак не ожидая внезапно возникавшего за его хвостом огня. А Романюта с охотниками, по полдюжине со взвода, нагонял танк. Красноармейцы с нечеловечьей цепкостью взбирались на загривок урода. В отверстия втыкались штыки, в бойницы летели ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Танк, обезображенный словно оспой, следами пуль и глубокими вмятинами от осколков, остановился. Дверца его приоткрылась, и оттуда выглянуло облитое кровью лицо человека с пушистыми седыми усами.
— Чер-рт!..
— Коли белую контру!
Но человек в полковничьих погонах все-таки прыгнул наземь. Дуло винтовки смотрело в его красные глаза. Он вскинул маузер.
— Врешь, баронский прихвостень!
Танк мгновенно облип людьми. Пехотинцы лезли из окопов с гранатами в руках. У танка закипела сшибка. Но продолжалась она недолго — может быть, минуту или меньше. Человек с седыми усами лежал на земле.
— Так в грязь и мырнул, — сказал, отдуваясь, красноармеец.
Романюта стоял рядом и смотрел на мертвого Заусайлова. Да, это был его старый командир. «Мертвый… Мертвый — это уже не живой, — мелькало в мыслях Романюты, — а стало быть, и не человек. Не че-ло-век…» Итак, Заусайлова больше не было. Но для Романюты его смерть означала неизмеримо больше того, чем, по существу, была. В глазах и в сознании Романюты Заусайлов всегда был самым живым, а следовательно, и самым подлинным олицетворением прошлого. Без Заусайлова Романюта не видел и не понимал прошлого. И, наоборот, он не видел и не понимал как следует настоящего, пока не настала сейчас эта минута: лежит мертвый Заусайлов. Не один Заусайлов — все прошлое лежало сейчас здесь, растоптанное и в грязи. Оно окончательно, бесповоротно умерло — перестало существовать, утратило способность быть. Ничто никогда не сможет больше уничтожить разрыв между Романютой и этим прошлым. Разрыв обозначился давно — с первых дней службы Романюты в Красной Армии. Но его бездонность стала очевидной лишь сейчас, когда самое реальное олицетворение прошлого испустило дух. Романюта смотрел на труп врага, и новая, совершенно новая воля к жизни вспыхивала в нем с неудержимой силой. Почему?..
Перед внутренней линией укреплений белые осадили назад. Ни одолеть ее с фронта, ни устоять против огня они не могли. Между тем пятьдесят первая переходила в контратаку. Белые постепенно скатывались с плацдарма, оставляя подбитые орудия, танки, бронемашины, пулеметы. Ударная огневая бригада пятьдесят первой дивизии уже вышла к хутору, оставив основную линию шагах в пятистах позади себя. Конница охватывала правый фланг противника. А резервные войска переправлялись через Днепр и выдвигались к Корсуньскому монастырю, чтобы сковать сводно-гвардейский полк белых с его многопушечными батареями.
* * *
К вечеру четырнадцатого октября решительное поражение белых на каховском плацдарме было фактом. За этот день они отдали десять танков, пять бронемашин, больше семидесяти пулеметов и растеряли без остатка пехотные полки двух дивизий. «Это — начало крушения Врангеля», — думал Фрунзе. И он приказал командарму Шестой немедленно использовать неудачу противника у Каховки и довершить его разгром. Для этого командарм Шестой должен был подтянуть свои свободные резервы и ночью перейти в наступление с плацдарма всеми наличными силами. Левому флангу Шестой армии надлежало перегруппироваться в течение суток и атаковать противника на правом берегу, близ Апостолова и Грушевки, преградив ему путь отхода на Ушкалку. Частям Тринадцатой армии — завершить ликвидацию врангелевцев на александровских переправах, а затем обратиться к Никополю и Грушевке для действий в белом тылу. Итак, из отбитой атаки на каховский плацдарм возникал могучий удар по бежавшему врагу; а сражение на Правобережье, неудачно начатое слабыми оборонительными действиями Второй Конной армии, превращалось, мыслью Фрунзе, в грозное наступление…
* * *
Прочность положения на плацдарме не вызывала сомнений. Внешняя линия была полностью занята частями пятьдесят первой и Латышской дивизий. Белые отошли к своим старым позициям. Вокруг высоты громоздились безобразные остатки подбитых танков. Чтобы оттянуть их стальные трупы поглубже на плацдарм, к ним припрягались грузовики. Но танки не поддавались, — грузовики их не брали. Наркевич облазил и тщательно оглядел искалеченные машины изнутри и снаружи. Один из танков можно было починить; остальные приходилось рвать на месте. По всему плацдарму саперы и пехота трудились над восстановлением разрушенного в страшный день атаки. Наркевичу было ясно, что каховский плацдарм сделал свое дело, сохранив за Шестой армией левый берег Днепра и прикрыв переправы. А рано утром Лабунский, сопровождавший Фрунзе в поездке на фронт, звонил Наркевичу из Снегиревки, где стоял штарм Шестой, и хрипел простуженным басом: «Тактическое несовершенство позиций… Технические недостатки укреплений… Все это потребовало для обороны плацдарма много лишней живой силы… Чрезмерные потери при обороне». Верно: в некоторых полках пятьдесят первой дивизии выбыло из строя до восьмидесяти процентов командиров, а красноармейцев — до половины. Верно, что в инженерном смысле плацдарм далек от идеала, — строительство шло наспех, с неимоверными трудностями, да еще и передавалось на ходу из рук в руки. Но каким же все-таки образом оказывается Лабунский вправе валить с больной головы на здоровую? Разве, сдавая Наркевичу плацдарм, он не бахвалился своей работой? Разве не говорил, уезжая в Харьков, что «врубился» в историю, оборудовав плацдарм? А сколько пришлось Наркевичу доделывать после него? «Наглец!..»
Лабунский и теперь продолжал бахвалиться своим начальственным положением. И, всячески давая понять, что посвящен в секретные планы командования, явственно намекал на решение Фрунзе временно воздержаться от развития контрудара под Каховкой. Собственно, это было ясно и без Лабунского. Армии Южного фронта все еще не были готовы к наступлению, и общий контур будущего сражения в Северной Таврии никак не мог вполне определиться. Формировалась новая армия — Четвертая. Конечно, Лабунский знал обо всем этом. Но знал и Наркевич. А вот были ли известны Лабунскому положительные планы Фрунзе? Наркевич сомневался. И окончательно убедился в своей правоте, когда командарм Шестой вызвал его в Снегиревку.
Командарм Шестой был человек слабый, сбивчивый, но старательный, смелый и беззаветно преданный делу. Восторженным голосом он передавал инженерам категорическое приказание командующего фронтом: в дополнение к каховской переправе немедленно устроить еще одну у Херсона, с расчетом на переброску дивизии за срок в восемь ночных часов, и другую, в районе Ушкалки и Нижнего Рогачика, для переброски двух дивизий с артиллерией за срок в двенадцать часов. Лабунский выслушал и пожал плечами. Не напутал ли чего-нибудь командарм Шестой? Каховская переправа может без труда перебросить за ночь пять дивизий. А если так, то третьей переправы вовсе не надо. Командарм Шестой взволновался и потребовал сведений о запасах понтонного имущества.
Наркевич доложил: для двух мостов не хватит. Стало быть, если действительно мост в районе Ушкалки и Нижнего Рогачика необходим, то уж никакого другого моста в ином месте построить будет невозможно. Что же делать? И вот командарм, Лабунский и Наркевич отправились к Фрунзе, в соседний дом. Было поздно, и Фрунзе собирался спать — сидел на кровати, спустив на пол ноги без сапог, в разболтавшихся солдатских портянках. Он внимательно выслушал командарма, потом — Лабунского и, взглянув на часы, сказал:
— Однако…
Портянки отвалились от ног; Фрунзе с видимым удовольствием расправил маленькие, суховатые ступни и потянулся всем телом.
— Переправа у Нижнего Рогачика необходима. Вторая Конная наведет такую же у Никополя и займет плацдарм на. левом берегу. Первая Конная идет на Берислав и будет там не позже двадцать третьего. Каховский плацдарм надо держать самым прочным образом. Он прикрывает выход Буденного. А иначе незачем и собирать Первую Конную у Берислава. Так что… Покойной ночи, товарищи!
Наркевич взглянул на Лабунского. У начинжа фронта было такое лицо, словно он уже совсем приготовился чихнуть, да что-то помешало. «Наглец!..»
* * *
В Большой Каховке, на площади у церкви, неподалеку от того места, где стыкаются три дороги — из Тернов, с хутора Куликовского и из села Любимовки, — выстроились два батальона стрелков, окруженные плотной толпой крестьян — баб, стариков и подростков.
— Смир-рно! Р-равнение на-право!
Летучей молнией взметнулся к небу блеск штыков и замер. К батальонам подходил с рукой у козырька невысокий, плотноватый и коренастый человек, в гимнастерке с синими кавалерийскими нашивками на груди. Кривая шашка, в ножнах под густой серебряной оковкой, ровно ударяясь о сапог, вторила его твердому шагу. Каховка справляла торжество военной победы. И Фрунзе хотел объяснить собравшимся здесь людям ее значение и смысл…
Фрунзе заговорил:
— Товарищи! Вся рабоче-крестьянская Россия, затаив дух, следит сейчас за нами, за ходом нашей борьбы здесь, на врангелевском фронте. Россия жаждет мира. Она хочет поскорей приняться за лечение ран, нанесенных ей войной. Пора ей забыть о муках и лишениях прошлого. Но Врангель стоит на ее пути. Он запродал Россию вместе с ее богатствами английским и французским ростовщикам. Он надеялся сорвать наш мир с Польшей. Не выгорело! И мир с Польшей подписан, и славные войска пятьдесят первой стрелковой дивизии нанесли врагу под Каховкой блистательный ответный удар. Здесь предрешилась судьба кампании. Товарищи! Россия знает об этом и говорит вам: спасибо!
Он поднял руку. Взгляд его глаз был чист и прозрачен, как небо в полдень. И свет глубокого чувства радостно сиял на лице.
— Товарищи! Ушкалка — в наших руках. Никополь, Хортица и Бурвальд тоже заняты нами. Противника на правом берегу Днепра больше нет. Это — начало крушения Врангеля. Мы должны его крушение довершить и избавить родину от зимней войны, свести последние счеты труда с капиталом. Да здравствует могучая Красная Армия — оплот и защита трудящихся! Да здравствует новая Россия, утверждающаяся на развалинах мира насилия, — Республика рабочих и крестьян, царство социализма!..
…Командарм Шестой объявил, что Московский Совет принял шефство над пятьдесят первой стрелковой дивизией. Несколько человек в порыжелых кожанках и высоких сапогах, с худыми, суровыми лицами, выступили вперед — представители Моссовета. Один из них держал в руках высокое древко. Знамя медленно расправляло под слабеньким ветром свои алые складки. Сквозь серую пелену тусклого осеннего неба, как струйка золотого песка из прорвавшейся мешковины, вдруг вылился на площадь блеск холодного солнца.
Тогда ветер заиграл складками знамени, и оно заплескалось, постепенно собирая разбегающиеся буквы в ровной строке: «Смерть Врангелю!»
Романюта и за ним боец оторвались от строя и зашагали навстречу представителям Моссовета. Подходя, они враз, скорым и четким движением, сняли шапки с голов. И знамя, развеваясь, шурша и подщелкивая шелковой волной длинного полотнища, перешло сперва в руки Романюты, а затем — бойца…
…Два вполне исправных танка, из числа захваченных у белых на плацдарме, медленно двигались через площадь. На первом сверкала надпись: «Москвич-пролетарий». Его вел Наркевич. Подведя «Москвича» к батальонам, Наркевич выключил мотор и выпрыгнул наружу. Кажется, никогда в жизни не были его мысли так готовы к тому, чтобы вылиться в словах, как в эту минуту. И в том, что простотой своей они несколько походили на арифметику для начинающих, заключался главный, самый неопровержимый их смысл. Рядом с бесформенной громадиной танка высокая и тонкая фигура Наркевича казалась гораздо выше и тоньше, чем была в действительности.
— С начала гражданской войны, товарищи, в первый раз случилось красным войскам сразиться с танками. И вот за два дня боев на плацдарме — девять белых танков подбито, а десятый сгорел. Накануне атаки в танковом дивизионе второго армейского врангелевского корпуса было только двенадцать танков. Значит, осталось два. Всего два! Из тринадцати броневиков подбито шесть. А сколько вреда могли бы наделать эти подбитые теперь танки и бронемашины еще через несколько дней, когда двинется Шестая армия на Перекоп?..
Наркевич и еще говорил что-то, но слова его почему-то вдруг перестали звучать. Лишь видно было, как широко раскрывал он узкие красные губы и как вспыхивали, точно огоньки выстрелов, его глаза. Красноармейцы с немым изумлением смотрели на танки. Многим из них казалось сейчас невероятным, как это можно было не только бороться с этакими уродами, а еще и одолевать их. И многие из многих не верили себе, вспоминая себя в этой борьбе и в этой победе.
Принимая на каховском параде шефское знамя для своей дивизии, Романюта был полон радостных ощущений жизни. Деятельная кровь разливалась по его телу, обжигая тугие жилы. Романюте было свойственно разгораться изнутри, а не снаружи. Радость есть бодрость духа; бодрость — свидетельство силы; а сила — надежда и залог победы. Романюта давно уже знал: чтобы делать новое, надо самому быть новым, нести в себе новизну как часть себя. И теперь он был именно таким — новым.
Вечером торжественного для Каховки дня Романюта отправился в штаб полка и разыскал там Юханцева.
— Здравствуйте, товарищ военком!
— Здорово!
— К вам.
— Ясно.
«Почему же ему ясно?» — смущенно подумал Романюта. И Юханцев тоже подумал: «А не зря ли я в ясновидение ударился?»
— Рано пришли, товарищ, — сказал он, улыбаясь серыми глазами, — не готовы еще карточки. А завтра два экземпляра получите с надписью: «Командир роты такого-то стрелкового полка пятьдесят первой Московской дивизии такой-то принимает шефское знамя Моссовета». Будь благонадежен!
— Хорошо, — тихо проговорил Романюта, — и вот вам еще заявление…
Юханцев живо проглядел листок желтоватой бумаги. «Наконец-то!»
— Надумал?
— Да.
— А рекомендует тебя в партию начинарм товарищ Наркевич?
— Он.
— Да ведь одной рекомендации мало.
Романюта молчал. Юханцев рассмеялся.
— Вот и выходит, дружище, что придется еще и мне тебя рекомендовать…
Глава двадцать вторая
Дождь сек, не переставая, третий день. Снег падал мокрыми комками и расползался лужами по вязкой земле. Общее наступление задерживалось из-за погоды.
Фрунзе признавал за успехами на фронте значение перелома. Операция Врангеля на правом днепровском берегу имела очень широкий размах. При удаче она грозила уничтожением всех живых средств Южного фронта. Но зато и провал ее означал не больше, не меньше, как начало стратегического конца войны. Достигнут был также важный оперативный результат: возможность дальнейших ударов по Врангелю. Прикрываясь конными арьергардами, он уводил свои главные силы за мелитопольские укрепленные позиции и сосредоточивал их в районе Серогоз. Фрунзе ясно видел, что противник расстрелял запасы пороха. Для сколько-нибудь серьезных действий белые теперь не годились. Их обессилили, обезволили последние поражения; они были неактивны. Фрунзе опасался уже не вспышек их контрнаступательной энергии, а, наоборот, — отсутствия порывов. Врангель был достаточно умен, чтобы понять, где выгоднейшее для него решение; оно заключалось в том, чтобы отбиваться пехотными частями от нажима с севера и с востока на линии мелитопольских укреплений, а конницу бросить на запад Таким способом Врангель мог добиться если не победы, то свободного отхода в Крым.
Это было ясно Фрунзе. Но предположения его шли гораздо дальше. Можно было не сомневаться, что Врангель будет до последнего держаться в Северной Таврии, чтобы не отходить в Крым. Строго говоря, даже разгром в Заднепровье не вполне сломил его. Крым для Врангеля — голод и лишения; это — признание невозможности продолжать активную борьбу, это — разрыв с Францией, которая интересуется белым «вождем» лишь до тех пор, пока у него есть перспективы на будущее. Удержаться в Северной Таврии Врангелю надо было не по причинам военно-оперативной целесообразности, а из соображений политико-экономической необходимости. И Фрунзе готовился спутать эти карты решительным наступлением.
Косые полосы холодного дождя били в зеркальные стекла вагонных окон, смывая налипший по углам снег. В черной прорве ненастной ночи барахтались, смутно поблескивая, станционные фонари. Поезд командующего фронтом стоял в Апостолове, против вокзала, на запасном пути.
В «салоне» вагона № 76 командармы шумно разбирали стулья и рассаживались у ломберного стола. Члены армейских ревсоветов сидели на диване. Среди них обращал на себя внимание широкоплечий и широколицый человек, с острыми маленькими глазами и длинным, узким ртом. В отличие от других, он держал себя связанно и неловко. Медленно раздвигал тонкие губы и шевелил подбородком, как будто собираясь что-то сказать, но не говорил ни слова. И только его толстая, несколько дряблая шея багровела от скрытого напряжения. Это был Щаденко, член Реввоенсовета Первой Конной армии. Первая Конная подходила, наконец, к Бериславу бесконечным потоком эскадронов, батарей и обозов. Позади — шестьсот километров форсированного марша. И сегодня еще — восемьдесят на переменном аллюре. А завтра — переправа по понтонам через голубой от ледяной корки Днепр и выход с каховского направления на маневренный простор серых, сухих и мерзлых Таврических степей.
Фрунзе изложил план наступления. Цель — окружить и уничтожить силы белых севернее перешейков. Численное превосходство — с очевидностью на нашей стороне. Такого еще и не бывало, по крайней мере, на Южном фронте в двадцатом году. Размах наступления — большой. Оно должно развернуться на линии в триста пятьдесят километров. Идея — удары по флангам, тылам и сообщениям в сочетании с фронтальной атакой. Фланговые и фронтальные удары должны привести к полному окружению и уничтожению белых.
— В этом, товарищи, — сказал Фрунзе, — коренной, конечный, смысл оперативности замысла. И это надо очень хорошо понять.
Он посмотрел на лица командармов. Пожалуй, никогда еще не приходилось ему видеть на них такую общность в выражении чувства и такое единство согласующейся мысли. Да, — они отдавали себе отчет в громадной важности предстоящего. Они знали, что на этом ночном совещании, в ярко освещенном вагоне командующего фронтом, планировался коней военной контрреволюции в Советской России, завершение гражданской войны. Отсюда же открывался переход к трудовому будущему победоносной Республики…
Однако командарм Шестой спросил:
— А если не удастся взять Перекоп с налета?
— Тогда надо немедленно приступить к подготовке артиллерийской и инженерной атаки перешейков. Артиллерии у вас довольно. А инженерных войск…
У Фрунзе была привычка точно знать подобные вещи. Но сейчас что то заскочило в его памяти. Сколько имелось в Шестой армии инженерных частей и каких именно? Он задумчиво почесал щеку. Командарм Шестой копался в своей папке. Его руки прыгали, листы бумаги мелькали, как карты в колоде, а нужная справка никак не отыскивалась. Фрунзе пожал плечами и посмотрел на потолок.
— Пожалуйста, — приказал он адъютанту, — пригласите сюда товарища Лабунского.
Через минуту Лабунский стоял возле маленького адъютанта — огромный, вытянувшийся, готовый выскочить от усердия из самого себя.
— Не помните ли, Аркадий Васильевич, чем богат начинарм Шестой?
— Четыре понтонных батальона, три дорожно-мостовые роты и одна прожекторная, товарищ командующий!
— Благодарю!
— Так и есть! — командарм Шестой хлопнул ладонью по отыскавшейся, наконец, справке. — Точно!
— Вот вам и средства для инженерной атаки…
Когда Лабунский вышел, плечистая, широкая фигура Шаденки зашевелилась на диване, складки по сторонам его рта вытянулись и, наклонившись к соседу, щупленькому члену Реввоенсовета фронта Гусеву, он медленно, но громко сказал:
— Не сбрехал, так еще сбрешет. Факт!
* * *
В тот день, когда Карбышев с женой и дочерью приехал в Харьков, на город валился густой мокрый снег. Привокзальная площадь утонула под белой периной. С крыши шестиэтажной громадины, где помещалось управление Южных железных дорог, то и дело срывались и летели вниз целые сугробы, тяжко плюхались наземь и отскакивали от нее фонтанами грязных и холодных брызг.
Карбышевы ехали из Иркутска до Харькова ровно три недели. Времени было довольно, чтобы мысленно распроститься с тем прошлым, которое оставалось вместе с Пятой краснознаменной армией в Сибири, и приготовиться к встрече с будущим, смутно рисовавшимся в телеграмме Фрунзе.
К тому времени, когда Карбышев добрался до Иркутска, — это было в июле, — с Колчаком уже все было кончено. Однако на Дальнем Востоке еще сидели американские и японские захватчики. Военных действий почти не было, но интервенция продолжалась. Японцы ушли из Верхнеудинска только осенью. Банды Семенова, Унгерна вовсе не собирались складывать оружие. Чтобы сделать возможными дальнейшие операции по очищению Восточной Сибири, надо было укрепить забайкальский плацдарм. Еще до приезда Карбышева в военно-полевых строительствах Пятой армии уже знали о нем. «Не только руководить, а и учить будет». И действительно Карбышев привез с собой множество инструкций и положений, составленных им частью на Волге, а частью по дороге в Сибирь. Многое из привезенного было очень ценно в практическом смысле, настолько ценно, что почти тотчас стало распространяться в качестве неписанного закона. В Забайкалье производились крупные оборонительные работы, рубился лес, прокладывались подъездные пути, рылись окопы, строились блиндажи, — возможность возобновления военных действий отнюдь не была исключена. Через реку Селенгу перекидывали мост к Верхнеудинску, возводили на противоположном берегу предмостное укрепление, усиливали позицию, прикрывавшую Баргузинский тракт.
Карбышев оправдал ожидания. Вместе с ним в полевые строительства Пятой армии ворвался свежий ветер. Технические расчеты сооружений были налицо в типовых чертежах привезенных с Волги инструкции. Но о том, как надо рассчитывать организационную сторону работы, военные инженеры в Восточной Сибири не имели никакого понятия. Карбышев ездил по Селенгинскому рубежу и, всюду наводя порядок и экономию в людях, извлекал из нового опыта новые организационные нормы.
Почти непрерывно объезжая позиции, начинарм Пятой успевал все же заглядывать и в штаб армии, и в свое собственное управление начальника инженеров и даже раза два-три в неделю обязательно попадать к себе домой. Карбышевы занимали две комнаты в квартире, до потолка заставленной сундуками и корзинами с хозяйским добром. Хозяйка, подобно своему имуществу, имела неохватную емкость. Дыша, как кузнечный мех над горном, она ежедневно с раннего утра обрушивалась на Лидию Васильевну лавиной комплиментов и забот. Можно было подумать, что благополучие семьи Карбышевых было ее единственной целью. Врываясь к Лидии Васильевне, она говорила уже с порога: «А вы опять похорошели, моя милая! Если это будет так продолжаться, то чем же кончится?..» Стоило Ляльке проснуться от ее одышливого голоса и заплакать, как она в восторге закатывала круглые глаза: «Что за ребенок! Какая неслыханная душка!..»
В Иркутске субботники начались весной. Сперва расчистили вокзал. Потом привели в порядок пристань и городской сад. Карбышев, был самым деятельным и активным участником работ «великого почина». С тех пор, как Елочкина перевели с линии в управление тридцать четвертого военно-полевого строительства, Карбышев постоянно встречал его на субботниках. Из писем с родины Елочкин давно уже знал о гибели своего отца; от Карбышева ему стали теперь известны и подробности. На родину его не тянуло. Но и Сибирь как-то не приходилась ему по нутру. Зато, услыхав от кого-то, будто в Москве открылось военно-инженерное училище, он испытал острый приступ тоски. Училище это сделалось его мечтой.
— Уж так, Дмитрий Михайлович, по науке скучно, — говорил он Карбышеву, — слов нет, ей-ей!
Однако слова нашлись. И он сунул Карбышеву листок бумаги.
— Коли охота будет, прочтите… Из души вышло… Это были стихи.
Уходящие годины Нашей жизни молодой Мы с тоскою проводили, Мой товарищ дорогой! Но вперед лишь стоит глянуть, Чтоб над радужной мечтой Не остынуть, не завянуть, Мой товарищ дорогой! Электрическою дрожью Входит в жилы ток живой. Знанье нам всего дороже, Мой товарищ дорогой!Карбышев был плохим ценителем стихов. И в этом произведении Елочкина отметил для себя лишь две черты. Во-первых, редкую душевность: «Из души вышло». И, во-вторых, «мы» вместо «я». Последнее особенно бросилось в глаза. Карбышев вдруг понял, как просто и правдиво это народное «мы», «наш» в устах Елочкина, как далеко это «мы» от всяких противоречий и расхождений и как много таится за ним хороших, товарищеских, дружеских, «артельных» чувств…
Тихая улыбка, как фонарь, освещала задумчивое горбоносое лицо Елочкина. И взгляд убегал в далекое будущее за тысячи железных километров от Иркутска и Селенги. Он верил в будущее и ждал его. А Карбышев, как всегда, был с головой погружен в настоящее. И поэтому телеграмма от Фрунзе с вызовом в Харьков на должность начинжа Южфронта оказалась для него совершенной внезапностью. Впрочем, решение он принял сразу.
— Едем, Елочкин? Из Харькова и в школу легче..
— Мы всегда готовы, Дмитрий Михайлович…
— Ячейка не заспорит?
— Уладим.
* * *
В тот самый день, когда Карбышевы и Елочкин после трехнедельного путешествия очутились, наконец, на заваленных сугробами харьковских улицах, из короткой поездки по фронту вернулся в город Фрунзе. Штаб Южфронта был расквартирован на Георгиевской площади, в большом старинном доме с колоннами и высоким подъездом. Карбышев поднялся в бельэтаж. Здесь, налево от подъезда, была приемная командующего, с окнами на белый под снегом, широкий сквер. Фрунзе принял Дмитрия Михайловича в кабинете один на один, с дружественной и ласковой простотой. С первых же слов разговора Карбышев понял главное: опоздал. Три недели, в продолжение которых тащился он через Сибирь и Украину, — огромный срок. И фронт не мог оставаться без начальника инженеров. Лабунский знает свое дело, энергичен и старателен. Он лишь исполняет должность начинжа — не утвержден, да и не будет утвержден, так как должность предназначена не для него. Но сейчас, на самом последнем и самом решительном этапе борьбы с Врангелем, сменять Лабунского было бы так же опасно, как наездника под конец скачки.
Правильно. Эту правильность Карбышев так сразу и так полно почувствовал, что не успел не только огорчиться, но даже испытать естественное разочарование. Ведь он ехал в Харьков не на должность, а на дело. Обстоятельства так сложились, что должность могла бы даже помешать делу. Давнишняя «строевитость» Карбышева, всегда облегчавшая ему прямое и безотказное выполнение долга, с годами и опытом превращалась в благородную способность жертвовать собой для всех, в глубоко осознанное побуждение подчиняться требованиям общей пользы. То, что сейчас произошло, было тяжелым случаем на его пути к выполнению долга. Но если разобраться как следует, казус отяжелялся лишь пустой частностью. Удар Карбышевскому самолюбию наносился только личностью Лабунского. А уж это было такой мелочью, которую человеку с крупным, по-настоящему большим самолюбием было и вовсе нетрудно перенести. И Карбышев спросил:
— Прльикажете быть заместителем начинжа фронта, товарищ командующий?
— Согласны? — обрадовался Фрунзе. — Гора с плеч! Да ведь и не это же существенно…
— А что?
Карбышев смотрел пристально, не мигая. Маленькая, острая фигура его была спружинена и поджата. То, что казалось ему главным по началу разговора, было уже теперь позади. Теперь он ждал настоящего главного, которым решалось самое дело. И с радостью услышал:
— Прежде всего вам надо будет включиться в разработку плана двух штурмов: Перекопа и Чонгара…
* * *
Под инженерное управление фронта был отведен у речки Лопани большой двухэтажный дом. Колченогая канцелярская мебель, разбросанная в беспорядке по двум десяткам грязноватых комнат, придавала помещению на редкость неуютный вид. Хотя Лабунский и был на фронте, но как бы незримо присутствовал в своем управлении.
— Кабак!
Карбышев сидел в маленьком кабинетике, который очистили для него на втором этаже, рядом с большой и пустынной комнатой заседаний. Против Карбышева пристроился на поломанном стуле Дрейлинг.
— Кабак! — повторил Карбышев.
Дрейлинг занимал в управлении должность инспектора для поручений и отнюдь не имел своего прежнего, брызжущего здоровьем и самодовольством вида. Он не то, что отощал, а как бы спал с тела и особенно с лица, совершенно утратившего прежний ветчинный оттенок. При этаком, несколько новом обличье Дрейлинг, однако, сохранил без каких бы то ни было изменений корректную добропорядочность своих манер и приемы несокрушимой благовоспитанности. Встреча с Карбышевым ничуть не была ему приятна. «Еще одно начальство!» Но с этим человеком связывались воспоминания о добрых старых временах, а это уже было кое-что. Лабунский, в глазах Дрейлинга, не имел такого преимущества. Как же не поддаться искушению? Притаившаяся душа Дрейлинга давно жаждала случая излиться, посетовать искренне и без опаски.
— Есть народная поговорка, — говорил Дрейлинг, — мы, русские люди, все ее знаем: каков поп, таков и приход. Лабунский — талантливый руководитель, но он чрезвычайно хаотичен. Эти свойства отзываются на аппарате, который тоже хаотичен. Это какая-то Русь удельной эпохи. И во главе — Святополк Окаянный!
— Похож, как… обезьяна на человека! — засмеялся Карбышев.
И Дрейлинг тоже смеялся, отводя душу, то есть отдавая должное остроумию собеседника и еще больше восторгаясь своим собственным.
— Но нет худа без добра, — продолжал он, — я пришлю к вам сегодня нашего хозяйственника. Великолепный малый. Он будет очень полезен вам для устройства ваших квартирных и бытовых дел, мебель, посуда, — отыщет, доставит. И все это — совершенно pour la bonne bouche[42], из одного усердия. Великий мастер на маленькие дела. Его чрезвычайно ценит Лабунский. Сегодня пришлю. Кстати: он работал перед войной в Бресте. Может быть, вы даже…
— А как фамилия этого Калиостро?[43]
— Жмуркин.
Карбышев вздрогнул, но так незаметно, что Дрейлинг имел возможность совершенно спокойно и не спеша вернуться к основной теме разговора.
— Вообще здесь, на юге, нас собралось немало старых инженерных служак. Лабунский… Вы, я… Наркевич… И еще… еще кое-кто… Что такое — военные инженеры? Одна боевая семья, маленькая, но удивительно дружная, с общим прошлым и параллельными воспоминаниями. Ищите нас там, где пылает очаг войны. Мы все — близ него, налицо и в полном составе, крепко стоим и отлично делаем свое дело. В настоящее время очаг войны — здесь, на юге. Казалось бы, как нужен нам именно здесь твердый, неуклонный порядок! Однако его нет и в помине. Все пошло вверх ногами, в особенности с тех пор, как началась эта пресловутая «кампания победы», — газеты, листовки, бюллетени, митинги, беседы, конференции беспартийных, сверкающие глаза ораторов и лихорадочные клятвы уничтожить Врангеля. Из политотделов направляются в войска первой линии коммунисты. Они-то и ораторствуют, по преимуществу. Меня недавно затащили на одну из таких конференций. И я позволил себе тоже высказаться. Я сказал прямо: лобовой штурм укреплений Перекопа будет стоить очень большой крови. Недавно Врангель осматривал перекопские позиции. Мне известно, как он отозвался о них: «Многое сделано, многое предстоит еще сделать, но Крым уже и теперь неприступен». Я, конечно, не привел этой фразы Врангеля, а между тем…
— Откуда вы знаете, Оскар Адольфович, что говорил Врангель о Перекопе? — быстро спросил Карбышев.
Дрейлинг слегка зарумянился и на минуту стал похож на прежнего себя.
— Право, я… не припомню. Между тем стоило мне высказаться в этом смысле, как некий комиссар, по фамилии Юханцев, наговорил мне такого, что… Словом, пусть они клянутся уничтожить Врангеля, а я дал себе честное слово молчать, как рыба.
Фамилия Юханцева ударила знакомым звуком в уши Карбышева, но почти не задела сознания. «Может быть, другой?»
— Таким способом, — говорил Дрейлинг, — хотят поднять наступательный порыв войск…
— Естественно, — сказал Карбышев, — ведь больше всего страдает от войны народ. А наши войска — тот же народ. Как же могут они равнодушно относиться к вопросу о том, ради чего, во имя чего ведется война? Уж коли народ воюет, так надо ему знать: почему да зачем?
— Возможно, — полусогласился Дрейлинг, — но я не понимаю… В Первой и во Второй Конных армиях выступает с речами товарищ Калинин, — прекрасно. По приказанию товарища Фрунзе распространяется в войсках превосходно написанная директива политуправления фронта, — очень хорошо. Но на фронте совсем мало снарядов и патронов… вовсе нет зимнего обмундирования… Между тем морозы наступили рано, сегодня пятнадцать ниже ноля…
Выражение лица Карбышева было серьезно и неподвижно. Он проговорил быстро и решительно:
— Сухомлиновых теперь нет. Нехватка не от них.
Дрейлинг наклонил голову.
— Да, но Антанта существует попрежнему. Есть точные сведения о намерениях ее военно-морского командования активно действовать против открытых городов Черноморского побережья…
Дрейлинг взглянул на Карбышева и вдруг догадался: разговор этот был с самого начала веден совершенно неправильно. Удивительно, что догадки подобного рода всегда приходили Дрейлингу слишком поздно. Почему бы это? А ведь каждая ошибка подобного рода обязательно чревата неприятностями. Но на этот раз Дрейлингу не пришлось томиться ожиданием неприятностей. Карбышев вскочил из-за стола, обошел, почти обежал свой маленький кабинетик и, остановившись перед Оскаром Адольфовичем, сказал:
— Вы вот, кажется, любите русские пословицы. Я — тоже. Есть одна — прекрасная…
— К-какая?
— Собака, чего лаешь? Волков пугаю. А зачем хвост поджала? Волков боюсь. Нравится? Нет? Ну, что же делать! Трудно казаться. Но еще труднее — быть. А Жмуркина прошу прислать непременно.
— Вы его действительно знаете?
— Очень хорошо. И сегодня же выгоню со службы…
* * *
Чуть засветилось утро двадцать восьмого, как Первая Конная на рысях проскочила через Берислав, переправилась через Днепр на Каховку и вынеслась в левобережную степь, сухую и холодную, стремясь перерезать выходы к перешейкам — заслонить собой с севера Крым. Одновременно открыла наступление и пятьдесят первая дивизия Шестой армии. Должны были также наступать и Вторая Конная, и Тринадцатая, и Четвертая армии. Начиналась последняя битва за Крым.
Через сутки Фрунзе доносил Ленину: к полудню атакованы и разбиты все номерные дивизии белых, кроме одной — Дроздовской. Уцелела еще и конница. Но пути отхода на Перекоп уже отрезаны. Остается свободной лишь дорога через Сальково. Судьба битвы к северу от перешейков решалась теперь именно здесь — на Чонгаре, — так по крайней мере можно, было думать двадцать девятого утром. Но предпринятая в этот день пятьдесят первой дивизией попытка с налета овладеть укреплениями Перекопского перешейка сорвалась. Дивизия заняла разбитый артиллерией город Перекоп, но перед пылающей лентой окопов третьей линии, перед огнедышащей громадиной Турецкого вала дивизия залегла. Штурм не удался. Между тем части Первой Конной вышли к Салькову. Основная северо-таврическая группировка Врангеля была окружена. Но это было только оперативное[44] окружение. И массы белой конницы все-таки пробивались на Чонгар. Бои у Чонгарского и Сивашского мостов принимали затяжной характер. А тяжелая артиллерия так и не дошла до места действия, — застряла из-за нехватки тяги на пути в Кременчуге. И Азовская флотилия никак не могла вырваться из льдов таганрогской бухты, от ее использования для поддержки операции с моря пришлось отказаться. Белые уходили в Крым…
В чем же заключались смысл и значение этой битвы? Очевидно, в том, что ею завершался первый этап ликвидации Врангеля. Его главные силы полегли перед перешейками и уже больше не встанут. Здесь захвачено двадцать тысяч пленных, сотня орудий и почти все обозы. Собственно, лишь отдельные части врангелевцев прорвались в Крым через Сальково и Чонгар. Не так уж много их и на Турецком валу. Зато на всем северном побережье Сиваша нет ни одного белого солдата. Теперь задача состояла в том, чтобы не дать Врангелю ни часа для приведения себя в порядок, чтобы не позволить ему ни опомниться, ни оглядеться, ни перегруппироваться. Для этого надо было немедленно штурмовать перекопские позиции. Пятьдесят первая дивизия стояла перед Турецким валом. Но она стояла там после отбитого штурма. Бросать ее в новую лобовую атаку, не подкрепив со стороны, рискованно, так как вторая неудача может оказаться непоправимо последней. Чем же подкрепить? Конечно, обходным движением через Сиваш.
Мысли Фрунзе со всех сторон шли к этому выводу. И вывод, как бы раскрываясь, чтобы принять его мысли, становился зримым, ясным и живым. Фрунзе умел так рассуждать. Он был полководцем не только потому, что хотел им быть, а еще и потому, что мог. Это «могу» не упало на него с неба. Он заплатил за него сотнями прочитанных книг, множеством часов глубокого раздумья над прошлым и будущим войны. У него было время, чтобы научиться искусству, как служить будущему знанием прошлого. В 1737 году русский фельдмаршал Ласси обошел перекопские укрепления по Арабатской косе и, переправившись на полуостров в устье реки Салгира, очутился в тылу крымского хана. Это был умный и смелый маневр. Но для воспроизведения его требовалась поддержка с моря. Она была у Ласси, — его поддерживала флотилия адмирала Бредаля. А у Шестой армии ее не было, так как Азовская флотилия стояла не где-нибудь возле Геническа, а за ледяными полями таганрогской бухты. Итак, маневр Ласси для простого повторения не годился. Жаль… очень жаль! Однако он мог пригодиться для воссоздания в ином, новом плане. И это уже будет не план Ласси; это будет план Фрунзе: пятьдесят первая дивизия штурмует Перекоп в лоб, а две дивизии из армейского резерва обходят перешеек через Сиваш, чтобы выйти на слабо укрепленный Литовский полуостров, очистить его и двинуться против правого фланга тыловых юшунских позиций. Вот — план Фрунзе…
* * *
Штаб Южного фронта только что перебрался из Харькова в Мелитополь. Здесь, пятого ноября, Фрунзе подписал приказ о форсировании крымских перешейков. Тридцатая дивизия Четвертой армии на Чонгаре оказывалась в хвосте общего расчета. Ее подготовка к наступлению явно отставала, и это беспокоило Фрунзе. Из Отрады, где стоял штаб Первой Конной, он вернулся на станцию Рыково. Здесь его ожидал поезд, а в поезде командарм Четвертой.
— Здравствуйте, — сказал Фрунзе, входя в вагон № 16, — ну-с? Я вас слушаю.
Командарм сейчас же начал докладывать. Весь Чонгар изрезан окопами, ходами сообщения, траншеями и блиндажами. Сивашский железнодорожный мост взорван белыми при отходе, а Чонгарский деревянный — сожжен. Дамба через Сиваш разбита. Дно обоих проливов опутано проволокой. Переправа вброд невозможна еще и по глубине. К счастью, противник не успел спалить штабель шестиметровых бревен и потопить круглое железо. Саперы и пехота тридцатой дивизии ладят под жестоким огнем бронированный плот для переправы пулеметов, два пешеходных моста и еще один большой для прохода всех родов войск.
— Трудно?
Командарм Четвертой покрутил головой: «Уж так трудно!» Тылы оторваны, нет ни тяжелой артиллерии, ни авиации. Пилить доски нечем, сваи забивать — тоже… Вообще…
— А все-таки к ночи на одиннадцатое надо кончить!
Командарм не стал объяснять, почему считал приказание невыполнимым, — это было бы повторением только что высказанных жалоб, — но не сказал и обычного «слушаю». Он молчал. Фрунзе подумал, глядя в окно.
— Хорошо, — проговорил он, — я пришлю к вам Лабунского. Он поможет. Но кончить — к ночи на одиннадцатое!
— Слушаю! — сказал командарм, просветляясь в лице, — а когда прибудет товарищ Лабунский?
— Сегодня…
Еще ночью задул сильный ветер, и сразу стало заметно холоднее. Старенький трескучий автомобиль катился по северным берегам Сиваша, через редкие деревни и частые хуторки. На хатах, клунях, плетнях, оградах и дорогах — везде лежал белый пушок тонкого инея. Утро дышало зимой. Фрунзе, в бекеше и серой папахе, говорил своему маленькому адъютанту:
— Драгоценные часы…
Колышась живой поверхностью, серая равнина Гнилого моря уходила из глаз в туманную даль. Солнце боязливо выглядывало из-за быстро летевших туч. Когда его бледные лучи падали на море, оно зажигалось холодным стальным блеском. Вдоль берега белела широкая полоса солонцоватой земли. И далеко-далеко от нее выступали из-под воды отмели и пересыпи. Пока дует западный ветер, Сиваш проходим вброд. Но ветер может измениться, — подуть с востока, и тогда Азовское море вернет Гнилому его грязные, вонючие волны. Тогда Сиваш станет непреодолимой преградой.
— Драгоценные часы… «Стратегический» ветер… Командарм Шестой думает, что штурм Турецкого вала войсками пятьдесят первой дивизии — самый главный из задуманных Фрунзе ударов. Тут его ошибка. Перекопский участок занят белыми очень плотно. Со слабыми укреплениями Литовского полуострова, куда предстоит выйти через Сиваш пятьдесят второй и пятнадцатой дивизиям, его и сравнивать нельзя. Кроме того, он не дает атакующему решительно никаких возможностей для маневра. Неделю назад пятьдесят первая уже отпрянула от твердынь Турецкого вала. Вот почему главный из задуманных Фрунзе ударов — вовсе не штурм Перекопа, а его обход. Но ни отставать от главного, ни опережать его вспомогательные удары не могут. Объехав штабы трех армий и оглядев дивизии, предназначенные для обходного движения, Фрунзе торопился теперь на Перекоп…
…Бесчисленные руки рабов в незапамятные времена воздвигли мощные сооружения Турецкого вала. Не одну сотню лет татарские ханы и беи искали и находили за ним безопасность от набегов кочевых степняков. Вал тянется на одиннадцать километров и, словно горный кряж, загораживает собой северные ворота Крыма. Камень отвесных стен поднимается на два десятка метров со дна глубокого рва. Перед валом — две полосы проволоки по шести рядов кольев. На скате рва — полоса, на подъеме к валу — другая. Итого — двадцать четыре ряда проволочных заграждений. Это уже не дело древних рабов; крымские ханы тоже тут ни при чем. Здесь поработал Врангель.
Ветер выл и свистел, гоня на восток клубки сухого перекати-поля, — «стратегический» ветер. Туман уже не был так густ, как утром, но все еще плавал и вился вокруг Турецкого вала. Автомобиль катился, скрипя и вздрагивая, прямо к плоской высотке, означенной на картах, как «9,3». Здесь был командный пункт штадива пятьдесят первой. Но сегодня высота «9,3» значила больше, чем простой командный пункт. Два человека — один коренастый, в бурке, а другой смуглый и усатый, в синей венгерке — встретили Фрунзе. Они ждали его с явным нетерпением, и сейчас же все трое согнулись над картой, лежавшей на скамье. Фрунзе что-то вычерчивал карандашом на карте.
— Отсюда, с участка между Владимировкой и Строгановкой, — говорил он, наклоняя голову набок и заглядывая в глаза то Ворошилову, то Буденному, а то и обоих сразу обводя спокойным, внимательным взглядом, — отсюда через Сиваш сегодня вечером в двадцать два… А штурм Перекопа — на рассвете… Первой Конной — активнейшая роль: развитие успеха на перешейке… Телеграмма Ильичу…
Фрунзе присел на скамью. Карандаш его забегал.
— Вот телеграмма, товарищи: «Сегодня, в день годовщины рабоче-крестьянской революции, от имени армий Южного фронта, изготовившихся к последнему удару на логовище смертельно раненого зверя, и ог имени славных орлов Первой Конной армии — привет. Железная пехота, лихая конница, непобедимая артиллерия, зоркая стремительная авиация дружными усилиями освободят последний участок Советской земли от всех врагов».
— Не телеграмма — присяга! — сказал Буденный, — подписать — жизнь отдать.
— Да и день нынче таков! — заметил Ворошилов. — Новому миру — три года, старому — последний вздох!
И три подписи дружно легли под клятвенной телеграммой.
* * *
— Въехать-то въедете, а вот как выберетесь…
Это говорил, тряся бровями, дед Якимах из деревни Строгановки.
— Сколь раз отсель на Литовский бродили, без счету, уж так знаем, так знаем, а все бывало на ветер глядишь, — эх-ну!
У северных берегов — камыши. Дальше — гладь соленых вод, бездонные ямы, полные густой «рапы», лазурная пустыня смерти. О смерти думалось всем. Но помереть не пришлось никому. Возвратясь из разведки, командиры соломой обтирали сапоги, щепой скребли грязь с шинелей и штанов. Разведка удалась. Да, с таким знаменитым проводником, как дед Якимах, и не могло быть иначе. Отыскали три брода по нескольку километров длины каждый. И тут же началась подготовка к форсированию Сиваша. Войска старательно чинили обувь, плели маты, ставили вехи. Дед Якимах то и дело выводил саперов на броды. И саперы прокладывали через море дороги из фашин, сучьев, досок, бревен. Тоскливо помаргивая мокрыми глазками, дед следил за быстрым ходом облаков; раздумчиво качая головой, встречал и провожал наскоки вдруг осерчавшего и крепко засеверившего ветра.
— Эх-ну!
Велик день — седьмое ноября. Но было в тот день серо, туманно и холодно. С утра илистое дно Сиваша покрылось блестящей коркой. Стоило тронуть корку, как она ломалась и липкая, вязкая грязь проступала наружу. Туман не сходил. Начало темнеть с обеда, и в окнах сельских хат замерцали бледнооранжевые огоньки. На деревенских улицах войска еще строилась в колонны, а штурмовые части дивизий уже спускались в это время к невидимой прорве Гнилого моря и одна за другой бесследно исчезали в ледяной, вонючей бездне. Размызганные сапоги Романюты почти мгновенно наполнились какой-то странно колючей, остро-едкой водой. И колола вода как раз в тех местах, где кожа была истерта ходьбой на маршах. «Соль», — догадался Романюта. Сколько ни оглядывался он назад, ничего не мог разглядеть. Но люди его шли за ним. Под ногами у них смачно хлюпала «рапа», и тяжко сопели в темноте остуженные глотки.
С каждой минутой становилось все морознее. Тянуло, пожалуй, уже градусов на пятнадцать. Мокрая шинель Романюты так отвердела выше пояса, будто кроили ее из листового железа. А полы шинели купались в ледяной жиже. И все его тело мало-помалу превращалось в насквозь промерзшую сосульку. Теперь он шел, не открывая глаз. Его сил еще хватало, чтобы идти. Но того крохотного излишка сил, который необходим для того, чтобы поднимались веки, уже не было. Да и были глаза ненужны Романюте в мертвой тьме этой страшной ночи. Вдруг чья-то цепкая рука ухватила его за плечо.
— Куда лезешь? Топиться, что ль?
Романюта заставил себя открыть глаза, но не увидел, а каким-то полузрительным чутьем уловил абрис высокой тощей фигуры проводника с длинной палкой.
— Сюда, сюда, иди! — строго сказал дед Якимак.
Шли долго, очень долго, — часа три или еще дольше. Казалось, что никогда уже и не кончится этот путь. Но чем отдаленнее представлялось его завершение, тем неожиданнее наступил конец. Что-то неясное затрепетало впереди, это мог быть лишь свет. Голубые мечи прожекторов замахнулись над Гнилым морем. Ноги внезапно учуяли крутой подъем берега. Грохот ружейных залпов разлился в темноте. Где-то всплеснулось «ура!». Совсем близко, на проволоке, захрапела штыковая свалка. Войска выходили на Литовский полуостров тремя колоннами…
* * *
Туманная ночь привела за собой непроглядное утро. Атаковать Турецкий вал на рассвете было невозможно. Артиллерийская подготовка началась только в девять. В тринадцать полки пятьдесят первой двинулись в атаку.
С высоты «9,3», где находился Фрунзе, были ясно видны развалины города Перекопа, — сбитый верх колокольни, черный скелет церкви, огрызки кирпичных стен и тюрьма без крыши. Затем — рыжий бруствер рва, разрывы наших шрапнелей и огнистая линия укреплений на валу. Но стоило оторвать бинокль от глаз, как панорама боя мгновенно исчезала. Тянулись голые просторы, с буграми давным-давно наваренной грязно-белой соли и серым месивом расплывшихся дорог, — больше ничего.
Атака отхлынула от вала, рассыпалась и залегла. Снова заревели пушки. Из резерва вышли восемнадцать бронемашин. Но части правого фланга атаки и на этот раз были сбиты. От тракта Перекоп — Армянск до моря, на восьми километрах, закипала сумятица. На левом фланге — от тракта до Сиваша — ударно-огневая бригада держалась твердо, но общий ход дела от этого не менялся. И третья атака рассыпалась перед рвом…
Это был неуспех. Однако не он решал задачу дня. Задача решалась там, где наносился сегодня главный удар, — на Литовском полуострове. А там белые смяты, пятнадцатая и пятьдесят вторая дивизии вышли на перешеек к востоку от Армянского базара, грозя флангу и тылу перекопских укреплений. Надо было еще усилить этот удар, — двинуть через Сиваш свежие войска…
Фрунзе приехал в Строгановку около семи часов вечера. Это был тяжелый момент. Неудача атак на Турецкий вал определилась. И с Литовского полуострова сведения получались неутешительные. Белые отбросили наступавшие с полуострова войска. Огнем врангелевских кораблей остановлена девятая дивизия на Арабатской стрелке. Лабунский проявил нечеловеческую энергию на Чонгаре: плот и переправа уже построены. Но командарм Четвертой доносит, что форсировать пролив раньше ночи на одиннадцатое все-таки никак не может. Потребовал самолетов, — Фрунзе почти всю авиацию фронта отдал ему…
Еще недавно Владимировка и Строгановка были забиты войсками, — люди в хатах и в клунях, в сараях и на улицах. Теперь, когда все это ушло через Сиваш, в обоих селах было пусто и тихо. Фрунзе сидел в штабе пятнадцатой дивизии у стола с картой и, задумчиво чертя что-то карандашом на копиях приказов, ждал известий у аппарата. Над окном свистели телеграфные провода. Кто-то басом пел в трубе, жалобно взвизгивал за дверью и сердито гудел на чердаке. Еле слышно перешептывались штабники. В горницу вошел Наркевич. От того, что он был мокр, плечи его казались еще уже обыкновенного, а фигура еще длиннее. Бледное лицо странно подергивалось. Всякий, кто знал его обычную манеру держаться, сейчас же сказал бы: Наркевич в тревоге.
— Товарищ командующий, — сказал он, — разрешите доложить.
Фрунзе поднял на него внимательный взгляд лучистых глаз.
— Да…
— С линии связи доносят о повышении воды…
Фрунзе хотел спросить: «Проверили?» Но, взглянув на мокрую шинель начинарма и жидкую грязь, стекавшую с его сапог, выговорил другое:
— Тогда… За дело!
Ветер начал меняться с утра. Днем мутные волы Азовского моря уже рвались к западным берегам Сиваша, но броды до самого вечера все-таки не были под угрозой. За день удалось собрать кое-какие войска ближних резервов и с хода двинуть в Сиваш — на подмогу. Но для дивизий, которые с прошлой ночи дрались на Литовском полуострове, это было слабой подмогой. Должна подойти седьмая кавалерийская. Если она подойдет раньше, чем Сиваш станет полноводным, — хорошо. А если нет? Беда! Полки пятнадцатой и пятьдесят второй дивизий окажутся отрезанными по гу сторону моря. Что же надо сделать, чтобы не случилось такой беды? «Пятьдесят первая… Пятьдесят первая… Пятьдесят первая…» Наконец, штадив пятьдесят первой — у аппарата.
— Вода заливает Сиваш, — говорит Фрунзе, — приказываю немедленно атаковать и во что бы то ни стало захватить Турецкий вал, а затем наступать на Армянский базар. За невыполнение приказа ответите перед партией.
О бок с Фрунзе стоит дед Якимах.
— Вы — председатель строгановского ревкома?
— Мы…
Удивительно, что дед Якимах все понимает с полуслова. А разговор его с командующим не прост. Чтобы не погибло дело, надо сохранить пути через Сиваш. Нельзя допустить затопления бродов. Только скорая постройка дамбы может прекратить повышение воды. Трудная работа! Фрунзе двинет на нее наличный состав всех поблизости расквартированных тыловых учреждений и команд. Но… Дед Якимах качает головой. Кустистые брови его прыгают.
— Эх-ну, да разве без нас, мужиков, сладишь?
И действительно без мобилизации окрестного населения на предохранительные работы по возведению дамбы не обойтись. Пусть же ревет и воет восточный ветер, пронзительный скрип арбяных колес незаглушим. Крестьяне везут со всех сторон материалы для дамбы. Все круче да звонче перехлестывается над Сивашом их мерная украинская речь с бойким русским говором красноармейцев. И все гуще ползет через море на Литовский берег живая подача патронов, хлеба и пресной воды…
Фрунзе решил задержаться в Строгановке до полного выяснения обстановки, — правильное решение, так как испытания этого ненастного вечера были далеки от конца. Когда неожиданно перестал действовать провод между Строгановкой и Литовским полуостровом, положение сразу сделалось грозным.
— Почему оборвалась связь?
Наркевич доложил:
— Вероятно, соленая вода разъела изоляцию.
— Что же вы предлагаете для восстановления связи?
Наркевич молчал. Кто-то из штабистов сказал:
— Может быть, провод на шестах подвесить?
Шестов не было. И леса на много километров вокруг тоже не было. Фрунзе посмотрел на штабника с удивлением. Глупость всегда вызывала в нем удивление. Из-за спины Наркевича выступили два связиста. Один — коренастый и горбоносый, другой — с круглым лицом и светлыми волосами.
— Товарищ командующий, — тихо произнес Наркевич, — способ есть. Единственный…
— Какой?
— Если рота связи растянется цепочкой до Литовского полустрова с проводом в руках и будет так стоять, пока не…
Фрунзе встал с табуретки, поставил на нее ногу, а локтем оперся о колено, медленно перебирая пальцами усы и бородку.
— Однако, — сказал он, наконец, — у вас повернется язык просить об этом роту? Приказывать нельзя… Повернется язык просить?
— Нет, товарищ командующий! Но вот комроты. Он… Елочкин, слово за вами…
Елочкин коротко доложил, что его рота сознательно и добровольно берется восстановить связь с полуостровом, в приказаниях не нуждается, а, наоборот, сама просит у командующего позволения исполнить долг перед родиной и очень боится, как бы он не отказал. А что все это именно так, может засвидетельствовать рядовой боец роты Якимах.
— Как?
Фрунзе перевел взгляд на румяное лицо парня. Якимах вспыхнул, как утро в мае. Но произошло это не от смущения, а совсем от чего-то другого. Во всяком случае он поддержал своего командира в полный голос:
— С места не сойти, товарищ командующий!
* * *
Было часа четыре утра — ни ночь, ни день. Фрунзе задумчиво водил карандашом по бумаге, слушая гул канонады, доносившийся с полуострова, и далекое аханье перекопских пушек. Вдруг — донесение. Его передали в Строгановку из штаба пятьдесят первой дивизии через штадив пятьдесят второй во Владимировне, и было оно немногословно. Час назад пятьдесят первая вновь пошла в атаку на Турецкий вал, почти мгновенно завладела всеми его укреплениями и теперь штурмует Армянский базар…
Фрунзе испытал момент блаженного облегчения. Будто нечто, невыразимо тяжкое, гнетом лежавшее на его плечах, вдруг сорвалось вниз и ушло под ногами в землю. Грудь вздохнула, в мыслях зажегся яркий свет. И грозная сила юшунских позиций ясно обозначилась впереди. От Турецкого вала до Юшуня — семь линий обороны на двадцати пяти километрах. А между тем флот бездействует. Форсирование чонгарских переправ затруднено. Юшунь потребует жертв, жертв… Но не одних лишь жертв. Ведь и до падения Турецкого вала Фрунзе отлично знал, что такое Юшунь. Потому-то сейчас близ Перекопа уже и собрана в кулак почти вся Вторая Конная армия. И Первая изготовилась. Потому и седьмая кавдивизия на рысях перемахнула нынче ночью через Сиваш, выскочила на Литовский полуостров и вместе с пятьдесят второй уже теснит и гонит сейчас белых к Юшуню. Все предусмотрено. Обо всем знает и помнит Фрунзе. Только… Только связисты все еще стоят по шею в ледяной воде с проводом в поднятых над головами руках. Связисты?..
Когда цепь живой связи была снята адъютантом командующего и когда люди начали выбираться из вязкой пучины на обрывистый и овражный берег, казалось, что рота Елочкина — толпа оживших мертвецов. Дикая усталость глядела из глаз шатавшихся людей. Вонь разложения, которую они вынесли с собой из стоячей воды, сопровождала их и на сухой дороге к Строгановке. За четыре часа, проведенных в Гнилом море, они пропитались могильным запахом соленого ила. И это в особенности делало их непохожими на живых людей.
У деревенской околицы стоял автомобиль. Фрунзе уезжал, — ему незачем было больше оставаться в Строгановке. Теперь его место опять на Перекопе. С трудом различив в сером сумраке рассвета еле подвигавшиеся к деревне тени людей, разглядев их мокрые, грязные шинели и трухлявую походку неуверенных ног, он спросил адъютанта:
— Связисты?
— Они.
Шофер выключил газ, и автомобиль перестал кряхтеть. Фрунзе поздоровался с бойцами.
— Родина говорит вам «спасибо», друзья! И подвига вашего вовек не забудет!
— Рады стараться, товарищ командующий фронтом! — дружно ответили связисты, с неожиданной прыткостью сбегаясь к автомобилю.
Якимах добавил:
— Грязюка липкая, противная, да и топко, товарищ командующий. Все как есть!
Фрунзе взглянул на него и улыбнулся.
— Однако я вас знаю. Вы не сын председателя здешнего ревкома?
Никогда в своей жизни Якимах ничему не бывал так рад, как этому вопросу. Нежданное чувство гордости, — а ведь он и не ведал до сих пор, что такое гордость, — вдруг вошло свежей силой в его широкую грудь, и он прокричал, отвечая:
— Родной сын, товарищ командующий, хвакт!
Глава двадцать третья
Между заливом Черного моря и южным берегом Сиваша — множество глубоких, вытянутых с севера на юг соленых озер: Старое, Красное, Круглое, Безымянное. Между озерами — узенькие проходы, голые и гладкие: ни деревца, ни куста, ни бугра, ни оврага. Здесь — четыре линии юшунских укреплений. На каждой — окопы полного профиля для стрельбы стоя, бетонированные блиндажи и пулеметные гнезда, густые шестирядные сети колючей проволоки. Между линиями — по три-четыре километра.
Утром девятого ноября полки пятьдесят первой дивизии двинулись к Юшуню. Ползли бронемашины, громыхали зарядные ящики, наваливалась пехота. Двадцать белых кораблей били с моря по наступавшим войскам. Фрунзе наблюдал за ходом дела с командного пункта штадива пятьдесят первой. Отсюда, из хутора Булгакова, был отлично виден высокий, легкий, как бы плывущий в воздухе, почти прозрачный от тонкости, минарет Карт-Казака у черноморского берега. Это было удобно: минарет открывал собой левый фланг второй линии юшунских позиций. Фрунзе знал, что такое белый Юшунь. Знал, что попытка овладеть его укреплениями с ходу не может быть успешной. Но он считал ее нужной. Противник надломлен потерей Перекопа. Юшунь — его последняя ставка. За Юшунем — Крым. И натиск с хода должен углубить, расширить надлом, сделать его больнее, чувствительнее. Впрочем, как бы ни была угнетена обороняющаяся сторона, все же ее пулеметы непременно заговорят во время атаки, а пушки обязательно разовьют заградительный огонь. Действительно, бой полыхал по всему фронту первой линии Юшуня — между северными берегами озер Старое и Красное и дальше на восток от Сиваша. Так он полыхал и в полдень, и после полудня, до самого вечера, когда, наконец, стало ясно, что атака отбита. Войска залегли в километре от проволоки между заливом и озером Красным. Ночь прикрыла работу топоров и ножниц, — кропотливую, нудную, осторожную и необходимую работу.
— Где рота?
— Ушла под проволоку проходы делать.
— Ну-у?
— А ты как думал? Утром наступать дальше будем…
В это время пятьдесят вторая дивизия, отбросив белых с Литовского полуострова, выходила к юшунской преграде, на участке от озера Красного до Сиваша…
* * *
Сапоги Романюты так разбились, что пришлось заторочить подметки проволокой. Но с носка сапоги продолжали разевать рот. Да и проволока висела на подметке грузилом. Ступать было больно, ходить неловко. Все это очень беспокоило Романюту вчера; а сегодня вмиг забылось, как только полк его с пулеметами и легкими, пушками впереди пошел на рассвете в наступление на Юшунь. Волна за волной напирала пехота, двигались бронемашины, с одной позиции на другую переносились батареи. Как это случилось, Романюта не то не заметил, не то забыл. И, когда его потом спрашивали, отмалчивался, пожимая плечами: «Не знаю!» Как забыл о сапогах при начале боя, так и об этом — после боя. Лицо молчало. И глаза — тоже. Только левый угол верхней губы чуть приметно двигался в мягкой и доброй усмешке. «Ей-же-ей, не знаю!» Да и кто бы мог разобраться… Яркий свет, будто огонь из печи, брызнул в глаза Романюте. Рявкнула земля; просвистели осколки двенадцатидюймового снаряда, Романюта вскочил и, ощупав себя, огляделся. Вот тут-то и возникло забытье. Говорили, что комбат с группой из дюжины бойцов, — штыки да ручные гранаты, — выбил белых из какого-то опорного пункта. Потом собрал еще дюжину и снова выбил из другого. А уж затем — пошло: командиры и отдельные красноармейцы собирали вокруг себя людей и вели их группами на штурм. Называли фамилию предприимчивого комбата. И получалось, судя по фамилии, будто речь шла именно о Романюте…
Первая линия юшунских укреплений была взята в девять часов утра. Бой шел теперь внутри оборонительной полосы за вторую линию. Нельзя сказать, чтобы память совсем изменила Романюте. На всю жизнь запомнился, например, ему заградительный огонь белых. Не всякому доводилось попадать под такой огонь. Залпы сливались. Невозможно сказать, что длинные огненные языки орудий, минометов, бомбометов вспыхивали, они совсем не потухали. И пламя мелких пулеметных вспышек сверкало без передыху.
Не было места кругом, где ни рвались бы снаряды. И воронки от их разрывов были единственным спасеньем. Передние рубили проволоку топорами и лопатами, — задние ползли, прыгали в воронки и снова ползли. Из боевых порядков пехоты артиллерия била прямой наводкой в бетонированные пулеметные гнезда юшунской крепости. Война вспахала и засеяла голое, гладкое поле между первой и второй линиями: патронташи, штыки, пустые гильзы, винтовки, котелки, пулеметные кожухи, зарядные ящики, двуколки без колес, орудия без голоса и человеческие трупы без счета…
И опять: трудно, почти невозможно сказать, каким образом людям, переползавшим из воронки в воронку под ливнем осколков и шрапнельным дождем, вдруг всем сразу стало известно, что приказано сменить пятьдесят первую дивизию и что Латышская стрелковая уже подошла для смены. Люди смотрели в лицо смерти бесстрашными, отчаянными глазами. Для этой борьбы они не нуждались в приказах. И вдруг — приказ о смене. Да что это? «Не пойдем!» — пронеслось по цепям, по воронкам, по штурмовым группам. «В тылу и без нас хватит!..» Легко раненые, чуть перевязавшись, толпами брели из тыла под огонь. Юханцев думал: «Теперь ни за что назад не пойдут» и кричал порученцу из штадива:
— Гони домой! Докладывай: бойцы требуют доверия, чтобы им взять Юшунь. Никому не уступят… Гони!
Порученец исчез. И разговор о смене быстро заглох в яростном вое битвы…
* * *
Фрунзе уезжал с перешейка на Чонгар, не испытывая никаких сомнений в исходе боя за Юшунь. Он знал настроение войск. Отказавшиеся от смены бойцы подвести не могут. Градус их накала высок, и смена для них — как обида. Юшунь будет взята…
Полевой штаб Южфронта из Рыкова передавая штармам по юзу последние распоряжения Фрунзе: при первых признаках отхода противника немедленно глазными силами армий переходить в наступление. Чтобы ускорить этот момент, надо было ухудшить положение белых на Перекопском перешейке, — ухудшить его со стороны. Такой стороной был Чонгар. Задержка с форсированием чонгарских переправ крайне беспокоила Фрунзе. Даже Лабунскому там не повезло. С огромными потерями он построил бронированный плот, а через полчаса плот был разбит морскими орудиями белых. Но вот Лабунский снова доносит: готово. Начдив тридцатой рвется на штурм. Фрунзе не хотел опоздать…
* * *
Вторая линия юшунских укреплений тянулась от Карт-Казака, что на морском заливе, вдоль южного берега озера Старого, до озера Красного. Возле Старого был ранен Юханцев. Случилось это так. Часа в четыре дня, когда отдельные штурмовые группы начали прорываться на южный берег озера, огонь белых усилился необычайно. Казалось, что блеск разрывов, вой осколков и свист камней наполнили собой весь мир. Что-то горело позади: яркокрасное, трепещущее зарево все выше и выше взметывалось кверху по темносерому, почти коричневому небу. Полк лежал под проволокой, и поднять его было невозможно. А и всей-то проволоки было два кола. Пулемет невдалеке прыгнул, подхваченный силой разрыва, и упал. Два бойца влепились в землю, неподвижные. Юханцев с удивлением заметил, что левая рука его вдруг как бы исчезла. Это странное ощущение было так реально, что, желая проверить его глазами, он наскоро сбросил с себя шинель. Нет, рука была на месте; только вовсе не слушалась Юханцева и бессильно висела вниз, как тряпичный жгут. Он хотел надеть шинель, — рука мешала. Тогда он швырнул шинель вперед, и она упала на проволоку, распластавшись по ней, как лопух на воде. «Эге!» — смутно мелькнуло в голове Юханцева. Он еще раз взглянул. Ясная, до пронзительности, мысль овладела его волей. Он живо влез на шинель и боком, чтобы не подмять болтавшуюся руку, пополз по шинели через проволоку…
Сперва поднялись те, которые лежали ближе; потом и дальние. Все это хлынуло за комиссаром, и проволока поддалась, срываясь с кольев и пропуская неудержимую человеческую лавину в окопы второй линии юшунских укреплений.
* * *
Вечером батальон Романюты лежал в степи, готовясь к атаке третьей линии. Впереди цепи — непрерывные фонтаны взрывов. Белые били батарейными очередями. Снаряды ложились один возле другого, вправо и влево, и, слепя глаза, рвались в земле. Огненная стена то подавалась вперед, то отступала назад, испепеляя все живое. Сумрак этого вечера был полон гула, свиста и блеска…
Грузовики подъезжали сзади, и люди горохом сыпались с них, возбужденные быстрой ездой, холодным воздухом и опасностью. Сильные, ловкие, смелые, на все готовые, они с трудом удерживались, чтобы не шуметь и не кричать.
— Кто такие?
— Смена! Смена!
Романюта пошарил дрожащей рукой в кармане, выгреб остатки табачной пыли, перемешанной с кукурузной соломой и клочочками ваты, скрутил огромную козью ножку и с наслаждением затянулся.
— Пусть теперь будет смена!
* * *
Ночью пятьдесят первая и Латышская стрелковые дивизии прорвали последнюю линию Юшуня. Впереди — огромное гладкое поле. Им открывался Крым. Впрочем, у южного берега озер поле холмилось. Шипя, взвились последние ракеты и медленно упали на землю, угасая на лету. Бой гудел у почтовой станции Юшунь, свирепый, яростный бой. Белые шли в контратаку, со штыками на перевес, без выстрела, как на ученье. Мчалась лава терцев в рыжих папахах на горячих худых конях. Все напрасно. Тянет теплый ветер с юга, — зовет. Облака бегут с сине-голубого неба, и яркие лучи солнца освещают бегство опрокинутых белых частей. Первая Конная уже двинута распоряжением Фрунзе. Ее путь — через Юшунь, в Крым!
— Даешь Крым! Смерть барону!..
В полдень одиннадцатого ноября радио оповестило: «Срочно. Всем, всем. Доблестные части 51-й Московской дивизии в девять часов прорвали последние Юшуньские позиции белых и твердой ногой вступили на чистое поле Крыма. Противник в панике бежит… Преследование продолжается».
Железнодорожная станция Юшунь занята красными войсками еще с утра. Горит вокзал; возле него пылают три «Рено» — жалкий остаток танкового дивизиона белых. Вдруг вспыхнуло сено. Запахло горелой мукой. У почты на бетонных площадках подняты кверху огромные дула четырнадцатидюймовых пушек. Вправо — восьмидюймовки, а еще дальше — тяжелые батареи. Над озером густились ночные тучи. Теплый ветерок тянул под ними, и озеро казалось сделанным из живого серебра. В почтовом домике сидел с перевязанной левой рукой военком Юханцев и сочинял донесение комиссару бригады: «…Прибывшие два красноармейца из дивпартшколы назначены политруками 9 роты и пешей разведки. Остальные политруки и политбойцы выбыли по ранению. Политрук же пешей разведки пропал без вести. Комсостав почти весь выбыл, за исключением двух комбатов. Один из них — Романюта — контужен, но остался в строю».
Юханцев писал и думал: итак, даже врангелевский Перекоп, у которого было все для серьезного сопротивления, не помог белогвардейцам. Почему? Потому что их армия была расстроена. Совсем иначе — в красных войсках. Иначе, — несмотря на то, что красные полки молоды и создавались под жестоким орудийным огнем. Откуда бы, кажется, взяться в них порядку и дисциплине? Были часы неудач, поражений. Мужество и бодрость оставляли бойцов. Ряды их шатались. Но кто-то вливал в них новую энергию и звал за собой. Кто? Чья-то рука насаждала за спиной армий Советскую власть, устанавливала советский порядок, и армии, не оглядываясь, шли вперед. Чья же это рука? Органы партии в войсках были их вожаками. Это они вели за собой беспартийных. Они, как новое оружие борьбы и победы, поднимали дух и разумение бойцов. И сила революции крепла на военных полях, и боевая мощь ее выросла в нынешний день… Юханцев посмотрел на свою туго подвязанную, загипсованную руку. В серых глубоких глазах его сверкнула влага. Он ясно представил себе свою шинель на колючем переплете юшунской проволоки и то, что из этого получилось. Влага выкатилась мелкой алмазинкой на небритую щеку и пропала. Юханцев сидел, прямо глядя перед собой, и тихий, радостный смех бежал по его лицу…
* * *
Через ночь была дневка. Отдыхала вся Шестая армия.
Мороз крепко щелкнул под утро. Трава сделалась белой и захрустела под ногами, ломаясь, как стеклянная. Карбышев побывал в Перекопе, на Турецком валу и в Армянском базаре, объехал верхом все межозерные дефиле на юшунских позициях и, наконец, к вечеру разыскал Юханцева. О комиссаре говорили: герой. Не знай Карбышев Юханцева, он, может быть, и не очень прислушался бы. Из общегеройского духа войны рождается множество отдельных геройских репутаций, — дело известное. И коль скоро нет другого, более подходящего слова, в легенду входит это — «герой». Но Карбышев давно и хорошо знал Юханцева и не сомневался, что своих подлинных героев гражданская война выбирает именно из таких, как он.
И вот Карбышев сидит в блиндаже у старого знакомого и ведет с ним долгий дружный разговор. Юханцев уже рассказал о многом из того непосредственно-близкого, рядом совершившегося, чему он был прямым свидетелем и в чем сам лично участвовал. Рассказал и про историю с шинелью на проволоке, упирая больше на случайный характер факта: перебило руку, шинель мешала, бросил, не глядя; а что из того вышло, так это уж само собой, без него. Вспомнил о Романюте — как и почему вступил после Каховки в партию и как под Юшунью орудовал штурмовыми группами. О себе — скупо, о Романюте — щедро, обстоятельно и подробно.
— Но мы, Дмитрий Михайлович, люди маленькие, многого не знаем, не видим. А ты…
Да, конечно, Карбышев и видел и знал гораздо больше. Прежде всего он знал о том, что вчера произошло на Чонгаре. Удивительно, как умеет Фрунзе влиять на людей! «Прибрать к рукам» — не то слово. Здесь — нечто другое, неизмеримо большее и значительное. «Восстань, пророк, и виждь и внемли, исполнись волею моей…» Здесь и вдохновение, и порыв, и сила. Даже Лабунский… Все говорят, что поработал вчера на славу. Саперы до последней минуты ладили переправу, таскали бревна через насыпь, крепили их скобами, отводили от берега в пролив. Сиваш на Чонгаре непереходим ни вплавь, ни вброд. Работали под прожекторами, под ураганом из шрапнели, снарядов и пулеметных очередей. Фрунзе приехал, поглядел, одобрил и в какой-то из ударных частей обмолвился, будто невзначай: «А ведь пятьдесят первая дивизия взяла Перекоп…» И тогда загудело по полкам тридцатой: «Да чем мы-то хуже пятьдесят первой?» — «Смотри, ребя, скоро пятьдесят первая лодки за нами сюда с того берега пришлет. Милости просим, гости дорогие!» — «Эх, так-рас-так! Пора и нам на беляка в штыки ходить». — «Можно, конечно, коли насморка не боишься…» В полночь началась переправа. Фрунзе сам вел полки. Артиллерия переносила огонь с рубежа на рубеж. Первым переправился Малышевский полк…
— Из уральских коммунистов, — сказал внимательно слушавший Юханцев, — слыхал я и про Малышева[45] и про полк…
Весь день советская авиация бомбила бронепоезда белых. У Сивашского моста не потухал бой К вечеру тридцатая дивизия начала захватывать укрепления, а утром прошла станцию Таганаш и повела самое быстрое и решительное наступление на Джанкой.
— Думаю, — сказал Карбышев, — что ошибки, Яков Павлович, не будет…
— А что?
— К портам бегут белые… Еще вчера побежали…
— Не может того быть…
Юханцеву было очень трудно представить себе, чтобы война так сразу оборвалась, очутилась у самого конца, — и это тотчас же после Юшуня, Чонгара, когда еще ни в голове, ни в сердце не уложились как следует боевые дни. Но Карбышев не видел в этом ничего странного. Юханцев удивлялся: Карбышев говорил так, будто нигде уже и не гремят больше пушки, точно пришло уже такое время, когда можно подводить какие-то итоги, когда надо извлекать из не остывшей еще горячки какие-то уроки для будущего, даже отыскивать новые повороты для военно-инженарной науки. Юханцеву хотелось сказать об этом своем удивлении, но он не знал, как лучше сказать. Дело было в том, что как ни внимательно слушал он Карбышева, а слышал далеко не все. Собственно, ему удавалось схватывать лишь отдельные фразы, которые действительно чем-то походили на итоги, на выводы, на уроки. С тревогой замечая в себе эту небывалую дробность сознания, Юханцев угнетенно молчал. До него донеслись слова Карбышева:
— Перекопско-Чонгарская операция — первый с начала гражданской войны прорыв Красной Армией очень сильных оборонительных сооружений…
Карбышев еще что-то добавил и при этом слегка подмигнул черным глазом. Что именно добавил, Юханцев не разобрал. Однако ему стало страшно. По мере того, как он терял способность осмысленно слушать, слова Карбышева из простых, обыкновенных слов превращались в густые-густые комки чего-то, давным-давно слежавшегося в сухой голове этого человека. Непонятно лишь было, как это столько комков умещалось в его голове. А Карбышев говорил и говорил. Конечно, Юханцеву только казалось, будто он так страшно подмигивает. На самом же деле Карбышев говорил, глядя в себя, а вовсе не на Юханцева, и потому не видел ни его красного лица, ни обложенных темными пятнами больных глаз. От избытка мыслей возникала стремительность их разбега — Карбышев говорил все быстрее и быстрее.
— План обороны Крыма разрабатывал не один Врангель. Над системой перекопской обороны трудились английские адмиралы Сеймур, Гоп, Перси, Мак-Малей, французские генералы Кейз, Манжен, де-Мартель… А что вышло?
— Что? — переспросил глухо, каким-то тусклым голосом Юханцев, — что вышло?
— Укрепляли Перекоп год, а препятствия во многих местах оказались в наброску, без кольев…
— Это так, — бормотал комиссар, — говорить не остается, так!
Карбышев хотел сделать вывод, но взглянул на Юханцева и уже больше не отводил от него своих горячих, острых глаз.
— Эге, — сказал он, вставая и подходя к нему, — да ты, брат, болен в дым. У тебя лихорадка.
Голова Юханцева падала то на плечо, то на грудь. И сам он падал. Карбышев подхватил его, приподнял и уложил на скамью. Было странно, что худой и нерослый человек так легко справляется с тяжеловесом. Даже сам Юханцев удивился. Улыбка соскользнула с его запекшихся губ.
— Силен ты, Дмитрий Михайлович…
* * *
Вечером Шестая армия получила приказ о преследовании отходившего противника. К этому времени Первая Конная уже прошла через Юшунь и ворвалась в Крым. Вторая Конная гналась за белыми от Джанкоя.
Фрунзе вернулся с Чонгара в Харьков. Отсюда было виднее все, что делалось сейчас в Крыму. Врангелевцы уносили ноги частью на Евпаторию — Симферополь — Севастополь, частью — на Феодосию — Керчь. Иногда, сидя в кабинете над картой, Фрунзе слышал далекий шум этого бегства и погони. Шум походил на работу взволнованного сердца. Кому же принадлежало оно, это огромное сердце? Всем, кто приникал сейчас к земле на неоглядных степных просторах полуострова, в непроглядной ночной темноте. Фрунзе отдавал приказы. Шестой армии наступать на Евпаторию — Симферополь — Севастополь — Ялту; Четвертой — на Феодосию — Керчь. Первая Конная гонит противника на Шестую армию; Вторая Конная — на Четвертую. И одновременно Фрунзе обращался по радио к солдатам и офицерам армии Врангеля: «Довольно вам быть пушечным мясом англо-французских купцов… Настала последняя решительная минута… Немедленно арестуйте ваши штабы… Сдавайтесь и переходите на сторону трудового народа».
Вечером тринадцатого стало известно, что Врангель эвакуирует свою армию. Пятнадцатого советские войска вступили в Севастополь, Ялту и Феодосию. Шестнадцатого поезд Фрунзе промчался через Мелитополь и остановился в Джанкое. Везде, куда ни падал задумчивый взгляд полководца, сверкало счастье — буйное, неукротимое. Оно солнцем сверкало на небе и в глазах людей, улыбками на их веселых лицах, звенело в радостных голосах. Это — конец войны, начало мирного труда. Завтра по всей России застучат топоры, кирки и лопаты, закрутятся шестерни и колеса, задымят высокие трубы заводов. Завтра вольно вздохнет Россия и хозяйским оком прикинет, с чего приниматься за новый труд… Это достигнуто победой над Врангелем. И с памятью об этой победе навек связалось имя полководца Фрунзе.
Много, очень много раз случалось Фрунзе раздумывать об искусстве военачальника. Главнейшее проявление этого искусства в том, чтобы уметь из множества разнообразных методов и средств избрать применительно к данной задаче самый подходящий метод, самое верное средство — решение; Фрунзе не мог сомневаться в правильности этой мысли. Он вспоминал, как в девятнадцатом году на Восточном фронте активно и наступательно оборонялась им Волга. Формой маневра был тогда удар по флангу с выходом на тылы противника. Быстро собрана ударная группа, действия ее внезапны, политическая агитация зовет людей, — итог: победа. Здесь, на Южном фронте, Фрунзе выбрал совсем другой маневр. Он охватил фланги Врангеля. Оперативно-стратегические планы настоящего полководца должны быть так же гибки, как многообразны приемы. До этой минуты Фрунзе всегда казалось, что он все еще только учится воевать, еще только мало-помалу становится полководцем. А сейчас он вдруг понял, что превращение в полководца давно совершилось и что искусству военачальника будут теперь учиться и у него…
От этого необыкновенного открытия Фрунзе странно взволновался. Открытие было фактом, но против него возражала всей своей глубиной скромность Фрунзе. Оно было радостью, но он радовался не столько ему, сколько самой победе. Он взял телеграфный бланк и быстро написал на нем несколько неразборчивых, — ох, уж этот «куриный» почерк! — слов: «Совнарком Ленину… Сегодня нашей конницей занята Керчь точка Южный фронт, ликвидирован точка ст. Джанкой 16/XI Команд. Юж. фронта — Фрунзе». Адъютант взял телеграмму.
— Сергей Аркадьевич…
— Что прикажете?
— Однако…
Из какой-то бездны прошлого вдруг вырвался рой воспоминаний. И среди них одно — студенческое. Фрунзе улыбнулся.
— Однако я бы выпил сегодня чаю с кагором…
Пройдя походом весь Крым, пятьдесят первая Московская дивизия вступила в Ялту. Через несколько дней Романюта прочитал здесь в приказе по части о своем награждении орденом Красного Знамени. Романюте хотелось заплакать от счастья, но он сдержал себя. Тогда же был объявлен по войскам и приказ Фрунзе, подписанный им в Симферополе семнадцатого ноября. И уж под этим приказом чувства Романюты выбились-таки наружу быстрой и горячей, восторженно-благодарной слезой. Приказ гласил: «50 дней прошло с момента образования Южфронта; за этот короткий срок… была ликвидирована угроза врага Донбассу, очищено все Приднепровье и занят весь Крым».
Глава двадцать четвертая
Третьего января двадцать первого года, тихим снежным вечером, слабосильный фиатик въехал во двор большого белого дома на Пушкинской улице. Из автомобиля вышли Фрунзе и его адъютант.
— Наконец-то мы дома, Сергей Аркадьевич!
Фрунзе пробыл в Москве почти две недели. Это было беспокойное и трудное время. Чуть ли не каждый день отбивался он от «благодеяний», которыми осыпал его Троцкий со своими друзьями. Им ужасно хотелось сплавить его из армии, — он загораживал им в армии дорогу. Не вмешайся сам Ленин, быть бы Фрунзе начальником Главтопа[46]. А между тем он решительно не хотел ничего другого, как остаться тем, чем был уже около месяца, — командующим всеми вооруженными силами на Украине. Круг его обязанностей по этой должности был широк, обязанности — важны и серьезны. Командуя вооруженными силами Украины, Фрунзе вместе с тем, как уполномоченный Реввоенсовета Республики, входил в состав Украинского Совнаркома. Таким образом, его военная деятельность оказывалась тесно связанной с элементами деятельности гражданской. Сложность работы вполне соответствовала громадности новых государственных планов партии, ибо ее главной деловой задачей была отныне скорейшая победа над разрухой.
Еще осенью прошлого года Советская республика нуждалась никак не меньше чем в трехстах миллионах пудов хлеба. Запасы Украины составляли шестьсот миллионов, а взято из них было всего лишь два. Участвовать в решении огромных хозяйственно-политических вопросов Фрунзе хотел и как государственный деятель и как командующий Красной Армией на Украине. Ведь должна же была Красная Армия помогать работникам продовольственного дела восстанавливать шахты Донбасса, заводы и рудники Криворожья. Рядом — чисто военные, но тоже неотложные заботы: неприкосновенность границ, ликвидация бандитизма, реорганизация армии в связи с переходом на мирное положение. Количественно сокращая армию, надо было повышать ее мощь…
Преодолев в Москве множество затруднений, воздвигнутых троцкистами, Фрунзе возвращался теперь в Харьков к непосредственному делу. Одним из доказательств его московской удачи было состоявшееся накануне отъезда перечисление в Генеральный штаб. Все, кому ведать надлежит, могли взять это обстоятельство на особый учет или, как раньше говорилось, зарубить на носу.
— А у вас руки на работу чешутся, Сергей Аркадьевич? У меня — чрезвычайно…
* * *
Часа через два, уже ночью, Фрунзе сидел в своем домашнем кабинете и думал о невысоком, худощавом человеке, имевшем обыкновение то и дело вскидывать голову кверху, — о Махно. На столе перед Фрунзе лежали последние сводки. После ряда поражений у Махно осталось всего полторы тысячи человек. Он разделил их на мелкие отряды и «петлял» сейчас с ними по всей Украине. Секрет живучести политического бандитизма в том, что Украина переживает, ту же стадию развития деревни, какую Россия пережила в восемнадцатом году. Но сомневаться не приходилось: замена продразверстки продналогом сделает свое дело, и украинский середняк скоро раскусит Махно…
Все ярче и ярче выступало вокруг луны опаловое кольцо мороза. За окнами печально светлела зимняя ночь.
Фрунзе писал резолюцию на докладной записке о махновщине. Как и всегда, он писал быстро, разгонистым, торопливым почерком, — «т» — палочка с хвостиком, — наспех поправляя написанное, но не по тексту, а по начертанию отдельных, неясно обозначившихся букв. Время от времени он перечитывал готовую часть резолюции, недовольно хмурясь, — фу, как неряшливо! Опять поправлял, но получалось еще хуже. Тогда махал рукой и писал дальше. Почерк Фрунзе — это почерк человека, который главное видит в мысли, в словах и во фразах, а вовсе не в том, как они легли на бумагу, — красиво, удобочитаемо или нет. Фрунзе всегда было некогда, а мыслей оказывалось великое множество. Вот так и эта резолюция постепенно вырастала в целую статью. Наконец, он поставил явственное «М» и рядом — крючок с росчерком, означавший фамилию.
— Однако, — сказал он сидевшему напротив и терпеливо ожидавшему доктору Османьянцу, — я должен вам сказать, Нерсес Михайлович, что слегка болит.
Он глотнул из стакана с белой содовой водой.
— Я просил шашлыка, но Софья Алексеевна… словом, шашлыка мне не дали. Чего-то у них нет или… не знаю, почему…
Фрунзе очень любил шашлык, считал его полезнейшим блюдом, и действительно никогда после шашлыка не болел.
— Эх, — вздохнул он, — а не слыхали вы, Нерсес Михайлович, про снадобье, которого ни в одном лечебнике нет?
— Какое?..
— Травка — фуфырка…
Фрунзе страдальчески улыбнулся.
— Вот бы…
— Так я и знал, — мрачно сказал доктор, пряча блокнот, в который собирался записать названье снадобья, — все шутки. Убиваете себя шутками. Вы — самоубийца…
— Нерсес Михайлович, я могу вскипеть. А в гневе я — исполин, это вам хорошо известно. Нет уж, сделаем лучше так. Снотворного мне не надо. Сейчас я лягу и собственными средствами попытаюсь заснуть. Вы же спокойно идите домой, погружайте в отдых утомленные члены… и… Только…
Фрунзе вдруг вспомнилось здание бывшей гимназии, что неподалеку от штаба вооруженных сил. В этом здании помещалось инженерное управление штаба и жил Карбышев с семьей.
— Только… А что у Карбышевых?
— Скверно, Михаил Васильевич.
— Не лучше?
— Н-нет…
— Неужели умрет?
— От жизни мы ничем не защищены, а от смерти — со всех сторон, — кисло сострил доктор.
— Чертовски старомодно, Нерсес Михайлович.
— Делаю все, что могу. Пристроил, в качестве сиделки, отличную медсестру, первую жену Лабунского. И сам иногда у них ночую. А уж днем…
— Понимаю. Не голодают?
— Теперь нет.
— Завтра будете у них?
— Непременно.
— Очень хорошо. Вы говорите, что они не голодают. А я слушаю, и мне кажется, будто и я вместе с ними сыт. Покойной ночи!
Проводив Османьянца, Фрунзе несколько секунд стоял посреди кабинета, почти неподвижно, не то расправляя плечи, не то прислушиваясь. Но в доме было тихо-тихо. Тогда, ступая на цыпочках, с величайшей осторожностью открывая и прикрывая двери, он направился в спальню. Софья Алексеевна спала, порывисто дыша и разметав по подушке волосы; веки ее вздрагивали, как крылья бабочки; на щеках горел румянец. Рядом, в маленькой кроватке, лежала Чинара, годовалая дочурка Фрунзе. Татьяна родилась в Ташкенте. Отец называл ее Чинарой — почему, и сам не знал, но для его отцовской радости было мало того, что дочь его просто Татьяна. У девочки были очень светлые волосы. Фрунзе мысленно заглянул в ее красивые, весело-голубые глазки, которых сейчас не видел, и… опять к чему-то прислушался. Боль внутри затихала. Спать, спать…
* * *
Действительно доктор Османьянц ежедневно бывал у Карбышевых. Это началось, когда Лидия Васильевна родила сына и заболела после родов общим стрептококковым заражением. Материнское молоко пропало. Искусственное питание не усваивалось ребенком. Он худел и угасал. Десять фунтов веса, с которыми он появился на свет, уменьшились сперва до восьми, потом до шести, наконец, до пяти. Его пристроили в инкубаторе частного лечебного заведения. Но и там он продолжал умирать.
Болезнь Лидии Васильевны была катастрофой не только для новорожденного. Когда Карбышевы приехали в Харьков, им отвели квартиру на набережной реки Лопань, в доме женской гимназии. Квартира состояла из трех просторных комнат первого этажа. Рядом, в полутемных каморках, ютились старушки, — бывшая начальница гимназии, две учительницы. На втором этаже помещалось управление начальника инженеров. В Харьков Карбышевы приехали с двумя чемоданчиками. Другого багажа у них не было. Вечером Дмитрий Михайлович расстелил на кроватной сетке свою шинель.
— Ложись, мать!
Лидия Васильевна запротестовала.
— Это ужасно, Дика! Скажи же, наконец, своему начальству…
Карбышев легонько свистнул.
— Служба — службой, а семья — семьей!
Лидия Васильевна уже слышала эту сакраментальную фразу не меньше тысячи раз. Но не самой же ей разговаривать с начальством Дики! И она сделала другое — заболела. Тогда старухи-учительницы принесли матрац и переложили на него больную с мужниной шинели. Принесли еще и коврик к кровати.
Молоко для новорожденного брали в частной лавочке «Мать и ребенок». Деньги, деньги…
— Серегин, — в полубреду говорила Лидия Васильевна вестовому, — молоко… Продай кастрюлю…
Серегин с отчаянием ударял красной ручищей по штанам.
— Да ведь одна и осталась, Лидия Васильевна, — последняя, большая…
— Продай…
Серегин побежал на рынок с кастрюлей. Сунулся по крестьянским возам, — не тут-то было: хозяйки не хотят покупать, — велика. Откуда ни возьмись, военный доктор Османьянц.
— Стой-ка, брат, стой-ка… Мне бы как раз такую, — отраву варить…
Серегин ухватился за кастрюлю.
— Это уж ни-ни, товарищ военврач… Для отравы никак…
— Да погоди: ведь одно и то же лекарство может быть и отравой и — наоборот…
— Ничего этого мы не знаем. А только под отраву ни-ни…
Столковались не скоро.
— Ты чей вестовой-то?
— Карбышева, Дмитрия Михайловича…
— А что у них?
Серегин рассказал, как умел, про болезнь Лидии Васильевны.
— Я и вижу, грустный ходишь…
— А как же? Молоко до зарезу нужно; мужичье на кастрюльку глядеть не хочет.
— Получай деньги. Ходи. Где «Мать и ребенок», знаешь?
— А то… Сею минутой!
Османьянц думал: «Ну, и чудак Карбышев! Этакий характер…» Через полчаса доктор сидел у постели Лидии Васильевны. И с тех пор сидел у ее постели каждый день. Когда она посылала на рынок продать кофейник, соусник или серебряную ложку, Серегин только делал вид, будто уходит на рынок. Купля-продажа совершалась на кухне. Покупал за наличные по очень высокой цене, и притом не торгуясь, доктор Османьянц. И кофейники и соусники были ему крайне необходимы для изготовления лекарственных отрав в лаборатории. Серегина это больше не ужасало. Он продавал, не задумываясь, и летел за молоком под вывеску «Мать и ребенок». Проведал о болезни Лидии Васильевны и сам Фрунзе. Каким образом? Уж не через Османьянца ли? Тогда Карбышевы начали получать особый паек с какао и прочими питательными вещами…
Большие, пустые, холодные комнаты мучили Лидию Васильевну. Иногда ей казалось, что она сходит с ума от их пустоты. «Как в Барабе…» Сухие, обожженные губы… Горячий, липкий язык… И от этого тоже — тоска. Исчезала эта тоска только тогда, когда Лидия Васильевна забывалась в жару… Однажды, вырвавшись из странного состояния полусна, в которое она погружалась на часы, и в порыве нежданной тревоги открыв глаза, она увидела, что комната не пуста. Белая женская фигура двигалась около кровати летящей походкой, бесшумно переносилась от изголовья к ногам и обратно, что-то быстро и ловко делая. От самого вида этой воздушной фигуры и от того, что она делала, больная испытывала невыразимое облегчение. Когда же, наконец, разглядела светлое, нежное лицо и огромные чистые глаза Нади Наркевич, узнала ее длинные, тонкие руки с голубыми прожилками, то уже не смогла удержать в себе потока радостных слез…
Лидия Васильевна лежала с головой, укутанной в теплый оренбургский платок. Тепло помогало ей думать. Она смотрела на Надю и думала о ее удивительной судьбе. Как понимает Надя свою судьбу, — роковую ошибку замужества и все, что за этим последовало? Порывая с ней, Лабунский не ждал, когда новое счастье само придет к нему. Он искал, хватал счастье за хвост и, поймав, взвешивал. Сперва — опереточная артистка… Теперь — какая-то Елизавета Михайловна, которая бросила для Лабунского мужа и двоих детей и, говорят, бьет его, пьяного, мокрым полотенцем по голове. Но и эта тоже, конечно, не последняя. А Надя все ждет и ждет, — чего? Чего может дождаться Надя в штабном околотке, под боком у Нерсеса Михайловича? Что будет с этой бесценной молодой женщиной дальше? В лучшем случае — то же, что и теперь; в худшем — хуже. Бедная Надя! Лидия Васильевна думала: «Бедная Надя!» А жалела почему-то вместе с ней и себя. Действительно, где счастье Лидии Васильевны, — где оно? В Дике. С первого дня замужества и до сегодня не было такой минуты, чтобы Лидия Васильевна не чувствовала непреодолимого желания прижаться к Дике, разгладить морщинки на его вечно озабоченном лбу, помочь, облегчить, уравновесить его трудную занятость своей тихой радостью. И не было ни одной минуты, когда бы она не знала: нельзя! Дика приучил ее к тому, чтобы никогда не давать воли своим чувствам, чтобы давить их и задерживать внутри себя. Она жалела его и для этого страдала молча, умея все понимать без слов. А жалел ли ее Дика? Как-то она сказала ему: «Ляльке скучно… Она совсем не видит тебя». Он ответил: «Обижайся — не обижайся, мать, а сначала работа, потом семья». И принялся толковать о чем-то, чего ей даже и слушать не хотелось. Но сейчас она ясно вспомнила его тогдашние слова о каких-то обывателях, о каких-то игрушках истории…
— Надя, — вдруг спросила она, — можно так сказать: обыватель — игрушка истории?
— Мне кажется, можно, — подумав, сказала Надя, — определенно можно.
— А разве Лялька — обыватель?
* * *
Лидия Васильевна болела пять месяцев. Она выздоровела в мае, и тогда же умер в инкубаторе ее неудачный пятифунтовый сын. Только теперь она могла по-настоящему оглядеться. Харьков кудрявился зеленью бульваров и садов, сверкал серебром своих речек. Улицы его дышали чистой свежестью. Весна звенела на площадях птичьими голосами и смехом девушек. И молодое солнце, удивляясь, рассматривало обновленный город, по которому блуждали, расцветая, вспышки любовных встреч. Перед домом Управления начальника инженеров, где жили Карбышевы, блистала светлой ленточкой Лопань. От реки тянуло прохладой. И дом, массивный, кирпичный, серо-зеленый, как бы возвращал Лопани свою собственную прохладу из широко открытых больших окон…
На службе Карбышев сидел в одном кабинете с Лабунским. Против двери — Лабунский, а в углу налево — Карбышев. Делались большие дела. Инженерные части и военно-полевые строительства Украины передвигались в Керчь и на южный берег Крыма, гее морское ведомство развертывало громадные оборонительные работы. Из армий и дивизий выделялись почти все инженерные ресурсы. Использовались даже строительные отряды бывшей армии Врангеля, особенно в Севастопольском районе. Велись работы и в Туапсе и на Таманском полуострове. Лабунский то и дело ездил в Севастополь. Ходили слушки, будто там организуется какое-то акционерное общество под названием «Стекло и гвозди» и что Лабунский состоит в числе главных акционеров. Но это могло быть и выдумкой. А работал Лабунский с бешеной энергией и попрежнему был у Фрунзе в цене. Однажды, когда он только что укатил в Севастополь, Карбышеву случилось показывать командующему кое-какие инженерные сооружения на аэродроме, против общественного сада, не доезжая Померок. Фрунзе был доволен, внимательно слушал короткие и точные разъяснения Карбышева, а потом вдруг почему-то вспомнил Лабунского и, словно отвечая кому-то на никем не заданный вопрос, сказал:
— Да, работает много, но болтает еще больше…
И по возвращении Лабунского в Харьков несколько дней не вызывал его к себе. В один из этих дней, пересекая площадь, на которую выходило большое здание штаба вооруженных сил, Карбышев неожиданно столкнулся с Юханцевым. Приятная встреча… Но Юханцев был худ, бледен и без всякого блеска в глазах.
— Что с тобой, Яков Павлыч?
— В сыпном тифу провалялся три месяца, с осложнениями. Еле выкарабкался.
— А теперь?
— Только начал в жизнь входить. Еще в коленках дрожь, а быка бы съел.
Он улыбнулся, но опять — без блеска в глазах.
— Уже работаю.
— Где?
— В Комгосоре.
— Это зачем же?
— Направили политработником в военный отдел при Комитете государственных сооружений. Сам знаешь, — в связи с восстановительной хозяйственной работой коммунистов теперь из армии на гражданскую передают.
Из-под обвисших отворотов ржавой кожаной тужурки Юханцева уныло смотрела на свет совершенно «гражданская» линючая рубашка, с светлоголубыми разводами по черной основе.
— Знаю, — задумчиво сказал Карбышев, — знаю…
Он внимательно оглядел суховатый силуэт соборной колокольни, перевел взгляд на Лопань, на мост и в сторону Университетской горки. И снова остановил его пристальное острие на Юханцеве.
— А ведь это все ерунда, Яков Павлыч!
— Что ерунда?
— То, что с тобой делается.
— Почему?
— Ты — путиловец, служил раньше в инженерных войсках. И Михаил Васильевич тебя знает.
— Что же из того?
— Значит, кинь грусть!
Серые глаза Юханцева блеснули: вынужденный уход из армии был ему действительно очень тяжел. Тиф — тифом, а может, и не от одного тифа этак «перевернуло» человека…
— Уж если не на Путиловский, так хоть из армии не брали бы.
— А я — о чем? Все ясно. «Не отпирайтесь, вы писали».
— Да я и не… Грущу? Верно. Ну да, конечно, грущу!
— И довольно! Забудь, брат, о своем Комгосоре…
У Лабунского был вылощенный вид с некоторым наигрышем под иностранца: сверкающие желтые краги на длинных, тонких ногах, клетчатая шотландская рубашка, английского покроя френч с открытой грудью. Войдя в кабинет, Карбышев сказал:
— Аркадий Васильевич, вы помните Юханцева?
— М-м-м… — равнодушно пробасил Лабунский, — кажется, не забыл.
— Что вы о нем думаете? Не прежде думали, а теперь?
— Ей-богу, ничего. Черт с ним! Ну что о нем думать! Весьма и весьма ср-редний человек. Пр-ростой человек. Ничего больше. А вы?
Карбышев усмехнулся. Темные пятна на его щеках сгустились, и что-то дрогнуло в губах.
— Я думаю, что средний и простой человек отнюдь не одно и то же.
Карбышев сел за свой стол. Лабунский поднялся из-за своего и прошагал по кабинету.
— Почему? — с внезапным интересом спросил он. — Да что такое средний человек? Глуповат, злобноват, корыстен, нагловат… А простой…
Он взглянул на Карбышева и, заметив, что тот перестал улыбаться, отвел взгляд.
— А простой человек, — быстро сказал Карбышев, — много лучше нас с вами!
* * *
Еще три года назад, будучи председателем Ивановского губисполкома, Фрунзе был очень требователен по части внешнего порядка в служебном обиходе. Кабинет его в Иванове был уставлен кожаными креслами. Полы натерты до блеска. На столе лежали блокноты из добротной бумаги. И часы приема были твердо определены. Еще больший порядок царил в огромном, красивом трехэтажном здании на центральной харьковской площади, где раньше помещалась Судебная палата, а теперь — штаб вооруженных сил Украины и Крыма. Безукоризненно чистая беломраморная лестница вела двумя маршами из вестибюля наверх. Левая сторона второго этажа была занята оперативным управлением; правая — секретариатом и кабинетом командующего. Все это очень хорошо отметил и мысленно одобрил Юханцев. В секретариате адъютант Фрунзе что-то диктовал машинистке, заглядывая в лежавшую рядом с машинкой длиннейшую повестку малого Совнаркома Украины. В повестке было пятьдесят семь вопросов. Адъютант командующего был членом малого Совнаркома — один из путей органической сфасовки военной и гражданской работы. Заседания в Совнаркоме начинались с семи часов утра, и естественно, что адъютант разрывался на части… Юханцев сидел против Фрунзе и слушал.
— Я вас вызвал, — говорил Михаил Васильевич, — потому, что помню вас, знаю и верю вам. Мне хочется, чтобы вы работали со мной, помогали мне. Военному делу обучает у нас армию командир-спец; политически воспитывает ее комиссар — политработник. Значение политического и морального воспитания огромно. Работа политорганов — важнейшее условие высокого морального духа армии…
Юханцев вспомнил Перекоп и наклонил большую круглую голову.
— Верно? Скажу больше: работа политорганов по идейному воспитанию армии — один из главных способов ведения войны.
Юханцев еще ниже наклонил голову.
— Понимаете? Это — особый род оружия, иногда гораздо более мощный, чем винтовки и пушки. Но вот гражданская война кончилась. Что теперь делать? Перспектив нет, и делать нечего. Идти некуда…
Юханцев быстро вскинул голову. С этим он не был согласен.
— Как это некуда, товарищ Фрунзе?
— К сожалению, именно так кажется многим командирам в армии. Они спрашивают: что делать? А я отвечаю: учиться. Видите?
Фрунзе приподнял над столом книгу и показал Юханцеву.
— «Анти-Дюринг» Энгельса… Это после ряда лет, когда у меня в руках бывала только военная литература. Недавно я дал Карбышеву первый том «Капитала». «Зачем?» — «Прочитайте». — «С удовольствием». — «С удовольствием или без удовольствия, но прочитайте. Потом проверю». — «Это что же, учеба?» — «Самая настоящая». Сперва организовать такую учебу, потом развернуть и, наконец, контролировать ее результаты, — вот — ваше дело, ваша помощь мне, товарищ Юханцев. И пусть с вашей легкой руки весь комполитсостав инженерных войск Украины и Крыма сядет за книгу. Есть?
— Есть, товарищ Фрунзе!
* * *
Неприятельской пехоте Не пробиться к нашей роте Ни бежком, Ни ползком…Будь Карбышев хоть чуточку поэтом, он бы знал, что с этими строчками сделать. А сейчас знал только, что сами по себе, независимо от того, что с ними связывалось в его мыслях, они выглядели и звучали довольно пошло. Но для него это были не простые строчки. Они положительно не сходили с его языка. Подобрав бумаги к очередному докладу, он похлопывал ладонью по безобразно распухшей папке.
Не пробиться к нашей роте…
— Что это за дребедень к вам прицепилась? — хриплым басом осведомлялся Лабунский.
Вечером, дома, набегавшись с Лялькой по своему проходному кабинету, Карбышев вдруг хватал гибкое, тоненькое тельце дочери и вскидывал под высокий потолок. «Ай!»
Ни бежком, Ни ползком…— Откуда ты это взял, Дика? — спрашивала Лидия Васильевна.
В самом деле, откуда?
Идея «перекати-поля», как мысленно обозначал Карбышев свое открытие, родилась только этим летом. Но зародилась она давным-давно — еще во время «германской» войны, когда вводились в русской армии переносно-складные искусственные препятствия двух видов: сети Фельдта и спирали Бруно. Тогда же сложились и солдатские стишки, навсегда запомнившиеся Карбышеву четырьмя строчками. Конечно, препятствия Фельдта и Бруно были во всех отношениях выше обыкновенного оборудования позиций тремя рядами кольев, когда на одну версту полосы требуется до трехсот пудов проволоки и до тысячи двухсот кольев такого же точно общего веса. Чтобы оборудовать обычным способом участок полка в пять верст, надо доставить на позицию около трех тысяч пудов груза по грунтовым дорогам, а то и вовсе без дорог. Каторга! Чтобы построить сеть на участке полка, необходимо две с половиной тысячи рабочих дней. Если эту работу надо сделать за сутки, подавай две с половиной тысячи рабочих. Да какой же полк выдюжит? Этакой работы он и за неделю не выполнит. А тут еще отрывка окопов, ходов сообщения, пулеметных гнезд…
Что касается сетей Фельдта, все было легче а проще. Сети — в пакетах. Для переноса одного пакета, растяжки и закрепления на земле проволочного препятствия из шести рам, требовалась работа всего лишь двух человек. Установить сеть двухсаженной ширины в пять рядов на участке полка можно было за шестьдесят рабочих дней. При самых неблагоприятных местных условиях, когда затруднялся каждый шаг, работа шла в десять раз быстрее, чем при постройке сети на кольях. И все-таки с препятствиями Фельдта тоже не все было ладно. Полку надлежало возить за собой пятьсот пакетов. Их вес — полторы тысячи пудов. И было совершенно естественно, что груз этот никогда не попадал своевременно на все пункты позиции.
Спирали Бруно устанавливались еще легче и проще. На участок полка при двухсаженной ширине препятствия уходило спиралей по весу всего лишь до, сотни пудов. Но ведь и это груз немалый. Да кроме того, задержки, срывы в установке…
Наблюдая все это, Карбышев думал о том, как хорошо было бы пехоте постоянно иметь при себе легкие, подвижные, почти мгновенно складывающиеся и развертывающиеся заграждения. В его самых первых мыслях они несколько походили на перекати-поле, — так же быстро мчались вперед и так же вдруг останавливались. Позицию возводит пехота. При ней — все средства: карты, проекты, склады, транспорт и разборные постройки. Как было бы хорошо! Идея родилась и повисла в воздухе. Почему? Обычно Карбышеву казалось, что причина — в его постоянной занятости, в нехватке времени, в том, что никто никогда не заинтересовался, не подтолкнул, не помог. Но порой сквозь эту пелену предвзятостей проглядывала, как солнце, до боли искренняя мысль: а не в самом ли Карбышеве причина? Сколько уже было находок на бездорожье, по которому водило Карбышева вечно ищущее беспокойство его натуры. Однако новое всегда возникало как отвлеченность. Оно не становилось жизнью, — не одевалось формой и не превращалось в вещь. Новаторствовать и изобретать — не одно и то же. Организация и техника — рядом, близко, но все же не на столько, чтобы умный человек не мог разобраться, где что. И вот пришло теперь время, когда Карбышеву понадобилось, наконец, разобраться. «Перекати-поле» служило для этой самой проверки. Он усердно чертил по ночам проволочные шары, покрывая цифрами выкладок листы бумаги, мастерил что-то из спичек и пружинок, — с упорством и жадностью нетерпения делал все это. И не мог иначе, потому что стремился в этих ночных занятиях выйти на путь, ведущий от интуиции и порывов к практически-деятельному творчеству, — стремился и настойчиво пробовал выйти на этот путь…
* * *
В августе под Харьковом происходили совместные маневры кавалерийских и стрелковых частей с бронеотрядами. Карбышев был на маневрах. В это самое время повадился навещать Лидию Васильевну Дрейлинг. Лидии Васильевне были приятны его посещения. Он был безукоризненно вежлив, прекрасно держался и очень интересно рассказывал о совместном с Дикой житье-бытье в Бресте, то есть о том далеком времени, когда сама Лидия Васильевна еще и понятия не имела о Дике. От того, что Дрейлинг так давно знал ее мужа, она испытывала к нему доверчивое и теплое чувство. Оно укреплялось еще и тем, что несколько суховатый Дрейлинг просто, весело, совсем по-ребячьи играл и шалил с Лялькой, как только оставался с ней один на один. А это постоянно случалось. Стоило Лидии Васильевне задержаться на кухне, как шумные игры маленькой хозяйки с гостем тотчас же развертывались в проходной комнате квартиры, — в кабинете Карбышева. К этому времени Лялька стала уже очень похожей на отца, — такая же субтильная, черные пристальные глаза, длинное смуглое личико. Она походила на отца до смешного, — но это было издание, сильно улучшенное: Дика не был красив, а Лялька прехорошенькая. И с каждым днем делалась все лучше. Очень изменилась после болезни и Лидия Васильевна, — расцвела и тоже похорошела, почти возвратясь цветом лица и чистым блеском глаз к той поре, когда судьба свела ее с Дикой. Если бы ясность ее сердца была хоть где-нибудь, хоть самую малость затемнена и нарушена, Лидия Васильевна, может быть, и подумала бы, что Дрейлинг ходит к ней в отсутствие Дики не без целей и надежд. Но это даже в голову ей не приходило…
Лидия Васильевна возилась на кухне. Лялька вихрем носилась возле Дрейлинга, сидевшего в кабинете отца, за его письменным столом и старательно перебиравшего на нем бумаги. Меньше всего думая о том, чем занят Оскар Адольфович, Лидия Васильевна быстро и неслышно вышла из кухни и, пройдя через столовую, очутилась на пороге кабинета раньше, чем Дрейлинг ее заметил. Но она не могла не заметить: торопливо роясь в бумагах, чертежах и расчетах Дики, относившихся к «перекати-полю», он наспех переносил из них что-то в свою записную тетрадь. Еще не увидев Лидии Васильевны, но уже почувствовав ее близость, он быстро швырнул карандаш на стол. Момент, когда его глаза встретились с глазами Лидии Васильевны, был неимоверно короток, — ровно столько времени, чтобы она могла рассмотреть его изогнутую вбок, как у быка, красную шею, залитые стыдом красные глаза и обезьянью гримасу вместо улыбки на обычно красивом, а сейчас отвратительном лице. Он хотел сунуть тетрадь в карман, но понял, что поздно, и медленно развернул ее на половине.
— Я позволил себе позаимствовать у Дмитрия Михайловича одну замечательную мысль, — проговорил он, запинаясь и, повидимому, еще не решив, так ли и то ли надо говорить, — вот она: «Как препятствие без огня, так и огонь без препятствия обладают слабым сопротивлением. Зато препятствие, обороняемое фланговым огнем, неприступно для пехоты, если ей не помогают ни артиллерия, ни танки».
— И больше ничего? — спросила Лидия Васильевна.
Дрейлинг спрятал тетрадь и засмеялся.
— Нет, еще кое-что… Почему вы такая красная?
— Я — от плиты…
— Ложь!
— Как вы смеете так говорить?!
Теперь Дрейлинг уже знал, что ему остается еще сказать и сделать, чтобы осложнить и запутать неприятную историю с поисками «перекати-поля» на карбышевском письменном столе. Надо было заслонить одну неприятность другой, неизмеримо большей. «Пусть, — думал Дрейлинг. — Пусть…»
— У вас есть платок? — вдруг жестко, по-деловому, почти грубо спросил он.
— Есть…
— Так вытрите же щеки. Стыдно! Такая молодая, красивая женщина… Мажетесь… Пфуй!..
Он сделал короткий шаг к порогу и огляделся. Ляльки уже не было в кабинете. Сильная рука Дрейлинга уверенно обхватила талию Лидии Васильевны.
— Зачем мазаться? Зачем?..
— Прочь! — отчаянно крикнула она и размахнулась.
Сухой треск этой оплеухи и крик матери одновременно долетели до Ляльки. Но когда она вбежала в кабинет, Лидия Васильевна была одна. Она стояла, прислонясь к косяку двери, и дрожала, закрыв лицо обеими руками…
* * *
Дика вернулся с маневров. Лидия Васильевна ничего не сказала ему о происшествии с Дрейлингом. Если бы она чувствовала себя хоть в чем-нибудь виноватой, она бы сказала непременно. Но пощечина так завершила это скверное дело, что его просто не стоило поднимать из-под спуда, где оно улеглось, неслышное и невидимое, наглухо припечатанное собственной рукой Лидии Васильевны. Дика любил повторять: «Сперва — служба, потом — семья». И действовал в точном соответствии с этим правилом. Лидия Васильевна привыкла к тому, что в ее жизни с Дикой только так и может быть. Не сладкая привычка! Но Лидия Васильевна мирилась, уступала. Теперь же, когда она думала, что могло бы получиться, расскажи она мужу историю с Дрейлингом, ее охватывал страх. Она боялась: а вдруг и в этом случае Дика останется верен своему правилу, — не обидится за жену, не оскорбится за себя, не полезет на рожон: ведь служба-то — сначала, а уж потом — семья… Вот этого она больше всего не хотела. Это возвратило бы ей удар, нанесенный ею Дрейлингу. Кто знает, может быть, даже и любовь ее к Дике… Нет, нет, нет… Не нужно таких испытаний! Лидия Васильевна предпочитала сохранить свою любовь к мужу в целости, хотя и безгласной, как всегда. Собственно, по этой-то главной причине она и не сказала Дике ровно ничего о том, что без него случилось.
Прямо с маневров Карбышев попал на заседание постоянного совещания при командующем. Председательствовал Фрунзе. Один из членов Реввоенсовета делал доклад о «военном партизанстве и его значении для борьбы пролетариата с капиталом». Тема доклада была вполне современна. Петлюровские банды Палея и Тютюника недавно перешли границу Украины и вместе с морозом, вьюгами, снегопадом и ледяными ветрами навалились на страну. Но кавбригада Котовского настигла петлюровцев, порубила их близ Овруча, Базара и Звездаля, захватила сейфы с донесениями, списки явок и агентов, карты и многое другое. Фрунзе вызвал тогда Котовского на станцию Тетерев. Котовский вошел в вагон, широкий, плотный, в меховой куртке, красных штанах и красной фуражке, низко надвинутой на бритую голову, — вошел и вытянулся. Рапорт уже вился у него на языке. Но Фрунзе обнял его. «От всей души поздравляю, товарищ Котовский!» Потом повернулся к свите: «Вот как надо уничтожать врага. Учитесь, друзья, у Котовского!» Затем оба в задумчивости склонились над картой. «Люблю математической психологией заниматься», — сказал Котовский. Фрунзе засмеялся. Он знал, что «математикой» у Котовского назывался расчет боеприпасов, людей, лошадей, ширины оврагов и длины переправ. А под «психологией» разумелся дух своих войск и настроение неприятельских. Фрунзе долго не мог оторваться от карты. Он никогда не отказывался разбирать военные операции часами. Сразу со всеми находился у него при этом общий язык, и из каждого «оперативного» разговора умел он извлечь пользу. Мало походили друг на друга он и Котовский: главное в первом — стойкая выдержка полководца; главное во втором — героическая дерзость партизана. Но из соединения этих свойств возникала глубокая общность между обоими.
Когда на заседании постоянного совещания при командующем, после доклада о «партизанстве», открылись прения и взгляды выступавших начали сталкиваться и разбиваться в непримиримых противоречиях, Карбышев пожалел о том, что нет Котовского. Действительно странная атмосфера какого-то вооруженного нейтралитета окружала ораторов. У них были робкие, торопливые, заискивающие движения, и огрызались они, не глядя друг на друга, но с великой злостью. Хрипло басил в полный голос один только смелый Лабунский. Авк Батуев, недавно перебравшийся в Харьков на должность инженера для поручений, слушал, развесив уши. Его любопытство было особенного рода. Карбышев знал, что это за любопытство. Плохо разбираясь в деле и сам, по возможности, о нем не думая, Батуев жадно собирал чужие мнения, чтобы не казаться дураком и не попадать впросак. Карбышев следил за Авком и ясно видел, как он с чрезвычайным вниманием, почти с упоением, прислушивается к заведомой чепухе.
Наконец, встал Фрунзе, — заключительное слово.
— Основываясь на социально крепком тыле, даже слабейшая сторона имеет возможность держаться… Даже в позиционной войне мы видим постоянное стремление действовать на фланги, то есть перейти к маневру. Чем пресекались в позиционной войне попытки маневрировать? Только географической невозможностью. Когда, например, фланги упирались в море… Роль партизанских действий в будущей войне очень велика. И мы обязаны, товарищи, готовиться к «малым формам» войны так же тщательно, как и к большим…
Со щедростью человека, владеющего неисчерпаемым богатством, Фрунзе раздавал, разбрасывал содержимое своей сокровищницы, и каждая из его мыслей казалась Карбышеву ценнее всех остальных…
Ночью, после совещания, когда в доме все заснуло и беззвучная песнь тишины зазвенела в ушах, Карбышев сел в своем кабинете за письменный стол и принялся было за прерванную работу, — технические расчеты «перекати-поля». Но работа не шла. И не от того, что в ней что-то не ладилось, нет. Вдруг ни с того, ни с сего иссяк интерес к ней. Правильнее даже сказать, — не иссяк, а куда-то отодвинулся для того, чтобы очистить место другому, неизмеримо более важному интересу. Тишина звенела заключительными словами Фрунзе. Что за человек!..
Еще во время гражданской войны Карбышев пробовал обобщать материалы полководческой деятельности Фрунзе. Уже тогда он понимал всю необходимость таких обобщений. И не с одной лишь точки зрения общей тактики они были нужны. Прямым и естественным выводом из них должна была явиться новая теория, а за ней и новая практика военно-инженерного дела. Предстояло установить основные закономерности диалектического развития фортификационных форм. Время для этого пришло и не должно быть упущено. А «перекати-поле» может обождать.
С этого вечера Карбышев приступил к большому и серьезному делу. Он старался уяснить себе, как формировалось полководческое дарование Фрунзе сперва в ходе политической борьбы с самодержавием и буржуазией, а потом в войне с интервенцией и контрреволюцией. Он то и дело наталкивался при этом на оригинальность замыслов Фрунзе, на творческий их характер, на совершенное отсутствие шаблона в действиях. Он видел смелость и разумный риск, уменье точно оценивать военно-политическую обстановку и жертвовать тактически для стратегического выигрыша. Что ни шаг, в операциях Фрунзе встречались удивительные примеры соответствия в расчете моральных и материальных сил. Эти силы массировались на решающем направлении — Перекоп. Из тактических успехов обязательно составлялся успех стратегический — Южная группа Востфронта. Разгром достигался сочетанием обороны и наступления с широким маневром — одновременный удар на флангах, обход, охват, окружение, изоляция от баз. Таковы были основные приемы таланта Фрунзе.
* * *
С некоторого времени Карбышев и Лабунский утратили способность разговаривать друг с другом спокойно — не горячась и не споря. Может быть, причина была в том, что они сидели по целым дням в общем для обоих кабинете, а может, и не в этом. Никак нельзя сказать, что им просто надоела эта вынужденная близость, — ничего подобного. Скорее даже наоборот, — лишь теперь они начали с каким-то новым интересом всматриваться друг в друга. Интерес был настоящий — живой и жадный, но только явно недружественный со стороны Лабунского и несколько колючий со стороны Карбышева. Случалось, что споры, начавшиеся на работе утром, заканчивались уже вечером по дороге домой, а то даже и вечером не заканчивались. Бывало и так, что Лабунский вместо дома попадал к Карбышеву и просиживал у него до ночи. Спор обычно вертелся вокруг того, что такое фортификация.
Карбышев сидел в кресле у стола, — нога на ногу, острая коленка почти на уровне лица.
— Слыхали анекдот? — говорил он, смеясь, — шел дождь и два студента… Ведь совершенно то же самое и у вас! Я это когда-то фортификационной лапшой называл…
— Называйте, как угодно, — со злостью «отпихивался» Лабунский, — но не считайте людей ослами…
Он сидел на стуле у стены. Сутуловатая спина его упиралась в стену, высокие, как у крупной обезьяны, плечи подходили под уши, массивное, бурое лицо подергивалось, длинные тонкие ноги были вытянуты чуть ли не на середину кабинета.
— Это бы, конечно, замечательно было — идти по вспаханному артиллерией полю, имея впереди танки, а над головой — аэропланы. Наткнулись на чудом уцелевший одинокий пулеметный блокгауз, — требуем по радио поддержки тяжелых гаубиц. Вот бы здорово! Тогда бы и фортификация была не такая, как у нас, а другая, черт ее знает, какая. Но мало ли что и как было бы. А сейчас у нас ни танков, ни аэропланов, ни радио, и фортификация по этой причине самая распреобыкновенная. Надо, чтобы позиции были в боевой готовности к нужному моменту? Пожалуйста. Что для этого требуется? Я говорю: отнесите позиции в тыл на достаточное для выигрыша времени расстояние, и тогда…
Карбышев махнул маленькой, темной рукой. «А воз и ныне там…»
Под длинной верхней губой ровным блеском обозначились мелкие белые зубы.
— Ересь! Понимаете? Ер-ресь!.. Разговор о так называемой «обыкновенной» фортификации — это разговор о спокойной жизни. Хуже того: это — безобразие. Нельзя в конце концов подчинять боевые требования техническим. И не по ошибке, а сознательно. Нельзя… Подпирать укрепленными позициями надо только фронт…
— Поехала кума неведомо куда. А Каховка?
— Каховка и Уральск родились на фронте. И вообще: добиться достаточной боевой готовности позиции к нужному моменту — значит быстро построить позицию там, где она необходима. Вот и все! Ничего тут больше нет. Позиция — щит пехоты. И, как щит, должна быть подвижна. От тяжелых козырьков и блиндажей мы тысячу раз отказались. При отходе спасенье в активной обороне и контратаках…
— Идея понятна, но она у вас прыгает, она — рогатая…
Спору не предвиделось конца. Лабунский взглянул на часы: два ночи.
— Не знаю случая, — сказал он, позевывая и почему-то не находя даже нужным прикрыть при этом рукой рот, — чтобы кто-нибудь когда-нибудь кому-нибудь что-нибудь доказал. Глупо спорить!
Он обвел глазами заваленный бумагами письменный стол Карбышева и, помолчав, спросил:
— В профессора ползете?
Всякий раз, как только спор унимался, Карбышев вдруг забывал о нем и тотчас начинал думать о том, что надо будет сделать после спора. Переключения эти происходили в нем почти мгновенно.
И сейчас, встав с кресла, чтобы проводить Лабунского, он был так далек от него мыслями, что даже и не понял дерзкого вопроса.
— Что?
— Я говорю: профессорам недурно живется…
— Завидно? Пора бы вам знать, что сами по себе деньги — не зло, но и не добро, а только сила, которую разум и воля человека направляют то туда, то сюда.
— Разум и воля? Хм! А вы слыхали, что моя жена бьет меня по голове мокрым полотенцем, когда я прихожу домой под мухой?
— Слыхал. И думаю: так вам и надо.
— За что, собственно? Ведь я же для вас — terra incognita[47]. Давно знакомы? Ровно ничего не значит. Просто вы меня изобрели негодяем и воображаете, будто…
— Ну, знаете, — вас не вообразишь…
— Отчего? Вы и это можете. Вроде «перекати-поля»…
Карбышев уставился на Лабунского неподвижными черными глазами. «Что такое? Откуда он про…» Но Лабунский, по обыкновению, был безмятежно спокоен.
— Про «перекати-поле» я потому вспомнил, что сам на него похож.
«Ну, вот, — с облегчением подумал Карбышев, — конечно, совпаденье… И ничего больше».
Между тем Лабунский уже нахлобучил на голову фуражку, да так низко, что заслонил козырьком поллица.
— Однако узнать меня по-настоящему, Дмитрий Михайлович, вам еще предстоит. Да, может быть, я и сам себя вам покажу. До завтра!
И он пошел через квартиру на цыпочках, ступая по паркету длинными ногами, как аист, шагающий через луг…
Луна то забегала за тучи, то выскакивала из-за них на прозрачную гладь неба. И от этого летучими всплесками зеленого мерцанья переливались в кабинете волны ночного света. Дмитрий Михайлович подошел к окну. Широчайшей картой развернулся перед ним мир. Города не было в этом мире. Он потонул в бело-дымчатой пучине тумана. И Карбышеву на миг показалось, что он сейчас — единственная человеческая душа во всем развороте ликующей ночной жизни. Грудь его вздрогнула, сердце зажглось радостью. Он наслаждался своим одиночеством:
— Хорошо в такую ночь быть сильным!
Сколько уже раз бывало, что удавалось ему взяться за перо лишь поздней ночью. Кто бы ни были люди, мешавшие работать, — гости Лидии Васильевны, спорщики, вроде Лабунского, — все равно, он с феноменальной деликатностью выдерживал искус. И никто бы не догадался, как ему необходимо быть одному. Но люди уходили, и тогда он хватался за перо, — делать «урок». Черта, которую обычно называют исполнительностью, была необыкновенно сильна в характере Карбышева. Когда-то это казалось в нем людям простой «строевитостью». А. теперь стало неумолимой потребностью точности в деловых расчетах со всеми и, главное, с самим собой. «Уроки» задавала Карбышеву не только его служба; он сам задавал их себе. Не было препятствия, которого он не одолел бы, чтобы выполнить «урок». В этом заключался внутренний смысл его деловой честности, а вне дела он не умел, не хотел и не мог существовать. И, если надо будет сегодня просидеть за столом до шести утра, чтобы написать «урочные» страницы, он просидит до шести…
Большая статья, над которой работал Карбышев, отложив в сторону проект «перекати-поля», называлась так: «Влияние условий борьбы на формы и принципы фортификации». Это была смелая попытка диалектически раскрыть внутренние зависимости между явлениями военной борьбы на различных этапах ее исторического развития. Среди этих явлений Карбышев выделял то, что военные инженеры называют обычно фортификационной формой. Ему надо было проследить, как, с одной стороны, менялись общие условия военной борьбы, а с другой — как под воздействием этих меняющихся факторов эволюционировала фортификационная форма. С особой силой влияло на ее эволюцию развитие технических средств борьбы. И отсюда Карбышев делал решительный вывод: «Фортификация не терпит шаблона». Давнишние мысля, которые он безуспешно внушал когда-то Батуеву, не умея внушить, стояли теперь на прочном диалектическом основании. Жесткая рука Карбышева с необыкновенной легкостью выводила на бумаге ровные, четкие строки — одну за другой, одну за другой. Он писал без помарок: «Фортификационные формы, неуместные при одних условиях борьбы, рациональны при других, откуда следует, что никаких твердых „современных“ неизменчивых форм не было и быть не могло». Обобщения полководческого опыта Фрунзе представляли собой арсенал доказательств и доводов, и арсенал этот служил Карбышеву как неразменный рубль. Карбышев писал об уральском кольце, о Каховке, — целое учение о тыловых плацдармах, совершенно новое, никогда и никем еще не высказанное, выливалось на бумагу из-под его острого пера. В чем состоят условия, при которых плацдармы с успехом выполняют свою активно-оборонительную роль? Карбышев писал о наступательной направленности общей задачи плацдармов, об их оперативном и боевом происхождении, о степени участия, которое должна принимать в их создании пехота, и вопрос становился на ноги…
Статья не могла ни предусмотреть всех возражений, ни исчерпать всех положительных аргументов, — для этого еще не наступило время, и Карбышев понимал это. Но он очень хорошо понимал и другое: время уже наступило для того, чтобы подобная, пусть несовершенная статья могла, наконец, возникнуть. И вот она действительно возникала под карбышевским пером. Он быстро взглянул на часы. До шести еще сорок минут. Дальше, дальше…
Да, идея, реализованная в каховском плацдарме, заключалась вовсе не в том, чтобы иметь позицию, хорошо укрепленную для обороны бериславских переправ. Идея в том, чтобы иметь хорошо укрепленную исходную позицию для наступления. Каховка — проявление активно наступательного духа, вот в чем дело. Каховка подтвердила в стотысячный раз, что как ни важны на войне танки, бронемашины, авиация, прочая техника, но еще важнее то, в руках какого человека собрана эта техника. И сам человек, человек без техники. Именно благодаря этому человеку устоял против белых каховский плацдарм — без танков, без бронемашин, без авиации, со множеством вопиющих недостатков, допущенных строителями при его возведении (Лабунский? Да, да — он…) Ошибки подобного рода влекут за собой излишки в жертвах и без необходимости пролитую кровь. Как избежать ошибок? Средство одно: строители позиций обязаны твердо знать, как влияют условия борьбы на фортификационные формы, правильно принимать эти условия в расчет и в соответствии с ними конструировать как весь позиционный узор, так и отдельные постройки…
Часы отбили шесть. Карбышев положил перо.
Глава двадцать пятая
Харьковская весна двадцать второго года была для Фрунзе очень деятельной весной. В феврале он выступал на собрании Общества ревнителей военных знаний. В марте сделал два доклада на Всеукраинском совещании командиров и комиссаров, — один о военно-политическом воспитании Красной Армии, другой — о ее текущих задачах. В апреле происходило совещание военных делегатов XI партсъезда, и Фрунзе опять выступил с докладом о военных задачах страны и Красной Армии. Командующий поднимал коренные вопросы и коренным образом решал их. Карбышев не пропускал ни одного из его докладов. Когда он слушал спокойную, твердую и ясную речь Фрунзе, ему казалось, что сверкающее будущее бросает перед собой яркую дорогу света. И светлое ощущение новой радости рождалось в Карбышеве, — он радовался тому, что Фрунзе — не имя, не книга, а настоящий живой человек.
Лабунский уехал в Севастополь. Юханцев временно завладел его письменным столом и сидел в одном служебном кабинете с Карбышевым. Он тоже восхищался Фрунзе.
— Посмотри, — сказал он однажды, протягивая Карбышеву какую-то бумагу.
Это было секретное донесение о прошлогодних партизанских делах с такой обстоятельной и большой по размеру резолюцией, что она могла бы сойти и за целую статью. Под резолюцией стояло: «Фрунзе». Карбышев прочитал строки, на которые указывал Юханцев: «Что такое политический бандитизм на Украине?.. Это — кулацкий террор против советской государственной и пролетарской дисциплины».
— Ну? Можно лучше сказать?
— Можно ли сказать лучше, не знаю. А вот иначе сказать нельзя.
— Я же и говорю…
— Нет, ты не то говоришь. Иначе сказать, комиссар, нельзя. Стоит узнать, как Фрунзе определяет махновщину, и уже ни представить ее себе, ни понять иначе, чем он, не-воз-можно. Это и есть главное…
В кабинет вошел атлетически раздавшийся в плечах, раздобревший всем корпусом и сделавшийся еще красивее, чем был раньше, Батуев.
— Дмитрий Михайлович, — сказал он, — докладная записка для Михаила Васильевича готова. Сегодня всю ночь сочинял, сейчас отпечатал. Натрудился! Еле ноги держат…
И он засверкал веселыми ямочками на крепких, смугло-румяных щеках. Карбышев посмотрел на него и засмеялся.
— Жениться вам надо, Авк!
— На ком?
— Надежда Александровна Наркевич, — лучше не придумать.
— Верно, — согласился Батуев и покраснел, — только…
— Что?
— Мне ее жалко.
— В себе не уверены?
— Нет… Наоборот, — чересчур уверен. Такой курятник распложу…
— Ч-ч-черт! — сказал Юханцев и так круто повернулся в своем кресле, что оно испустило пронзительный писк.
Карбышев просматривал записку.
— Никуда не годится, товарищ Батуев, — решительно проговорил он, — кто это вас надоумил так написать? Я же вам объяснял…
Батуев пожал плечами.
— Перед отъездом Аркадия Васильевича я с ним согласовал, — сердито сказал он, — и все данные от него получил…
— Ни одной цифры верной. Все — вранье. Ведь вы знаете Лабунского…
— Как же теперь быть?
— Отправляйтесь к себе. А я сам пересоставлю доклад. Но заметьте, что это не работа, а безобразие!
Батуев опять пожал плечами. Карбышев ясно видел, что он ничуть не считает себя виноватым; наоборот, по его мнению, виноват в чем-то Карбышев, — в излишней взыскательности, в том, что ему невозможно угодить.
— Идите, — быстро и резко сказал Дмитрий Михайлович, — идите и не мешайте мне работать!
Когда Батуев вышел, Юханцев недовольно покачал головой.
— Неправильный у тебя метод, товарищ Карбышев, — высказался он, — ну что за толк обругать дурака и вон выгнать, а самому за него делать? Его заставить надо. Как на заводе…
— То — на заводе, — пробормотал Карбышев, углубляясь в записку, — а здесь это себе дороже стоит.
— Совершенно неправильный метод! — упрямо повторил Юханцев.
Когда, наконец, злосчастная записка была переделана и перепечатана, Карбышев поставил в уголке ее последней страницы свой гриф и протянул документ Юханцеву.
— Визируй, комиссар!
Юханиев внимательно прочитал. И потом к частоколу крупных букв сжатой карбышевской подписи присоединил ползучую мелкую вязь своей.
— Тоже неправильный метод, — говорил он при этом, — вот я подписываю… Из доверия к тебе, к Карбышеву, подписываю. А много ли сам-то я понимаю в том, что подписываю? По совести сказать, скандал… А?
Карбышев пристально посмотрел на Юханцева, — глаза его играли веселым огнем.
— Скандал, потому что мысль по прямой до конца довел. Не через всякий овраг, Яков, можно перепрыгнуть. А теперь остается тебе одно из двух. Либо иди и заявляй на себя: вовсе, мол, никудышный я комиссар, либо кричи: хочу учиться!
* * *
Саперные части ходили в леса на заготовку дров для армии. Редкая из этих экспедиций кончалась благополучно. Почти всегда случалось так, что команда рубщиков оказывалась зажатой зелеными бандитами в кольце. Зеленые били из винтовок по команде. Саперы отвечали. Лес гремел от пальбы, раненые падали и ползли, обливаясь кровью, как в настоящем бою. Что делать? В конце концов начали ходить в лес не иначе, как крупными отрядами из пяти-шести рот. Придя к месту, одна рота становилась на работу, а батальон — в охрану. И все-таки миновать обстрела не удавалось. Все-таки, возвращаясь из леса, несли раненых. Предполагать, что зеленые так удачно действовали по наитию, было невозможно. Юханцев, например, был уверен, что существует твердая военная рука, которая организует, а может быть, и руководит лесными атаками на саперов. Кому принадлежит эта рука, Юханцев не знал. Подозрения, бродившие в его голове, были очень смутны. Но был в этих подозрениях один чрезвычайно ясный, до полной неоспоримости пункт. Зеленые никогда не ошибались в выборе места и времени для встречи с саперами. Своевременно осведомлять их об этом мог только такой человек, который имел отношение к нарядам на рубку леса. А наряды исходили из УНИ[48]…
У Юханцева были свои люди в инженерных частях, — те, кого он давно и хорошо знал, кому верил без оговорок. Эти люди имели задачу — забрать «языка» из вожаков зеленой стаи и живым пригнать в Харьков на разборку. Люди старались. Они уже знали в лицо нескольких вожаков, а иных и по кличкам. Но захватить никого до сих пор не удавалось. Бывали очень досадные срывы: волки уходили из самых рук. Особенно досаден был последний случай. Юханцев только головой качал да встряхивал сивыми кудрями, слушая рассказ Якимаха. Разговор происходил в коридоре УНИ, у громадной стеклянной двери, выводившей отсюда на площадку лестничной клетки. Они стояли у стены, близко один к другому, осторожно приглушая голоса. Голова Якимаха была забинтована, — он трое суток провозился в околотке. Как же, однако, вышло, что «пруссак», на котором он уже верхом сидел, все-таки выскочил из-под своего наездника и унес ноги, чуть не превратив голову Якимаха в студень? Якимах очень хотел рассказать подробно и обстоятельно, но не мог. Все дело с того момента, когда он вцепился в «пруссака» и оседлал его, до развязки, заняло так мало времени, и так много за это короткое время всего совершилось, что без путаницы не обойтись. Да и голова — в дырьях, не держит. Он помнил только, что на пальцах правой руки «пруссака» надето было пятерное железное кольцо или вроде кольца, и когда удар его правой руки пришелся Якимаху сперва в лицо, а потом в голову, тут же — все и кончилось. От крови во рту стало горячо и солоно. Череп будто лопнул, брызнув густым огнем. Сердце ухнуло, замерло, провалилось, какие-то камни посыпались на спину, и, как ни старался Якимах пошире раскрыть глаза, ему ничего не виделось, кроме ослепительных разноцветных волн…
— Ну? — спрашивал вполголоса Юханцев.
Якимах молчал. Глаза его, все еще красные и пухлые после недавней передряги, страшно таращились из-под белых марлевых повязок, — он глядел сквозь стеклянную дверь на площадку лестницы.
— Да ну же?
Якимах молчал. Тогда и Юханцев взглянул на лестницу. Площадку пересекали два человека. Один из них был Дрейлинг. Другого Юханцев никогда не видал. Но с той минуты, как увидел, уже забыть не мог. Лоб этого человека был слегка скошен назад, а крепкие, тяжелые челюсти, наоборот, выступали. Зоркие темные глазки бегали под лысыми бровями. Короткие волосы странно двигались на голове вместе с кожей, — по-звериному. Нос его был крив, — словно перебит посередине. И к щеке большим белым пятном прилип пластырь.
— «Пруссак»… — прошептал Якимах.
— Что?!
Первым порывом Юханцева было броситься за кривоносым. Вторым — не бросаться. Дрейлинг и кривоносый медленно шли через площадку. Они были заняты разговором. Дрейлинг не мог не видеть за стеклом, в двух шагах от себя, Юханцева. Он даже вежливо поклонился, — вот я иду с человеком в желтой гимнастерке и синих галифе, и черт мне не брат, потому что надо знать очень многое для того, чтобы хоть что-нибудь понять в том, почему и зачем я с ним иду. Заметив и разгадав все это, Юханцев решил не бросаться, — верный расчет: Дрейлинг попался, но не надо его пока пугать; клещи сами замкнутся, когда… «Пруссак» тоже повернул, голову к двери; сначала его рысьи глаза скользнули по Юханцеву, потом уперлись в Якимаха. Тут наступил миг, — страшно короткий, если его отбить по секундам, и неимоверно долгий как для «пруссака», так и для Якимаха: они смотрели друг на друга; «пруссак» узнавал в забинтованном человеке своего смертельного врага, а Якимах все полнее и полнее сознавал себя узнанным. И, наконец, все стало ясно всем четверым…
* * *
Карбышев докладывал Фрунзе. Юханцев, по обыкновению, присутствовал. В просторном кабинете командующего было тихо и прохладно. Фрунзе стоял у окна, лицом к широкой площади. Поставив ногу на уголок стула, опершись локтем о колено и перебирая бородку пальцами, он казался сейчас Карбышеву одновременно и близким и далеким. Между тем вопрос, который поднимался докладом Карбышева, был очень важен. Речь шла об усилении дорожно-мостовых частей за счет сокращения саперных. Руководство по укреплению позиций Карбышев предлагал перенести на пехоту.
— На Каховке, под Перекопом и на Чонгаре, — говорил он, — саперы применялись лишь в качестве рабочей силы. Как технический руководитель, сапер не был там нужен, потому что с укреплением легких полевых позиций, пехота превосходно справлялась сама…
Как и всегда, предложения докладчика вполне разделялись комиссаром. Но и Карбышеву, и Юханцеву было известно, что Лабунский решительно против них возражал. Больше того, уезжая в Севастополь, он просил без него не ставить этого вопроса. Однако вышло так, что в Севастополе он задержался, а реорганизация армии не могла и не позволяла ждать. Дивизии разукрупнялись, бригады уничтожались; формировались штабы стрелковых корпусов, при корпусе — саперный батальон, при дивизии — рота. Будущее дорожно-мостовых частей или определялось теперь, или не определялось вовсе. Юханцев настоял на сегодняшнем докладе. Фрунзе сразу понял и суть и неотложность дела.
— Вы правы, товарищи, — сказал он, — так и, надо будет сделать.
Карбышев и Юханцев переглянулись. Комиссар с довольным видом взъерошил волосы. Скупая улыбка тронула глаза и губы Карбышева.
— Позвольте доложить, товарищ командующий: Аркадий Васильевич против моих предложений.
Фрунзе быстро отошел от окна и сел в кресло.
— Но ведь командую я, — тихо проговорил он, — а не Лабунский.
И вдруг развязался широкий разговор — один из тех разговоров, когда талантливая человеческая мысль выходит на простор и свободно проявляются наступательные порывы творческого ума собеседников. Фрунзе умел и любил развязывать такие разговоры Он с удовольствием следил за Карбышевым, за тем, как менялся у него на глазах этот интересный человек. Всегда сдержанный, осторожный в словах, аккуратный даже в улыбках, всегда в узде, он точно снял сейчас с себя все эти сдержки и, упразднив контролирующее чувство такта, спорил и доказывал.
— Вышло «Наставление по полевому военно-инженерному делу», — говорил он, — в этом наставлении найдутся и каталоги чуть ли не всех автомобильных фирм, и детали всевозможных фортификационных посгроек. Но о том, что такое позиция, для чего и как она строится, — обо всем этом нет ни звука. Как же это назвать на языке войскового командира, которому азбука военно-инженерного дела необходима до зарезу?
— А вы думаете, что необходима? — поддразнил Карбышева Фрунзе, — я читал вашу статью. Все очень интересно и важно, почти все правильно. Никто никогда не ставил так военно-инженерных вопросов, как это сделали вы. Однако… нет ли у вас пересола в том, что относится к пехоте?
— В чем вы видите пересол, товарищ командующий? — энергично заспорил Карбышев. — Недосол, пожалуй… Побоялся шагнуть как бы надо. Плевна, Шипка, Шахе, все укрепленные позиции первой мировой войны, Царицын, Уральск и Каховка времен гражданской войны — все подтверждает мою правоту. Коли необходимо, пехота всегда сумеет быстро и легко укрепить для обороны слабые позиции. Надо только пехоте материально и технически помочь. Надо кое-чему обучить ее… Чему?
— Я вам скажу чему, — улыбнулся Фрунзе, — наступательности. Именно она — основа воспитания бойца. Ее целям служит фортификация. Потому и надо бойцам знать фортификацию. Красноармеец должен уметь окапываться при всякой обстановке…
— Но останавливаться только для того, чтобы окопаться, — упаси бог, — вставил свое слово Юханцев.
— Верно. Маскировка должна стать привычкой бойца во всех случаях боя. Боец должен уметь обороняться. Но наступает он или обороняется, фортификация помогает ему усилить свой огонь. Все это так. Но ведь вы хотите гораздо большего. Судя по статье, вы не прочь превратить пехоту в саперов…
— Нет, товарищ командующий, —.горячо проговорил Карбышев, — я не этого хочу.
Разговор сверкал, уходя все вперед и вперед. Он не был спором, — расхождения падали, как только к ним прикасались. Но вместе с тем он и походил на спор тем, что общность взглядов возникала не иначе, как из их расхождения. И от этого разговор казался, да и в действительности был очень интересен для собеседников. Говорили о том, что инженерное укрепление позиции бывает необходимо всегда, когда одна или обе стороны стремятся по каким-либо причинам оттянуть решительное столкновение, как это, например, было при той же Каховке. А если так, то изучать устройство укрепленных позиций полевым войскам необходимо. Карбышев утверждал:
— Они должны уметь воевать на позициях не хуже, чем на маневре…
Фрунзе говорил:
— В статье у вас написано, что главное на войне — не танки, не бронемашины, не авиация, а человек. Это верно, так как техника не заменяет человека в военной борьбе, а лишь усиливает его. Но сказано это с пересолом, как и многое другое. Успех современного боя решается соединенными усилиями всех родов войск. Только действуют они все в интересах пехоты, ибо она всегда была и остается основным родом войск. Между тем сомнению не подлежит, что без авиации, пушек, бронемашин и танков пехота бессильна.
Карбышев нервно шевельнулся в кресле.
— Мне надо было написать, что новые борцы и лучшая техника — два фактора победы. Если бы речь шла о будущей войне, а не о Каховке, где техники вовсе не было, я бы так и написал.
— Золотые слова, — ласково усмехнулся Фрунзе, — а в том, что приоритет перед техникой за духом армии и народа, — в этом вы правы, конечно.
Он обернулся к Юханцеву.
— Опираемся на моральный дух войск. Твердо знаем, что обеспечивается он отличной постановкой политической работы. В этом, как и во всем, идем за учителем, полагающим начало нашей школе военного искусства. Вот вам мой совет, товарищ комиссар. Во-первых, будьте самоотверженны и стойки; во-вторых, храните живую, жизненную связь с красноармейской массой; в-третьих, старайтесь так руководить этой массой, чтобы она видела правильность вашего руководства на практике, на деле. А уж все остальное сделают советский строй и классовое единство ваше и ваших солдат…
Карбышев встал. Ему показалось, что при новом повороте разговора он становится лишним. Может быть, и Фрунзе думал так же, потому что не задержал.. его. «Разрешите идти, товарищ командующий?» — «Пожалуйста. До свиданья…» Но как только Карбышев вышел, Фрунзе заговорил именно о нем.
— Человек с будущим.
— Похоже, — согласился Юханиев.
— На таких лепят ярлык: «крупная фигура». В глаза бьет. Я спорил с ним и невольно сравнивал его о Лабунским. Все-таки между военным инженером и саперным офицером большая разница. Примерно как между офицером генштаба и строевым. Разница не только в круге знаний, но еще и в горизонте понимания боевых требований, военных событий, — в том, собственно, что дается лишь высшим военным образованием…
Юханцев молчал, но не потому, что сказать было нечего. Случалось и ему иной раз уплачивать словесную дань необходимости. Зато в конкретных обстоятельствах он действовал, как дровосек в чаще дремучего леса. И сегодня он с нетерпением ждал удобной минуты, чтобы сделать главное. Пришло-таки время, когда надо было прямо обрушиться на Лабунского, — выложить все и освободить от него УНИ, штаб округа, и самого Фрунзе. Было много причин и поводов для того, чтобы сделать что именно сегодня. Да и казалось Юхаицеву, будто Фрунзе подбивает его на прямоту.
— Не выношу вранья, — говорил Фрунзе, — недавно спрашиваю Лабунского: «Сколько у вас кабеля?» Отвечает без запинки: «Двадцать три тысячи верст». Утром — служебная записка: «По уточненным данным оказалось пятнадцать тысяч верст». Я долго относился к его справкам серьезно, а потом понял, что все они — вранье. Однако… я же, черт возьми, не в бирюльки играю!
— Лабунский — шарлатан, — с убеждением сказал Юханцев, — политический проходимец и шарлатан. Перед отъездом в Севастополь делал доклад о маскировке. От хлопков чуть потолок не упал. Я был, слушал. Доклад и впрямь замечательный. Тут и способы окрашивания предметов, и обманные цели, и звукомаскировка, и дымовые завесы… «Что же, думаю, за фокус?» Ведь это самому, как его?.. «Отец»-то русской маскировки…
— Величко.
— Вот-вот. Самому Величке впору. А Лабунскому — откуда? Кругом хлопают, благодарят. «Фокус, — думаю, — не я буду, если не разоблачу». Ну, и поусердствовал, разъяснил-таки…
— Что же оказалось? — с любопытством спросил Фрунзе.
— Оказалось, Михаил Васильевич, что еще за три недели до доклада приспособил к себе Лабунский секретным образом специалиста-маскировщика Для натаски. Тот и взялся. Да ведь как! Лабунский доклад произносит в одной комнате, а маскировщик слушает в другой и…
Фрунзе откинулся на спинку своего кресла и залился по-детски веселым, почти счастливым смехом.
— Что же смешного? — угрюмо пробормотал Юханцев. — Врет на каждом шагу, шарлатанит…
Фрунзе смеялся все веселее, отирая платком покрасневшее довольное лицо.
— Да ведь он талантливый шарлатан, — поймите!
Юханцев понял, но качнул головой осуждающе.
— Врет…
— Однако и слово держит.
— Как сказать! Я вот руку готов в огонь, — Юханцев вынул из кармана перебитую под Юшунем левую руку, — что… хотя, конечно, нет у меня…
— Рука ваша уже была в огне, — серьезно проговорил Фрунзе, — хватит. Говорите-ка лучше, что же у вас есть.
Теперь Юханцеву предстояло выложить главный козырь. Но был ли он действительно козырем, а не пустой доглядкой практически ровно ничем не подтвержденного внутреннего убеждения?
— Словом: с тех самых пор, как Дрейлинг по вине моей сквозь землю ушел, всячески я вникаю в Лабунского. И могу, наконец, твердо вам доложить, что один он у нас только и знает, куда пропал Дрейлинг.
— Нападений на лесорубов больше нет? — живо спросил Фрунзе.
— Не было…
— Однако, извините меня, товарищ Юханцев… Конечно, надо быть начеку. И я начеку. Но догадки ваши, повидимому, относятся к области психологической чепухи. Ведь прямых доказательств никаких?
— Никаких.
— Значит, хотя и не абсолютная, но все-таки… чепуха!
— Слушаю, товарищ командующий!
Юханцев замолчал. И Фрунзе тоже молчал, глядя в потолок и обхватив коленку пальцами крепко сцепленных рук. Так прошло несколько минут. Юханцев удивился, когда посмотрел на командующего. Что с ним случилось за эти минуты? Фрунзе был бледен той сероватой бледностью не вполне здоровых людей, которая с особенной резкостью бросается иногда в глаза. И во всей его крепкой и бодрой фигуре чувствовались усталость и еще что-то — совсем больное…
— Лабунский просился на Высшие академические курсы в Москву, — сказал Фрунзе, — ему хотелось доучиться. Однако он не поедет на эти курсы.
— Почему? — спросил Юханцев.
— Отчасти потому, что вы мне о нем говорили. А отчасти, — и это главное, — совсем по другой причине. Лабунский — прошлое. А на ВАК[49] надо быть людям будущего. Вообще надо больше думать о будущем…
Фрунзе оживился, встал и подошел к окну.
— Сидим мы с вами, Юханцев, здесь. Армию еле кормим, наготу ее чуть прикрываем. Повозок у нас нет, дров нет. Бандиты на нас лезут. Ну как же не мечтать о таком времени, когда все будет, чего сейчас нет? И вспомним мы тогда о том, как сидели сегодня, взглянем друг на друга и засмеемся. Ведь будет же это, товарищ Юханцев!
* * *
Лабунский вернулся из Севастополя в живом и веселом настроении. Промкомбинат «Стекло и гвозди» развертывал деятельность и начинал приносить дивиденды. Впереди открывалась заманчивая перспектива длительной командировки в Москву для прохождения ВАК. Все устраивалось на редкость ладно. Некоторую оторопелость Лабунский почувствовал, являясь к Фрунзе. Командующий почему-то был холоден, невнимателен и как бы несколько сторонился. Но могло всего этого и не быть на деле, а лишь почудиться Лабунскому. Принимая его, Фрунзе был чрезвычайно занят. Однако первое ощущение неблагополучия подтвердилось и в УНИ. В коридоре на стене висела большая стенгазета. Лабунский сразу приметил бойкую руку художника. Карикатуры для стенгазет всегда очень остроумно и с известным техническим совершенством изготовлял Карбышев. И этот рисунок тоже, конечно, вышел из его рук. Рисунок изображал три спины, выписанные так выразительно, что узнать, кому именно каждая из них принадлежала, не представляло ни малейшей трудности. Внизу — подпись: «Дети, в школу собирайтесь!» Карикатура посвящалась отъезжавшим из Харькова на ВАК работникам УНИ. На карикатуре было трое отъезжающих. А где же четвертый? Где Лабунский?..
К вечеру Лабунский знал все. Его кандидатура на ВАК не прошла. А как он хотел этой поездки, как ее добивался, как был уверен в удаче, как часто говорил своей новой жене: «Собирайся!» И она вешала мокрое полотенце сушить над плитой, постепенно отвыкая от скверной привычки. Выйдя вечером из УНИ, Лабунский медленно шагал по улицам города, далеко обходя свою квартиру и постепенно выдвигаясь к тому месту, где уже светился огнями и гремел музыкой ресторанчик «Не рыдай». Когда он вошел в зал, настоящие безобразия еще не начались, но дым уже волнами перекатывался через столики, кулаки мелькали над головами, глотки ревели, посуда прыгала, звякала, женщины визжали, и дождь разноцветных конфетти сыпался на пирующих. Ловко брошенная кем-то серпантинная ленточка повисла на ухе Лабунского: сигнал. Он огляделся, но не увидел ничего примечательного. За ресторанчиком был заплеванный, лысый сад с ютившимися в кустах акации парами. Странные вздохи и многозначительно-сладкие слова раздавались то в одном углу этого убежища, то в другом…
Как только Лабунский очутился здесь, к нему быстро подошла высокая, худая женщина в шляпе с цветами и лорнеткой у больших, близоруких глаз.
— Кажется, я не ошиблась? Да? Аркадий Васильевич?
— Не ошиблись, — сказал Лабунский, — что нового?
— Много.
— Например?
— О чем вы хотели бы услышать?
— Не прикидывайтесь дурой.
— Фу… Как не хорошо!
— Я вас спрашиваю: что нового?
— Мы никуда не пойдем отсюда?
— Нет.
— Тогда…
— Ну?
— Оскар Адольфович уехал.
— Что? Дрейлинг уехал? Куда? В Москву?
— В Германию.
— Брешешь?
Женщина пожала худыми плечами.
— Читай. Вот его записка.
Лабунский схватил листок. «Проиграть возможно каждую минуту, выиграть — нельзя. Что за смысл в такой игре?..»
— А тот, другой? — хрипло спросил Лабунский.
— «Пруссак»?
— Да. Он тоже уехал?
— Оба. Собственно, «пруссак»-то и увез Дрейлинга. У него в Германии близкая родня.
Женщина взбросила лорнетку к глазам, оглядела Лабунского с головы до желтых краг и вдруг так дернула за козырек его фуражки, что закрыла тульей все лицо.
— Эх ты, дурень! — сказала она — Туда же!..
Когда Лабунский высвободил глаза, женщины около него уже не было. Он стоял посреди сада один, широко расставив ноги, и чувствовал себя совершенным дураком. Человек головокружительный, вечно идущий на штурм и пролом, он мысленно оглядывался, выбирая направление атаки и нахрапа. Но штурмовать было нечего и ломиться некуда… Удушливая злость наполняла грудь, вползала в мозг. Лабунский вышел из сада и двинулся, не замечая дороги, куда глаза глядят…
Луна поднялась красная и тяжелая. Мутные пятна света разливались по пыльным улицам. Скверная ночь! Заголубело небо. Туман густел и клубился. Город делался призрачным. Сквозь серую пустоту раннего утра в тихую до того улицу с преувеличенным грохотом ворвались две серые машины. Всхрапывая, они запрыгали на колдобинах мостовой, догоняя одна другую, задрыгали задними половинами разбитых туловищ, дохнули нафтализоловой вонью и скрылись. «Больничные», — догадался Лабунский. Он уже подходил к дому. Сверху посыпался меленький холодноватый дождик. И Лабунский с отчаянием вспомнил про мокрое полотенце…
* * *
Инженерные части квартировали в конце Сумской, за ветеринарным институтом, там, где старый казарменный городок. А парады происходили на площади, против здания УЦИК. Как пройдут на Октябрьском параде саперы? Карбышев и Юханцев то и дело ездили за казармы, на инженерный плац. Там шла «подготовочка» — отбивался шаг, равнялись шеренги, подтягивались шинели и пояса.
— Хорошо! — одобрял Юханцев.
— Хуже быть не может! — говорил Карбышев. — Разве это называется «ходить»?
— Офицерский дух в тебе…
Карбышев слегка менялся в лице, как будто застигнутый врасплох на чем-то неладном. Но тут же спохватывался и сам переходил в наступление.
— Есть во мне офицерский дух, не спорю. Но служит он Красной Армии. И пора бы тебе, комиссар…
— Неужто пора? А я и не ведал. Коли пройдут саперы по-твоему, лишнюю рюмку ставлю!
Лабунский после Севастополя был нездоров: пил. Но перед самым парадом выяснилось, что командовать инженерными частями все-таки будет он. Юханцев сердился: «Орел… С зубами родился… Мы еще только собираемся по лишней рюмке, а он уже почем зря хлещет». Однако на параде Лабунский выглядел действительно орлом. Команды подавал оглушительно ревучим голосом и ел Фрунзе вытаращенными мутными глазами. Он не готовил войск к параду. А ставку между тем делал на парад. Именно здесь собирался он убедить Фрунзе в своей незаменимости. И пошатнувшееся положение свое именно здесь укрепить. План был разработан. Это был очень хитроумный и в то же время чрезвычайно простой в исполнении план. Для успеха требовалось только заранее кое в чем условиться с одним-двумя командирами из назначенных к выводу на парад специальных рот. Лабунский не сомневался в удаче. Юханцев ровно ничего не знал, но что-то предчувствовал. «Печень у него черная, подлец он. Конечно, и Михаил Васильевич его насквозь видит. Но за один лишь печеночный цвет гнать не хочет. Фактов, фактов мало… Эх!»
Когда Фрунзе шел по фронту телефонной роты, Лабунский просипел:
— Добился, товарищ командующий, от командиров рот, — знают сполна имя и фамилию каждого своего бойца… Да еще и семьи точный адрес… Прикажете проверить?
Фрунзе посмотрел на него с удивлением.
— Неужели? Очень хорошо!
Лабунский рявкнул:
— Товарищ комроты! Фамилия вот этого бойца?
— Иванов!
— А имя?
— Семен Григорьевич!
— Где семья его проживает?
— В Вышнем Волочке!
— Благодарю, товарищ комроты!
— Рад стараться, товарищ…
Фрунзе стоял бледный. Глаза его не искрились и не сияли, как обычно, бодрым светом благожелательности, — они сверкали темным гневом.
— Аркадий Васильевич, командир роты вас обманул!
— Почему, товарищ командующий?
— Я знаю этого красноармейца. Он не Иванов…
Обойдя инженерные части, Фрунзе вернулся к телефонной роте и, войдя в строй, остановился перед румяным, круглолицым бойцом. В голове бойца ураганом крутились мысли. Главную из них он обращал к Лабунскому: «Вдругорядь не хвастай, коноплястый! Счастье не батрак — за. вихор не притянешь!»
— Как вас зовут? — спросил Фрунзе. — Я забыл.
— Якимах, товарищ командующий!
— А имя?
— Петр Филиппович! Я из…
— Знаю. Вы из села Строгановки.
— Так точно, товарищ командующий! — радостно крикнул Якимах, — из Строгановки, Таврической губернии…
— Отец жив?
— Живой. Мама померла.
— Когда?
— В сентябре год будет.
— Жаль!
Якимах молчал, грустный. Но радость превозмогала.
— Теперь вы видите, что командир роты вас обманул? — обратился Фрунзе к Лабунскому.
— Вижу.
— Что же это такое?
Лабунский смотрел прямо в лицо своему крушению. Спасти его могла только наглость. И он попробовал.
— Командир телефонной роты Елочкин откомандирован в окружную школу. Его замещает новый человек…
— Елочкин… Я знаю и Елочкина. Да, он не пошел бы на такой… обман, А этот…
Фрунзе взглянул на командира роты. Тот стоял с убитым видом и опущенной головой.
— Этот…
— Разрешите, товарищ командующий, объявить командиру роты благодарность в приказе? — неожиданно сказал Лабунский.
— За что?
— За находчивость! Мол-лодец!!!
— Не сметь! — крикнул Фрунзе, отвернулся и пошел от роты.
Вот теперь уже все пропало. Лабунский хорошо знал: Фрунзе мог извинить любую ошибку, но обмана не прощал никогда. Много раз приходилось наблюдать Лабунскому, как Фрунзе старался победить в себе неприязненное чувство к обманщику, замять память об обмане, затушевать след лжи; но простить он не мог. И в конце концов это становилось ясно как самому Фрунзе, так и обманщику, и даже посторонним наблюдателям, — настолько ясно, что для виновного оставался лишь один выход — уйти. Вероятно, и для Лабунского теперь не было иного пути.
Однако незадачи смотрового дня на этом не кончились…
Бледный солнечный свет все скупее и скупее проливался сквозь матовое небо. На снегу кое-где густовато ложились отблески ртутного цвета. Через площадь тянулись парки и обозы. Фрунзе обратил внимание на ездового в удивительно грязной шинели, не только без хлястика на спине, но даже и без пуговиц, на которых должен был бы держаться хлястик. Капот, а не шинель…
Фрунзе остановил повозку.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте! — отвечал ездовой.
— Вы меня знаете?
— Говорили нам…
— Значит, знаете, что я командующий?
— Знаю.
— А почему же вы в таком виде? Ведь если у вас дома оторвется от полушубка пуговица, вы ее пришьете?
— Жена, мать пришьет.
— А здесь, на службе, почему не так?
— Да здесь-то зачем? Сносил шинель — другую дадут!
— Вон оно что!
— Дур-рак! — в ярости прохрипел Лабунский.
— Молчать! — крикнул Фрунзе.
* * *
Осенью в Харькове происходил съезд высшего комсостава военно-учебных заведений Украины и Крыма. В день закрытия съезда Фрунзе сказал Карбышеву:
— Завтра в десять собирается постоянное совещание при мне. Не забудьте.
В состав постоянного совещания при командующем входили начальник штаба войск Украины, начальник воздушного флота, инспектора артиллерии, кавалерии и пехоты, начальник инженеров. Не ошибся ли Фрунзе?
— Я не член совещания, товарищ командующий, — сказал Карбышев.
— Вы еще не знаете? Лабунского я отпустил на четыре стороны. И подписал приказ о вашем назначении…
Глава двадцать шестая
Живя в Харькове, Фрунзе бывал чрезвычайно занят. Штаб, Совнарком, постоянное совещание при командующем, редакционный совет, общество ревнителей военных знаний, военно-научные кружки, съезды командного и комиссарского состава, смотры и парады — все это сплеталось в густой хоровод сплошной занятости, в то, что называется — «ни отдыха, ни срока». И только во время изредка предпринимавшихся Фрунзе объездов округа доводилось ему несколько передохнуть между делом. В таких поездках командующего всегда сопровождали начальники и комиссары управлений. Поздней осенью двадцать второго года и Карбышев с Юханцевым оказались в числе сопровождавших. Незадолго до того Фрунзе подписал приказ о назначении Котовского комкором второго кавалерийского. Корпус состоял из двух дивизий — девятой Крымской и третьей Бессарабской. Части корпуса размещались в Бердичеве, Гайсине, Тульчине; штаб — в Умани, О втором кавкорпусе и о его командире рассказывали чудеса. Фрунзе хотел видеть эти чудеса своими глазами. Ехали на Полтаву, Лубны, по разваливающемуся днепровскому мосту на Черкассы и через Христиновку на Умань. Гвоздем путешествия считалась Умань…
Было почти светло, но вагон еще спал, — так по крайней мере показалось Юханцеву, когда он открыл глаза. За окном струились потоки бледной утренней мути, с которой обычно начинаются поздние ноябрьские дни. Вагон подпрыгивал и трясся. Юханцев встал, расправил пятерней спутавшиеся волосы и, распахнув дверь купе, вышел в коридор. Э, нет, он проснулся не первый… Посредине коридора, без гимнастерки, с полотенцем на плечах, стоял Карбышев, широко расставив на живом, как корабельная палуба, полу свои тонкие, мускулистые ноги в черных галифе. В первую минуту Юханцев разглядел лишь напряженную позу Карбышева, — он видел его со спины, — и ужасно удивился. Но как только удивился, тут же все и понял. Карбышев необыкновенно ловко и быстро проходил длинной острой бритвой по своим густо намыленным щекам. Зеркала у него не было, он брился «наизусть».
— Да как же это ты?
Карбышев усмехнулся, роняя мыльную пену с лица на пол и притирая ее ногой.
— Не мешай. Еще на германской в окопах привык.
На станции Христиновка в вагоне появился Котовский и своими гигантскими объемами сразу заполнил узенький коридор. На широкой, как поле, груди его блестели три ордена Красного Знамени; четвертый сверкал на золотом эфесе шашки. После рапорта и представлений быстро выяснились всякие детали. Штаб второго кавкорпуса стоял за пятнадцать километров от станции, в лесу, близ кирпичного завода. Котовский и его начальник штаба привели за собой в Христиновку дюжину отборных коней. Свита Фрунзе состояла из одиннадцати человек.
— Точка в точку, — говорил Котовский, — доедем — не заметим, одно удовольствие…
Фрунзе подошел к окну и, улыбаясь, смотрел на красавцев-коней, короткошерстных, гладких, с аккуратно подстриженными гривами и хвостами, с горячими тонкими ногами, благородными горбатыми мордами. Фрунзе любил животных, особенно собак и лошадей. И хорошую лошадь предпочитал самой хорошей машине.
— Одно удовольствие, — говорил Котовский, оглядывая харьковских штабников просительно-ласковыми, черно-сладкими глазами, — а? Товарищи?
Фрунзе спросил:
— Все ездят верхом?
— Все, все…
Но выражение лиц у многих изменилось. Карбышев прикинул. Из двенадцати человек едва ли нашлось бы и пятеро настоящих ездоков. Он подумал о Юханцеве: «А этот?»
— Сейчас Котовский покажет прыть, — тихонько сказал он Юханцеву, — выйдет у тебя, комиссар?
— Выйдет, — неуверенно отвечал Юханцев.
— Смотри!
И он пристально оглядел комиссара, словно взвешивая и оценивая в его прочной фигуре что-то видимое только ему одному. Фрунзе вышел из вагона. Красноармейцы подводили лошадей. Командующий, Котовский и начальник штаба корпуса выехали вперед. Сзади потянулись остальные. Котовский оглянулся.
— Ну, товарищи, теперь держитесь!
Золотистый конь Фрунзе набирал ходу. Его рысь становилась все размашистее и шире, все вольнее, все сходнее с легким птичьим летом и попытки перейти на галоп все настойчивее и чаще. Кавалькада шла переменным аллюром. Промелькнул километр, два… Под Карбышевым была невысокая красивая лошадка, игрунья, а может быть, и злючка, — она уже несколько раз норовила так изогнуть на скаку свою шелковую шею, чтобы ухватить зубами носок его сапога. Но Карбышев был и впрямь недурным ездоком. Повод и шенкеля служили ему без отказа, и лошадь скоро перестала дурить. Вдруг голова кавалькады перешла на карьер. Ветер засвистел в ушах Карбышева, замелькали деревья по сторонам шоссе, и сзади, постепенно заглухая, раздались какие-то неясные восклицания. Карбышев оглянулся. Юханцев скакал, сильно отстав, пригнувшись к гриве своего коня и взмахивая локтями, как петух крыльями. Выпущенный из рук его повод на свободе вился по ветру. «Дрянь дело… дрянь!»
На въезде в лес, где стоял штакор, свиту Фрунзе составляли уже только пять человек. Остальные или медленно подтягивались пешком, ведя своих прытких коней в поводу, или просто шли, каждый сам по себе, а кони мирно паслись по сторонам дороги. Подошел и Юханцев, красный и сердитый.
— Ну как? Не ушибся?
— Главное дело, чтобы без смеху, — горячо сказал он. — смешного вовсе мало.
И он показал на разорванные под коленями штаны.
— Ничего смешного, — серьезно подтвердил Карбышев, — наоборот: надо важный вывод сделать.
— Какой?
— Видишь, что получается, когда комиссар не знает всего, что положено знать командиру? Не знает или не умеет, все равно…
— Как же, по-твоему, надо?
— Чтобы комиссар и коня знал, и оружье…
— Ну, насчет оружия…
— Допустим. А комиссар инженерных войск должен и саперное дело знать. Фортификация неумелых ездоков сбрасывает с себя не хуже твоего конька. Заметь!
Юханцев вздохнул.
— Ничего не скажешь…
Из леса тянуло влажной сыростью. Сосны стояли сонные, неподвижные. Изредка по их жестким веткам пробегал легкий таинственный шепот, — пробегал и сейчас же замирал где-то наверху. Тогда на светлом, почти белом небе начинали качаться обрывки гигантского черного кружева. Это сосны кивали головами. Но внутри леса ветра не было совершенно. И в отовсюду нависавшей тишине странно звучал жалобный писк невидимо гнувшихся высоких и тонких стволов.
Кавполк вытягивался в колонну. Качались пики, громыхали пулеметные тачанки, орудия и походные кухни. Конники Котовского были одеты во все новое и свежее: темносиние гимнастерки, галифе с пузырями, начищенные сапоги с тонкими голенищами до самых колен. Кожа на седлах и козырьки фуражек весело сверкали. Бойцов Крымской дивизии было нетрудно отличить по желтому околышу под синим верхом, а бойцов Бессарабской — по красной тулье и таким же штанам. Кони под бойцами были разномастные, но все, как один, вычищены до блеска, хвосты подрезаны, и уздечки горят. При каждом эскадроне — пулеметные вьюки. Лица у бойцов — смелые, веселые и смышленые. Фрунзе говорил:
— Солдат хорош, когда рядом с общественным характером сознания жива в нем его собственная личность. И чем ярче солдатская индивидуальность, тем лучше. Что за солдат без сильной воли, без сметки, без выдержки, без знания своего дела и без предприимчивости?..
Котовский послушно присоединялся к мысли Фрунзе:
— Я того и требую. Моя наука простая: «Спрашивай, где противник, а сколько его, узнаешь, когда разобьешь!»
Потом были в манеже на выездке лошадей Смотрели рубку шашкой, причем сам Котовский рубил веники. Сам чистил своего коня. Начальник штаба корпуса между делом говорил Карбышеву:
— И все, знаете, — сам, сам…
Затем пошли по мастерским. Здесь кроили кожу на седла, там шили вальтрапы, и везде Котовский влезал в самую гущу работы, сам за все брался — за нож, за иглу, — показывал и учил. И надо сказать, что у редкого шорника так споро повертывался в руках материал, как умел повернуть его Котовский.
Комкор был по образованию агрономом. Сельскохозяйственные познания били из него кипучей струей и как бы растекались по территории, занятой его корпусом. В Радомысле он только что построил мыловаренный завод, близ Умани пустил недавно сахарный и завел агрошколу для сельской молодежи. В селе Ободовке, под Винницей, устроил земледельческую коммуну для демобилизованных бойцов-бессарабцев.
— Так и считаю, товарищи: бывают трудные задачи, но непосильных нет!
* * *
В Умани перед обедом Котовский представил Фрунзе свою жену, молодого врача:
— Я калечу, а она лечит…
Ольга Петровна зарделась и вдруг похорошела.
— Можно подумать, что и впрямь злодей. А ведь добрей не сыщешь!
За обедом царствовал кавардак. Подавались на стол мамалыга, борщ с перцем, пампушки с чесноком. Все это подавалось сразу и тут же резалось на порции и куски, разливалось по мискам. Тарелок хватало только на главных гостей. Остальные ели из котелков, хлебали из кастрюлек. Больше и громче всех говорил хозяин. От сытости обеда и от застольного беспорядка мысли его то и дело обращались к прошлому, когда беспорядка было еще больше, а сытости — никакой. Котовский рассказывал, как приходилось ему в оккупированной «союзниками» Одессе изображать своей особой разоренного большевиками помещика Золотарева. Был он тогда еще и владельцем большого овощного лабаза Берковичем, и частно-практикующим врачом, и кем только еще не бывал, — всего и не вспомнишь.
— Почему вывозило? Потому что твердо держался золотого правила: «Не говори, кому можно, а говори, кому должно».
Клубок воспоминаний разматывался. Вот лето девятнадцатого и Котовский — командир пехотной бригады. Стояла бригада по Днестру; впереди — петлюровцы, сзади — еще какие-то банды. И с тех пор непрерывная возня то с белогвардейцами, то с белополяками, то с антоновцами — котел партизанских налетов и «малой» войны…
— Из опыта борьбы с махновщиной, — сказал Фрунзе, — выходит, что мы добили ее именно средствами «малой» партизанской войны. Заблаговременно спланировали, заранее подготовили успех. Думаю: советским генштабистам еще немало предстоит поработать, чтобы и в будущих наших войнах жила, применяясь, где надо, идея «малой» войны.
После обеда Фрунзе и Карбышев сели за шахматы.
— Предупреждаю, — сказал при этом Фрунзе, — я в шахматы играю с четвертого класса гимназии и всегда считался хорошим игроком. Брата своего, например, всегда обыгрывал. Берегитесь!
Карбышев пожал плечами.
— Что делать? Пойду на своих харчах.
Фрунзе встревожился.
— Да вы, пожалуй, мастер?
— Подмастерье. Но случалось…
— Что же, например, случалось?
— Однажды на человека играл…
— На человека?
— Так точно.
— И выиграли?
— Нет. Проиграл.
— Однако как же вы все-таки на человека играли?..
Король Карбышева был надежно укрыт. И вдруг оказался под шахом. Фрунзе засиял.
— Хорошо, что не на человека играем, а?
Но король был ловок. Он стал уходить, заставляться, обороняться. И постепенно уже начинал грозить фигурам, только что его шаховавшим. Картина переменилась. Возможность мата таяла на глазах. Фрунзе думал, морща лоб. Он действительно был сильный игрок. Но он просто играл, а его партнер «работал» играя. Недаром Карбышев вспомнил свой давнишний турнир с Заусайловым. Теперь он «работал» спокойно и уверенно, не допуская себя до сомнений. А Фрунзе уже несколько раз ловил себя на том, что не столько следит за своими делами. сколько за «работой» противника. В конце концов лоб его разгладился. И совершенно неожиданно для Карбышева, как бы ни с того, ни с сего, он вполголоса проговорил:
— А хотел бы я знать, чем вы запомнитесь нашей армии…
* * *
Котовский жил на выезде из Умани, в небольшом особнячке, где раньше помещалось управление уездного воинского начальника. Кабинет был самой просторной комнатой в доме. Серебристо-серые обои и огромная карта Европейской России на стене придавали ему странно-торжественный вид. За окном кабинета лежало далекое поле, пополам перерезанное железнодорожным полотном. По сю сторону полотна — редкие голые деревья; по ту — дымный зимний закат. Хорошо! На письменном столе, обитом темнозеленым сукном, — белая фигура Ленина в рост и черный бюст Маркса. Гость и хозяин сидели у стола. Котовский рассказывал:
— Сперва открыли в селе Ободовке конный завод. Затем привезли из Киева плуги. Народом этим, — старыми «котовцами» из Бессарабии, куда им после демобилизации ходу нет, — хоть пруд пруди. Как только услыхали про будущую коммуну, так и поперли со всех сторон. Передал я им два корпусных совхоза — в Ободовке и Верховке. Глядь, и организовалась точно сама собой сельскохозяйственная коммуна…
Устав коммуны лежал на столе перед Фрунзе. Слушая Котовского, Фрунзе одновременно читал устав, медленно перевертывая шелестящие страницы. Вот и последняя. Фрунзе быстро и размашисто надписал: «Утверждаю». Котовский осторожно взял у него перо и положил на письменный прибор, а устав с трогательной, отцовской нежностью прижал к своей широкой и крутой, жарко дышавшей груди. Его толстые руки обнимали устав, как ребенка, а красные влажные губы шептали:
— Шагает история… слышу!
Однако были кругом Котовского люди, которые видели в его хозяйственных опытах всего лишь соблазн для нарушителей армейской дисциплины. Особенно возмущали их корпусные мастерские.
— Есть такие оболдуи, есть. Я им втолковываю, что советский командир должен быть товарищем бойца, его учителем, воспитателем в нем духа стальной дисциплины… А они…
— Вы правы, — сказал Фрунзе, — дело в общности целей, во взаимном понимании, в чувстве классового товарищества. Если все это есть, — будет и дисциплина…
— Ах, Михаил Васильевич! Вот вы — образованный марксист. От вас и я знаниями богатею. Вчера говорю одному командиру: «Может быть, ты в десять раз храбрее меня, спорить не буду. Но за то, что не хочешь учиться, вышвырну тебя из корпуса вон!»
— Позвольте, позвольте! — удивился Фрунзе. — Так ведь дело-то в том, чтобы он захотел учиться…
— А он не хочет!
Так гость и хозяин проговорили до ужина.
Но и за ужином разговоры не умолкали. Теперь речь шла о будущей войне. Фрунзе ясно и последовательно излагал свои мысли:
— Классу пролетариата принадлежит будущее. Именно он несет в себе подлинно освободительные идеи прогресса, цивилизации. А потому и служить пролетариату — значит, служить идеям свободы и прогресса. Это придает борьбе пролетариата справедливый характер. Из сознания общности своих усилий с усилиями всех передовых отрядов человечества рождается твердая уверенность в будущем. И отсюда мы черпаем нашу энергию в борьбе. Вспомните-ка гражданскую войну в России… Разве наш народ выиграл ее богатством своих материальных средств? Ничего похожего. Из глубокого убеждения в справедливости борьбы возникло страстное желание победить. А оно-то и есть важнейший ресурс победы. Военная идеология империализма исходит из эгоизма богатых классов, а наша — из защиты коренных интересов народа. И поэтому прогрессивные силы мировой история — не с ними, а с нами. Стало быть, прекрасно? Не совсем. Дело в том, что нас ни за что не оставят в покое. Мы — крепость, осажденная армией капитала, оседлавшего мир. И капитал обязательно будет атаковать нашу крепость. Когда? Не знаю. Только мысль о том, что война, навязанная нам нашими врагами, неизбежна, должна быть главной мыслью каждого из нас. И вот чего еще не надо забывать: при каких бы обстоятельствах наша страна ни вступила в войну, она во всех случаях будет вести ее во имя справедливых, освободительных целей… Должен сказать, товарищи: особая природа будущей войны непременно примет характер длительного, жестокого состязания. Все без исключения политические и экономические устои воюющих стран подвергнутся испытанию. Весь народ, так или иначе, прямо или косвенно, будет вовлечен в военную борьбу. Никаких половинчатых решений не будет. Это будет война не на живот, а на смерть, до полной победы…
Фрунзе приостановился. В большой комнате, где ужинало двадцать человек, было тихо-тихо.
— А что же будет в конце концов с «их» милитаризмом? — спросил Карбышев.
Фрунзе быстро ответил:
— Погибнет в противоречиях своего собственного развития…
После ужина Котовский с душой завел протяжную молдавскую песню о пастухе и овцах. То теряются овцы, то снова находятся; то плачет пастух, то радуется… Потом вместе пели украинские и, наконец, русские песни. Карбышев подсвистывал звонко и складно; он не умел петь, а свистел мастерски еще с кадетских времен. Фрунзе молча слушал. Он любил музыку, восхищался Собиновым в «Лоэнгрине» и Шаляпиным в «Русалке», да и сам любил петь, но остерегался, так как «медведь» то и дело «наступал» ему на ухо. Когда запели студенческую «Из страны, страны далекой», он было подтянул. Однако тут же и смолк.
— Что ж, Михаил Васильевич? — спросил Котовский.
— Слышали, какой голос?
— Слышал.
— Ну вот…
— Тенор.
— Не тенор, — засмеялся Фрунзе, — а приближающийся к тенору. Зачем же я буду людям настроение портить?
— А в централке певали?
— То дело другое…
Еще днем выяснилось, что Фрунзе и Котовский в разное время сидели в одной и той же камере Николаевского централа, приговоренные к смертной казни через повешение.
— Совсем другое дело…
Между тем квартира Котовского постепенно становилась похожей на самый настоящий табор. Со всех сторон слышалось приглушенное:
— Кото… Кото…
Какие-то люди расстилали свои шинели на полу и на столах, укладываясь спать. Что за люди? Это были старые бойцы из кавбригады Котовского, коммунисты из Ободовки, приехавшие взглянуть на Фрунзе.
* * *
Котовский никогда не мог привыкнуть, что надо стучать в дверь, — он ударял в нее кулаком.
— Войдите! — сказал Карбышев, уже лежавший в постели и даже успевший в первом сне повидаться с Лялькой.
— Не разбудил?
— Разбудили.
— Хм! Я или старуха?
— Вы. А что за старуха?
— Да тут, за стеной, вдова одного старого полковника живет, параличная. Все время кашляет. Я и…
Он тяжело заходил по комнате, сжимая кулаки. Это помогало ему думать.
— Живет, как жила, — пускай доживает. Не гнать же? На картах раскладывает. Жене разложила Нет, все одно выходит. Ну вот, выходит, хоть сто раз клади карты, никак не оттасуешься…
Он продолжал ходить, а Карбышев — ждать. Ведь не за тем же пришел Котовский. среди ночи, чтобы о старухе рассказывать. Пришел, потому что беспокойство мешает ему спать, и надо этому беспокойству вылиться. Вдруг Котовский остановился перед кроватью Карбышева, неправдоподобно громадный и толстый в переливах ночного мрака.
— Долой парадность и очковтирательство! — воскликнул он, взмахнув кулаками, — пришел спросить вас, товарищ Карбышев, верно ли я поступаю. Никакой парадности, ни малейшей, ни в чем. Все — как есть: люди, ученье, работа. Октябрьская революция поставила перед Красной Армией задачи, такие, что… Для их выполнения нужны, кроме сознательности, еще могучие физические и моральные силы, железная воля и стальные нервы. И вот, пожалуйста, смотрите: люди на марше, люди в манеже, люди в мастерских, люди…
Он ухватил руку Карбышева, как делал это обыкновенно, здороваясь и прощаясь, — крепко-накрепко сжал, рванул, будто напрочь, и бросил:
— Вот и все…
Карбышеву вспомнилась давнишняя ночь в недалеком отсюда Бердичеве, шарканье туфель и страшные, полные ужаса и отчаяния, речи генерала Опимахова. Парадность и очковтирательство… Не они нажали курок опимаховского браунинга; но они, именно они подвели его дуло к генеральскому виску. Бесконечная вереница картин «возвышающего» обмана пронеслась в памяти Карбышева. Он вскочил с кровати. Звонко шлепая по полу босыми ногами, подбежал к Котовскому и крепко обнял его.
Рано утром Карбышев вышел на заднее крыльцо и остановился ослепленный.
Осень в тот год была на редкость странная. Зелень с деревьев уже сошла, но трава держалась, — яркая и свежая. Вчера еще цвели георгины и астры. А за одну сегодняшнюю ночь все это устойчиво-дружное великолепие исчезло. На дворе и за забором, куда ни глянь, все было белым-бело. Вдруг навалило столько снегу, что иной раз и за месяц не выпадет. Снег лежал пышными, холодными подушками на дорогах, белыми гирляндами висел на кудрявых березовых кустах. Было что-то трогательное, болезненно-жалкое в этом сочетании зимы с летом, смерти с жизнью, в том бессилии, с которым тянулся вверх из-под снежного покрывала голый ершик обреченных травинок. Мороз и тишина; игольчатый иней густо опушал наличники окон, трубы, столбы, провода; и пригнулись под ним ветви чудно разукрасившихся елок. Котовский стоял голым на снегу и покрикивал:
— Воды!
Ординарец, с мохнатым полотенцем через плечо, подтащил ведро ледяной воды. Котовский расставил ноги, плечистый, с гладкой, будто отшлифованной под медь спиной и бугроватыми на бицепсах руками.
— Лей!
Повернулся.
— Лей!
Глубоко вдохнул и выдохнул воздух.
— Лей!
Потом обернулся к Карбышеву.
— Пойдем топленое молоко пить!
И, докрасна растершись жестким полотенцем, живо перемахнул через занесенное снегом крыльцо в дом.
Поезд шел тихо-тихо, медленно продвигаясь на север сквозь черную, пустынную ночь. Вагонная прислуга суетилась. Стаканы с белой водой мелькали в ее руках. У Фрунзе был жестокий приступ язвенных болей. Но он все еще «верил» в соду…
* * *
Училище, открытое Фрунзе в Полтаве, называлось «военно-подготовительным»; а харьковское — «военной школой РККА». Когда Якимах попал в эту школу, у него на первых порах голова закружилась. Уже лет семь прошло с тех пор, как ходил он в четвертый класс уездного училища. Четвертым классом все и кончилось. Якимах отвык от карты, от черной доски и от всего прочего, без чего не бывает настоящей учебы. А здешняя учеба была самая настоящая. Практические занятия с выходом в поле, маршировки без всякого внимания к зимней стуже, даже уставная премудрость — все это не очень мучило Якимаха. Обвык он быстро. Правда, уставал до одурения, спал по шести часов без сновидений, не меняя позы, как мертвое тело. Но мало-помалу постиг главное: нужно с головой втянуться в дело, и тогда отучишься уставать. А когда усталость позади, — появляется вдохновенная неутомимость. И она появилась. Страдал же Якимах преимущественно в классе, на уроках по общеобразовательным предметам. Есть люди, которые не умеют сидеть. Нет у них манеры сидячего человека. Сядет такой человек, а кажется, будто присел, сейчас вскочит и опять куда-нибудь пойдет. Якимах был именно такой человек. Класс казался ему каторгой. Однако школа не давала спуску. Требовались курсанты, способные разбираться в фортификации. И поэтому школа налегала на арифметику и алгебру. Нужно было, чтобы курсанты имели хоть какое-нибудь понятие об элементах военной химии. И потому им преподавалось естествознание. Полуграмотный курсант не мог ни написать донесение, ни прочитать страницу из учебника. Отсюда — нажим на русский язык. Так из приспособления общеобразовательных предметов к задачам собственно военного обучения возникала военная школа нового, советского типа, ибо политграмота и культпросветработа шли своим чередом.
Но и темнотой своей Якимах терзался только первые месяц или два. Потом и это дело наладилось, и пошло в ход. Когда его спрашивали: «Как дела?», он быстро повертывал к спрашивающим смешливое, веселое лицо и отвечал:
— Дела мировые…
Постепенно Якимаха перестали в школе звать по фамилии. Говорили: «мировой», а подразумевался Якимах. Товарищи его любили, ценили его остроумие, сочувствовали его находчивости, похваливали за сообразительность. И он умел показать себя.
— Воздух есть тело супругое…
— Что?
— Супругое…
— Сам ты супругий!
— Ну?
— Чудило! Упругое, а не супругое…
Когда Якимах смеялся, лицо его становилось детским. Но вместе с тем и еще что-то появлялось в лице — не то ласковое, не то хитрое. Так или иначе — он очень хорошо окончил школу и, отслужив лето в войсках, к зиме вернулся в нее командиром взвода.
Фрунзе был прикреплен к парторганизации харьковской школы РККА. Ни одно заседание бюро не проходило без его участия. Он появлялся, принимал рапорт и говорил:
— С почестями кончено. Будем заниматься тем, чем надлежит…
Вскоре по возвращении в школу Якимах был выбран в бюро. Фрунзе сразу узнал его и, ласково здороваясь, всегда о чем-нибудь спрашивал. Однажды случилось так, что, сидя в президиуме, Якимах очутился рядом с Фрунзе. Он смотрел на своего соседа, и дух его занимался от радости. Ему казалось, что ни у кого на свете нет и не может быть таких сияющих морщинок вокруг ясных глаз, как у Фрунзе. Он знал, что это не так, но, доведись поспорить, полез бы и на рожон, доказывая. Улыбка Фрунзе, его голос, даже гимнастерка и штаны — все казалось Якимаху не только необыкновенным, но даже единственным в своем роде, ибо принадлежало необыкновенному и единственному в своем роде человеку. И вот этот человек вдруг спросил Якимаха:
— А почему не учитесь дальше?
Якимах почувствовал, как волнение тугим комком останавливается поперек его горла, не давая ни говорить, ни дышать. Он надавил на предательский комок усилием всего своего существа и столкнул его с места. Фрунзе поймал затяжку в ответе, уловил облегченный вздох, разглядел жаркий румянец на круглом лице и, поняв, улыбнулся.
— Насчет грамоты у меня, товарищ командующий, плохо. Средней школы не кончил.
— Действительно плохо. А куда бы вы хотели?
Фрунзе спрашивал так просто, что и ответить ему можно было только так же просто. Но самые простые мысли Якимаха были вместе с тем и самыми сокровенными. Никогда до сих пор он не выговаривал их вслух, — уж очень просты и сокровенны. Да и кто бы ни засмеял Якимаха вдруг, скажи он кому-нибудь, что мечтает быть похожим на Фрунзе, — таким же талантливым, умным и ученым… А ведь он мечтал именно об этом и о том еще, как этого достичь, — сокровенная человеческая простота. Но сейчас его простота заговорила.
— Так куда же хотели бы?
В застенчивости очень молодых людей бывает иногда что-то такое, отчего ее трудно, почти невозможно отличить от самоуверенности.
— В Академию Генерального штаба, — смело отвечал Якимах и, чуточку подумав, добавил, — вот кабы для таких, как я, подготовительные курсы были!
Фрунзе сразу повернулся к нему.
— Что? Курсы? А вы знаете, — мысль крепкая…
И уже больше ни о чем не спрашивал и сам ничего не говорил, а только о чем-то думал…
* * *
Через несколько дней Якимах был вызван в штаб, к командующему. В секретариате, под оглушительный треск ундервудов, ожидали приема еще двадцать девять молодых командиров. В кабинет они были впущены все вместе. Фрунзе стоял у стола со списком в руках. И сейчас же принялся обстоятельно «обговаривать» каждого. А потом вышел на середину кабинета и сказал:
— Товарищи! Подготовительные к академии курсы начнут действовать в январе. Вы — кандидаты. О дальнейшем ваши начальники узнают из приказа. До свиданья!..
И вот с января Якимах опять погрузился в учебу. Занятия на курсах велись по программам средней школы — русский язык, математика, география, экономика, история партии — всего двадцать пять дисциплин. По некоторым из этих предметов экзаменовались и поступающие в академию. В августе кончались занятия на курсах; в ноябре — Москва. Фрунзе часто бывал на курсах. За ним ехали карты и учебники. Якимах раскрыл самый толстый из учебников и заглянул в середку. От того, что он там увидел, сердце его замерло, и в глазах замреяло. Ни разу еще в жизни не упирался он носом в этакую прорву непроницаемой учености. Якимах прочитал страницу, другую… Но не уразумел ровно ничего. Холодное отчаяние овладело его душой. На обложке мудреной книги стояло: «Л. Азанчеев, профессор Академии Генерального штаба. Тактика. М., 1922».
* * *
— Самое для нас, командиров Красной Армии, опасное — рутинерство, схематизм и шаблонность приемов. Вместе с тем любой из приемов может оказаться полезным в известной обстановке. В чем же дело? В том, чтобы умело выбрать из множества возможных средств именно то, которое наиболее полезно в данной обстановке. А такое уменье, товарищи, дается лишь марксистским методом анализа. Вот одна из важнейших причин, по которым марксистский метод должен быть руководящим в советской военной науке…
Так говорил Фрунзе, открывая в день пятой годовщины Красной Армии совершенно новое для Харькова учреждение. Этим учреждением был Дом Красной Армии. Трудности, преодоленные для его открытия, были колоссальны. У Дома не было ничего своего. Даже овощи для его столовой жертвовались из воинских частей. И все-таки он открылся. Широкая афиша у входа анонсировала очередную лекцию: «Д. М. Карбышев. Условия военной борьбы и их влияние на формы фортификации».
* * *
Юханцев и Надя Наркевич сидели у стены. Надя слушала с величайшим вниманием, вытянувшись как бы для того, чтобы лучше видеть слова, вылетавшие из лектора, и чуть-чуть приоткрыв при этом рот.
— Позиционный характер мировой войны, — говорил Карбышев, быстро ходя взад и вперед возле кафедры и бросая слова в зал короткими очередями, — дал широкое развитие полевым постройкам. Я имею в виду роль плацдармов как при обороне, так и при наступлении…
«А ведь он картавит!» — вдруг заметила Надя и обрадовалась: ей всегда казалось, будто картавинкой приятно мягчится сухая человеческая речь.
— Знаете, сколько на Западном фронте тратилось бетона для оборудования одного километра укрепленной полосы? До трех тысяч кубических метров, да! Немцы успели развезти по фронтам шесть тысяч поездов с цементом. В пятнадцатом году на плацдарме в Шампани французы отрыли больше тысячи километров траншей. А у нас, на русском фронте? Чтобы устроить проволочное заграждение в две полосы на один километр, требуется около трех тысяч пудов проволоки. Но ведь линейное протяжение нашего европейского фронта в шестнадцатом году равнялось полутора тысячам километров. От финских хладных вод до Черного моря — сплошная позиция. Ну-ка, подсчитаем… Выходит, что на русский фронт должно прийтись четыре с половиной миллиона пудов проволоки. А вторая, а третья линии? А тыловые рубежи? Тя-жко, товарищи, тяжко!..
Громадные цифры, как грохот лавины, падали на Надю. Услышав цифру, она раскрывала рот и хваталась бледной, тонкой рукой за подлокотник кресла. Можно было подумать, что она ищет спасения или, по крайней мере, защиты. Но при этом ее пальцы обязательно натыкались на горячую, жесткую руку Юханцева, и тогда она отдергивала их. А тут падала новая страшная цифра…
— Французы вынули в твердой меловой породе два миллиона кубических метров грунта…
Личико Нади бледнело. Чистая линия профиля искажалась выражением страдания, особенно явственным у глаз и рта. С Юханцевым творилось странное. Он с большим интересом ждал карбышевской лекции и был уверен, что выслушает ее всю, с первого слова до последнего, как самый прилежный ученик. Получилось другое. Он следил за ходом лекции, но не сознанием, а радостным чувством восхищения, которое вызывали в нем перемены, то и дело происходившие в выражении надиного лица. Стоило Наде ужаснуться чему-то, как он тотчас улавливал в речи Карбышева именно то, чему она ужаснулась. А не то бы и мимо проскочило. Надя шепнула: «Слушайте, слушайте». Это — об электризации почвы как о способе создавать непреодолимые препятствия штурму. А потом — опять пустота. Так и получилось, что из всей интереснейшей лекции Юханцеву удалось почерпнуть лишь очень немногое, — вот напасть! А Карбышев уже подбирался к концу.
— Словом, техника — на такой высоте, что хоть спать ложись, — говорил он, быстро выходя на передний край эстрады, картавя все заметнее и все торопливее бросая в зал сгустки своих мыслей, — но где же, товарищи, спрятана техника на загадочной этой картинке? Не «сумлевайтесь». Она никуда не пропала. Она — здесь. Вот она. Войска ни за что не примут плана обороны, если он продиктован позицией, а не тактической обстановкой. А это значит, что основной вопрос укрепления позиции заключается отнюдь не в технике — что строить? — а в тактике — где строить? Под иную позицию с точки зрения технической грамотности не подкопаешься; но в тактическом смысле она слаба — открыт тыл, фланги; и тогда ей грош цена. Бывает, что технически позиция безупречна, да оперативно не вышла, — расположена ошибочно, направлена неверно; и тогда ей все-таки грош цена. Но если позиция тактически и оперативно правильна, то никакие технические дефекты не помешают ей сослужить свою службу. Невероятно, но — факт!
Казалось, что маленькая, стройная фигура лектора уже не стоит на краю эстрады, а плывет в зал вместе с бурным потоком горячих, одушевленных убеждением ясных слов.
— Да, да… Глубокие тыловые позиции под Киевом были решены грамотно, но не пригодились из-за оперативной ненужности. А боевая позиция Каховки, созданная под огнем, в пылу боя, оперативный смысл которого был понятен каждому бойцу, сыграла полезнейшую роль, несмотря на все свои технические несовершенства.
И вдруг, словно взбросив себя легким подскоком, Карбышев очутился на кафедре и, уже складывая в трубку разметавшиеся по кафедре бумаги, договаривал самое главное:
— Армия — школа. Она должна обучать бойца борьбе за укрепленные позиции. Здесь усвоит он навык сознательно пользоваться фортификационными формами. Сделаем фортификацию близкой и знакомой армии. Тактические решения принимает пехота. Но из этого вовсе не следует, что саперы могут не знать тактики. Так и для пехоты пришло время… «осапериться!»
В зале бушевали хлопки. Одни хлопали, думая, что новые и смелые мысли лектора чем-то похожи на их собственные туманные размышления. Другим нравились лекторские приемы Карбышева — запоминающаяся меткость и доходчивая острота суждений. Сомневаться в успехе лекции было невозможно…
Из Дома Красной Армии Карбышев, Юханцев и Надя вышли вместе.
— Не знал, — сказал Юханцев, — что ты мастер такой…
Дмитрий Михайлович, как и всегда в подобных случаях, поправил:
— Подмастерье.
Надя горячо запротестовала, розовая от возмущения:
— Как можно так говорить? У вас это и умно получается, и понятно очень, и красиво… Даже — красиво. Замечательно!
Надя жила на Старо-Московской улице, у сквера, от которого начинается Скобелевская площадь. Доведя ее до дома, Карбышев и Юханцев еще долго бродили по площади вдвоем.
— Подмастерье, — упрямо повторял Карбышев, — только подмастерье… А какие у тебя, комиссар, есть указания насчет того, что с нами, подмастерьями, делать?
У него была манера внезапно спрашивать о неожиданном — огорашивать вопросами. Происходило это и от скорости, с которой обычно разворачивалась его мысль, и от того еще, что свое участие в разговорах с людьми он подчинял не столько общему течению всегда более или менее медленной беседы, сколько этой именно быстроте в развитии своего собственного разумения. Но Юханцев давно привык к особенностям Карбышева и застать себя врасплох не позволял.
— Конечно, есть указания, — спокойно сказал он, — ленинские: перековать, перевоспитать, превратить в советских специалистов — в верных помощников партии, в слуг народа.
Карбышев кивнул головой.
— Так-с. Ну, и как же ты будешь меня перековывать?
— Да я считаю, что уже на половину перековал. Только ты не заметил.
— Ловко!
— Будь спокоен!
— И что я теперь должен делать?
— Готовься: когда-нибудь настоящим большевиком станешь.
— Хм!
Несколько минут Карбышев шагал молча.
— Значит, хребты ломать, — задумчиво проговорил он, — да?
— И это — тоже. Только не в одиночку, а об руку с партией. Азанчееву, например, или Лабунскому…
— Азанчеев — профессор.
— Все под одним Цека ходим, — засмеялся Юханцев, вспомнив верное слово Романюты, — это мне трудно Азанчеевых на свежую воду выводить, потому что ни в каких академиях не бывал. Только и гляжу: эка диковина — рыба сиговина. А тебе — плевое дело. Где подперто, там и не валится. Еще попомни: быть тебе самому в профессорах.
Они колесили и колесили по площади. Мало-помалу разговор сместился. Юханцев опустил голову. Глаза его упирались в землю, под ноги. Он боялся взглянуть на Карбышева и радовался темноте февральской ночи.
— Прямо скажу: двух третей не слыхал. То есть, и голос твой, и слова твои слышу, а чтобы понять, о чем, — нет меня. Вот какое дело!
— И все — Надежда Александровна?
— Она…
— И давно это так?
— С первого глазу. Как увидел в семнадцатом, так и… Четыре годика!
— А в Питере?
— Слыхал от Глеба: «сестра, сестра», но видать не случалось. На фронте она была… сестрицей.
Слово «сестрица» Юханцев произнес с такой обжигающей нежностью, что Карбышев вздрогнул.
— С семнадцатого и я все знаю, — засмеялся он. Юханцев тоже вздрогнул.
— От кого?
— От тебя.
— Да разве я когда…
— И не надо. Коли человек влюблен, так его с затылка видно. Дело нетрудное. Еще в Рукшине разглядел.
— Ишь ты какой!
— При чем я?
— Ни при чем, — смиренно согласился Юханцев, — я тебе голую правду скажу, до чего дошло. Услыхал я недавно, будто на Путиловском в Питере новые бронепоезда строить начали, и затосковал по заводу, страсть. Ну что я, в сам-деле, за военный взялся? Я рабочий, а не военный. И место мое там. Так нет же… Сколько раз собирался и рапорт строчить, и с Михаилом Васильевичем, — никуда. Не могу без нее…
Словно бы весь мир полон ею. А ее нигде нет. Как повстречал здесь у вас, так и пропал с головой, сгинул…
— Да ты не отчаивайся!
— А что мне теперь осталось? И прежде, конечно, бывало: за сердце брало, туда-сюда вертело, крученый я человек. Что греха таить, — жат, пережат. Но чтоб этак… Ровно младенчик, ей-ей! Что же мне теперь?
— Увидим, — загадочно сказал Карбышев, — главное, не томись! Живи, чтобы уцелеть!
* * *
Тактические занятия с применением проволочных заграждений происходили под городом, в дачном месте Померках. Выезжали на занятия рано утром. Возвращались в полдень. Подъезжая к городу, Карбышев сказал Юханцеву:
— Сегодня вечером лекция, комиссар.
— Какая? Ничего нынче нет.
— Нет есть, — моя лекция. Я тебе буду читать теорию того, что мы сейчас на практике в Померках видели.
— Это… зачем же?
— Надо. Помнишь, как ты у Котовского с лошади репу копал? Так оно и во всем получается, если комиссар не знает того, что положено знать командиру. Неизвестно, когда на Путиловский вернешься. А пока ты — комиссар инженерных войск. Фортификация неумелых ездоков сбрасывает с себя не хуже норовистой лошади. Я тебе об этом еще в Умани говорил, и ты соглашался…
— Я и теперь не против, — взволнованно сказал Юханцев, — ничего не скажешь…
— Вот и отлично. Утром — практика, вечером — теория. Да еще и кон на кон.
— То есть?
— Я тебе — инженерное дело, ты мне — марксизм-ленинизм, — двойная подковка. А потом и сойдется. Хорошо?
Действительно, так оно и пошло. И даже месяца через два, совсем уже близко к лету, когда практические занятия велись по взрыву рельсовых путей, Карбышев все еще не пропускал ни одного «академического часа». Вечерние лекции комиссару окончательно вошли в обычай, внедрились в рабочий обиход. Но иногда Юханцеву приходилось туго. Он просил:
— Дмитрий Михайлович, уволь!
— Не могу!.. — решительно отказывал Карбышев, — некогда!
— Что за спешка? Чай, не капуста, — все равно, не вычерпаешь до пуста…
— Говорю: некогда. Да знаешь ли, комиссар, что бы я с тобой сделал, будь моя власть?
Юханцев устало махал рукой, удивляясь веселой неутомимости Карбышева.
— И знать не хочу…
— Тебе видней… Жаль, власть не моя!
Дня через два после этого странного разговора Юханцеву пришлось быть у Фрунзе. Покончив с очередными делами, Фрунзе спросил:
— Учитесь?
— Так точно.
— Очень хорошо.
— Надо бы лучше, да…
— Трудно? Ничего, ничего, товарищ Юханцев, — налегайте. Скоро понадобится.
Комиссар вспомнил непонятную торопливость Карбышева. И Фрунзе — тоже: «скоро». Что такое?
— А почему — скоро, товарищ командующий?
— Как почему? Разве Карбышев вам не говорил?
— Н-нет…
Фрунзе засмеялся.
— Значит, сюрприз затеял. Да ведь он вас не просто в таинства науки посвящает, а готовит на курсы при Инженерной академии. Хотим мы из вас военного инженера сделать. Плохо?
Юханцев стоял бледный, стараясь кое-как собрать разбегавшиеся мысли и положительно не зная, что сказать.
* * *
Пришло лето — время учений и разъездов по частям.
— Чему учить?
Фрунзе отвечал:
— Прежде всего уставу, ибо в нем отражен бой.
На ученьях командующий добивался не только уменья владеть оружием, но и взаимодействия между родами войск. Он хотел, чтобы стрелки научились производить перемену огневого рубежа не иначе, как в полной согласованности с действиями своей артиллерии. Войска Украины переживали время нововведений. Формировались егерские бригады, подвижные группы. Боевой опыт 1914-1922 годов привел к пониманию будущей войны как войны маневренной. Возникала мысль о необходимости создания таких войск, которые обладали бы не только очень большой подвижностью, но еще и громадной ударной силой, то есть мотомехчастей. Особенно много внимания уделял Фрунзе огневым ротам. Так назывались учебные части, готовившиеся к групповому бою, который должен был прийти на смену прежнему бою, волнами. Карбышев очень интересовался огневыми ученьями, так как, судя по опыту французского фронта мировой войны, был убежден в грядущем торжестве группового боя. Мишенную сторону огневых учений он брал на себя и устраивал ее всегда мастерски. Так как ученья эти очень интересовали также и Фрунзе, Карбышев часто сопровождал командующего.
Полк, которым командовал теперь Романюта, стоял в лагерях под Чугуевом, на унылом и пустом месте. Извилистая ленточка Северного Донца тянулась между песками, а столетние сосны гляделись в реку. В полку была опытная огневая рота. Ученье заключалось в том, что рота наступала, ведя самый точный огонь. Питание огнеприпасами было одним из существеннейших вопросов, которые практически решались в этом примерном бою. Прочее относилось к тактической стороне…
Всякий нормально мыслящий и чувствующий человек — конечно, оптимист. И Романюта был оптимистом. Представляя свой полк Фрунзе, он испытывал глубокую радость уверенности в себе и в своем деле. Он знал, сколько труда положено им в это дело, и не мог сомневаться в результатах. Его темноватое, насквозь прокуренное лицо было неподвижно. Но радость бурно вскипала изнутри.
Ученье кончилось. Подсчитали попадания я промахи, вывели проценты. Фрунзе был доволен. Сосны качали высокими вершинами и пятна солнечного света, играя, бежали по песку. Из лесу выскакали кухни с поварами в белых халатах и колпаках. Командующий подозвал Романюту и тихо спросил:
— Вы меня не обманываете?
Романюту качнуло. Кровь бросилась ему в лицо и отхлынула. Он стоял, как убитый, которого прислонили к стене. Губы его тряслись.
— Спросите любого бойца, товарищ командующий!
— Спрошу.
Когда красноармейцы потянулись с котелками к кухням, Фрунзе прошел по очередям.
— Всегда вас так кормят, товарищи?
— Всегда, товарищ командующий!
— А не врете?
— Ни-ни!
Фрунзе был доволен, очень доволен. По дороге в лагерь он несколько раз хватался за охотничье ружье. Выстрел за выстрелом, и все — без промаха. Маленький адъютант подмигивал Карбышеву: «Доволен…» Романюта ехал почти рядом, на большом белом коне.
— Ваша лошадь? — спросил Фрунзе.
— Никак нет, товарищ командующий.
— Своей нет?
— Никак нет.
— Приезжайте завтра в Харьков за подарком от меня. Сергей Аркадьевич! Прикажите передать командиру полка «Воина». Хороший, добрый конь!
* * *
Фрунзе еще раз перечитал письмо Котовского. Комкор второго кавалерийского писал: «Все мое внимание, всю энергию, все силы отдаю на то, чтобы создать образцовую боевую единицу, и каждый свой шаг… строжайшим образом согласовываю с железной логикой необходимости…» Фрунзе очень хорошо знал, что имеет в виду Котовский под «железной логикой необходимости». Устраивая свой корпус, «Кото» разрывался на части: то добывал седла, конское снаряжение, фураж и учебные пособия; то ремонтировал: в Бердичеве, на Лысой Горе, старые казармы; то проводил узкоколейку; то вычерчивал планы конюшен, или придумывал новую систему вентиляции, или проверял прочность гимнастических приборов. Но и это далеко не все. Пущенный Котовеким прошлой осенью сахарный завод в Перегоновке, под Уманью, в первый же сезон снизил себестоимость сахара, и об этом было сказано Дзержинским на совещании сахарников в ВСНХ. Мясные лавки военно-потребительской кооперации второго кавкорпуса славились на Киевщине, — цены в них были гораздо ниже, чем у нэпачей. Когда Котовский зимой приезжал в Харьков, он был у Фрунзе и, бегая с крепко сжатыми кулачищами по кабинету, шумел: «Раньше били кулацких бандитов, а теперь нэпачей жмем!» Основания для восторга имелись…
Вчера Фрунзе утвердил проект Котовского об организации Цувоенпромхоза, который должен был из разрушенных помещичьих имений создавать на Украине крупные военные хозяйства. Утверждая проект, Фрунзе вспомнил свои собственные планы. Это не Цувоенпромхоз, превращающийся в живую реальность, стоит лишь Фрунзе поставить свою подпись на листе бумаги. Нет, эти планы так громадны, что, может быть, долго еще останутся мечтами. Сосредоточить в Иванове льняное производство… А текстильный центр перенести в Туркестан, на родину хлопка… И сделать, таким образом, перевозки хлопка ненужными… Много таких планов родилось в голове Фрунзе с тех пор, как он не только полководец, а и государственный деятель!
Фрунзе — новый, совершенно новый тип военного руководителя. И возможность появления этого типа — прямой результат величайшего из общественных переворотов, когда-либо потрясавших мир. На остром языке Карбышева есть для революции сильное слово: «капитальнейший ремонт».
* * *
Стратегия в узко-военном смысле есть как бы часть стратегии политической. И потому государственная пропаганда коммунизма в Красной Армии — прямое и повседневное дело всякого политработника. Отсюда — высокая сознательность войск, их дисциплинированность, самоотверженность, стойкость, активность, инициативность, массовый героизм. Все это Красная Армия приложила к своему способу ведения гражданской войны и добилась победы. Эти же самые моральные качества заявят о себе и в будущей войне, но только в неизмеримо большей степени. Будущая война и похожа и не похожа на гражданскую. И на мировую — тоже: похожа и не похожа. Как и гражданская, она будет революционно-классовой войной. Как и мировая, — войной на большой технике. Это будет война длительная, небывалого размаха. Не раз случалось Фрунзе слышать от товарищей Ленина и Сталина о решающей роли прочного тыла в будущей войне. А что такое тыл? Вся страна, все ее народное хозяйство, организованное в интересах войны. Вот почему так нужна тщательная и всесторонняя подготовка к войне не одной лишь армии, но и народа, всего государства…
Вопросы обороны страны не могут решаться и так и этак. Единой основой советской военной науки, военной идеологии, военной политики, военного строительства должно быть мировоззрение Советского государства. Лишь на этой основе может быть создана стройная система взглядов на характер военных задач, стоящих перед Красной Армией, на способы их решения и на методы боевой подготовки войск. Мировоззрение Советского государства — это марксизм-ленинизм.
На нем-то и должна строиться подлинно научная теория войны, советская единая военная доктрина. Без нее невозможно ни верно учесть, ни изучить с пользой для дела, ни применить к самому делу драгоценный опыт мировой и гражданской войн. Невозможно! А в политическом, собственно, смысле вопрос о единой военной доктрине означает…
На этом повороте своей ясной и строгой мысли Фрунзе вдруг оборвал речь. Внимательно слушавший Юханцев ждал, глядя на него с тревожным чувством удивления.
— Однако, — улыбнулся Фрунзе, — я скажу вам просто: вопрос этот означает принципиальное единство государства и армии. Еще в годы мировой войны, когда мы с вами познакомились, товарищ Юханцев, я часто говорил моим старым друзьям по ссылке: «Погодите, — революция победит, и у народа нашего будет своя собственная Академия Генштаба. Вы, вероятно, думаете, что я делаю ошибку, отпуская Карбышева в Москву профессорствовать в академии?
— Нет, — сказал Юханцев, — сперва, как увидел, что он сдает дела Батуеву, не по себе стало, защемило малость, а потом ничего, понял. Все лучшее — туда.
— Правильно, — обрадовался Фрунзе, — лучшее — туда. Я и в прощальном приказе о Карбышеве написал: «Расставаясь с лучшим из моих ближайших помощников…» А что вы думаете о себе?
— Как это? — спросил Юханцев.
— Птицы вылетают из гнезда. Вам — не пора?
Юханцев молчал.
— Пора, — решительно сказал Фрунзе, — я слышал, вы женились?
Еще никто ни разу не задавал Юханцеву этого вопроса.
— Да, — тихо ответил он, — женился…
И, произнося это слово, сладко почувствовал целомудренную радость своего сердца.
— И мечту о возвращении на Путиловский отложили?
— Приходится…
Мягкий грудной голос Фрунзе оборвался чистой и светлой нотой.
— Опять правильно. Не в том, конечно, дело, что женились, но и… и это надо принимать в расчет. Вопрос решается сам собой: едете на подготовительные курсы Инженерной академии. Соберем комиссаров управлений. Скажу небольшую речь. Выдам вам хорошие часы, белье, два комплекта обмундирования, одеяло… Зачем? Чтобы «там» не думали, что мы, здешние, — бедняки…
Часть III
Да здравствует разум!
ПушкинГлава двадцать седьмая
Два человека, одному из которых двадцать, а другому сорок лет, отнюдь не чувствуют себя ровесниками. Но затем, по мере того, как время идет вперед, разница их возрастов становится все менее заметной и, наконец, как бы совсем исчезает, растворяясь в общем стариковстве. И тогда часто бывает, что именно к младшему из двух постепенно переходит роль старшего.
Нечто подобное получилось с Карбышевым и Bеличкой, когда они встретились в Москве. Карбышеву было за сорок, а Величке — за шестьдесят, но в роли старшего оказался Карбышев. Назначение председателем военно-инженерного комитета сразу поставило его впереди. До революции эту высокую должность занимали старые профессора — генералы. Теперь ее занял он, а Величко остался в числе членов комитета. Однако все эти пертурбации ни в чем и на йоту не изменили давних чувств доброжелательства Константина Ивановича к Дмитрию Михайловичу. Величко только тер морщины на гладко выбритых сухих щеках и весело повторял:
— Горизонты! Вот это — горизонты!
И когда Карбышев, обрадованный мудрым великодушием старика, позвал его к себе на новоселье, Величко еще раз повторил, прихохатывая:
— С удовольствием! Горизонты…
* * *
Карбышевскоё новоселье праздновалось в просторной четырехкомнатной квартире, отведенной новому председателю комитета военно-инженерным ведомством на Смоленском бульваре. Подтянутость всегда была в привычках Дмитрия Михайловича. Не было случая, чтобы он вышел к столу, не застегнув предварительно воротника гимнастерки. Носовые платки его всегда бывали свежи, сапоги начищены и сверкали так, что хоть смотрись в них. Но сегодня он сиял весь. Он встречал гостей в передней, и гости удивлялись: откуда такой блеск? Конечно, и от пуговиц, и от сапог; однако от них меньше всего, а больше всего — от улыбки, от красивых черных глаз, от веселого балагурства, от мелькающей верткости маленькой фигуры.
— Зонтики, галоши и споры гости оставляют в передней!
Ляльку уложили спать в дальней комнате. Лидия Васильевна зорко оглядывала строй бутылок и рюмок на длинном столе. Наркевич и Елочкин исполняли ее приказания. Крохотная тойка[50] Жужу, черненькая, с желтыми подпалинами на бровях, крутилась между ног и пронзительно лаяла тонким-претонким голоском. В ее головку, круглую, как шоколадная бомбочка, никогда не закрадывалось ни малейшего сомнения насчет сущности собачьего долга. Маленькая до того, что и разглядеть-то ее было почти невозможно, она бросалась на гостей с энергией и смелостью волкодава. В конце концов нервы ее натянулись до крайности. И лай зазвенел истерически. «Кто-то очень не нравится», — подумала Лидия Васильевна и выглянула из столовой в ту самую минуту, когда в переднюю вошел Азанчеев. «Ах, умница Жужу!» Азанчеев несколько обрюзг с лица, но выглядел все еще весьма и весьма молодцевато в строгом черном пальто с бархатным воротником и серой фетровой шляпе. Он носил теперь штатское платье, а военное «поддевал» лишь, тогда, когда отправлялся на лекции в академию. Сейчас он был в костюме добротного бостона, художественных линий и зрело обдуманного покроя. Он живо повертывался перед зеркалом.
— Как вы находите? Импозантно? Шил Иосиф Журкевич… Знаменитый московский закройщик, великий артист… «Главное — воскресить юн-ную фигуру!» И ведь… а?
Карбышеву примстился подвешенный к часовой цепочке Азанчеева брелок в виде золотого погончика с двумя генерал-майорскими звездочками. «Глупо!» Но звонок запел. Жужу залаяла, входная дверь опять распахнулась и впустила в переднюю красивую смуглую женщину в широком черном, как ночь, манто. Поводя волоокими глазами, она медленно переступала через порог, а за ней топтался, петушась, морщинистый большеносый старик в пенсне и расстегнутой солдатской шинели.
— Встречайте молодоженов, — весело говорил Величко, — прошу любить да жаловать: моя жена… артистка Московской оперетты… Гм! Гм! Вижу некоторое удивление на лицах. Напрасно! Утверждаю, что действительный мужчина начинается с пятидесяти лет. А до того — пхэ! Верно, Леонид Владимирович?
Азанчеев не слышал. Он снимал шубу с жены Велички и шептал ей что-то на ухо. Величко громко высморкался.
— Да, да… Старые знакомые по Восточному фронту. Женщина — сфинкс, пока… не выйдет замуж. Здравствуйте, Карбышев… Здравствуйте, Наркевич… Здравствуйте… Но я утверждаю, что лучше иметь твердый пай в хорошем кооперативе, чем собственную паршивую лавчонку…
Он договаривал это уже в столовой, прикладываясь к руке Лидии Васильевны.
— Цветете и хорошеете? Геркулесовы столбы очарованья… А помните, как я умирал от любви к вам? Вы мне бывало толкуете о каких-то окопах, а я думаю: «Что за глаза!» Помните, как я умолял вас бросить мужа? Не захотели…
— Константин Иванович, — лепетала, красная от конфуза, Лидия Васильевна. — Зачем вы… Ведь этого же никогда не было…
— Было… было… Все забыли. Принудили жениться на… Но я не виноват. Знакомьтесь: моя жена… гм!..
Стулья стучали, ноги шаркали, посуда звенела, ослепительно белые салфетки, пузырясь, заползали за воротники и пуговицы, веселые голоса сталкивались над столом. Величко кричал Елочкину:
— Погодите, дойдет и до вашей идеи. Что могу, то делаю: распространяю…
— Где?
— На лекциях. Как только заговорю о новаторстве, так сейчас и привожу вашу теорию. Вот, дескать, к чему способен озаренный революцией ум русского солдата. Учитесь у Елочкина! А теперь, когда перееду в Петроград…
— К пенатам? — спросил Азанчеев, — в Инженерную академию?
— Да, начальником кафедры фортификации. Таким же начальником кафедры, каким был, когда вы, батенька, еще пешком под стол ходили. А, впрочем, кажется, вы и теперь все тем же занимаетесь…
Действительно Азанчеев бродил кругом стола, как бы выбирая место. Но когда, наконец, выбрал, рядом с женой Велички, она показала Карбышеву на незанятый стул.
— Садитесь здесь. У вас интересная жена. Сколько ей лет?
— Женщине столько лет, сколько на вид кажется.
— Верно. Она ревнива?
— Кто?
— Ваша…
«Артистка Московской оперетты» вздернула на коленях зеленое, как вода, платье, и Карбышев увидел ее красивые ноги в шелковых, очень тонких чулках.
— Я меняю тему, — сказал он, — право…
— «Прльаво», — передразнила она, — вы хорошо картавите. У вас горячие глаза. И вы умеете смотреть. Вы будете меня добиваться? Это не так легко, — спросите Азанчеева. Будете?
— Нет.
— Почему?
Карбышев рассмеялся.
— Потому что знаю себя. Чем упорнее я чего-нибудь добиваюсь, тем больше похож на человека, который примеряет узкие штаны…
— Штаны? Это любопытно…
— Да… примеряет и думает: «Хоть и влезу, а носить все равно не буду!»
Соседка Карбышева отодвинулась от его стула. Зеленое платье пролилось с ее колен и закрыло ноги.
— Скверная маленькая обезьяна! До сих пор я чувствовала себя кое в чем виноватой перед вами. Но теперь мы поквитались…
Лидия Васильевна уже несколько раз взглядывала в сторону мужа. Ее серые, удивленно-грустные глаза ясно узнавали старую, офицерскую, манеру Дики «распоясываться» за столом, когда этому не противоречат обстоятельства. И сейчас, наблюдая его, иной посторонний человек мог бы подумать: «Молодость вспомнил!» Но удивлялись и грустили только глаза Лидии Васильевны, а не она сама. Она же давно и хорошо знала, что после всего совершившегося уже никогда больше в жизни ее Дики не случится ничего непоправимого. Поэтому она могла порой даже и поплакать, но несчастной быть не могла…
— Мой муж так стар… Вам жаль меня? — допрашивала Карбышева его соседка.
— Очень. Но еще больше — вашего мужа.
Величко стоял с бокалом в руке. Тысячи мельчайших пузырьков поднимались со дна бокала и, стремительно обгоняя друг друга, мчались вверх. Величко пристально следил за их неудержимым бегом и повторял:
— Это — миры, миры!
Потом поставил бокал на стол.
Гомеопатия всегда
Была вредна моей натуре…
— Друзья-товарищи! У нас здесь два поэта: Елочкин и я. Пусть каждый…
Елочкина шатнуло. Но он не успел даже и запротестовать, потому что Величко тут же отвел угрозу.
— Что? Никогда еще ни одна теория не делала Пушкиных и Толстых. Но Елочкин — не просто теоретик. Он — поэт научных фантазий. А где рождаются гипотезы, там место жить стихам…
Собственно, надо было удивляться проницательности Велички. Будь Елочкин помоложе, догадка старика привела бы его к самой подлинной правде. Но Елочкин отяжелел: с Сибири он не сочинял уже никаких гипотез, а с тех пор, как попал в Лефортовскую военно-инженерную школу, не писал и стихов. Величко так же сразу забыл о нем, как и вспомнил. Теперь Константин Иванович говорил тост. И при первых словах этого тоста все смолкли.
— Пусть новоселье, которое мы празднуем сегодня, будет последним в здешнем доме, пусть крыша рухнет на головы в нем живущих, пусть трава вырастет на лестницах и порогах, мерзость запустения распространится по мертвым квартирам и весь квартал до Теплого переулка превратится в обожженную солнцем Сахару, если…
Он высоко поднял свой искрометный бокал.
— …Если в этой посудине останется сейчас хоть единая капля!
И, лихо закинув седую голову, со звоном стукнул пустым бокалом о стол.
— Вот как пьется! Карбышев! Что мое — то твое, — слышите? Отвечайте мне тем же, и будет ладно…
Но не все гости бесшабашничали. Азанчеев кому-то обстоятельно втолковывал насчет ноты Керзона:
— Наступательная политика… Серьезнейшая вещь…
Но у собеседника Азанчеева было свое мнение об ультиматуме.
— Не политика, а бездоказательная болтовня… Фантастическое обвинение, наглая запальчивость, дерзкое вмешательство в чужие дела… Угроза… Уж и впрямь твердолобые!
— Да-с, мой милый, не на всякий роток накинешь платок! Заметьте, что еще и на Лозаннской конференции этот самый Керзон обращался с нами, как…
Карбышев спросил:
— Подписались вчера на постройку воздушного флота?
— Э-э-э, — кисло протянул Азанчеев, — что? Какого флота?
— А вы слышали, что первая эскадрилья так и будет называться: «Ультиматум»…
— Замечательно!
Азанчеев пожал плечами и отвернулся. Елочкин говорил Наркевичу:
— Помните, Глеб Александрович, — был у меня в роте связист, Якимах? Там, на Сиваше… Осенью приехал экзамены в академию держать, — выдержал. И привез мне письмо от Романюты, — помните? Тоже готовится, — нынешней осенью держать будет. Вот что ребята делают!..
Наркевич был и похож и не похож на себя прежнего. Бледен, худ, тонок, как и раньше, но появились в его лице возмужалость, а в руках и плечах — какая-то небывалая крутость. От этого засквозило в его наружности что-то неуловимо-комнатное, кабинетное. Соответственно изменился и характер. Острые углы характера сгладились, а упрямая приверженность к догме стала как бы круглей, обтекаемей и потому недоступней для воздействия. Наркевич все труднее поддавался впечатлениям неожиданности и крайне редко удивлялся.
— Да, — сказал он, — естественно. Так и быть должно. Тяга к знанию должна сделаться у нас общим явлением. И с этой точки зрения Якимах, Романюта — всего лишь обычное явление.
Последние слова показались Елочкину обидными для Якимахи и Романюты.
— Может, и обычное, — возразил он, — но все-таки замечательно…
Наркевич круто повел плечами.
— Замечательно? Возьмите самое что ни на есть «обычное», возведите его в квадрат, в куб, в миллионную степень, и, уверяю вас, получится что-нибудь очень замечательное. Так и тут…
Елочкину не хотелось соглашаться. Но чем и как следует опровергнуть математически-правильную мысль Наркевича, — этого он положительно не знал. Вдруг что-то случилось. Словно ветром вынесло из столовой шумный смех и разгульные крики. Странная по внезапности своего наступления тишина опрокинулась на стол. И два сердитых голоса хрипло и резко зазвучали в этой тишине. Азанчеев и Величко заспорили.
— Еще Суворов говорил: «Где проходит олень, там пройдет и солдат». А Наполеон — «Где солдат пройдет, там и армия». В своих классических маневрах…
— В классических маневрах своих Суворов был свободен от тяжких пут техники, — потому он так и говорил. Армия Суворова не зависела от дорог. Участь боя решалась не пулей, а штыком…
Злобно отдуваясь, Азанчеев нападал с другой стороны:
— Промахи тактиков не заметны, они не бросаются в глаза. Зато ошибки фортификаторов можно изучать по громадным каменным глыбам крепостей…
— Ошибки таких тактиков, как вы, не заметны, потому что вашего брата перестали допускать до войны. Пусти-ка вас в огород… Какой-то Дельбрюк выдумал «стратегию измора», а вы и пошли расписывать. Нет-с, извините, я не признаю отвлеченной науки без ее прикладного, практического, житейского смысла…
— Понимаю, — извернулся Азанчеев, — вы вспомнили Порт-Артур…
Морщинистое лицо Велички побелело, а длинные мочки ушей затряслись. Удар был метко нацелен. Действительно, составителем проекта порт-артурских укреплений и главным руководителем тамошних крепостных работ был именно он, Величко. И все знали об этом. Но известно было и другое.
— Порт-Артур укреплялся пять лет, — возмущенно закричал Величко, — и за это время… Знаете, сколько было ассигновано на укрепление Порт-Артура с девяносто восьмого по четвертый год? Четыре миллиона…
Че-ты-ре… Всего! А на порт Дальний — сто одиннадцать миллионов. Как это, а?
— Да не в том же дело, любезный Константин Иванович, — хитро спорил Азанчеев, — не в том… Самая идея крепости пережила себя. Артиллерия идет вперед, поперечники крепостей все растут и растут. Скоро существование крепости станет абсурдом. Нельзя, чтобы крепость требовала гарнизона в сто пятьдесят тысяч человек. Нельзя всю полевую армию запереть в крепости. Одиночные крепости не могут больше служить для выполнения стратегических заданий. Пример: Перемышль. Он ничем не смог ни помочь, ни помешать армиям. Массы войск, действуя на громадных фронтах, свободно обтекали его с обеих сторон…
Азанчеев победоносно смотрел кругом. Он был прав.
— В третьей части моей «Истории стратегии и тактики новых времен», если не ошибаюсь, на странице сорок девятой, я высказался по этому поводу прямо: «Несомненно, что мировая война покончила с типом крепостей фортового обвода. Долговременная фортификация будет в дальнейшем заниматься укреплением позиций, заранее подготовленных на важных рубежах…»
— Вздор!.. — крикнул Величко, громко пристукнув вставными зубами. — Написали, милостивый государь, вздор! Околесицу! Да и околесица-то не ваша, чужая. Ведь это Карбышев еще весной восемнадцатого года, в Сергиевом Посаде, пытался мне втолковать, и мы чуть не поругались. Пять лет назад! При самом начале гражданской войны… Верно я говорю, Дмитрий Михайлович? Помните, я у вас обедал?
— Очень хорошо помню, — сказал Карбышев, — и я действительно тогда так просто рассуждал. Но с тех пор и Голенкин, и Хмельков, и Шошин[51], и я…
— Ага! — крикнул Величко, — а Леонид Владимирович за последнюю моду выдает…
— Теперь надо рассуждать иначе, — продолжал Карбышев, — совсем иначе…
— Надеюсь!
— Я думаю теперь, что и крепости, и уры одинаково годятся для дела. Только нужно, чтобы они были… советскими.
— Вот она, последняя мода, — с негодованием сказал Азанчеев.
Стекла на носу Велички пронзительно сверкнули.
— Треба разжуваты, — задумчиво пробормотал он.
И вдруг опять что-то случилось. Как быстро вспыхнул этот спор, так и затух мгновенно. И Константин Иванович снова стоял с бокалом в руке, водворяя за столом тишину.
— Я не Елочкин и талантов своих не скрываю. Предлагается вашему вниманию старая арабская притча. Перевод — мой. Особенно важно для… бедуинов. Название: «О браке». Приступаю.
Желающий ввести жену в свой дом Имеет много общего с глупцом, Который, заклинанье сотворя, В мешок, Где прыгает клубок Из сотни змей и одного угря, Спокойно опускает руку. Глупец, наверно, вытащит гадюку, Но так как счастье служит людям зря, — Он может вытащить, пожалуй, и угря. К сему — мораль от переводчика: Проветрив сердце трезвым страхом, Не рвись конем, не пяться раком. В преддверье будущности рабской, Пойми соль мудрости арабской: Хорошее не называют браком!Хохот и хлопки взорвались, как снаряд. Карбышев крикнул:
— Поэзия с купоросом, браво!
«Артистка Московской оперетты» быстро сняла свою нежную ручку с его рукава, точно обожглась или укололась.
— Жалеете старого попугая?
— Как же его не жалеть, когда он сам все понимает…
— Ах, бедный, ах, несчастный! А насчет себя, вероятно, думаете, что вы-то именно и есть тот самый, единственный, которому счастье служит зря. Фу, какая глупость!
Несколько мгновений Карбышев смотрел на черные брови и смуглые щеки своей соседки, как на чудо. Чего хочет эта красавица? Кто она? От близости с ней его отделяет шаг, которому имя — желанье. Карбышев много раз замечал за собой: чтобы сильно пожелать чего-нибудь, ему надо сперва захотеть, чтобы именно это желание пришло. Нельзя хотеть, не захотев хотеть. А эта женщина просто вошла, посмотрела кругом и выбрала его в любовники. Шаг оставался шагом; желание не приходило.
— Счастье не служит мне зря, — решительно сказал он, — оно — мое, потому что принадлежит моей жене. Так и надо. А вы — точно Екатерина Вторая…
— Екате… Что?
— Да.
Он взял своими твердыми, сильными пальцами ее мягкую, гладкую, пахучую руку и сжал по-мужски.
— Екатерина Вторая не умела уступать, чтобы брать. И ей оставалось толкать любовников в свою постель.
«Артистка Московской оперетты» вскочила, и стул, на котором она до того сидела, опрокинулся.
— Леонид Владимирович! — громко позвала она Азанчеева, — Леонид Владимирович! Ау, Леонид Владимирович!..
В столовой было жарко, дымно и чадно. Гости расходились. Азанчеев уводил свою даму. Величко декламировал в передней:
Гомеопатия всегда Была вредна моей натуре…Наркевич говорил Карбышеву:
— Я понимаю вашу мысль. Но кто же из них в конце концов прав?
— Видать, Окул бабу обул, да и Окула баба обула, — усмехнулся Елочкин.
— Есть такая поговорка, — согласился Карбышев, — очень правильно. Вот мы, все трое, служили когда-то в Бресте. Мы знаем, что крепость даром попалась немцам в руки; что она могла бы сопротивляться. Но что было нужно, чтобы она сопротивлялась, — мы и до сих пор не знаем. А в этом — все.
— Почему не знаем? Константин Иванович очень обстоятельно…
Карбышев нервно пожал плечами и сказал, заспешив:
— Да не в одних же технических условиях дело, а еще и в политических, в военно-политических. Только при них и мог бы Брест сыграть свою роль как крепость.
Карбышев выпустил эту торопливую мысль, как фокусник птицу из рукава. И все-таки Наркевичу показалось, что он понял. Но тут же понял еще и другое: Карбышев с огненным нетерпением ждал, когда, наконец, дверь его новой квартиры захлопнется за последним из гостей… Поздно? Очень. Блеклый месяц спускался к Воробьевым горам, кувыркаясь между щербатыми обломками фиолетовых туч, а влево от Кремля уже сияло и золотилось утреннее апрельское небо…
Свет лампы, ярко горевшей в кабинете, прорывался в столовую и падал на стол, за которым недавно ужинали шумливые гости. В столовой было темно. Только на столе поблескивал хрусталь разноцветных фужеров да сверкали в тяжелых бутылках остатки недопитых вин.
Все в квартире спали: Лидия Васильевна, Лялька, Жужу. Не спал Карбышев. Наклонив голову к правому плечу, он быстро, почти без помарок, отчетливо и крупно выводил на листе бумаги строку за строкой.
«Может ли большая одиночная крепость, — писал он, — выдержать длительную осаду в современной войне? Может, если она…»
Карбышев поднял голову от плеча и задумался, уперев неподвижный взгляд широко открытых глаз в огонь лампы. Почему, например, Брест провалился в пятнадцатом году? Почему? Гм!.. Да, но ведь провалился-то не Брест вообще, а старый Брест царских времен, и провалился он не в бою, а в общем ходе войны, которую не хотел вести народ. А что бы сделал Брест, будучи советской крепостью, сиди в нем Юханцев комиссаром, Романюта и Елочкин командирами, и будь его гарнизон составлен из войск, бравших Уфу или Юшунь? Все было бы совершенно иначе, все. Карбышев снова наклонил голову к плечу, и перо его замелькало над бумагой…
Глава двадцать восьмая
Бывает просто тишина, а бывает тишина старая. И у такой тишины есть свой запах — запах сухого цветка, и свой голос, похожий на тихий треск. Военная академия размещалась на Пречистенке, в очень старинном доме, с масонскими эмблемами, вылепленными на наружной стороне стен. Когда двери аудитории закрывались, под сводчатыми потолками коридоров этого дома повисала старая тишина. Так, вероятно, было и раньше, когда в доме гнездился старосветский девичий институт. Но ведь то было раньше, а теперь… зачем такая тишина? Азанчеев стоял в коридоре у окна и туго отдувался, думая. Когда он шел сегодня утром в академию, в воздухе медленно вились снежные хлопья. Дорога тонула под хлюпающим месивом из воды и снега. Ненастьем опрокинулось на городские крыши небо, серое, как грифельная доска. Сейчас был полдень. Но сквозь это небо все еще еле проникал бледный, гаснущий, тусклый свет затмения. Азанчеев смотрел в окно и думал. Он читал в академии общую тактику. И делал это так, словно прихлебывал очень кислый лимонный сок. Он входил в аудиторию, стараясь отвести свои подслеповатые глазки в сторону от жадно обращенных к нему лиц, сморкался, поправлял твердо накрахмаленные манжеты и говорил, ровно и тихо, слегка повизгивая под напором внутреннего раздражения, все усиливавшегося по мере приближения лекции к звонку. Откуда бралось в Азанчееве это раздражение? Он думал, что его порождала унизительная необходимость общаться со столь малообразованными слушателями, как те, что сидели перед ним. В этой необходимости он видел насилие над собой и бывал искренне доволен, когда ему удавалось так «подать» себя на лекции, что полное отсутствие каких-либо отношений между кафедрой и аудиторией, кроме, разумеется, внешних, вдруг обозначалось с полнейшей очевидностью. «Получай, Неуч Иваныч!» — думал он в такие минуты.
Ничего другого не оставалось. Только — замыкаться в «свой» круг и кое-что делать для армии, хотя бы и Советской, но уж во всяком случае целиком строящейся на прежних основах и старых знаниях. А, впрочем, многое, очень многое все еще оставалось неясным. Революционный подъем в странах Запада продолжался лишь до нынешнего, двадцать третьего, года. И теперь уже был явственно виден спад революционной волны. За последние восемь месяцев из академии ушли, совершенно добровольно, несколько человек. Ушли — с последнего, дополнительного курса. Причина: разочарование. Черт возьми! Азанчеев смаковал этот факт как лакомство. Было бы очень соблазнительно связать его с общим упадком революционных настроений в Европе. Но если даже и трудно установить этакую связь, все же факт знаменует собой нечто весьма любопытное. Азанчеев был из числа тех профессоров, которые горой стояли за сохранение в академии старого лекционно-теоретического метода преподавания, хотя и знали очень хорошо, что он совершенно не подходит ни к новым задачам высшей советской школы, ни к новому контингенту обучающихся. Собственно, он не годился и прежде, даже и для тех, кто, подобно Азанчееву, обучался в академии генерального штаба. К систематической работе он слушателей не приучал, глубокому усвоению ими курса не содействовал. И теперь, разглядывая прошлое издали, Азанчеев все это ясно видел. Но от этого лишь возрастало его упорство в отстаивании старого лекционного метода в новой академии…
Стоя у окна, он с головой ушел в размышления. Вдруг звонкий голос со стороны вырвал его из печального уединения.
— О чем грустите, Леонид Владимирович? — спросил, подходя, Карбышев.
— Я не грущу. Я стараюсь понять.
— Что-нибудь трудное?
— Очень. Я думаю: способен ли я убить?
— Кого?
— Читателей «Военного сборника».
— Чем?
— Новой статьей.
— Наверно, можете.
— П-почему вы так полагаете?
— Потому что я читал вашу последнюю новеллу: «Тейлоризм, гуверизм и подготовка отделенного». Убийственно!
— Да, да… Решительно ратую за приложимость американских методов рационализации промышленного труда к полевому обучению пехоты.
— Говоря по-солдатски, большой пустяк! — язвительно сказал Карбышев. — Но с какой же все-таки стати вы сочиняете подобные вещи, когда вокруг монбланы самого прямого, неотложного дела? Непостижимо! Ведь вы, дорогой Леонид Владимирович, человек с инициативой и воображением. Вы начальник кафедры. Не преподавай я инженерных дисциплин в кафедре общей тактики, то есть в вашей, я бы…
— Чего же вы от меня хотите?
— Чтобы вы всерьез занялись методическими вопросами. Надо идти навстречу…
— Кому? Господам слушателям?
— Какие они господа?
— А кто? Ведь не товарищи же?
— Почему не товарищи?
— Н-нет-с, извините. Я профессор, а они… нет, они мне не товарищи! Никак! Попробую, Дмитрий Михайлович, употребить ваше собственное выражение: большой пустяк!
— Это сюда относиться не может.
— И туда, и сюда. Сколько угодно. Ломать методику преподавания, то есть, другими словами, выдумывать новую таблицу умножения, я не собираюсь и вам не разрешу.
— Посмотрим.
— Смотреть нечего, — не разрешу. Избегайте конфликта. Он созревает.
— Чем-то я вас раззадорил. Чем?
— А ваша последняя статья?
Все лето в военной печати шумела дискуссия по вопросам «групповой» тактики. Карбышев очень горячо участвовал в дискуссии, стремясь доказать, что основой полевой фортификации после гражданской войны может и должна быть только разработанная в своих приемах тактика пехоты. Азанчеев говорил о его последней полемической статье. Она называлась: «Тактико-фортификационные задачи и их решение». Статья была очередным ударом по враждебному лагерю и совершенно не имела академического характера, как, впрочем, и все, что писал Карбышев. В частности, автор настоятельно предлагал готовить командиров методом комплексного обучения фортификации вместе с тактикой, посредством решения комбинированных тактико-фортификационных задач.
— Не пройдет, — говорил Азанчеев, — могу заверить. Никаких задач!
Карбышеву надоел этот полусерьезный, полушутливый тон, с привкусом начальнического панибратства, когда «старший» прижимает «младшего» животом в угол. Азанчеев явно нуждался в предостережении, как нуждается в нем человек, у которого от мороза побелел нос.
— Просто удивительно, как мы иной раз бываем глупы, — вдруг сказал Карбышев.
Азанчеев встрепенулся и отступил.
— Что? Прошу вас говорить в единственном числе!
— Пожалуйста. Я хотел сказать: как вы бываете глупы!
Несколько мгновений собеседники молча смотрели друг на друга. Наконец, Азанчеев тихо проговорил:
— Я вас извиню при условии: сору из избы не выносить…
Карбышев сверкнул глазами, зубами, всем лицом.
— Ну, знаете, — сказал он, весело смеясь, — хороша же будет изба, если из нее сору не выносить!
* * *
Елочкин уже второй год обучался в Лефортовской военно-инженерной школе. Вскоре по приезде в Москву Карбышев делал в этой школе доклад. Тогда-то и восстановились его старые отношения с Елочкиным. С тех пор отпускные дни и праздники Елочкин проводил у Карбышевых на Смоленском бульваре, — кое в чем помогал Лидии Васильевне по хозяйству, играл с Лялей, возился с Жужу и внимательно присматривался к упорной работе Дмитрия Михайловича по подготовке к лекциям.
— Дика, иди обедать! — звала Лидия Васильевна.
Карбышев досадливо отзывался из кабинета:
— Подожди, бога ради! Ей-ей, не до того…
Елочкин советовал:
— Надо в двери, Лидия Васильевна, окошечко прорезать и обед прямо туда, в кабинет, подавать…
— Это еще что за… форс-мажор?
— О вашем удобстве, Дмитрий Михайлович, хлопочем…
Карбышев с необычайной добросовестностью готовился к лекциям. В каждую из них он обязательно хотел внести что-нибудь новое. И, кроме того, стремился достичь того, чтобы лекции об одном и том же, читаемые на параллельных курсах, отнюдь не походили одна на другую.
— Я думаю, никто так не пыхтит, как ты, — говорила ему жена.
— Вольному — воля! А я изображать собой граммофонную пластинку отнюдь не желаю!
Была и еще задача, которую он во что бы то ни стало старался разрешить. Наглядные пособия отсутствовали — ни макетов, ни чертежей. Но без этого рода пособий лекционный метод ровно ничем не выходил за рамки скучнейших азанчеевских традиций. Чтобы вырвать свое преподавание из этого плена, Карбышев по воскресеньям превращался в макетчика, а по ночам — в чертежника. Давнее уменье пригождалось, — чертежи возникали во множестве: большие, отчетливые, выразительные, красивые. С макетами было труднее…
Карбышев долго возился над устройством жестяной игрушки, которая должна была служить наглядным пояснением к идее мины-сюрприза, и у него ничего не получалось. Усталый и сердитый, он бросил на стол звенящие обрезки жести.
— Уф!
Елочкин отложил «Красную звезду», которая начала выходить с нового года. Собственно, он уже довольно давно не читал газеты, а лишь прикрывался ее широкой бумажной полосой, внимательно наблюдая из своего прикрытия за бесплодными стараниями Карбышева.
— У-уф! Сноровки нет…
— Мастеровитости, — сказал Елочкин, — а позвольте-ка «нам» прикоснуться…
— Да, ты бы сперва про суть дела, Степан Максимыч, спросил. Это — мина, сюрпризная. Должна взрываться, когда…
Елочкин круто повел горбатым носом, усмехаясь.
— Ничего загадочного. Самый простой фокс-мажор…
И вытянул вперед жилистые крепкие руки, не то показывая их Карбышеву, не то сам оглядывал и оценивая критическим взором.
— Послесарить придется…
После этого случая значительно облегчилась воскресная работа Дмитрия Михайловича по изготовлению к лекциям разного рода наглядных пособий: фокусных электроприборчиков, сюрпризных самовзрывалок и множества подобных вещей, которые Елочкин объединял под общим названием «фокс-мажор». Елочкин очень усердствовал, помогая, и Карбышеву начинало казаться, что без помощи этой он, как без рук…
* * *
Слушатели сидели за партами, а на кафедре поднималась барственная фигура высокого, худого, чисто выбритого и тонко раздушенного профессора с любезно слащавым выражением неподвижного красивого лица. Медленно растягивая слова и то и дело э-э-экая, Азанчеев скучливо выговаривал свои громоздкие и неясные мысли:
— В течение всего девятнадцатого века военная наука была сосредоточена в двух лагерях — доктринеров и идеологов. Доктринеры пытались упростить естественное разнообразие жизни, искусственно сжимали понимание действительности. Идеологи, наоборот, всячески избегали прилагать к своим теориям схемы. Восемнадцатый век выработал военную дисциплину тактики; девятнадцатый — дисциплину стратегии. Нашему, двадцатому, веку предстоит выработать новую дисциплину императорики, то есть стратегию военно-политическую и экономическую…
Якимах смотрел на Азанчеева не отрываясь. Ему думалось, что таким способом он подтянет все нити своего внимания к «стратегической теме» лекции. Он слушал лекцию с неослабевавшим ни на миг напором всего своего сознания. Но из стараний Якимаха не получалось ровно ничего. Какая-то прозрачная стена стояла между ним и лектором. Сквозь нее проникали зрение и слух, но мысль об нее разбивалась. Якимах с отчаянием видел, что по гроб жизни не понять ему, что же, собственно, такое «императорика» и почему «это» должно так странно называться…
— Может ли метод исторического материализма быть применен к военному делу? — ледяным голосом вопрошал кого-то Азанчеев и отвечал сам себе мертвыми словами, — к изучению истории войн этот метод не применим совершенно. А к истории военного искусства он уже и до нас с вами фактически применялся знаменитым профессором Дельбрюком в его теоретических трудах. Итак…
Вслушиваясь в эти чужие слова, Якимах инстинктивно не верил ни им, ни тому, что из них с неизбежностью вытекало…
От прежних времен в академию перекочевали не одни лишь профессора. Каким-то непостижимым образом перекинулись и старые-престарые словечки. Первокурсники, например, именовались «козерогами»…
Положение «козерогов» было крайне затруднительно. Почти все они прошли через командные курсы и потом послужили в частях командирами. На курсах они учили по книгам о сторожевом охранении: участки, отряд, резерв… Но, прибыв краскомами[52] в полки, не узнали курсовой науки, сразу налетев вместо сторожевых участков на кольцевое охранение. На курсах учили: дневной переход для пехоты — двадцать пять верст; а в полках выяснилось, что нетрудно пройти и пятьдесят. Теперь эти сбитые с толку краскомы ждали от академии таких живых и понятных слов, которые все решат, объяснят, свяжут, примирят, устранят любые недоумения. И вдруг — «императорика»… Темно, ах, как темно!
После лекции Азанчеева «козероги» уныло столпились у дверей аудитории. Только что прослушанная «стратегическая» тема решительно подорвала свойственную им бодрость духа. А впереди грозило нечто, еще более страшное: «Инженерное обеспечение оборонительного боя полка».
— Ох-хо-хонюшки! Тут уже и вовсе ничего не уразумеем, — говорил бородатый «козерог» Мирополов.
* * *
Карбышев быстро прошел по аудитории и почти мгновенно очутился на кафедре. Такие торопливые в своих повадках люди чаще всего говорят скоро и невнятно. И слушатели ждали, что этот живой и верткий преподаватель так и затрещит сейчас о разных непонятных вещах, относящихся к инженерному обеспечению боя. Лекция началась.
— Тому назад двести лет, товарищи, сказано было вещее слово: «Зело надо, чтобы офицеры знали инженерство, буде не все, то хотя бы часть оного». Сказал это слово Петр Первый. Уже в те далекие от нас времена ему было ясно, что дело фортификации есть дело войсковых командиров. И должно признать, что эпоха тогдашняя, петровская, была эпохой расцвета русской фортификации. Вот я смотрю сейчас на ваши лица и читаю на них вопрос: в чем же секрет? Секрет, товарищи, в том, что командир, не умеющий правильно укрепить позицию, не сумеет ее и правильно защитить. Сама по себе фортификация — тело, но без тактической души. Тактическую душу придают фортификации войска; без них она мертва. Именно войскам и особенно пехоте, больше, чем кому бы то ни было, понятны достоинства и недостатки укреплений Лучший ценитель укреплений — войска. Пехота начинает недурно разбираться в малой технике фортификации, — где выроет, где насыплет… Но этого мало. Нужно, чтобы она умела выбирать и разбивать легкие полевые позиции, не оглядываясь на саперов. Нужно, чтобы пехота хорошо знала тактическую сторону фортификации. Пехотный командир обязан задумываться над тактикой борьбы за позицию, так как позиция должна строиться на основе этой самой тактики. Понятно?
Карбышева уже давно не было на кафедре. Он расхаживал между партами, медленно и твердо, как бы в ногу со своей речью, немногословной, спокойной, веской и понятной. Всякий, кому доводилось слышать скороговорку Карбышева в спорах и на докладах, был бы сейчас не на шутку озадачен его лекторской манерой. Никаких методичек, в которые имеют обыкновение заглядывать профессора через каждые две-три фразы, — Карбышев читал свободно и широко, а главное — на редкость вразумительно и доходчиво.
— Понятно?
Чтоб было еще понятнее, он сыпал примерами из старых и новых войн.
— Рассказывал мне много лет назад один ветеран севастопольской обороны: приходит в Севастополе командир роты к полковому командиру — дело было ранним утром — и докладывает: «Надо, господин полковник, укрепление исправить, — полковой козел его ночью насквозь прободал…»
— Ха-ха-ха!
Смеялись слушатели. Вместе с ними смеялся и Карбышев.
— Зато к началу войны 1904 года инженерное оснащение наше было ничуть не ниже японского. Только обнаружила эта война полное наше неуменье пользоваться техникой. Маскировочные средства почему-то не применялись. Средств форсирования вечно не оказывалось под рукой. Самые простые земляные сооружения возводились недопустимо медленно. А между тем значение искусственных препятствий возрастало с каждым днем. Я видел у Ташичао…
Слушатели ощущали почти физически, как тянутся к ним через этого маленького человека нити подлинных связей с давно минувшими временами дальневосточных трагедий и севастопольских эпопей. И медленно расхаживавший между партами Карбышев казался им живым средоточием отзвуков прошлого, — того прошлого, которое сталкивалось с будущим здесь, в аудитории, на указываемых лектором исторических путях.
Все понятно. Все интересно. Способствует этому еще и наглядность иллюстративного метода, которым пользуется лектор. Карбышев то поясняет развешанные по стенам чертежи и схемы, то демонстрирует модели сооружений, то превращает классную доску в киноэкран. По экрану бегут титульные листы книг, которые предстоит прочитать слушателям; затем на нем появляются бойцы и, рассыпаясь по позиции, сноровисто тянут проволоку. Карбышев задиктовывает главное. Слушатели записывают. «Эге, да это вовсе не так уж и трудно», — думают они. Лаборант что-то готовит в углу. Речь — о минах-сюрпризах. Вдруг Карбышев говорит Якимаху:
— Дайте-ка мне стакан, — вон тот, что в руках у лаборанта…
Якимах осторожно встает, еще осторожнее берется за стакан и протягивает его Карбышеву. Но в эту же самую минуту над стаканом взвивается белый дымок. Т-р-р-ах!
— Вы убиты взрывом, — говорит Карбышев остолбеневшему Якимаху, — надо разобраться, откуда взрыв. Тише, тише, товарищи!
Он обращается к бородатому Мирополову:
— Будьте добры, закройте дверь!
Но как только Мирополов прикасается к дверной ручке, — тр-р-ах! Взрыв повторяется… Лекция подходит к концу среди общего оживления. Веселые, довольные слушатели опять толпятся возле аудитории.
— Ей-богу, точно пчелки летают, — радостно смеется Якимах, — не лекция, а одно удовольствие!
И случайно попавшее на язык словечко надолго пристегнулось к необыкновенным лекциям Карбышева: «пчелки летают»…
* * *
В конце концов Лабунскому повезло. Правда, он больше месяца околачивался в Москве, прежде чем выскочил из резерва. Да и выскочил-то не так, как бы ему хотелось. Проектировалось создание отраслевых инспекций при штабе РККА. Инспектором инженерных войск назначался его старый приятель — товарищ по мировой войне, человек умный, ловкий, беспринципный и деятельный, — такого же склада, как и сам Лабунский. В его поддержке можно было не сомневаться, и Лабунский уже праздновал «врагов одоление». Но в самый последний момент что-то случилось, возникли какие-то препятствия. Лабунский рассчитывал быть помощником инспектора, а ему предложили, как и Батуеву, должность старшего инженера для поручений. Он оскорбился. Тогда его сплавили начальником инженеров в один из расквартированных под Москвой корпусов, но обещали со временем перетянуть в Главное военно-инженерное управление. Пришлось согласиться.
Жена Лабунского жила в Москве, на Садовой, в маленьком особнячке, удобно обстроенном для нее мужем. Лабунский то и дело наезжал в Москву. И тогда в домике на Садовой хлопали пробки, барзак и шато-икем сверкали, разливаясь по фужерам, мужчины в военном платье жадно набивали закусками неутомимые рты, а нарядные женщины азартно совещались насчет боа, манто и разных других «шеншилей»… Затем звенела гитара хозяина, на горле его быстро двигался вверх и вниз острый кадык, и зычный, сиплый голос выводил: «Эй, баргузин, пошевеливай вал, — молодцу плыть недалечко». А уж под самый конец вечеринки — пьяная ссора, и брань, и угрозы, и женские вопли…
* * *
Когда в помещении Инженерного комитета ГВИУ[53] открылось военно-инженерное совещание, Лабунский прибыл на него с твердым намерением умно и дельно выступить. Заявив таким образом о себе, он имел в виду сейчас же после совещания смело требовать от начальства перевода в ГВИУ. Словом, с этим совещанием он связывал самые обширные планы.
Гвоздем первого дня был обстоятельный доклад представителя штаба РККА на тему «Организация и тактика машинизированной пехоты». Докладчик вспомнил о съезде инженеров Московского военного округа, происходившем три года назад, и о том, как много говорилось тогда о желательности слияния дорожно-мостовых рот с саперными. Вопрос этот был отлично знаком Лабунскому. Слияние состоялось в двадцать втором году, и теперь против него выдвигалось множество возражений. Но, как и все, что возникает задним числом, возражения эти не принимались во внимание. И Лабунский решил построить свой успех на беспроигрышном ходе: добить, растрепать и пустить по ветру запоздалые аргументы противников слияния. Вот он встал и прочно уперся длинными, сильными ногами в паркетный пол. Его могучий голос волнами разостлался по залу.
— Наступление — мерило всех решений. Именно этим мерилом руководились, когда после ряда реформ восстанавливали старые саперные батальоны. Их основная специальность — укрепление позиций, а вспомогательные — постройка легких, полевых мостов и подрывное дело…
Тема предстоявшего Карбышеву выступления была сформулирована в повестке так: «Применение фортификации в оборонительном бою при поспешном укреплении позиций (до двух суток)». Слушая Лабунского, Карбышев никак не мог отделаться от странно-подозрительной мысли. Ему казалось, что Лабунскому абсолютно безразлично, останутся ли дорожно-мостовые роты слиты с саперными или вновь разъединятся. Если он ратовал за слияние, то отнюдь не потому, что был убежден в его пользе, а совсем по иным причинам. Это могло быть ребячеством. Но ребячество в этаких огромных масштабах — страшная вещь. Могло быть и поздней отрыжкой досадного для Лабунского разногласия, в котором Фрунзе когда-то поддержал Карбышева. Уже не мстит ли «большой сапер» за пережитые в двадцать втором году неприятности? Ведь ему, конечно, и в голову не приходит, что в них ни один человек, кроме него самого, неповинен. И чем глупей и смешней выглядело это последнее предположение, тем более правдоподобным казалось оно Карбышеву. Поэтому, выйдя к кафедре, он никак не мог согнать с лица веселую улыбку и, даже заговорив, продолжал весело улыбаться.
— Боевые операции обеспечиваются с разных сторон, — начал он, — со стороны авиационной, танковой, артиллерийской и пр. Мы, инженерные войска, и есть это самое «пр.».
Зал смеялся. Кто-то позади даже хохотнул довольно звонко.
— В чем же, однако, суть этого «пр.»? Мы любим ссылаться на разных Вобанов прошлых эпох. Вот, дескать, было светлое время фортификации! По вспомним же и о том, что эти Вобаны сочетали в себе технический опыт с боевым. Есть ли у нас свои Вобаны? Конечно, есть. Это — пехота и ее командиры. Суть «пр.» не в том, как строить, — с постройкой козырьков и убежищ справится любой пехотный командир, — а в том, где строить. Но это уже вопрос не технический, а тактический. Никак нельзя думать, что правильно решить эту задачу может только сапер, — нет. Сапер знает тактику только теоретически. А пехотинец вырабатывает ее на поле боя. Следовательно, хозяином в области тактических решений является не кто иной, как он. Именно он указывает саперам, где надо строить, да и то лишь тогда, когда постройка сложна и сам он с ней справиться не может. Итак, я утверждаю, товарищи, что полевая фортификация стала в своих простейших формах делом тактическим. Вся ее техника сводится к самоокапыванию и заграждениям. Но тактики и войска попрежнему считают фортификацию делом чисто техническим и потому продолжают чураться ее. Товарищи! Это трагедия…
Доказав с неопровержимой ясностью, что при поспешном укреплении позиции вся тяжесть работ ложится вовсе не на саперов, а на пехоту, Карбышев коснулся роли конного транспорта при машинизированной пехоте, сказал кое-что важное об организации материальных складов и опять повернул к главному.
— Мировая война создала новые виды технических средств борьбы — химию, танки, огнеметы, подводный флот, авиацию. Соответственно с этим из состава наших инженерных войск выделились после мировой войны сперва авиация, потом железнодорожные части, связь, автобронетанковые и химические войска. И получилось, что инженерные войска стали точно такими, какими их создал Петр Первый, то есть войсками специального назначения, обеспечивающими боевую деятельность всех родов войск. Они помогают всем родам войск достигнуть победы малой кровью. При наступлении или при обороне? Товарищ Лабунский и слышать не желает про оборону. Человек он большущий, не нам чета, роста огромного. Так сказать, Аркадий Великий…
— Ха-ха-ха!
— И с его колокольни виднее. А с нас много не спросишь, — ручными лопатками всю Маньчжурию ископали. Крепкие ноги у Лабунского, а ходить ему хочется все-таки на голове…
— Ха-ха-ха!
— Итак: наступление или оборона? Конечно, и то и другое. Да в придачу еще и активная оборона. В облегчении этой обороны, собственно, и заключается главная задача фортификации. Вот — саперный взвод в полку. Он занят постройкой моста. Кто же будет строить оборону? Спросим Аркадия Великого. Но ведь он — вроде верстового столба: другим путь кажет, а сам — ни с места. Уж вы меня, товарищ Лабунский, извините. Известно: топор в мороз, что бритва, — так и бреет…
* * *
Умер Ленин.
Небо сурово сдвигало клочкастые брови тумана. Люди выглядели в тумане крупней, чем были, а может быть, и в самом деле, становились больше — росли. Колючий воздух безжалостно обдирал горло при каждом вздохе. Было нестерпимо холодно.
Ночь свалилась на белую землю жесткой тучей фиолетового мороза. Крутились вихри костров, метались по ветру летучие косяки искр. Огонь трещал, плевался, захлебывался в злобном шипенье. Люди стояли у костров, завернутые в шали, утонувшие в надетых одна на другую шубах. Многие стояли так до утра.
Молчало окровавленное заревом костров небо. Молчали сумрачные люди. Но мысли их были громки, и хоть никто не высказал этих мыслей вслух, никто не записал их, были они тогда же услышаны всей землей: «Много, много раз слава великих эпох переходила от одного народа к другому… А теперь наш народ создает эпоху невиданной славы и овладевает ее величием навсегда».
Медленно ворочались неумелые, нескладные, непривычные минуты, часы, дни, — первые без Ленина. Котовский встретил и проводил их в Москве — он был делегатом II съезда Советов. Он стоял в карауле у гроба Ленина. На траурном заседании съезда слышал могучий голос партии, которая клялась в вечной верности великому народному делу. Именно в эти трудные, торжественно-печальные ленинские дни задумал Котовский поставить перед партией и правительством вопрос о создании Молдавской автономной советской республики. Немало было у него больших, важных, государственно-значительных дел в Москве. И среди них — одно, маленькое, личное, никого больше не касающееся и все же такое, что, не уладив его, Котовский никак не хотел вернуться домой.
Дверь служебного карбышевского кабинета с шумом распахнулась настежь, и на пороге обозначилась богатырская фигура Котовского в красной фуражке на гладко выбритой, синеватой голове. Круглое лицо его улыбалось, темные глаза сияли тихим блеском душевной радости, атлетическая грудь, широкая, как поле, грузно дышала. Он протянул вперед руку и так шагнул с порога, что вмиг очутился возле самого Карбышева.
— Здорово, друг!
Объятия Котовского открылись в горячем порыве и сомкнулись вокруг Дмитрия Михайловича железным обручем, сминая в комок его низкорослую фигуру. Но тут же и разжались. Глаза богатыря округлились удивлением.
— Вон что! — наивно пробормотал он.
Карбышев засмеялся.
— А вы как думали?
Военный инженер, стоявший у окна, тоже смеялся. Он знал, как прочно сбит природой в костях и мускулах его невидный начальник, и сразу догадался: стоило Карбышеву расправить плечи в тисках Котовского, как тотчас же и ослабели тиски. Гость уселся в кресле и, поставив шашку с золотым эфесом стоймя между коленями, чрезвычайно похожими на изогнутые водосточные трубы, несколько времени молча смотрел на хозяина. Вероятно, он что-то вспоминал — знакомство, последнюю встречу, последний разговор… Вероятно, и обдумывал что-то: глаза его пристально разглядывали Карбышева. Наконец, сняв фуражку и положив ее на стол, он сказал:
— Кроме своей техники, наша Красная Армия еще одно оружие имеет: ленинизм. Собственно, чтобы найти себе руководителей по технике, я бы мог вас и не тревожить. До того ли вам, чтобы еще со мной возиться? Но ведь так получается…
Карбышев слушал с любопытством.
— Петроград переименован в Ленинград — и все. А этих ученых, как хотите, переименовывайте, — они сами собой остаются. Конечно, временно. Но пока — так. Вы же — дело иное. Беспартийный? Неважно. Партия вам доверяет, — чего же?
Карбышев уже давно догадался, куда клонит свою речь Котовский.
— Уж время-то нашлось бы, — проговорил он с живой готовностью, — да ведь от Москвы до Одессы…
Котовский вскочил с кресла и зашагал по кабинету, до хруста сжимая в пальцах тяжкие кулаки.
— Не надо времени. Я все обдумал. Вот как надо: вы получаете от меня письмо с просьбой выслать для решения военно-тактическую задачу… Да, да… Ту самую задачу, которую вы готовите для своих слушателей в академии. Вы мне ее высылаете. Я ее решаю. Затем отправляю решение вам. Вы проверяете мое вместе с прочими… Ну, ей-богу, разница небольшая! Одна-единственная лишняя задачка… Ну стоит ли об этом говорить, а? А?
Он смотрел на Карбышева темными, ласковыми глазами, безуспешно стараясь согнать с лица выражение просительности. В этих наивных стараниях было что-то подкупающее, прямо доходящее до души.
— Придумали, — лучше не может быть! — воскликнул Карбышев. — С Котовского и откроется в академии заочный факультет…
* * *
Котовский не ошибся адресом. Да и не мог ошибиться, так как получил адрес от Фрунзе. О педагогическом мастерстве Карбышева ходили широкие слухи. Как-то вдруг всем стало известно, что Карбышев — на редкость талантливый лектор; аудиторию держит в кулаке и так умеет изложить свой взгляд, что не согласиться с ним или не усвоить его просто нельзя. У многих было такое впечатление, что Карбышев наслаждается возможностью объяснять, учить. Очень, очень давно подбирался к этой возможности и, наконец, дорвался… Действительно он отдавался этому делу с необыкновенной страстностью. Отчитав положенные часы в академии, переносил учебные занятия к себе на квартиру. Во время экзаменов и зачетов слушатели валом валили на Смоленский бульвар за помощью и консультацией. Впрочем, и лекции Карбышева становились все интереснее, — рассказ сопровождался показом. Эпидиоскоп, модели, кино, всякого рода электротехника, слаженная умелыми руками Елочкина, положительно увлекали слушателей. Иногда демонстрирование перекочевывало из академии на инженерный полигон, в инженерные городки. Особенно поразительной казалась способность Карбышева упрощать тему: сложное не переставало быть сложным, но повертывалось к слушателям для распознавания своей простейшей стороной. Это никогда не было повторением задов. Где бы только ни возникло в военно-инженерном деле что-нибудь новое, Карбышев был тут как тут. Он не ждал, когда новое до него доходило, а сам искал и ловил его за хвост. И многие становились в тупик перед очевидной неисчерпаемостью запасов времени и энергии, которыми располагал этот человек. Кроме преподавательства в академии, — Карбышев вел еще две огромные работы: он был председателем технического комитета ВИУ и помощником начальника инженеров РККА.
Январь двадцать четвертого года отступил в прошлое. И суровая, знобкая, огненно-холодная зима встретилась, наконец, с теплым блеском первых, весенних дней. Как и всегда, весна в Москве началась с того, что вдруг загудел пронзительный холодный ветер и дул двое суток, загромождая небо густыми перьями рваных облаков. В ночь на третьи сутки ветер прекратился и пошел «парной» дождь. Снег синел, пышные сугробы оседали скользким, прозрачным настом, лед на реке вздуло зелеными пузырями. Дождь все усиливался. А когда через несколько дней затих, весна сразу обозначилась во всей своей ясности, красоте и силе.
Ветер усмирился и, словно стыдясь своих недавних бесчинств, осторожно залетал в открытые окна просторных комнат Второго дома Реввоенсовета, на углу Красной площади и Варварки. В надворном флигеле, налево, у окна, под вздувшимися, как паруса, холщовыми занавесками, сидели, разговаривая, Карбышев и Наркевич. Здесь помещалось военно-строительное управление РККА, и Наркевич был начальником технического комитета этого управления. Сюда, в комитет к Наркевичу, частенько заглядывал Карбышев в поисках демонстрационных материалов для своих лекций. Проекты оборонительных сооружений отлично годились для этой цели. Карбышев то забирал новинки, то приносил их назад. Вбегая, бросал на стол громадный, туго набитый, похожий на кожаную подушку портфель и сейчас же начинал говорить:
— Что? Усиление техники заграждений? Еще бы… Но согласитесь, дорогой Глеб, что пехота у нас все-таки беззащитна от танков. И рвы под масками, и цепи между бетонными трубами, и фугасы из снарядов, и мины Ревенского — все это в условиях маневренного боя — чистейшая утопия. А почему бы, я вас спрошу, не спроектировать нам легкие наземные фугасы, маленькие, плоские, как блин, — этакие шашки, почти незаметные, а? Танк наехал — гусеница перебита к черту, а больше ничего и не надо…
— Это, кажется, уже было…
Наркевич делал вид, будто возражает. Потеряв способность удивляться, он постепенно усвоил себе скучноватую манеру возражать во всех случаях, когда прежде удивился бы. Довольно часто встречаясь с Наркевичем, Карбышев давно заметил и эту его манеру, и то еще, что она странным образом соответствовала наружности Наркевича — горбинке на его тонком носу, жесткости упрямого взгляда, нервной подвижности пасмурного лица. Если Наркевичу даже и не хотелось возражать, он все-таки делал это, делая вид, будто возражает примерно так, как сейчас. И это тоже было хорошо известно Карбышеву.
— Знаю, — с удовольствием подтвердил он, — но не в том дело, что было сначала, что потом, а в том, чтобы вперед не опоздать. Вот ручные гранаты… Почему не использовать их как самовзрывные фугасы? И вообще, почему не применить подрывного дела для самоокапывания, для расчистки обстрела?.. Еще в четырнадцатом году введены были у нас в армии импортные прожекторы для освещения наземных целей, — помните?
— Помню. Да ведь они так и остались без употребления. Только в военных училищах…
— Тогда иначе и быть не могло. А почему бы нам теперь не снабдить войска легкими аккумуляторными прожекторами? Диаметр — маленький, но сила — достаточная… Пора, наконец, прожекторам стать на позициях не случайными гостями, а постоянными помощниками пехоты. И все это можно, можно… Знаете, о чем мне пишет Котовский?
— Не решил задачи?..
— Пустяки! Он другую задачу решает. У него в Бессарабской сельскохозяйственной коммуне уже пять тракторов. Делаем тракторы… Но ведь для наших военно-инженерных надобностей до зарезу необходим трактор! Да, да. специализированный, применительно к целям войны, трактор!..
Заговорив о военном использовании промышленной техники, Карбышев долго не мог остановиться. Поток неожиданных идей — одна другой оригинальней и завлекательней — изливался из него светлой волной. И так — до минуты, когда он с изумлением взглядывал на ручные часы.
— Что за комиссия! Никогда не хватает времени…
Он дергал ручку пузатого портфеля, устремлялся к двери. И уже от двери спрашивал:
— Кстати, Глеб, что сегодня с вами? Неужто опять Жмуркина встретили?
Зимой Наркевич шел по Красной площади и возле Гума лицом к лицу столкнулся с бойким человеком, похожим на «незабвенного» Жмуркина как двойник. Нервы Наркевича сыграли, и он явился на работу с совершенно испорченным настроением. С тех пор в разговорах с ним Карбышев к любой неприятности пришпиливал пакостное имя Жмуркина. Не будь эта условность веселой и беззлобной карбышевской шуткой, Наркевич давно бы почуял в ней обидные намеки на свой неизлечимый индивидуализм, на свое непобедимое филистерство. Но Карбышев умел шутить, не задевая. И стоило ему назвать Жмуркина, как Наркевич превозмогал в себе дурное настроение и улыбался. Так обычно бывало. А сегодня получилось иначе.
— Опять Жмуркина встретили?
— Представьте себе… да! — с досадой сказал Наркевич, — то есть, по крайней мере уверен, что это он…
Карбышев тряхнул портфелем.
— Жив курилка… Ну, и черт с ним! Главное, Глеб, все-таки не в этом…
— А в чем? — спросил Наркевич, внезапно понимая нелепость своего вопроса и болезненно краснея.
— В том, что вечно не хватает одного часа времени для работы и сотни рублей в кармане!
Глава двадцать девятая
Весной двадцать четвертого года Фрунзе был назначен заместителем председателя Реввоенсовета и Наркомвоенмора СССР. Вместе с тем на него были возложены обязанности начальника штаба РККА, начальника Военной академии и председателя Высшего военного редакционного совета. С этого времени он непосредственно руководил всем военным строительством СССР и реорганизацией Красной Армии. Итак, во главе Военной академии был поставлен талантливейший военный, ученый-марксист, превосходный организатор и несгибаемый большевик-ленинец. Это назначение со всей очевидностью свидетельствовало о том, как остро стоял в те времена вопрос подготовки высших командных кадров и какое кардинальное значение придавала этому вопросу партия.
За академию Фрунзе взялся без всяких промедлений. Сперва сделал доклад о перспективах строительства РККА и о задачах академии. Затем провел совещание о том, как должны проводиться в академии оперативные игры.
— Надо понять, товарищи, — говорил Фруняе, — что новое растет и требует выхода. Надо понять, что нужно идти нога в ногу с этим растущим новым, ибо в конце концов что же оно представляет собой? Сегодня в неясной, несколько путаной форме оно уже выражает и отражает в себе то, что завтра обязательно будет нашей общей правдой, нашей общей жизнью…
Его военные реформы шли этим же самым путем: решительно перестраивался армейский аппарат, формировались национальные части, составлялись новые уставы по всем видам оружия, внедрялась техника, создавался авиатрест, возникала химическая служба, и территориально-милиционная система организации армии ложилась в основу всех этих реформ.
* * *
Новый учебный год в академии Фрунзе открыл общим собранием, на котором произнес речь, а начальникам кафедр и преподавателям основных дисциплин предложил выступить с «декларациями».
Медленно поднимаясь по лестнице и мягко позвякивая шпорами на пушистом ковре, — Фрунзе числил себя по кавалерии и поэтому ходил с синими петлицами и носил шпоры, — он говорил своему неотлучному адъютанту:
— Меня очень интересует, что будут говорить двое… Азанчеев и Карбышев. Уж очень разные…
— Еще бы!
— Азанчеев — умен, хитер, но скептик, решительно ни во что не верит. А ведь ни во что не верить может только не вполне честный человек. Карбышев — прежде всего военный инженер. Однако не из тех, которые серединка на половинку: либо хорошие тактики с общевойсковым уклоном, но плохие инженеры; либо хорошие инженеры, но без боевого опыта и без понимания войсковых нужд. Карбышев — настоящий, полноценный военный инженер. Он и то, и другое; у него нет флюса…
На самом верху лестницы Фрунзе приостановился и после коротенькой молчаливой передышки вдруг сказал:
— Сергей Аркадьевич, вы слышали: Ногин умер.
— Да. Почему вы…
— Нет, я о том, что надо очень, очень спешить!
— Создавать командные кадры высокой квалификации с тем, чтобы они прочно стояли на платформе Советской власти, — говорил Фрунзе, — это одна из наших важнейших общегосударственных задач, товарищи. Когда можно будет считать ее решенной? Только тогда, когда мы будем иметь свою, советскую интеллигенцию, которая, владея техникой дела, являлась бы вместе с тем костью от кости пролетарского класса. Наша академия — кузница командных кадров армии. Ей, армии, нужен такой командир, который мог бы с одинаковым успехом и руководить и воспитывать. В его руках должен быть сосредоточен весь комплекс строевой, хозяйственной и партийно-политической работы. Когда мы дадим армии такого командира, принцип единоначалия получит в его лице наиболее полное и желательное осуществление.
Итак, академия должна готовить не просто кадры, а кадры, вооруженные передовой военной наукой, идейно преданные Родине и партии, сочетающие в своих возможностях уменье руководить со способностью воспитывать. Чем же должна быть академия для того, чтобы ковать такие кадры? Идейным центром советской военно-научной мысли. Но утверждать, что она им уже является, вероятно, не станет никто из присутствующих…
Фрунзе глядел прямо в лица окружавших его профессоров и преподавателей, перебирал бледными пальцами темную бородку и, закрепляя улыбкой неумолимость слов, говорил:
— Обучаете действию армий, групп армий, ведению войны в целом. Уже на втором курсе ставите военные игры в масштабе фронта. Корпусом и дивизией занимаетесь еле-еле, полком не занимаетесь вовсе. Но ведь к изучению вопросов ведения войны в целом, фронтов и армий не подготовлены ни ваши слушатели, ни вы сами, товарищи. И отсюда — схоластические дискуссии, вреднейшее верхоглядство. Что представляет собой «стратегическая тема» в нашей академии? Механическое перенесение старого в новое. Забудьте о старой Николаевской академии, товарищи. Здесь — корень вашего уклона в общетеоретическую, безжизненную сторону. Нельзя, чтобы стратегия оставалась стержнем академической подготовки, а общевойсковая тактическая подготовка отодвигалась на задний план. Главенствующее положение должно быть отдано тактике — работе над деталями и техникой проведения операций. Одни кафедры эту работу основывают на опыте мировой войны, другие — на опыте гражданской. Однако… это значит, что и те, и другие профессора смотрят не столько вперед, сколько назад. Нельзя так, товарищи, нельзя…
Из горьких фактов Фрунзе делал суровый вывод. Академия пестра по составу преподавателей, по взглядам, навыкам и традициям, господствующим в их среде, и потому служить идейным руководящим центром не может. Обращаясь к старым профессорам академии, он говорил тихо и твердо:
— Вам надо, товарищи, несколько объективнее, чем это иногда бывает, подходить к рассмотрению и оценке явлений современной действительности. Надо понять, что новое растет и требует выхода. Надо понять, что нужно идти в могу с новым. Необходимо служебную связь с академией пополнить связью идеологической. Что значит «служить» в нашей академии? Отныне это значит честно и до конца перейти на службу советской военной науке, стать не попутчиком, а ее истинным носителем. Я слышу вопрос: что я имею в виду? Я имею в виду, товарищи, решительный пересмотр вами вашего теоретического багажа и мировоззрения. Я говорю о том, что лишний груз старых догматов вам предстоит выбросить. Предстоит установить глубокую практическую связь с советской школой. Где основа этой связи? Марксизм-ленинизм. Многие, многие усилия как лучших специалистов старой армии, так и всего нового, молодого, свежего, что успела создать сеть наших военных академий, еще разрознены, не связаны, направлены вразнобой. Только марксизм-ленинизм способен превратить их в органическое целое. Характер будущей войны определяется политикой классовой борьбы между правительствами и внутри государств. Мировая война — банкротство старой военной науки…
— Неужели надо будет еще увеличивать число политических дисциплин? — спросил чей-то взволнованный голос.
— Зачем? — улыбнулся Фрунзе, — наоборот. Мы сократим их число. А в основу положим высшее достижение человеческой науки, — ленинизм. Поймите, товарищи: речь идет не о реорганизации учебной части, а совсем о другом. Речь идет о создании новой цельной системы подготовки командных кадров, которые стояли бы и в политическом, и в военном смысле на одинаковой высоте. Перед нами — линия последовательного перехода к осуществлению принципа единоначалия. Этим, собственно, и диктуются практические решения по всем задачам строительства академии. Я хлопочу не об устранении технических неполадок, а о совершенно новом направлении всего, что делается в академии…
Начальники кафедр выступали друг за другом и говорили, говорили… Некоторые высокомерно деликатничали; иные с трудом скрывали неприязнь; были и такие, что курили фимиам, но фимиам был бесцветен и не имел запаха. Все это были акробаты, умеющие ловко перевернуться на трапеции под куполом цирка и нелепо спотыкающиеся на гладком тротуаре.
Карбышев взглянул на Азанчеева. Физиономия Леонида Владимировича имела такое душеспасительное выражение, словно ее несколько часов подряд окуривали ладаном. Впрочем, от выступления он уклонился, — боялся гладкой мостовой. Что он мог бы сказать, выступая? Что он совершенно не согласен с Фрунзе… Что характер будущей войны определяется военной историей… Что мировая война есть главный источник военного искусства… Нельзя, нельзя… никак нельзя! Когда очередь дошла до Карбышева, он охотно встал и пошел к кафедре. Но по дороге усомнился: а следовало ли, в самом деле, выступать? Он был так согласен со всем, о чем говорил Фрунзе, что оставалось бы только сказать: согласен — и все. Собственно, так и вышло. Показав на нескольких очень выразительных примерах, что тактическая подготовка в академии строится исключительно на опыте прошлого, как будто будущего нет совсем, Карбышев лишь подтвердил одну из главных мыслей Фрунзе. Утверждая необходимость всяческого приближения точной инженерной науки к полевым общевойсковым условиям, подтвердил его другую мысль. И вообще, совершенно солидаризировался с Фрунзе…
Возвращаясь от кафедры к своему месту, Карбышев неожиданно ощутил какое-то почти физическое беспокойство и тут же разгадал причину. На него смотрел Азанчеев. Карбышев в первый раз видел по-настоящему азанчеевские глаза. Их взгляд не был ни умильно-искателен, ни бегло-лицемерен. В нем не было ни честолюбия, ни лукавства, глубоко осевших в душе этого человека. Имея отличный кусок мяса во рту, называемый в просторечии «языком», Азанчеев поостерегся пустить его сегодня в ход. И ненавидел сейчас Карбышева за то, что ему нечего и незачем было остерегаться. Под огненным укусом ненависти, исходившей из обычно подслеповатых, а теперь широко раскрытых глаз Леонида Владимировича Карбышев изумленно вздрогнул. Но все это продолжалось не дольше мгновения: глаза исчезли… и от взгляда не осталось ничего, кроме тонкого холодка под карбышевской лопаткой.
* * *
Академия преображалась. Организационная структура ее все дальше отходила от николаевского образца. Старые спецы усиленно трудились над составлением новых уставов для Красной Армии. Их плотная среда разрежалась; преподавательский состав пополнялся командирами с боевым опытом гражданской войны. Основой обучения на первом курсе становилась тактика в пределах полка; на втором — дивизии; на третьем — корпуса. Предметы объединялись в циклы. Во главе каждого цикла утверждался руководитель. Таким способом устранялась вредная разъединенность независимых одна от другой кафедр. Цикл стратегических дисциплин делился на две части: ученье о войне и оперативное искусство. Фрунзе впервые оформил систему знаний из области оперативного искусства как науку. Академия преображалась, делаясь, подлинным центром советской военно-научной мысли. И академическая партийная организация проходила самую серьезную политическую школу…
Одним из главных спорщиков в партбюро был Якимах. Он говорил много и складно, ярко поблескивая светлыми глазами и все круче вскидывая кверху упрямую голову, чтобы сбросить со лба падавшую на него прядь соломенных волос. Его слушали с напряженным вниманием. То, о чем он говорил, чуялось почти всеми, но первым заговаривал об этом Якимах. Часто речь шла о недостатках специальной подготовки. Еще чаще — о реакционных тенденциях профессуры. Это были очень важные вопросы. За верное их решение Якимах боролся с неослабевающей энергией.
В первое время он спорил резко и не щадя противников. И после таких споров у него бывал иной раз смущенный, вид. Ему казалось, что он наговорил лишнего, обидел, и он сожалел, что погорячился. По постепенно выработалась в нем особая сноровка борьбы, чрезвычайно облегчавшая задачу. От природы Якимах любил шутку и теперь пользовался ею как аргументом для доказательства. «Уж это ты брось психологию подсовывать, — говорил он, например, противнику, — дескать, лягну его ловким словом, а из него и дух вон! Как бы не так! Есть, брат, порох бездымный, а ты — бездумный порох, вот что!» И противник смеялся над собой вместе с Якимахом и легко отходил с позиции, приговаривая: «Стоп! И впрямь расскакался, точно блоха из мешка. Ну, да ведь ошибаться каждый может… Не спорю, товарищи, прав Петя!..»
В конце концов Якимах начал рассуждать так: «Что такое я? Последняя точка в нити, протянутой из ЦК в академию, — важная точка…» Этакий взгляд на себя прививал ему уменье разрешать все, без исключения, вопросы, общественные и личные, не просто, а с непременным расчетом: всякое решение обязательно и прежде всего должно было помогать действительному укреплению партийного дела в академии. Необходимость этого подхода тонко заостряла мысль Якимаха. Представители партийной организации — и он в их числе — ходили на квартиру Фрунзе, в Шереметьевский переулок, с докладами о борьбе за генеральную линию партии. Фрунзе внимательно слушал и сам говорил, довольно похрустывая пальцами рук. Затем многолюдные активы курсовых бюро с кипучей стремительностью вырабатывали безукоризненно правильные монолитные решения. И попутно со всем этим Якимах все больше привыкал спокойно и вдумчиво слушать, обдуманно и веско говорить, незаметно направляя в нужные стороны концы нитей, шедших от партии через него.
Держать экзамены приехало человек шестьсот. Из них двести споткнулись в мандатных комиссиях, триста — на экзаменах. Фрунзе сам подбирал состав слушателей. Романюта провалился на третьем испытании. Карбышев вмешался. Кончилось тем, что Романюта представил академическому начальству собственноручную записку Фрунзе: «Большой стаж в первой мировой войне. То же — в гражданской, когда командовал полком. Необходимо учиться». Курсовой староста Мирополов, с бородой во всю грудь, прослышав о записке, угрюмо вздохнул:
— Учиться всем необходимо. А вот что из того выйдет!..
Среди старых профессоров, которыми наградил академию дореволюционный генеральный штаб, были честные, умные, в настоящем смысле ученые люди. Но большинство состояло все же не из них. И это большинство очень плохо приходилось ко двору. После ошеломительной речи Фрунзе никто из них даже и не пытался играть в оппозицию. Наоборот, все они, словно по команде, принялись заискивать перед слушателями. Но умно и тонко заискивали лишь немногие; прочие делали это так открыто и прямо, что решительно никого ввести в обман не могли. Азанчеев сбавил в тоне, но и от прежних замашек не отказался.
Попрежнему приходил в академию гражданским человеком, — в пальто и фетровой шляпе. Лекции читал, конечно, в военном костюме; но домой уходил опять-таки «штрючком». Трудно сказать, насколько были справедливы гулявшие между слушателями рассказы об Азанчееве. Говорили, например, будто в старые «царские» дни, запершись дома, надевает он на себя мундир с погонами; будто приходят к нему в эти дни таинственные визитеры и обмениваются с ним поздравлениями, титулуя друг друга «вашим превосходительством». Вероятнее всего, что ничего подобного не было и рассказы были пустой выдумкой. Но что-то помогло этой выдумке родиться. Что?
Азанчеев ужасно не любил убеждений — не тех или иных, а просто убеждений, всяких, каких бы то ни было. Сам он был совершенно от них свободен. Но эта его свобода то и дело стеснялась убеждениями других людей. И Азанчеев еле переваривал всех, в чем-нибудь твердо убежденных людей. Слушатели чувствовали неладное, видели и отмечали в памяти все ошибки азанчеевского поведения; но основная причина ошибок оставалась для них непонятна, а легенды рождались, возникал целый эпос. Как-то после лекции Якимах догнал Азанчеева в коридоре.
— Товарищ профессор? Разрешите вопрос?
Леонид Владимирович с очевидным неудовольствием придержал свой твердый и осадистый шаг.
— Что вам от меня угодно?
Якимах начал докладывать, что пехотный корпус, по его мнению, мог бы и не делать обходного движения на Д., — об этом шла на лекции речь, — а выйти на коммуникации противника прямо через М., и тогда весь вопрос решался бы гораздо проще… Азанчеев слушал, внимательно разглядывая Якимаха. Да, этот краснощекий парень, с ворохом светлых волос на голове, не из числа благонравных сластунчиков, лучший способ обращения с которыми — снисходительная усмешка. Не то Васька Буслаев, не то… Ричард Львиное Сердце. А главное… главное заключалось в том, что Якимах был совершенно прав. Ответ Азанчеева прозвучал так же твердо и гладко, как все, что он когда-либо говорил:
— Вы правы. Но согласитесь, что мое решение гораздо… изящнее!
И, круто отвернувшись от Якимаха, пошел по коридору.
— Ну и… трубадур! — прошептал огорошенный Якимах, смотря ему вслед и собираясь с мыслями.
Впрочем, сквозь звон пустого красноречия, в котором «трубадуры» безжалостно топили все живое, прорывались совсем иные звуки. Например, деловито-торопливый голос Карбышева. Но после глупой истории с Азанчеевым и Карбышев не располагал Якимаха к откровенности и простоте. Было в его быстрой, маленькой фигуре что-то суховатое, даже жесткое. И невыгодность этих первоначальных впечатлений как бы подтверждалась его странной манерой острить без улыбки…
* * *
Постепенно до слушателей стали доходить глухие сведения о жестоких спорах между Карбышевым и Азанчеевым на заседаниях Военно-научного общества. Говорили, что поводом для споров послужила новая книга Азанчеева — «История русского военного искусства за последние два века».. Собственно, это были лекции, прочитанные автором еще зимой двадцать первого года старшему курсу академии. Книга состояла из четырех частей: эпоха Петра Первого, время Суворова, аракчеевщина, реформа Милютина. Написана была она таким туманным и нарочитым языком, что почти все попытки проникнуть в тайный смысл авторских рассуждений были безуспешны. Запоминалось одно. Из трехсот страниц текста не было ни единой, на которой не встречалось бы раз пять-шесть набившее оскомину выражение: «огонь и маневр». Рассказывали, будто споры на заседаниях Военно-научного общества именно с того и начались, что Карбышев, говоря о книге Азанчеева, съехидничал по поводу «Огня и маневра». А уже «трубадур» пошел в контратаку.
На самом деле все это было несколько иначе. Карбышев и Азанчеев не могли не спорить. Такие профессора, как Карбышев, уча молодежь военному делу, прививая ей свои знания, в то же время у нее учились, усваивая новую науку, которая привела революцию к военной победе. А такие профессора, как Азанчеев, не хотели ни учиться, ни учить. Как же было им не спорить? Азанчеев сидел на диване, Карбышев — в кресле. С виду казалось, что собеседников разделяет только столик с двумя стаканами чая.
— Все-таки это очень скверно, — сказал Карбышев, — что Военно-инженерная академия до сих пор в Ленинграде.
— Почему? — равнодушно спросил Азанчеев.
— Потому что между академией и Главным инженерным управлением нет органической связи. Мы ездим в командировки к ним, они — к нам. Но это не то, не то…
Карбышев глотнул горячего чая, обжегся и быстро поставил стакан на стол.
— Связь должна быть живой, тесной, непосредственной… Только тогда и можно будет по-настоящему использовать для совместной работы с инженерным комитетом профессоров и преподавателей академии. А высококвалифицированных людей там очень много. Один Величко чего стоит…
— Чего же, по вашему мнению, стоит Величко? Карбышев пожал плечами.
— Это вы и без меня знаете. Нельзя, никак нельзя, чтобы фортификация голодала на теоретическом пайке…
Азанчеев оживился.
— Лягаете теорию? Но ведь вы же слышали голос свыше: теория…
Повидимому, он собирался заспорить всерьез, так как вдруг стал похож на охотничью собаку: щелкал зубами и готовился схватить.
— Теория освещает путь практике. Вспомните, пожалуйста…
— Да помню, — быстро возразил Карбышев, — и знаю хорошо, что только та теория тактики есть истинная теория, которой можно практически обучить войска. Коли нельзя, так и теория — к черту. Тактика существует для войск. И уж надо прямо сказать, Леонид Владимирович, что под это мерило ваша «История военного искусства» самым конфузным образом не подходит.
— Предоставим судить об этом истинно ученым людям, — взвизгнул Азанчеев, — им это виднее, чем вам. Во всяком случае мой принцип «огня и маневра» не нуждается в ваших похвалах.
— Огонь и маневр — хорошо. Да ведь у вас-то другое…
— То есть?
— «Вода и маневр…» У вас это как у австрийских генералов, которые старались доказать Суворову, что он «неправильно» побеждает.
Надо сказать, что Карбышев тоже изменялся, когда спорил всерьез: вдруг начинал говорить, как бы забивая в шпалу костыль за костылем скорыми и ловкими движениями опытного путевого мастера.
— Вам, вероятно, известно, что у нас прежде называлось «стратегическим вензелем»? Выписывать «стратегические вензеля» — блуждать по карте вслед за пальцем дурака-генштабиста…
Карбышев вскочил с кресла, подбежал к доске, схватил мел и, сломав его при первом нажиме, мгновенно вывел какую-то замысловатую фигуру.
— Не угодно ли? Образец стратегических вензелей генерала Макка под Ульмом в 1805 году. Пока Макк выделывал эти вензеля, Наполеон огибал Ульм и заходил армии Макка в тыл. Чем дело кончилось, все знают.
— Вы не любите прошлого, — с горьким сожалением проговорил Азанчеев, — не любите.
— Как вам сказать? — усмехнулся Карбышев. — Можно любить прошлое, но уважать можно только будущее. Быт нашей старой армии был сверху донизу пропитан самыми нежизненными условностями. Правда, эти условности сдерживали армию от развала. Но вместе с тем они закрывали перед ней все пути к творчеству. Поиски нового были невозможны. Теперь мы отвергаем многое из опыта старой армии. Мало того. Мы вынуждены и себя и Красную Армию, сколоченную кое в чем из обломков старого, очищать от пыли веков. И самая основа наших научных знаний стала другой. Вместо лицемерных фраз о происхождении той или иной войны — Алая и Белая Розы, Испанское наследство, — вместо всей этой туманной чепухи, мы говорим о совершенно правдивых и реальных вещах: борьба классов, войны феодальные, империалистические…
— Так я и знал, — злобно ощерился Азанчеев, — все дороги ведут в Рим. Извините меня, но вы ровно ничего не смыслите в методологии. Поймите, наконец, что военное дело есть искусство, стоящее на высокой степени квалификации и пользующееся целым рядом наук, но своих собственных научных методов еще не имеющее… и потому…
— Поздравляю!
— Да, да! Именно так. Короче говоря…
— Попробуйте хоть бы и подлиннее, но только повразумительнее.
— Извольте. Объяснить в военном деле с точки зрения марксизма мы можем все. А вот научить военному делу марксизм отнюдь не может. Как и почему люди воевали в семнадцатом столетии, марксизм объяснит, но как нам сегодня разбить нашего противника — этого он не скажет. О том, как надо разрабатывать проблемы, связанные с характером будущих войн, мы ничего не узнаем от марксизма…
— Вы-то, наверно, ничего не узнаете.
— Почему я?
— Потому что приподнять землю можно, только сбросив вниз небо. А волхвам и пророкам военной науки заниматься этим не пристало. Следовательно, ваше дело — сторона. И вообще: долой жречество!
Так спорили в Военно-научном обществе Азанчеев и Карбышев. И не могли не спорить, так как один из них категорически отвергал, а другой все полней и полней постигал железную необходимость революционного преобразования военного искусства.
* * *
И на лекциях Карбышев воевал с кабинетностью. Свою фортификационную тему он раскрывал не иначе, как в самой тесной связи с общей оперативно-тактической обстановкой. И это делало ее очень интересной для слушателей.
— Соответствие фортификационных форм тактике войны должно быть первым законом, — говорил он, — а соответствие их видам вооружения — вторым. Прибавьте сюда численность армии, особенности технических средств борьбы, степень обученности войск, их дух и настроения, свойства местности, времени года, климата, — видите, как много условий, определяющих собой фортификационные формы…
Бородач Мирополов робко спрашивал:
— Как же теперь надо делать окопы?
— А как вы думаете?
Мирополов пыхтел.
— По современной форме…
— Туман! — вскипел Карбышев. — Туман! Что это за штука, — «современные» формы? Надо строить, во-первых, на нужном месте, во-вторых, быстро и, в-третьих, хорошо. Больше ничего Отжившее может вновь воскреснуть, чтобы затем смениться новым. Очень прошу вас, друзья: помышляйте не столько о «современных» фортификационных формах, сколько об их текучести, о чертовской их изменчивости. Грош цена теории, которая фиксирует одни шаблоны. Через шаблоны проникает рутина в жизнь. Фортификатор должен щупать руками реальную тактику борьбы. Тогда лишь сумеет он правильно вывести из нее необходимые фортификационные формы. Место фортификатора — на боевом поле, ибо действительные условия борьбы ясны только там, где их выковывает кузница боя…
Карбышев так говорил, что его нельзя было не слушать. И мысли его звонким потоком вливались прямо в сознание слушателей. Нельзя было не слушать, и не понять — невозможно.
— Вот положение дел: артиллерия атаки сильна, участок активный, стрелков и пулеметов достаточно…
Карбышев повертывался к Мирополову.
— Вы — командир батальона. Как бы вы…
Мирополов вскакивает. Да и у всех ушки были на макушке.
— Как бы вы приказали отрывать окопы? Поднимать? Опускать?
Мирополов был похож на рыбу без воды. Он молчал, красный, жадно глотая воздух.
— А вы? — спрашивал Карбышев Романюту, — вы — командир полка…
И Романюта вскакивал, но думал только мгновенье.
— Я бы окоп поднял.
Кто-то заспорил:
— А я к подошве спустил бы…
— Поднять окоп!
— Спустить!
— Ни-ни, — с шумом подскакивал на своей парте Якимах, — чем выше, тем верней! Факт!
Карбышев принимался разбирать предлагаемые слушателями решения. Слушатели были для Карбышева не только учениками, а еще и людьми боевого опыта. Он интересовался их ответами ничуть не меньше, чем они его вопросами. И получалось очень хорошо для обеих сторон. Грунт на вершине каменистый, а у подошвы мягкий, — окоп опустить, чтобы облегчить работу и уменьшить поражаемость. Рабочих нехватка, — окоп поднять, чтобы сократить таким образом протяженность ходов сообщения. Нет на вершине воды — опустить и т. д. и т. д.
— Какой же вывод, товарищи? Только такой: всякое расположение позиции правильно, если оно отвечает общей совокупности условий борьбы и особо принимает в расчет главнейшие из них.
Карбышев часто находил удивительно точные формулы для своих выводов.
— Искусство настоящего военного человека — в творческом уменье использовать нужное, пренебречь лишним, устранить вредное…
Или:
— Не должно быть никакого разрыва между «знаю» и «умею»…
А заговорив однажды о важности общего развития для военных людей, он выразился уже совершенно в духе классических афоризмов Монтеня[54]:
— Чем выше культура, тем прочнее блиндаж!
Главное Карбышев задиктовывал. Он знал по себе, что всякий текст, расчет или чертеж, вышедший из-под собственной руки, запоминается крепче печатного. Он расхаживал между партами и диктовал. Но казалось, будто он рассуждает сам с собой.
— Теория возникает из опыта, накопленного практикой, и сама служит основой для дальнейшего развития практических работ. До революции русская теория фортификации стояла на первом месте в Европе. Иностранцы многим успели попользоваться из сокровищницы наших фортификационных идей. Но русская практика не стояла, да и не могла стоять на высоте. Примеры: история порт-артурских укреплений; неподготовленность крепостей в пятнадцатом году. Гражданская война с очевидностью выяснила, что учить тактику и учить тактике — не одно и то же. Первое — дело инженеров, а второе — отнюдь не их дело…
Карбышев останавливался и как бы с изумлением прислушивался к своим, еще не окончательно отзвучавшим словам. Потом, будто спохватившись, принимался упрашивать слушателей.
— Вот уж это, последнее, не записывайте… Что? Записали? Тогда зачеркните, пожалуйста. Да так зачеркните, чтобы и следов не было. Мы-то с вами знаем не хуже чеховских фельдшеров, что «пульса нет», а товарищи военные инженеры нам этого ни за что не простят…
И сам Карбышев, и аудитория весело смеялись. Только Мирополов был мрачен: он ничего не понимал в происходившем. Уныние овладевало курсовым старостой всякий раз, когда он не понимал. А это случалось все чаще и чаще, и в конце концов уже не оставалось ничего, кроме постоянного: не понимаю! Особенно угнетала Мирополова слабость в математике. Для обучения методу расчета Карбышев применял символические фигуры, викторины, расчетные линейки и таблицы. Это помогало слушателям усваивать метод расчета и запоминать нормы в разных комбинациях их применения. Карбышев ни на минуту не забывал, что перед ним не инженерные работники, а общевойсковые начальники. Расчеты и нормы, овладения которыми он требовал от своих слушателей, были намеренно упрощены. Но и они оказывались в хитрой близости с арифметикой. Здесь-то и погибал Мирополов. Он покрывал доску колодками белых чисел, складывал, умножал, вычитал и делил, а высчитать, сколько надо колодцев на идущий в степь полк, никак не мог. Между тем Карбышев говорил:
— Делать расчеты, как они производятся в строительных конторах, нелзя, товарищи. Эту военно-инженерную бухгалтерию — прочь!
И объяснял, как делать простейшие расчеты. Но Мирополов не понимал…
* * *
Трудно приходилось также Романюте. Отсутствие систематической подготовки то и дело давало себя знать. К счастью, Карбышев был для Романюты своим человеком.
— Дмитрий Михайлович! Не ясно мне насчет окопных норм…
— Да что же вам не ясно?
Карбышев повертывал из коридора назад в класс и шел к доске.
— Что не ясно?
Он брался за мел и чертил, высчитывая и втолковывая.
— Ну?
— Так точно, понял. Спасибо, Дмитрий Михайлович!
Было в Карбышеве что-то, от чего не один Романюта, но и все шли к нему за помощью с легким сердцем. Все видели, как он хочет каждому помочь, чем сам владеет. Но главное заключалось даже и не в этом, а в необыкновенной карбышевской простоте.
Были среди академических профессоров доступные люди и кроме Карбышева. Однако доступность этих людей объяснялась общей широтой их натуры, а у Карбышева она возникала из коренных свойств его народного характера. Это была такая удивительная доступность, которая, нисколько не снимая с его облика черт суховатой подтянутости, походила вместе с тем на простецкую мудрость старого солдата. И эту доступность слушатели обнаруживали лишь в одном Карбышеве. Она-то именно и влекла их к себе и покоряла. Они домогались карбышевских консультаций и в академии — на лекциях, между лекциями, и вне академии, когда усталый профессор, с огромным, туго набитым портфелем, быстро шагал с Пречистенки на Смоленский бульвар, — домогались и безотказно получали их — ясные, четкие и обстоятельные советы решительно по всем вопросам своей учебной работы…
* * *
Как и всегда, перед выходом из академии, Карбышев позвонил домой и сказал Лидии Васильевне:
— Мать! Иду обедать. Голоден.
Обедали в два часа дня. Точно к этому времени, — хоть часы проверяй, — появлялся хозяин дома, и семья немедленно садилась за стол. Но на этот раз вышло иначе. Обед стоял на столе и четверть часа, и полчаса, и простыл, и в подогретом виде снова вернулся в столовую, а хозяина все еще не было. В тревожном ожидании протянулся час. Лидия Васильевна позвонила в академию. Ответили: давно ушел. Потянулся второй час, — томительно и глухо. Пробило четыре раза. «Да что же это такое? Случилось что?» Лидия Васильевна выскочила в переднюю — одеваться и бежать к академии, разыскивать пропавшего мужа. На больших глазах ее дрожали слезы испуга.
Дверь отворилась, и в квартиру, стуча мерзлыми сапогами и крутя головой, чтобы сбросить с козырька подушку снега, вбежал Карбышев.
— Дика, почему ты шел из академии целых два часа?
— Так получилось, мать… Только вышел — встретил одного. Дал консультацию насчет инженерного обеспечения наступательного боя: дорожно-мостовые работы… переправы… сроки… скоростные методы… Прошел полквартала — другой. Опять: продвижение боевых порядков… разграждения… маскировка… Хорошо! Вдруг — третий…
Позади Карбышева белела занесенная снегом фигура и смущенно улыбалось круглое лицо Якимаха.
— Вот этот… О новых идеях в области военно-оборонительного дела: лес — наша крепость. Как быть? Я и захватил его с собой. Пообедаем, за обедом поговорим…
Черноглазая Лялька с любопытством разглядывала Якимаха. Когда он звонко оббил сапоги о порог, снял шинель и шапку и встряхнул головой так, что светлые волосы копной встали над теменем, она потихоньку подошла к нему, взяла его за руку и сказала:
— А знаете, в соседней квартире мальчик объелся масляной краской…
Якимах ей понравился. Лидия Васильевна, неутомимо наблюдавшая за поведением Ляльки, всплеснула руками. Но девочка даже и не заметила:
— Папа на службе — один человек, дома — совсем другой, очень веселый. Это он сам говорил…
Когда садились за стол, Карбышев сказал, подвязывая у шеи салфетку и как бы продолжая речь дочери:
— Каждому из нас, товарищ Якимах, нужно быть виртуозом в своем деле. Я еще не виртуоз, но хочу им стать непременно и вам советую. Так или иначе, военно-инженерное дело — моя жизнь!
Звякнули рюмки, и горячий, белый пар, вырвавшись из суповой миски, сладко защекотал в ноздрях…
Глава тридцатая
Карбышев стоял у окна своего домашнего кабинета и смотрел на светлый простор холодного новогоднего утра. Почти все небо было чисто. Только далеко сбоку виднелась груда медленно удалявшихся туч.
Яркое и солнечное утро предвещало прекрасный зимний день. Город сверкал инеем; крыши домов, деревья и даже обочины мостовых — все казалось прикрытым гирляндами снежно-белых цветов и отдавало каким-то розоватым сиянием. Хорошо… очень хорошо!
Карбышев не любил праздников за странное, сбивающее с толку, неприятно-тревожное чувство: вдруг почему-то никуда не надо идти, можно не торопиться, можно даже просто ничего не делать. Этакая чепуха! Нынешний Новый год совпадал с воскресеньем — занятий не было нигде, но не из-за Нового года, а из-за воскресенья. Между тем думалось именно о новом годе…
С утра, еще до кофе, пока все спали, Карбышев потренировался у себя в кабинете на подвешенных к потолку кольцах, затем — перед пристрелочной карточкой на оконном стекле — раз пятьдесят выкинул руку с револьвером, достигая абсолютной точности прицелки. И теперь, стоя у окна, думал о новом годе — о новом, посредством старого. Когда западные армии пользовались в подрывном деле еще только порохом, русские военные инженеры уже умели подрывать электричеством. Русский военный инженер генерал Шильдер изобрел подводную лодку девяносто лет тому назад, и она была неизмеримо лучше фультоновской. Но потом все у нас остановилось.
К концу первого года мировой войны французская фортификация выступила с многополосной и многолинейной позицией. У нас пришли к тому же весной шестнадцатого года. Все менялось: и способы, и средства ведения войны, и строительная техника. Прорыв позиций сделался почти невозможным. Атака изобретала новые способы прорыва. И тогда возник танк. Шестого августа восемнадцатого года лавина танков обрушилась на ошеломленных немцев под Амьеном. За два часа были опрокинуты семь немецких дивизий. Людендорф жаловался потомству: «Этот день был черным днем для германской армии». Уже и в то время Карбышев отлично понимал, что необходимы новые возможности непосредственного участия инженерных войск в обеспечении боя. Иначе…
Лялька стояла на пороге кабинета, в розовой рубашонке, протирая смуглыми кулачонками черные звездочки сонных глаз.
— Папа, я сейчас во сне видела… А почему от конфет всякая боль проходит?
Почему бывают иногда у ребят такие необычайно серьезные лица? Почему такая недетская сосредоточенность бывает в их глазах?.. Почему, чем меньше ребенок, тем солиднее и основательнее его повадка? И почему над этим смешным иной раз бывает невозможно смеяться? С самого раннего детства Лялька любила играть и «водиться» с мальчишками. И отец был для нее таким же «мальчиком», как многие другие. Только теперь начала она постепенно различать в нем друга.
— Папа, будем менять воду в аквариуме?
Друзья, не откладывая, принялись за дело. Вода, журча и пенясь, полилась в ванну. Когда она дошла до половины, рыбки запрыгали из своей маленькой зеленой трущобы в это широко волнующееся море. Стеклянный ящик унесли на кухню, сперва осторожно опростали, потом снова наполнили свежей водой. И тут — главное, самое интересное. Засучив до локтя рукава сорочки, Карбышев вооружался сачком и приступал к ловле рыбок, весело нырявших туда и сюда и ловко уходивших из-под сачка. Лялька суетилась возле ванны, следя за охотой с живейшим восторгом.
— Папа, — кричала она, — да как же ты не видишь, — золотая ушла… Какой умный вуалехвост, сам просится домой… Папа, папа… Дай мне, дай… Я…
— Что вы тут делаете? — спрашивала из коридора Лидия Васильевна.
— Руки и глаза, — отвечал Карбышев, — наши первые учителя, мать!
* * *
Карбышев не любил «большой» музыки и поэтому редко бывал в опере. Но романсы и песни признавал и сам превосходно высвистывал «Чайку». После завтрака он сидел в кресле с газетой и свистел — не «Чайку», а что-то другое:
Читая в утренней газете
О том, что делается в свете,
Так думал мистер Джон…
Струя холодного воздуха из форточки донеслась и заставила его вздрогнуть. Измерзшийся на всю жизнь в кадетском корпусе, он не боялся морозов и в самые жестокие холода щеголял в легкой солдатской шинельке, никогда не поддевая под нее ничего теплого, но открытые форточки ненавидел.
— Мать! — подал он возмущенный голос, — прошу покорно: никаких форточек, никаких воздухов!
Лидия Васильевна наводила в квартире порядок и только что принялась за чертежный стол.
— Да ведь пыль…
— Скоро ты мне нос будешь тряпкой чистить…
— Дика! — тихо сказала Лидия Васильевна.
— Что?
— Дика! Мне скучно…
Это с ней бывало — правда, не часто, но все-таки бывало. Карбышев подумал.
— Что ж? «Душистая» жена — одно, а просто жена — другое. Мне «душистая» жена не нужна. Выходи замуж!..
Лидия Васильевна взглянула сверх газеты в любимое лицо — сейчас оно хитро-хитро улыбалось — и бесстрашно спросила:
— За кого?
— Хоть за Батуева. Молод, красавец, ум на диете…
— Мама, не смей выходить за Батуева! — отчаянно закричала Лялька, — мама, не смей!..
— Не выйду, не выйду, цыпленок! И в самом деле, франт бульварный, публичный мужчина какой-то…
— Ха-ха-ха! Хорошо сказала, мать!
Звонок разлился из передней по квартире, и Лялька бросилась встречать. Вернулась, торжествующе сигналя кудрявой головкой.
— Это — он.
— Кто?
— Публичный мужчина!
* * *
Было время, когда Карбышев считал Батуева вовсе никчемным военным инженером. Но мало-помалу выяснилось, что это не так. Совершенно ни к чему не пригодных людей не бывает. И Батуев, беспомощно терявшийся в поисках тактически правильных фортификационных решений, нашел-таки свое место, когда его назначили начальником подмосковного инженерного полигона. Правда, и здесь он не проявлял сколько-нибудь заметного организаторского таланта, но в технике копался не без успеха. Мелкие свойства одаренности Авка как-то мало соответствовали лежавшему в его кармане высокому академическому диплому, и поэтому был он похож на строителя блюмингов с ухватками изобретательного часовщика.
Но теперь, когда Карбышев вернулся к идее «перекати-поля», вдруг открывшаяся в Батуеве способность к малой технике приобрела в его глазах особый интерес. Чаще всего они встречались на полигоне, куда Карбышев привозил своих слушателей для занятий; иногда же, как, например, сегодня, и Батуев заглядывал на Смоленский бульвар. Собственно, то, над чем работал теперь Карбышев в свободные часы, давно уже не было прежним «перекати-полем» и называлось оно иначе: «невидимкой». Опыт мировой войны был подытожен Карбышевым в «перекати-поле». Когда к этому итогу прибавился опыт гражданской войны, родилось несколько окончательных выводов. Первый: если все, что видит глаз артиллерийского наблюдателя, осуждено на гибель, то, стремясь уцелеть, «перекати-поле» должно стать «невидимкой». Второй: если укрепленной позиции всего труднее устоять перед дьявольской силой танковых атак, то «невидимка» должна задержать танк. Как? Может быть, намотаться на гусеницу, заклинить колесо. Может быть, подорвать ход. А может быть…
Но трудности вставали перед Карбышевым, как глухая стена. Он попробовал заговорить о них с Батуевым. Тот выпучил глаза.
— Почему это всякое новое понятие, Авк, — рассердился Карбышев, — приходится вбивать в вас, как сваю, почему?
Не вдруг Батуев понял. Зато, поняв, сразу высказал несколько дельных, конструктивных соображений. Хозяин и гость сидели за чашечками кофе, как в доброе старое время, когда в солидном доме появлялся новогодний визитер. Но капсюли и взрыватели — странная тема для бесед с визитерами.
— До сих пор, например, — горячился Карбышев, — нет у нас дорожного фугаса. Маленькая, пустяковая штучка, а ведь как надо! Пусть только оторвет у лошади копыто, — все! Дальше лошадь не пойдет. Повредит человеку пятку, — стоп! Надо же изобретать, товарищи! Надо помогать инженерному перевооружению армии. Какой-то проходимец Гитлер объявил себя в Германии вождем национал-социалистской партии. Кто знает, что надвинется за ним на Германию, а оттуда — на нас? Надо изобретать!
Карбышев взывал к Батуеву, потому что чуял в нем счастливую способность, которой не находил в себе. А Батуев слушал и думал: «И как не надоест!»
— Человек, фантазирующий в области техники, — говорил Карбышев, — одинаково близок и к ученому, и к поэту. Яблочков в электротехнике — то же, что Галилей в механике или Пушкин в поэзии. Сильные умы встречаются куда чаще, чем богатая фантазия. Когда она взлетает, люди, лишенные воображения, становятся в тупик. — «И откуда это берется?» — Но мы-то с вами знаем, откуда. Изобретайте, Авк, прошу вас, изобретайте!..
Батуеву становилось все скучней. И все чаще спазмы неудержимых зевков пробегали по его красивому равнодушному лицу. Наконец, гладко выбритая, слегка длинноватая верхняя губа Карбышева дрогнула в кривой усмешке.
— Кроме всего прочего, ведь за это еще и деньги платят, Авк!
* * *
Назначение Фрунзе Наркомвоенмором и председателем Реввоенсовета СССР оставило Карбышева без привычного непосредственного руководства. Однако направление, в котором Карбышев развивал теперь свою педагогическую работу, настолько определилось и закрепилось, что едва ли нашлась бы в академии сила, способная ему мешать. Так по крайней мере казалось…
Лекционная часть целиком лежала на Карбышеве. Групповые занятия проводились преподавателями, которых он старательно инструктировал. Он же составлял для них методички. А наиболее слабую группу вел сам. Слушатели решали задачи по инженерному обеспечению боя то в роли командиров, принимающих от инженера доклад, то в роли инженеров, докладывающих командиру своя планы. Упражнения сплошь и рядом выводились из класса на песок или на поле. Как человек, всегда готовый к делу, Карбышев никогда не торопился и везде поспевал, никогда не опаздывая. Скоро его необыкновенная точность вошла в пословицу; по нему проверяли часы, ставя их на десять-пятнадцать минут вперед. Поражала еще его неутомимость. Даже вечера слушателей он занимал своими заданиями по составлению проектов инженерного обеспечения боя с последующей защитой в аудитории. Именно критику и защиту проектов беспокойный профессор считал самой ценной стороной групповых занятий.
На этих занятиях отличался Якимах. Карбышев говорил о нем на совете: «Богатырская натура с энергией, с волей… Надо только будить, поднимать, разжигать в нем благородную сторону его честолюбия, и тогда — будущее за ним!» Хуже всех на курсе шли дела у Мирополова. Да и Романюта все чаще заглядывал в лицо печальной правде. С практическими дисциплинами он справлялся и даже не без некоторого успеха. Но на теории резался систематически и безнадежно. Постепенное углубление стратегических тем мало-помалу загоняло его в тупик. Люди, удачливые от судьбы, действуют в жизни рискованно и бесшабашно. Люди же, счастливые от самих себя, то есть те, которым счастье далось нелегко, наоборот, осмотрительны и осторожны. Романюта был осторожный и благоразумный человек. «Ясно, чего не хватает, — думал он, — систематической подготовки и знаний, уменья широко охватывать то, что видишь и слышишь…» Все чаще испытывал он странное чувство, — как у голодного, которому так сильно хотелось есть, что, кажется, гору съел бы, а очистил тарелку с кашей и — сыт. Год назад Романюта проглотил бы академию со всей ее наукой. А теперь ответит профессору на вопрос и как будто из пушки выстрелит: без новой зарядки пусто в голове. Когда-то романтика была главной, почти единственной основой характера Романюты. Да и теперь он не утратил завидной способности мечтать. Но рядом с ней уживалось в нем новое — здоровый, прямой и честный пролетарский реализм. Другой бы на месте Романюты не обошелся без терзаний: «Спи, моя фантазия, моя гордость, мое „я“! А Романюта обходился…
…Под потолком читального зала Ленинской библиотеки поблескивали люстры. Романюта стоял на хорах — тоже под потолком. Внизу, как хлебное поле по ветру, стлалась живая перспектива разноцветных голов, склонившихся над книгами. Люди и книги… книги, книги… Романюта знал, что в тесной близости с ними — огромная радость. Однако кто же помешает и впредь его близости с книгой? Главное — труд и верная направленность труда идеей. Именно из идейности возникает настоящая романтика жизни. Идейностью расчищается для романтика путь. Одно дело — работать с направляющей помощью книги; другое — работать над самой книгой. Все способны на первое, а на второе — далеко не все. Романюта — «все». В этом незаносчивом и трезвом самоощущении, собственно, и заключалась гарантия для принятия обдуманно-верных, пролетарски-правдивых решений.
С хор Романюта прошел в курилку. Столпившиеся здесь люди казались синелицыми — так плотны были клубы гулявшего по комнате дыма. Но люди выбрасывали из себя все новые и новые клубы, кашляли и в высшей степени энергично вели перекрестный разговор. Романюта закурил и стал у окна, глядя через двор, через переулок, куда-то очень далеко. И, как всегда в такие минуты, особенно отчетливо вспоминались почему-то деревня, родичи, Марилька и дети. Эх! Да, конечно, романтик все еще жил в нем. Но принимал практические решения и действовал не романтик, а реалист…
* * *
В один из апрельских, полных прохладного блеска, солнечно-светлых дней в квартиру Карбышевых ввалился совсем неожиданный гость. Дмитрий Михайлович был с утра на подмосковном полигоне. Как когда-то в Самаре, так и теперь Лабунский возник перед Лидией Васильевной, словно из небытия. Но только на этот раз появление его не было ни тихим, ни жалким. Наоборот, он ворвался в квартиру веселый, шумливый, весь обвешанный странными покупками: куклы, детские велосипеды, лошади на колесиках, мячи и обручи для игры в серсо и множество других предметов подобного рода.
— Уф! — хрипел он, складывая свою ношу в угол передней, — Лидия Васильевна! Как я… счастлив! Ищу приют. Дитя без крова над головой… Хотя бы на кухне… День-два, не больше, клянусь!
И он кинулся целовать руки хозяйке.
— Позвольте, позвольте! — говорила Лидия Васильевна, — но ведь у вас же в Москве есть квартира — на Садовой…
— Тю-тю! — хрипел Лабунский, вытирая платком белую полосу лба на загорелом лице, — целая история…
— Неужели?..
— Именно, именно. Разошлись… Ведь вы, наверно, слышали про мокрое полотенце? Вот, вот… Оно самое… Согласитесь, — не могу же я…
Он, отдуваясь, вошел в столовую и так плюхнулся на стуле, что стул пискнул всеми суставами.
— Не могу же я, особенно в моем новом положении…
— В новом?
— Тоже не знаете? Эко диво!
И Лабунский пустился объяснять, в силу каких именно обстоятельств вызван он в Москву, какую именно высокую должность в военно-инженерном ведомстве ему предстоит занять, как именно важно теперь, чтобы все вокруг него было чинно и благородно.
— Жены приучили меня к беспорядку. Да и по природе я несколько склонен к… рококо. Но согласиться на мокрое полотенце не могу! Нет, Лидия Васильевна, дорогая, — любовь уносит время так же, как время уносит любовь. Довольно! И вообще — выхожу в люди. Слыхали, что ГВИУ разделили на два управления? Военно-строительное и военно-инженерное — в Гуме. Дмитрий Михайлович председатель технического комитета… А я…
Он вскочил и журавлем зашагал по столовой.
— Теперь, пожалуй, помирю Карбышева с его начальством…
— А разве они в ссоре?
— Приблизительно. Дело, видите ли, в том, что муж ваш подмял под себя ужасно много всякой чепухи: и подрывное дело, и радио, и транспорт, и оборону. Все это, кроме фортификации, более или менее далеко выходит за пределы его горизонтов. Но он хватается решительно за все, чудовищно раздувает планы и, как Савонаролла какой-нибудь или протопоп Аввакум, упорно твердит о творческой функции своего комитета. Вечно с гигантским портфелем, до отказа набитым проектами и предложениями разных Елочкиных. Пашет, сеет, боронит, а почва-то в Гуме — самая не-пло-до-родная, ха-ха-ха! И получается: с одной стороны, необычайно смелые доклады, а с другой — слоновья болезнь. Мне, например, известно, что на прошлой неделе ваш Дика после битвы с кабардинцами выскочил таким козлом из начальственного кабинета, что даже фуражку забыл. По Красной площади без головного убора…
Едва ли Лабунский просто врал, как холостяк. Было в его рассказе нечто тревожное. И Лидия Васильевна совершенно ясно почувствовала это, когда он повторил:
— Помирю, помирю… Уж я их по-ми-рю!
— А что у вас за игрушки? — спросила Лидия Васильевна. — Для кого?
— Хм! Собственно, это не игрушки, это — орудия практической политики…
— Что?
— Ну да одно из вновь открытых мною средств завоевания человеческой преданности. Среди моих подчиненных в округе было много женатеньких. И почти у каждого — потомство. А у меня такой был заведен порядок, что новорожденных, как правило, октябрил я. Результат: умягченные сердцем, искренне признательные родители готовы за меня в огонь и в воду. К сожалению, приходится поддерживать дурацкий фасон — рассылать от времени до времени октябрятам подарки. Уж тут ничего не поделаешь. Зато есть на что, в случае надобности, опереться, — стена. Не прин-ципи-ально? Господь с вами![55] Ведь никто ничего не требует, кроме одного: утром закупил — к вечеру отправлю. Куклы для девочек, лошадки для мальчиков…
Его мутный взгляд упал на курчавую Лялькину головку.
— И еще кое-что для…
— Мне — медвежонка, — сказала Лялька.
После завтрака Лабунский сидел на диване и, когда Лидия Васильевна проходила мимо, ловко хватал ее руку и чмокал, поднося к губам.
— Бетонная голова, — говорил он о себе, — ей-богу! Сперва влюбляюсь, потом женюсь, и получается, черт знает что!
— А как же надо?
— Наоборот. Сперва жениться, а уж потом…
— Ай!
— Что такое?
— Совсем забыла. У меня горит кекс в плите…
Лабунский посмотрел вслед убегавшей Лидии Васильевне и подумал: «О чем бы ни заговорить, обязательно свернет на масло». Но он ошибался. Когда Лидия Васильевна вернулась, он сказал:
— Почему судьба-цыганка не наградила меня такой женой, как вы? Эх, нет гитары!
Дай, милый друг, на счастье руку,
Гитары звук разгонит скуку,
Забудь скорее…
— Эх! Почему? Почему?..
Лидия Васильевна засмеялась.
— Бросьте, Аркадий Васильевич, толковать про любовь. Лучше мужу пакостей не делайте…
Лабунский привскочил на диване.
— Что? Вот они, сплетни! Да я же вашего Дику люблю — это, во-первых. Во-вторых… Был у меня в прежние времена денщик. Улещивает бывало девку и шепчет: «На гадости вовсе не способный я!» Вот и я — тоже… Ха-ха-ха!..
Когда Карбышев вернулся из Бабина, Лабунский уже исчез: умчался отправлять подарки своим октябрятам. Выслушав доклад жены, Дмитрий Михайлович задумался.
— Да примерно так и есть. Придется осесть целиком в академии. Что ж? Настоящее мое призвание — именно там.
У него тоже были новости.
— Нет, мать, боженька есть, боженька есть…
— О чем ты?
— Нанял для тебя в Бабине дачу у священника.
Лялька стояла возле отца, крепко прижимая к узенькой груди пышного медвежонка.
— Папа, а почему дикие звери не укусили бога, когда он их сотворил?
* * *
Азанчеев и Лабунский встретились у почтамта. Трудно сказать, что их так бросило друг к Другу, почему они так крепко жали друг другу руки, так дружески улыбались, так долго разговаривали на углу и, наконец, словно не в силах ни кончить разговора, ни разойтись, свернули на бульвар, вышли к Чистым Прудам, сели здесь на скамейку и опять говорили, говорили… Ни деятельность, ни характер, ни воспитание, ни вкусы, ни привычки этих людей — ничто бы, кажется, не должно было сближать их. Все положительные элементы общности отсутствовали в их отношениях. И все-таки взаимное тяготение, какая-то странная заинтересованность друг в друге были налицо. Сидя на скамейке, они говорили о Карбышеве.
— Сухой человек, без широкого политического развития, без настоящего кругозора, — повторял Азанчеев, — типичный солдафон. «Слушаюсь!», «Никак нет!..» Пехотный дух неважного качества, потому что так называемая дисциплинированность подобных людей идет не от военного воспитания, а от натуры. Узенькая натура: карьера, семья — вот цели, высших целей нет…
— И при том редкая способность комарам клистиры ставить, — хрипло засмеялся Лабунский.
— Возможно… Физически мелок, духовно мелочен. Никакой сердечности. Я слышал от многих его подчиненных, что после разговора с ним обязательно остается ощущение приниженности. Что? Когда-то и вы испытывали это на себе? Вот, вот… В академии у нас дело дошло до того, что слушатели просто не выдерживают его гнета и бегут. Какая-то шизофреническая неуемность в работе: нахватывает группы и вместо того, чтобы вести кафедру, читает до одурения. Ни одного доклада, ни одного заседания ученого совета — без него. Помилуйте! Я как-то спросил его: «Зачем вам нужен этот размен?» Отвечает: «Не могу иначе. Меня слушают, и я должен сделать все, чтобы осаперить как можно больше наших общевойсковых командиров». Как вам нравится этакая прыткость? Вы только подумайте…
— И думать нечего, — сказал Лабунский, — брехня и вздор. Ему нужны деньги.
Он живо повернулся к Азанчееву.
— А ведь если мне удастся выжить его из ГВИУ, он, пожалуй, еще глубже врастет в академии?
— Нет, — сказал Азанчеев, — не врастет.
— Почему?
— Я не допущу.
— Каким образом?
Вместо ответа Азанчеев помолчал и потом спросил:
— Слушайте, могу я считать, что мы говорим совершенно откровенно, как настоящие друзья?
— Вот моя рука…
— И… рука руку моет?
— Точнее, Леонид Владимирович, точнее…
— Как — точнее?
— Рука руку марает… Ха-ха-ха!
Азанчеев сморщился и спрятал глаза.
— Может быть, того, что вы сейчас сказали, достаточно, чтобы меня обидеть. Но чтобы мне обидеться, — на сей раз мало. Однако вот вопрос: я положительно не знаю, что о вас думать, Аркадий Васильевич?
— А что думаете?
— Или вы нездоровы, или… редкий пошляк!
— Почти угадали. Я — самый здоровый из пошляков. Ха-ха-ха! Наконец-то мы говорим с полной откровенностью. Итак, вы намерены пресечь окончательное внедрение в академию нашего общего друга. Каким образом?
— Письмом к товарищу Фрунзе. В этом письме я укажу на уходящих из академии слушателей. Назову тех из них, кого знает и ценит Михаил Васильевич…
— А есть такие?
— Да. Романюта…
— Подходяще, — сказал Лабунский.
— Вы полагаете?
— Л-ля-ля… Похоже, что мы и впрямь повыпустим теперь сок из Карбышева.
* * *
Надо было проверить «невидимку», с таким трудом выпестованную из старого «перекати-поля». Карбышев решил это сделать на учебно-маскировочных маневрах за Филями, у Давыдковой рощи. Проверке надлежало произойти неофициально. Помогать Карбышеву взялся Елочкин, недавно назначенный начальником академического инженерного кабинета, а из слушателей был осведомлен о секрете только один Якимах. Проверять на маскировочном ученье действие взрывателей Карбышев не считал удобным. Другое дело — та часть препятствий, которую можно было неприметно включить в общую систему учебной маскировки, — Елочкин почему-то называл ее «драже». Роль посредника со стороны обороны играл Елочкин. Он и Якимах ухитрились так поставить «невидимку», что сюрприза этого положительно никто не ожидал. Карбышев не без волнения думал о результатах проверки: выйдет — не выйдет. От этого многое зависело. Его взгляд на себя, как на изобретателя, должен был или окрепнуть или, наоборот, упраздниться. Убеждение в правильности отвоеванных для технического комитета творческих задач — тоже. И самой проповеди «надо изобретать, товарищи!» предстояло зазвучать по-иному…
Карбышев был в Давыдкове за полчаса до первой атаки. Поле еще не было оцеплено, когда проверка уже фактически началась. Первым нарвался крестьянин, бойко гнавший по пыльному проселку толстобокую белопеструю лошадку. Крестьянин сидел на телеге, свесив вниз ноги в тяжелых выростковых сапогах. Якимах закричал:
— Дядя, вертай назад, не проедешь!
Но крестьянин свистел кнутом, ухмыляясь.
— Еще чего… Чай, я сам сапер старый!
Вдруг лошадь стала, словно в землю вкопалась. Крестьянин спрыгнул с телеги и громко ругнулся, белея от испуга:
— Раздуй те горой!
И в его прочные сапоги на гвоздяной подошве тоже вцепилась незримая сила. Ноги отказались служить.
— Паралик!
Кругом толпились слушатели и звенел смех. Загадка разгадывалась. Сперва вызволили из беды «старого сапера», потом — лошадь с телегой. Не теряя ни минуты, отчаянно крутя то кнутом, то головой, старик начал быстро подаваться в сторону с проселка.
— Эко диво! Видать, сколь теста ни будь, а без дрожжей не выпечешь!
Посредник со стороны атаки выскакал верхом к месту происшествия.
— Товарищ, осторожней! — закричал Якимах.
Не тут-то было: конь рухнул на колени, и посредник кульком перемахнул через его голову.
Наконец, слушатели пошли в атаку. Елочкин стоял с секундомером, засекая минуты. Карбышев — рядом. Атака катилась мимо. По цепям бежали горячие споры:
— Дальше!
— Нет, ближе!
— А я говорю, — дальше…
«Ближе» осталось позади; до «дальше» еще предстояло добраться. Вдруг волны атаки налетели одна на другую; задние навалились на передних, а передние кувыркались, с хохотом пытаясь вырваться из незримых силков и звонко крича восторженное «ура!». Кто-то рявкнул:
— Ножницы!
И, действительно, вокруг защелкали, зазвенели ножницы…
— Ха-ха-ха!
— Ура! Ура!
Наконец и сам Карбышев закричал:
— Ура!
* * *
Хмурый день подходил к концу, и небо пряталось за густым одеялом из темных грозовых туч. Выйдя из наркомата на Знаменку, Романюта несколько минут стоял неподвижно. Потом медленно дошел до угла Арбатской площади и постоял еще здесь. А уже затем ринулся через площадь и дальше переулками на Смоленский бульвар.
Он ничего не понимал в том, что с ним случилось. Зачем его вызывал к себе Фрунзе? И почему так много расспрашивал об академии, о том, как идет учеба, как ведут занятия профессора — Азанчеев, Карбышев и другие. Для чего допытывался, не уходит ли Романюта из академии потому, что некоторые профессора из стариков загоняют молодежь в пузырек? Странно… И откуда только могло все это взяться? Да разве уже такое важное дело, что какой-то командир полка сунулся, очертя голову, в омут большой науки, а потом одумался и дал ходу назад? Всех трудней из профессоров Азанчеев, а Карбышев… Если кто и тянул Романюту, так именно Карбышев. Но ведь наука — не яма, из которой можно человека вытянуть за волосы. И не один Романюта костьми лег. Есть еще — Мирополов, много других. А вызвал Фрунзе его, Романюту…
Внутри наркоматского здания свирепствовал ремонт. Кабинет и приемная наркома были закрыты. Фрунзе принял Романюту в маленькой комнате, без посторонних, если не считать адъютанта. Говорил ласково, брал за руку, смотрел в лицо, но так пристально, что под взглядом этим Романюта чувствовал себя, как под дулом ружья. Что же это все-таки было? Почему и зачем? Романюта бежал к Карбышеву, чтобы теперь же, до отъезда из Москвы, обдумать и разобраться…
* * *
Батуев вел себя чрезвычайно таинственно: говорил многозначительным шепотом, то краснея, то бледнея, и постоянно поглядывал при этом на дверь кабинета. Карбышев слушал, опустив голову и закрыв глаза. Батуев был лаконичен и в подробности не входил. Но смысл его предупреждений был ясен.
Через три дня предстояли официальные испытания «невидимки», на полигоне в Бабине. ГВИУ придавало этим испытаниям особое значение. Совсем недавно Фрунзе выступил на Третьем Всесоюзном съезде Советов с большой программой развития народного хозяйства в целях поднятия обороноспособности Красной Армии. Он говорил и о тракторостроении, и о массовом производстве автомобилей, и о коневодстве, и о химической промышленности, и об авиационной… В эту обширную программу входила, конечно, и «невидимка». После блестящего успеха черновой проверки в Филях Карбышев был спокоен. Правда, теперь испытанию должна была подвергнуться вся конструкция целиком, вместе с минными устройствами. Но главное себя уже оправдало.
И вдруг приходит Батуев с таинственным лицом и начинает тихим голосом клятвенно уверять в совершенной необходимости снять испытания на полигоне, ибо успеха не может быть и не будет. Батуев ничем не подтверждал правильности своих предсказаний, никого не называл в качестве скрытой пружины предстоящего провала, — такая пружина в подобных историях непременно существует, — он только твердил: «Снимайте, пока не поздно. Три дня, три дня…» Вот, собственно, все, с чем он пришел. Но и этого было достаточно. Высказавшись, Батуев примолк и сидел, как на иголках, внимательно следя за дверью. Карбышев тоже молчал. Так продолжалось довольно долго. Наконец, Батуев не выдержал.
— Как вы решили, Дмитрий Михайлович? Карбышев поднял голову.
— Прежде всего, благодарю вас, Авк. Однако снимать постановку испытаний я не стану.
— Значит, не верите мне… Непоправимая ошибка!
— Нет, я вам верю.
— Почему же тогда? Почему?
— Не… могу.
Батуев вскочил с кресла и сразу взмахнул обеими руками, как машет крыльями птица, собирающаяся лететь.
— Ошибка! Ах, какая…
Громкий звонок разлился из передней по квартире, возвещая чье-то прибытие.
— Неужели Лабунский? Этого не хватает…
— Папа, — сказала Лялька, заглядывая в кабинет, — к тебе товалищ Ломанюта…
* * *
«Невидимка» провалилась не просто, а с необыкновенным треском. Происшествию посвятила специальную заметку «Красная звезда». Карбышев не принимал никакого участия в подготовке испытания. Все делалось руками полигонщиков. В самые последние дни зачастил в Бабино Лабунский, полный внезапных прожектов, как горный воздух бывает полон бурь. Возмущаясь вялостью Батуева, он всюду совал свой нос, кричал, хрипел, бранился.
— Черт вас возьми, — наскакивал он на Батуева, — все Шпильгагена почитываете? Хорош начальник полигона! Какая-то железа в вас не работает, ей-богу! Склизкий вы тип, Авк! Не я буду, если не завертитесь! — И действительно завертел…
Карбышева не было на испытаниях. Но тем, кто на них присутствовал, навсегда запомнилась высоченная фигура Лабунского посреди целой дюжины смущенных экспертов. Слегка сгорбившись и свесив вниз длинные обезьяньи руки, он шагал прямо туда, где таилась в траве незримая опасность.
— Товарищ начальник, — говорили эксперты, — но ведь там… того… фугасы…
Батуев схватил Лабунского за рукав.
— Аркадий Васильевич! Взорветесь…
Лабунский не то засмеялся, не то ощерился, готовый куснуть лошадиными зубами. Батуев отскочил. Экспертам чудилось, будто подметки их сапог липнут к земле. Впрочем, один или два из них пересилили гипноз и кинулись к бронемашине, стоявшей поодаль в ожидании пассажиров и команды. А Лабунский все шел вперед, шел и шел. Он высоко поднимал свои тонкие длинные ноги в блестящих желтых крагах, облепленных мелкими лепестками каких-то мокрых синеньких и беленьких цветов, и ставил их наземь, как на марше по правилам старого учебного шага. Трава то обнимала его ноги до колен, то угодливо выпускала их из коварных объятий, чтобы ярче сверкнула под солнцем роса на крагах и тверже стукнул учебный шаг. «Невидимка» отдавалась во власть этому человеку, и минная паутина не делала ему вреда. Как достигаются подобные вещи? Лабунского не спросишь…
Вон он стоит далеко-далеко впереди, там, где уже и нет никаких фугасов. Якимах смотрит на него, разинув рот. «Бегемот в трусиках…» Сняв фуражку, Лабунский машет ею в воздухе и кричит сиплым басом: — Ну что? Игрушка для октябрят, а не заграждение… Ха-ха-ха! Бронемашину и пускать не стоит. Пишите протокол!
Глава тридцать первая
В начале апреля в Москве происходило совещание кавалерийских начальников. Котовский присутствовал сперва на нем, а затем на Всесоюзном съезде бессарабцев. На съезде он произнес большую речь, горячую, как огненный фонтан. Полгода назад осуществилась старая сердечная мечта Котовского, выношенная и взлелеянная им, — на краю Украины зацвела Молдавская республика. Он говорил об этом на съезде, как страстные люди говорят о своей задушевной любви. Тогда же, в апреле, зашел Котовский и к Карбышеву. Отношения их давно укрепились, устоялись и стали регулярными. Задачи и решения, задачи и решения… Но к этому только и сводилась вся переписка. А на словах Котовский рассказал о многом: о больших ученьях своего кавкорпуса, о вечной занятости и бессонных ночах, о конюшнях и садах, о свиных и молочных фермах, о птичниках с инкубаторами в бессарабской коммуне, и о том, как развозится в ней корм для скота на верблюдах… Говорил и о себе, крепко постукивая по столу толстыми пальцами и что-то выводя в воздухе носком огромной ноги, заброшенной через колено:
— Котовский, Котовский… Что он есть, Котовский? Имеют в Котовском Октябрьская революция и партия большевиков человека, который готов за них жизнь отдать в любой день, час и минуту. А мировая буржуазия имеет в Котовском врага. И надо сказать, беспощадного, который всегда готов с ней схватиться и биться насмерть за торжество коммунизма…
Прошло три месяца. И вот Карбышев распечатал очередное письмо из Умани. Знакомый почерк вольно разбегался по страницам. Котовский писал, что едет с женой отдохнуть в Чебанский совхоз, под Одессой, и надеется там поработать всласть. Потому, чем больше военных задач пришлет Карбышев в Чебанку, тем будет Котовскому веселей. Какие же задачи послать этому неуемно падкому на труд человеку, чтобы деятельный отдых его не превратился в новый подвиг труда? Карбышев разложил на столе папки с материалами и уже совсем было собрался в них зарыться, когда заметил высунувшийся из-под папки уголок свежего номера «Красной звезды». Почтальон доставил газету вместе с письмом из Умани. Но Карбышев еще не успел развернуть «Звезду». Однако черная рамка извещения о чьей-то смерти била в глаза, и он потянул газету за уголок…
…Котовский был убит шестого августа двадцать пятого года, в пыльно-розовых сумерках тихого вечера, выстрелом из-за угла, в совхозе, куда он только что приехал отдыхать.
Через несколько дней, на выпуске слушателей Высших военно-политических академических курсов, Фрунзе говорил:
— Политическая работа в армии является главнейшим и важнейшим залогом всей ее мощи… Она, как мы часто говорим, есть особый вид оружия, который в известной обстановке будет иметь решающее значение…
Выходя из зала, Фрунзе заметил Карбышева и подозвал к себе.
— Нет нашего уманского хозяина, — сказал он голосом, в котором чуть слышно звенела боль, — расправились с хлопотуном, мерзавцы! Право, тот, у кого поднялась рука на Котовского, или безумец, или предатель, какого еще не знала наша страна…
* * *
Лекционный метод преподавания в академии отходил на второй план. Организация активной самодеятельности обучающихся выступала на первый. Семинарские и практические занятия становились основой учебной системы. Развертывалась целая сеть кабинетов и лабораторий. Самым оборудованным и богатым из кабинетов был, несомненно, инженерный. Обилие схем, чертежей, всевозможной «натуры», то есть техники в ее практическом приложении, подсобной литературы поражало. Все это было собрано предприимчивостью и неутомимостью Карбышева. А теперь, по его указаниям, приводилось в наиболее удобный для использования порядок начальником кабинета Елочкиным.
Именно такого человека, как Елочкин, не доставало Карбышеву в его прикладных работах. Дмитрий Михайлович больше не самообольщался. Да, он тактик инженерных войск, но не техник; рационализатор, но не изобретатель. А Елочкин, съездив в конце сентября в Шатуру на пуск тамошней электростанции, вернулся оттуда с огромным запасом новых технических фантазий. Он разряжался, как аккумулятор, выбрасывая из себя искры электрофокусов. Горбоносое лицо его светилось мыслью, сильные руки не выпускали проводов, и кривоватые ноги так и мелькали по коридорам и лестницам. Как-то Карбышев дал ему книжку М. Мирского под заглавием: «Европейские цивилизаторы и Марокко».
— Непременно прочитай, Степан Максимыч, — сказал он, — потом обсудим…
Изучая опыт войны в Марокко, автор книжки старался представить себе картину будущих столкновений СССР с европейскими буржуазными агрессорами. Он поднимал множество важных вопросов, — о «живой силе» и о «технике», о значении отдельных родов оружия, о маневренности и позиционности, о соотношении войны с политикой, фронта с тылом. Все свои симпатии автор отдавал риффам и Абд-Эль-Кериму[56].
— Ну как? — спросил через неделю Карбышев. — Прочитал?
— Замечательное сочинение, — сказал Елочкин, — очень замечательное. Я все думаю: в чем тут главное?
— В чем же?
— Надо полагать, в том, что эти самые риффы пример показали, как можно бороться и победы одерживать над сильным противником при слабом вооружении…
— Попал в яблочко, Степан Максимыч, — точно!
— И еще — вопрос: Мирский… Не знаю такого. А будто из самых больших наших профессоров. И уж очень, Дмитрий Михайлович, на то похоже, что мне от вас доводилось слыхать. Случаем, не…
— Нет, нет, не я.
— А кто же?
— Учитель наш общий… «Мирский» — псевдоним.
Елочкин стоял в темном углу инженерного кабинета, копаясь в мотках проволочной пряжи. Но тут спина его разогнулась, и глаза изумленно блеснули.
— Михаил Васильевич?
— Конечно, он… Фрунзе!..
* * *
В большом, прекрасно обставленном служебном кабинете Лабунского было шумно. Заседающие — человек тридцать — давно уже собрались, расселись по диванам, креслам и успели набросать горы пепла на пушистый ковер, а совещание все не начиналось. Куда-то вышел Лабунский. Не было двух соседей, которые не говорили бы друг с другом, и оттого в кабинете ничего нельзя было расслышать. Карбышев с кем-то спорил. В одном из основных военных журналов только что появилась его статья об инженерном укреплении границ и, по обыкновению, сильнейшим образом обострила уже и до нее существовавшее расхождение во взглядах. Статья предъявляла «стратегам» и «операторам» целый ряд серьезных требований, вызывала их на ответ и за воротник тащила к делу.
— Давайте нам заказ, — горячился Карбышев, — и мы его выполним. Не дадите заказа, будем сами укреплять границы…
— Известно, — с досадой сказал сосед, — вы по этой части собаку съели…
— Да уж и верльно: когда надо, не брезглив…
В кабинет вошел Лабунский. Разговоры стихли.
— Прошу извинить, товарищи…
Он сел за стол и закурил трубку.
— Итак, нам предстоит подготовиться к введению новых штатов…
Что ни год, центральный аппарат военно-инженерного ведомства получал новые штаты. Год уходил на то, чтобы сработаться. Трудный, сложный, нутряной процесс постепенно приближался к благополучному концу. И вдруг все рушилось: словно кто-то подстерегал наступление этого критического момента, чтобы тут-то и опрокинуть на ведомство новые штаты. Естественно, что Лабунский открыл свое вступление в руководящую должность именно таким катастрофическим мероприятием.
— Предстоит, товарищи, подготовиться к принятию новых штатов. Соберем мнения, выслушаем соображения по проекту, учтем, кое-что изменим, если потребуется… Хотя… Кому угодно высказаться?
Карбышев подал голос.
— Разрешите?
— Прошу, Дмитрий Михайлович…
— Когда я был мальчишкой, — быстро заговорил Карбышев, — моим любимым занятием было сажать семечки и растить подсолнухи. Но терпенье — цветок, который встретишь не в каждом саду. И у меня его не хватало. Вспоминаю: сорвешь бывало стебелек, поглядишь на корешок, смеришь длину и опять сунешь в землю…
По мере того, как мысль Карбышева становилась яснее, в кабинете усиливался смешок. Не смеялся, даже не улыбался нисколечко лишь один Лабунский. Но Карбышев вовсе не имел в виду развлекать его.
— Так и со штатами… А ведь мы уже давно не ребята…
Из угла кабинета заливисто брызнул чей-то веселый хохот…
Лабунский был из тех людей, которые защищаются не иначе, как нападая, и никогда не откладывают расчетов ни на минуту. Границ для бесцеремонности и дерзости, с какими он в подобных случаях действовал, почти не существовало. Закрыв совещание, он тотчас подошел к Карбышеву.
— Как вы удачно развеселили нас сегодня вашей аллегорией…
— Рад служить! — сказал Карбышев, ожидая удара, и не ошибся.
— Жалею, Дмитрий Михайлович, что вынужден огорчить вас. И уже без всяких аллегорий.
— А что случилось?
— ГИЗ отказался выпустить ваш учебник фортификации…
— Почему?
— Говорят: не фортификация, а тактика.
— Вы давали отзыв?
— Ни-ни. С какой стати?
— Ловко!
— Что — ловко?
— Сделано ловко. Но самому вам браться за учебник не советую: наверняка ни фортификации, ни тактики не получится. Попробуйте-ка лучше, Аркадий Васильевич, взять сочинения Пушкина и начертайте на титульном листе: «Лабунский. Избранное». Потом нажмите, и ГИЗ выпустит непременно…
* * *
История с учебником фортификации была до крайности неприятна Карбышеву. Если даже принять за факт, что Лабунский всячески содействовал срыву издания, то и в этом случае главное заключалось не в нем. Фундамент советской военной идеологии — марксистско-ленинская наука, знание законов общественного развития, понимание подлинной природы войны, ее сущности и характера. До сих пор Карбышев не сомневался, что твердо стоит на этой почве обеими ногами. Теперь почва шатнулась. Тактика, а не фортификация… Не в том дело, что Карбышев усомнился в правильности своих утверждений, — нисколько, — а в том, что почуял к себе недоверие. Это было оскорбительно и больно. И чем больше он думал об этом, тем становилось больней.
В день Октябрьского праздника, после парада и демонстрации, вечером на Смоленском бульваре собрались старые друзья: Наркевич, Елочкин. Пили чай, позвякивая ложечками в сладких стаканах, толковали о всякой всячине и вдруг, словно сговорившись, набросились на Дмитрия Михайловича:
— Пора, давно пора в партию…
Почему так получилось, что сразу и вместе, Карбышев не знал. Не потому ли, что день был такой? Итак: «Не пора ли в партию?»
На разрешение этого вопроса Карбышев потратил немало часов. Если бы сложить все часы, какая громадная работа разума и сердца уместилась бы в длинной полосе бессонных глухих ночей. Трезвая мысль и горячее сердце спорили и боролись. Но мысль побеждала. Больше всего Карбышев опасался подозрений в карьеризме. Он ясно представлял себе реакцию Азанчеева, Лабунского. С одной стороны, никакая сила не разубедила бы этих людей в правильности их подозрений, а с другой — как понять, где пройдет граница между искренностью их негодования и его фальшивым пафосом?
Теперь же к этой всегдашней болезни упреков в карьеризме прибавилось еще новое скверное чувство обиды. Разум победил сердце. «Не доверяют!»
— Друзья-товарищи, — сказал Карбышев, — все, что вы мне сейчас говорили, — правда. Да и как иначе быть может? Вдохновение труда… Верно: есть во мне вдохновение труда. Но, кроме него, нужны еще и терпение и деловитость. А я не доказал ни того, ни другого. «Невидимка» провалилась. Учебник фортификации лопнул. Якимах, которому намерен я передать все, чем сам владею в нашей науке, еще и академии не кончил. Чем же доказал я, что действительно достоин шагнуть через высокий порог, за которым партия? Ничем. Ославить меня карьеристом — самое простое и удобное дело. Достаточно вытащить из нафталина мое штаб-офицерское прошлое…
— Ну, уж это — совсем пустяки, — сказал, волнуясь, бледный Наркевич, — всякая жизнь есть естественное сближение прошлого с будущим. И ваша, и моя — всякая. А иначе — что же такое жизнь?
— Я Дмитрия Михайловича понимаю, — задумчиво проговорил Елочкин, — приходится со многим считаться. Есть стишки старинные:
Хоть камень чувства не имеет,
Но сильно чувствовать велит…
Это очень к азанчеевым и Лабунским пристало.
— Доказать надо, — повторял Карбышев, — сперва доказать…
Наркевич махнул рукой.
— Жизни не хватит. Юханцев писал, что на днях в Москву приедет. Уж как хотите, а я его на вас напущу…
Карбышев хотел что-то сказать, но телефон зазвенел, и рука потянулась к трубке.
— Алло! Якимах? Здравствуйте, Петя. И вас, дорогой, поздравляю. Что? Что? Приказ? Какой приказ?
Наркевич и Елочкин с любопытством следили за быстрой сменой выражений на живом лице Карбышева.
— Что? Назначаюсь руководителем инженерных дисциплин во всех военных академиях? Первый раз слышу… И приказ, говорите, вывешен?..
Наркевич засмеялся.
— Вот вам и «не доверяют»!
* * *
Юханцев попрежнему вел военно-политическую работу. Но теперь эта работа связывала его с Путиловским заводом. Приехал он в Москву по служебным делам, захватив жену. Здоровье Надежды Александровны никогда не было прочным. После неблагополучных родов возникли тревожные симптомы и потребовалась консультация крупных врачей. Юханцевы остановились у Наркевича. Было странно слышать, как могучий Яков Павлович, — дуб, а не человек, — с неослабевающим интересом и замечательной обстоятельностью толковал о гемоглобинах, лейкоцитах, малокровии, белокровии и прочих, тому подобных деликатных вещах…
Юханцев нашел Карбышева в академическом тире, на стрельбе. Карбышев любил пострелять и всегда выбивал максимальное число очков. Он ни за что не хотел упустить из руки хозяйское ощущение, когда она берется за револьвер или винтовку, и рука его оставалась умелой и твердой, как в молодые годы.
Старые товарищи обнялись, всматриваясь друг в друга, заговорили о новом, о прежнем, вспомнили Котовского и, будто подхваченные этим воспоминанием, словно следуя за ним по пятам, оставили тир и очутились в манеже. И здесь Карбышев был частым гостем. Капризная кобыла «Ночка» хорошо знала карбышевский повод и приветливо ржала, заслышав его голос. Друзья вскочили на коней.
— Помнишь уманскую скачку, комиссар?
— Умереть — не забуду, — отвечал Юханцев, — да когда ты здесь со всем этим поспеваешь?
— Из одного дня два рабочих делаю. Приду домой, отдохну и опять за дело.
— Ну, а на самоанализ откуда досуг берешь? — вдруг съязвил Юханцев, начиная главный разговор с натиска. — На всякую свою индивидуалистику?
Карбышев вспыхнул и потемнел в лице.
— Не такое теперь время, Яков, чтобы утяжелять себя грузом личного, собственного. Еще когда какой-нибудь исключительно одаренный человек этим занимается: Брюсов, например, или Блок, — куда ни шло, даже, пожалуй, любопытно. Но и они не имеют права отказываться от широких взглядов, от большого понимания, от общности идей…
— Верно сказал. Тогда спрошу прямо: почему до сей поры жизнь с партией не связал?
Карбышев молчал, обдумывая ответ. Но Юханцеву не терпелось.
— Недисциплинированность политической мысли? Склонность к либерализму? Прошлое мешает? Зудит, как отрезанная нога?
— Не говори глупостей, — горячо отпарировал Карбышев, — прошлое решительно ни к чему не обязывает. Но оно предостерегает. Потому что… Что такое прошлое? Опыт…
— Понимаю. Прошлое, по-твоему, — дым. Даже не дым, а тень от дыма. И что же тебе эта тень говорит?
— Предостерегает.
— Например?
— Откажут, — что тогда? Пулю в лоб? Я ведь не промахнусь…
— Знаю. Но зато, брат, и я не промахнулся, когда о недисциплинированности политической мысли упомянул. Вот ты как раз ее, миленькую, и выставил на показ. Гляди мол, Юханцев, как еще во мне старый офицерский дух силен, — гляди. Вижу, вижу… По этой самой причине и не в партии ты. Из-за духа…
Карбышев молчал, опустив голову и повода. «Ночка» стала, торчком наструнив острые уши и недоуменно поводя глазом. Напрасно думает Юханцев, что легко разбираться в чужой душе. Не легко, а трудно. И, чем лучше, казалось бы, знаешь человека, тем трудней. Не понимает этого Юханцев, напрасно…
— Рассказывал мне Глеб про твои неудачи, — продолжал комиссар, — «невидимка», учебник… Надо, Дмитрий Михайлович, драться. Коли прав, дерись. Партия тебе верит. А люди… есть, конечно, такие, что их без драки не убедишь. Ты же Батуеву, мелюзге, все свои материалы по «невидимке» отдал: владей, Фадей, моей Маланьей! Заскок, Дмитрий Михайлович, прямой идеалистический заскок…
Может быть, тут Юханцев и не ошибался. Но дело сделано, — не поправишь. А что Батуев действительно мелюзга, видно из того, с какой готовностью, в благодарность за «невидимку», принялся он разоблачать фактическую роль Лабунского в постигших Карбышева неудачах. Черт с ними, с этими людишками!.. «Сила человеческой воли чаще всего обнаруживается в сокрытии слабости. Реже, гораздо реже — в подавлении самой себя. Тогда сильный человек становится слабым, оставаясь сильным… Фу, черт!.. Кажется, запутался… А ведь мысль правильная. Только слова не те, не хватает почему-то слов…» И точно услышав эти немые мысли и как будто именно на них отвечая, Юханиев проговорил:
— Плохой ты, Дмитрий Михайлович, борец. Скажу тебе мою резолюцию: и впрямь тебе в партию рано!
* * *
Двадцать шестого октября Фрунзе писал жене в Крым:
«…Подошел и конец моим испытаниям! Завтра утром я переезжаю в Солдатенковскую больницу, а послезавтра (в четверг) будет и операция. Когда ты получишь это письмо, в твоих руках уже будет телеграмма, извещающая о ее результатах. Я сегодня чувствую себя абсолютно здоровым и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее оба консилиума постановили ее делать. Лично этим решением удовлетворен. Пусть уж раз навсегда разглядят хорошенько, что там есть, и попытаются наметить настоящее решение…»
Смерть остановила колебавшиеся весы жизни. Через двое суток после операции, тридцать первого, Фрунзе умер. Небо, как свинцовая шапка, придавило в этот печальный день Москву. Неутомимая вечность уже делала свою работу: вся сила человеческой преданности и любви не могла бы возвратить людям Фрунзе. Нерсес Михайлович Османьянц сидел в большой карбышевской столовой, у громадной двери, и, странно съежившись в дрожащий комочек, плакал. И Лидия Васильевна плакала. И Лялька…
…Известие о смерти Фрунзе вызвало в Карбышеве чувство непоправимой беды. Это чувство с каждым часом приобретало все более острый, почти физический характер. И, наконец, стало вполне физическим, когда перешло в ощущение у гроба Фрунзе.
Карбышев уже собирался вместе с другими идти в почетный караул. Организатор спросил его:
— Как вы себя чувствуете?
Карбышев молча пожал плечами.
— Сумеете выстоять десять минут?
— Странный вопрос!
— Я потому спросил, что не все… могут.
Место Карбышева было в ногах гроба. Он смотрел в обрамленное пышными цветами лицо покойника и не мог оторвать приросшего к этому лицу взгляда. Какой человек перестал жить! Какой мозг замер, чье сердце остановилось! Кому, как не Карбышеву, знать все это. Он видел своими глазами могущество громадного полководческого опыта, организующую силу таланта, редкое богатство мысли, непреодолимость воли и свет вдохновения, — все в одном этом человеке. Война — продолжение политики, — говорил Фрунзе и доказывал своей жизнью. Сперва — великая школа партийного воспитания в политической борьбе. Именно эта школа ленинско-сталинской стратегии и тактики революционных побед дала гражданской войне полководца Фрунзе… Затем… Вдруг по спине Карбышева прокрался озноб. Первый холод вполз в грудь и оледенил сдавленное горем сердце. Он смотрел и смотрел своими черными, немигающими глазами на мертвое лицо Фрунзе, уже не столько думая о беде, сколько ощущая ее с такой болезненной силой, что вдруг пошатнулся. И тогда только взгляд его оторвался от Фрунзе, чтобы разглядеть перед собой другое, тоже знакомое и такое же бледное лицо. Кто это? Куйбышев… Куйбышев… «Падаю!» Однако под железным нажимом воли Карбышеву удалось устоять…
Очутившись для отдыха после смены в соседней комнате, Дмитрий Михайлович увидел группу военных, сбившуюся в тесный кружок. Среди них были и Азанчеев, и Лабунский. Как всегда случается при горестных утратах, сбившиеся в кружок люди предавались воспоминаниям. Ораторствовал Азанчеев.
— Глубокое марксистское образование, — говорил он, — большая общая культура… А отсюда — способность верно анализировать обстановку, предвидеть ход событий, принимать правильные решения…
«Раньше он утверждал, — подумал Карбышев, — что марксизм не может научить воевать… Неужели понял?»
— Сколько раз он изумлял меня четкостью мышления, — продолжал Азанчеев, — полным отсутствием предвзятости, уменьем выбрать самый подходящий к каждому данному случаю метод действий. Вот эта способность прислушиваться к мнениям других и есть главное…
— Главное не в этом, — резко оборвал Леонида Владимировича кто-то из кружка, — главное — в близости к массам, в секрете личного обаяния…
Карбышев взглянул на Лабунского, тоже отстоявшего караул. У Лабунского были красные, точно от бессонницы глаза. Вот он, упорный, злой и наглый противник Карбышева. «Учил нас Фрунзе быть настоящими людьми. Долго учил. Неужто не выучил?» Он еще раз пристально посмотрел на Лабунского. Да, несомненно, — глаза его были красны потому, что заплаканы. «Где большой характер, там обычно и разум не малый. А вражда наша — мелочь, мелочь…» Бывают в жизни минуты, когда кажется, будто перерешается все. Эти минуты — как яркие точки, ничем никогда неизгладимые. Тысячи событий следуют за ними, но заслонить их собой не могут. Многие годы, полные бед и счастья, начинаются от них. Вот такая именно светлая минута наступила сейчас для Карбышева. Он подошел к Лабунскому и сказал:
— Прежде мы знали правду только по имени. Но теперь держим ее в руках. Хотите — мир с нынешнего дня?
На мгновенье Лабунскому сделалось так жарко, как если бы он с мороза шагнул к жерлу мартеновской печи и отпрянул, опаленный ее нестерпимо-горячим дыханием. Только жарко? Нет, может быть, даже и стыдно. Но в отличие от Карбышева всякая настоящая минута всегда казалась Лабунскому важнее всего, что лежало впереди. И потому его главным жизненным правилом было: не теряться. Он быстро повернул к Карбышеву свое хмурое, будто проржавевшее в мокрой земле чугунное лицо и сразу ответил:
— Пож-жалуйста! Мир? Можно подумать, что мы и в самом деле воевали!
Карбышев глядел на него с немым удивлением. Он ждал: что же еще скажет Лабунский, кроме этого. И Лабунский знал, что необходимо еще сказать что-то.
— Говорите, будто правда у нас в руках… Так ли, Дмитрий Михайлович? «Собиновский фасон», а не правда. Да и этого не хватит на всех. Не бывает иначе! Все равно — лгут люди…
— Зачем же?
— Наверно, из самолюбия. Вот, например, послушайте-ка, что Леонид Владимирович повествует…
Глава тридцать вторая
В марте двадцать шестого года умер старейший из профессоров Военной академии имени Фрунзе, бывший генерал русской армии Зайончковский. Это был честный ученый, талантливый преподаватель, искренне преданный своему делу человек. Кроме Зайончковского, были в академии и другие такие же — ветхие днями, согбенные болезнями, но ценные, нужные люди. То в академию, то из академии маршировал, например, опираясь на суковатую палку, дряхлый генштабист прежних времен Новицкий. Смиряя невольную дрожь слабости в подгибавшихся коленках, он поднимался на кафедру, ощупывая палкой давно знакомый путь…
* * *
В стенной газете появилась статья под названием: «О внимании к нашим старым профессорам». Автором статьи был Якимах. Через неделю Новицкому дали лошадь с пролеткой. Встретив в коридоре быстро мчавшегося куда-то Карбышева, Азанчеев уцепил его за рукав.
— Вам еще не дали машины?
Насмешливая улыбка так и дрожала на его крупных сочных губах. Подслеповатые глаза жадно скоблили Карбышева, и в тембре голоса по-комариному звенел наплыв злобного ехидства.
Карбышев освободил рукав инстинктивным движением брезгливого человека.
— Нет. Выдали только банку со скипидаром и помазок. Думаю, — зачем? А потом сообразил: чтобы вас смазывать…
* * *
Якимах готовил дипломную работу. Дипломные темы были трех родов: оперативные, исторические и политические. Пример исторической темы: «Поход Первой Конной армии от Майкопа до Умани»; пример политической: «Проблема власти в трудах Ленина». Якимах готовил оперативную тему: «Роль укрепленных рубежей и районов по опыту гражданской войны». Проект шел по кафедре Карбышева. Общетактическую сторону консультировал Азанчеев. Внимательность, отзывчивость, доброжелательность Карбышева провожали Якимаха с курса на курс. Собственно, таким же был Карбышев и по отношению ко всем другим слушателям. Но связь его с Якимахом была тесней, глубже и задушевней. Кроме всегдашнего желания помочь, здесь было еще что-то сердечно-активное, рождающееся из тайника подлинно отеческих чувств. Якимах был способный юноша, смелый, находчивый, энергичный и деятельный. Пристрастие к нему профессора объясняли этими обстоятельствами. И, хотя все понимали, что дело не только в них, но никому не приходило в голову самое простое и самое главное. В стремительности мыслей Якимаха, в его уменье самостоятельно думать и стойко защищать обдуманное Карбышев видел лучшее из того, что было свойственно ему самому. Потому-то и выбрал он именно этого юношу из многих подобных, выбрал, чтобы превратить его в себя.. Карбышев видел в Якимахе своего наследника, свою смену. Он хотел из рук в руки передать ему богатство своих знаний и опыта, а за восприимчивость, волю и характер молодого человека он был спокоен. Якимах с радостью поддавался воздействию, вбирал его в себя, как губка воду, и обеими ногами прочно становился на открытый для него Карбышевым путь…
Помогал Якимаху своими консультациями и Азанчеев. Но помогал свысока, величественно, брюзгливо и с какой-то непонятной иронией в тоне. Когда Якимах защитил диплом и пришел поблагодарить консультанта, Леонид Владимирович сказал, отдуваясь:
— Напрасно взяли у меня так мало…
Якимах развел руками.
— Я думал, что вы…
— Не знаю, что вы думали, и знать не хочу. Но теперь имейте в виду следующее. Пока я был вашим консультантом, я обязан был делиться с вами запасами моих научных сведений. И я это делал. Теперь — не то. Теперь обязательные отношения между нами прекратились. Вы и я — посторонние друг другу люди. И никогда уже больше вы не услышите от меня ничего, что было бы вам нужно или полезно в вашей работе…
— И вам не стыдно мне это говорить? — спросил, не веря ушам, Якимах.
— Нисколько. До свидания, молодой человек!
* * *
В бытность свою Наркомвоенмором Фрунзе установил такой порядок, что перед окончившими академию был только один путь служебного продвижения — командование полком. Именно такое назначение получил и Якимах. Отъезд был скоропалителен. И времени еле хватило, чтобы проститься с самым дорогим. Сперва Якимах обежал академические помещения, любовно поглядывая на фанерное строительство, с помощью которого десяток просторных институтских классов превратился в семьдесят пять маленьких аудиторий. Вспомнил, как трудно было слушать в этакой аудитории лекцию: один преподаватель говорил, а из-за фанерных перегородок с двух сторон доносились голоса еще двоих; они тоже читали, каждый — свое. Итак, три лекции зараз. Якимах грустно улыбнулся. «Что пройдет, то будет мило…» Обошел академические здания на Девичьем поле… Заглянул в клуб, в библиотеку, даже в санитарную часть. «Что пройдет, то будет мило…» И затем отправился на Смоленский бульвар…
День был праздничный, и Карбышев работал дома, за письменным столом. На столе сидел ангорский кот, нервно выпуская коготки из мягких лапок и кренделем выгибая пушистый хвост. Под столом возилась Лялька и дурашливый доберман Реджи, с прошлого года заменивший мирно почившую, хлопотливую тойку Жужу. Лялька и Реджи ссорились, мирились и снова ссорились: хохот, визг, лай наполняли кабинет. Невозможно!
— Мать! — крикнул Карбышев, — забери своих детей!
По этому сигналу из кабинета мгновенно исчезли сначала Лялька, потом Реджи и, наконец, ни в чем не повинный кот. Якимах говорил о своих мечтах и планах. В академию уже начали прибывать адъюнкты. Это были командиры с опытом гражданской, а некоторые — даже и мировой войны, окончившие или академию или академические курсы, прослужившие, после этого несколько лет в армии и возвращавшиеся теперь в академию для преподавательской работы. Адъюнкты быстро завоевывали авторитет у слушателей тем, что несли с собой свежие течения военной мысли из самой толщи армейских масс. И Якимах мечтал вернуться в академию таким адъюнктом.
Из всех надежд молодого, красивого, светловолосого командира больше всего отвечала тайным помыслам Карбышева именно эта. Не напрасно же трудился Карбышев три года, готовя Якимаха к вступлению в святая святых военно-инженерного знания и сам готовясь к раскрытию перед ним заветного хранилища науки во всей его полноте. И уже невозможно было бы для Карбышева не видеть в Якимахе своего будущего — самого себя в своем собственном воссоздании.
Будущий адъюнкт рассказал о странном выпаде Азанчеева. Карбышев слушал молча. Часто случалось ему и спорить с людьми, и язвить, и браниться, и в горячке лезть на рожон, но никогда ни о ком не говорил он дурно за глаза. И сейчас, выслушав Якимаха, вспомнив свою последнюю сшибку с Азанчеевым в коридоре академии, подумав и помолчав, он выронил с неохотой:
— Делать нечего, Петя! Такой характерец: щипнет и убежит…
— Не верьте ему, Петр Филиппыч, — сказала, входя в кабинет, Лидия Васильевна. — И уже во всяком случае не верьте, когда он вас всепрощению учит. Конечно, Азанчеев — самый скверный тип, какие только на свете бывают. Стыдиться надо…
Карбышев строго остановил жену:
— Пусть каждый стыдится сам за себя.
Но Лидию Васильевну подхватил вихрь негодования.
— Или вот еще Батуев…
— Довольно, мать! Стоп!..
Как-то так получилось, что после неудачных испытаний на полигоне идея карбышевской «невидимки» вдруг сделалась общей идеей. Множество людей сразу принялось за ее техническую разработку. Особенно горячо и усердно — Батуев. Сыграв известную роль в истории испытаний, он как бы завоевал этим молчаливое разрешение Карбышева усовершенствовать «невидимку». Так ему, по крайней мере, теперь казалось. Он искренне считал себя единственным из продолжателей карбышевского дела, который поступал честно и благородно. Не раз приходил он на Смоленский бульвар и, надуваясь наивной детской серьезностью, жаловался на конкурентов. Кому жаловался? Ему и в голову не приходило подумать, как странно выглядит болезненный эгоизм его настроений рядом с философским спокойствием Карбышева. Он не только не умел удивиться этому спокойствию, но даже и просто заметить его. Он так уходил в свои собственные дела, что для всего прочего делался глухим и слепым. Постепенно он все реже и реже появлялся на Смоленском. Наконец и вовсе перестал появляться. А на днях усовершенствованная им конструкция карбышевской «невидимки» прошла закрытый конкурс, и Батуев получил первую премию. Лидия Васильевна возмущалась неблагородством Авка: «Ну, хорошо, — пусть конструкцию он улучшил, но ведь идея-то не его, а Дики…» Карбышев держался иного взгляда: «Идея… Я сам передал ему идею. Главное — конструкция. Над хорошим взрывателем можно работать десять лет, и ничего не получится. А на его мину заяц наступит, и она…» Но сейчас он не хотел спорить.
— Довольно, мать! Стоп!
Лидия Васильевна махнула рукой и вышла из кабинета. И Якимах поднялся со стула. Подойдя к Карбышеву, он взял его маленькую твердую руку двумя своими большими и осторожно сжал.
— А от меня вам, Дмитрий Михайлович, низкий поклон и всегдашняя благодарность!
— За что, Петя?
— За то, что подвязали мне крылья, без которых жить нельзя человеку. Вырос я и постиг, на вас глядя, до чего иные лишь долгими годами опыта доходят. И за то вам спасибо, Дмитрий Михайлович, что стал я умнее и лучше, чем был…
Так началось и кончилось это прощание: Якимах уезжал из Москвы через три часа.
* * *
Как ни таился Карбышев, а судьба «невидимки» больно его задела. После премии, полученной Батуевым, он решительно отказался от поползновений на изобретательство. Однако страсть к новому нисколько в нем не остыла. Как и прежде, он отдавался ей с жаром и верой в успех. Изобретателем Карбышев мог и не быть; новатором же был и остался. Это никуда не делось, так как входило в его характер и темперамент, — было его душой. Собственно, до сентября прошлого года он должен был искать, открывать новое по обязанности, как председатель технического комитета ГИУ. Теперь же, сдав руководство комитетом, действовал исключительно по вольной своей воле, только по страсти. Пришло такое время, когда творческие чувства людей, подобных Карбышеву, неудержимо шли на подъем. Все ширилась и круче закипала борьба за промышленное преобразование страны. Пуск Волховской гидроэлектростанции радостно поразил воображение многих. Карбышев с жадным вниманием следил за могучим ростом промышленной техники, стараясь все ухватить, все понять, ничего не выпустить из поля зрения. Но в кинематическую схему новых механизмов он не вникал. Его интересовали главным образом те стороны машин, которые можно было бы использовать в войсках. Чем разнообразнее отрасли военно-инженерной службы, тем сложнее инженерное вооружение. Карбышев ясно видел, что обеспечить в инженерном отношении бой без вооружения, созданного на основе всех «последних слов» современной техники, нельзя. Собственно, к этой мысли он приходил уже и раньше. Но такой бесспорной, как теперь, она ему никогда не казалась. И на совещаниях он говорил, торопясь и взволнованно картавя:
— Реки… А где новые понтонные парки? Не на веслах же переправлять танки… Да и вообще нельзя требовать от танкистов, чтобы они умели переправлять танки, — не их дело. Дороги… Один мощный трактор типа «Большевик» или «Коммунар» Южмаштреста вскопает вам за день дорогу на переход… Снабдите саперную роту переносными пилами типа «Рапид» — оглянуться не поспеете, как лесная дорога будет завалена… Пустите легкий экскаватор…
Ему возражали:
— У вас как-то получается: сразу — все…
Карбышев вскакивал с кресла.
— А не делать всего, дорогой мой, — хуже, чем вовсе ничего не делать! Жадность моя — с голоду. Я ведь — самый бедный человек. Артиллерия имеет топографов, связистов… Авиация кого только не имеет… А у дивизионного или корпусного инженера никого и ничего нет — ни химиков, ни…
Стенографистка была со стороны, Карбышева не знала. Упустив записать его фамилию, она на следующее утро пришла в секретариат.
— Кто у вас тут из начальства самый бедный человек?
— То есть?
— А вот вчера…
— Ха-ха-ха! Да это он…
— Кто?
— Карбышев, Дмитрий Михайлович. Умеет же найти слово. Сказал и — будто в память врезал…
* * *
Заботы и тревоги входили в жизнь светлой полнотой как новая необходимость. В конце двадцать шестого года у Карбышевых родилась дочь Татьяна. Беленькая девочка была совершенно непохожа на Ляльку и чем-то неуловимым походила на мать. Прибавилось крохотное существо, но от шума, восхищений и хлопотливой беготни просторная квартира вдруг сжалась чуть не вдвое. Карбышев радовался и шуму, и беготне, и тому, что, с возникновением в академии ячейки ОСО, может «на законнейшем основании» ускользать от домашней суматохи. Он немедленно организовал в ячейке инженерную секцию и торжественно праздновал сразу два рождения: нового человечка, которого нельзя не любить, и нового места, в котором нельзя не работать.
Однако все еще существовал вопрос, за положительное решение которого Карбышев стоял горой, но который никак не мог решиться, то разгораясь, то затухая, как огонек под непостоянным ветром. Это был вопрос о переводе из Ленинграда в Москву военно-инженерной академии как отдельного, самостоятельного учебного заведения. Отсутствие прямой связи с академией все больней и больней ощущалось Карбышевым. Иногда его начинало неудержимо тянуть в ее старые стены. В конце концов только там, на месте, он мог точно установить, как далеко отстоит от кафедральной академической науки реальный смысл прикладной деловитости, которым он старался вооружить свое преподавание. И там был Величко, уже старый и обрюзгший, но попрежнему живой человек и практический ученый. Изредка Карбышев ездил в Ленинград на короткие сроки, бывал в академии и обязательно виделся с Величкой.
Весной двадцать седьмого выпала такая поездка, На этот раз вместе с Карбышевым отправился в Ленинград и Азанчеев для чтения какого-то доклада…
* * *
Величко жил на Садовой улице в большом старинном казенном доме, занимая почти весь его третий этаж. Карбышев смотрел на старика с печальным чувством. Просто удивительно, как быстро дряхлел в последние годы Величко…
Окна квартиры были открыты настежь. На холодном фоне голубого неба и серых облаков ветви голых деревьев казались черными. По комнатам гулял свежий запах ранней весны. Тонкая струйка сильных дамских духов нет-нет и доносилась откуда-то до кабинета. Карбышев чихнул.
— Здорово! — засмеялся Величко, — а вот мне, батенька, уже никогда так не чихнуть. Позвольте, позвольте… Ну, да, — так и есть: когда вы родились, я кончал академию. Старость, батенька, как горшок с топленым жиром: выставили его на холод, а он стынет и пленкой покрывается…
Величко снял очки и протер вдруг заблестевшие глаза.
— Но я не сдаюсь. Сочинил книжку: «Русские крепости в связи с операциями полевых армий в мировую войну». Конфликтуем? Сделайте милость. Только сейчас мне не хочется спорить. Еще кое-что делаю. Хотите взглянуть?
Он подошел к мольберту, накрытому простыней, и сдернул покрывало. Правый угол большого кабинета как бы раздвинулся, обступив широкий холст, набитый мелкими гвоздиками на деревянную раму.
— Писана маслом, но еще не кончено…
Река пляшет и бешено крутится между гранитными берегами. Провал, в котором бьется эта сумасшедшая река, все суживается и суживается: скалы карабкаются вверх и, сходясь, заслоняют горизонт. Но в этой каменной стене природа пробила громадное готическое окно, развернув за ним вторую картину. Солнце еще прячется за утесами, а лучи его уже скользят по лысым вершинам гор, и, постепенно спускаясь, ложатся блестящей пеленой на бархатистую зелень скатов. Сонные облака, как огромные скирды хлопка, медленно перекладываются с бока на бок и, лениво одеваясь в волнистые золотые одежды, поднимаются и летят в разные стороны. У подножия скалистого амфитеатра, под широкой террасой сада, — две фигуры. Одна — старик, с морщинистым и носатым, как у Велички, лицом, с зеленоватыми клочьями волос на подбородке, с мутными и красными пятнами вместо глаз. Он сидит, завернувшись в шубу, возле белой сакли. Другая фигура — дитя. Мальчик стоит у ног старика, черноглазый и веселый, в широкополой черной шляпе на голове, совершенно голый, смуглый, с толстеньким и круглым, как арбуз, животиком. Картина складывалась из контрастов. Свет и мрак, красота и уродство, молодость и старость, — все в ней служило… чему? Карбышев не понимал. Ведь картина еще не окончена…
— Я никогда не думал, Константин Иванович, — сказал он, — что вы…
— Да, да…
— Это — Кавказ?
— Авария… Река Койсу… Но не в том дело.
— А в чем?
— Видите ли… Тема моей картины — бессмертие. Стало быть, Кавказ это или Урал, Саратов или Лигово — совершенно все равно. Да вот сейчас вы меня поймете…
Он торопливо подошел к роялю, поднял крышку, сел, ударил костлявыми пальцами по желтым клавишам.
— Моя музыка, мои слова…
И хриплый старческий голос уверенно повел мелодию:
Великих дней стальная борона
Взрывает целину под семена бессмертья.
С тех пор, как ожила родная сторона,
Не знаю больше, что такое смерть, я…
Звонкий топот женских каблучков в соседней комнате оборвал пение. Запахи весны и духов усилились. В кабинет быстро вошла жена Велички в костюме тальер и шапочке с мехом. Величко старел; она — молодела и хорошела с годами. Ее классический профиль и черные брови делались как-то даже чересчур, неправдоподобно, неприятно красивы. Карбышев встал.
— Здравствуйте, — небрежно сказала она и сейчас же повернулась к мужу, — ты знаешь, кого я сейчас встретила в Летнем саду, Константин? Ты будешь изумлен. Азанчеева… Леонида Владимировича. Азанчеева!..
Подвязываясь салфеткой, Величко говорил:
— Стал я, батенька, таким прожорой, что боюсь помереть за обедом…
Карбышев ел мало, как воробей. Но водке и гость и хозяин дружно отдавали честь. Графин сверкал в трясущейся руке Константина Ивановича.
— Чижовочки… Еще…
Карбышев пил, не пьянея, и рассказывал о своей новой работе: «Справочник по мировой войне». Несметное богатство материалов в Лефортовском архиве… С Петра Великого… И все — в превосходном состоянии… Азанчеев тоже не вылезает из архива… Готовит второй том гигантского сочинения: «Эволюция войны»…
— Я читал первый том, — промямлил Величко, — чижовочки… Что сказать? Не люблю я предрешенности суждений. И восхищаюсь или негодую не в силу обязательности, а потому, что мне так хочется. Скажу прямо: написано развязно и глупо.
— Глупо так говорить, — вступилась за Азанчеева хозяйка.
Величко не заметил.
— Почему развязно и глупо? Вы раскрываете книгу на предисловии и читаете: «Мы ставим перед собой скромную задачу — вывести стратегическое мышление из закоулков и тупиков на прямую дорогу». Как вам нравится эта «скромная» задача? И тут же невероятная путаница из предвзятостей и самых тенденциозных обобщений, нагромождение истин, категорически противоречащих друг другу. Так-с… Выходим на «прямую» дорогу и читаем: «Шестьдесят восемь лет назад незабвенный Милютин поставил перед русской Академией Генерального штаба задание, которое мы намерены выполнить теперь». Чувствуете, как скромность ударяет в ноздрю? Хорошо. Раскрываем книгу на первой попавшейся странице и сразу же упираемся в дикую болтовню о том, будто гражданские ученые отрицали прежде военную науку и будто отсюда возник грандиозный провал в общественных знаниях нашей эпохи. Забыли, мол, что военное дело есть могучий рычаг прогресса и реформ во всех отраслях человеческой деятельности. Еще чижовочки? Забыли, мол, мерзавцы, а я вам напомню и разъясню. И все это — для того, чтобы ему на свободе предаться размышлениям над военной историей. Как будто характер будущей войны можно вывести из размышлений о военной истории… Черт знает, что такое!
Карбышев усмехнулся.
— Размышления над прошлым — дело не бесполезное. Но Леонид Владимирович не просто размышляет, он загипнотизирован прошлым. Чтобы разогнать этот гипноз, надо думать о будущем. А он и в ус не дует. Вообще я никогда не мог понять, где у него кончается ловкость и начинается неловкость…
Величко был согласен всем существом — выражением лица и глаз, губами, даже руками.
— Чижовки? Шапошников — умен и талантлив. Выпустил капитальнейшее исследование о Генштабе. И для второго тома взял эпиграфом из Ленина: «Война есть насквозь политика». У Азанчеева, конечно, от зависти глаза — вкось. Минуты не теряя, принялся сам строчить. Но книга Шапошникова — свежая, смелая. Это такая книга, в которой командир Красной Армии уверенно перечит Мольтке, Людендорфу, Конраду фон Гетцендорфу, расправляется с ними по-свойски, — это ново, в этом есть будущее. А со слизняка Азанчеева — что взять? Вы говорите: ловкость — неловкость… Да ведь неловкость-то у него от избытка ловкости. Каверзный он человек, вот что…
Карбышев опять усмехнулся. Он и теперь не хотел изменять своему всегдашнему правилу — не бранить отсутствующих. Но было в нынешнем разговоре что-то такое, от чего правило это вдруг ужасно отяжелилось.
— При царе был хорош, — сказал он, — при Керенском — еще лучше; похоже, что и теперь не пропадет. Классический пример маскировки…
— Ха-ха-ха! — расхохотался Величко. — Хорошо! Очень хорошо! Однако думаю, что с большевиками у него не выйдет. Строит он свое здание на песке, на беспартийности его строит. И здесь — крепкая ошибка, потому что беспартийность военных всегда была дурацкой сказкой, придуманной в партийных целях, и давно уже никого обмануть не может. От московских стрельцов до елизаветинских лейб-компанцев, от убийства Петра III до декабристов — сплошь военная партийность. Войска служат власти, а власть — классу. Захотели бы войска быть беспартийными, — да разве им кто позволит? Глупость Азанчеева от того, что он ничего этого не понимает. Кстати, спрошу вас: а почему вы не в партии?
Вопрос этот выскочил из Велички так внезапно, что он и сам удивился — даже графин с чижовкой не донес до рюмки Карбышева и поставил на стол.
— Насчет меня — понятно. Я стар. Поздно мне. А вы? Вы?
* * *
Карбышев присутствовал на выпуске в Военно-технической академии и слушал речь Велички. Старик стоял на кафедре, маленький, сморщенный, и говорил, сверкая глазами:
— История ядовита, как змея, а может быть, даже и еще ядовитее змеи. Ее яд — время. А противоядия нет, так как нет бессмертия. Но разве и в самом деле нет бессмертия? Да, для убогих рутинеров, души которых так долго подвергались ремесленной дрессировке, что в конце концов совершенно утратили способность развиваться и творить, его нет. Но для многих из вас оно существует. Вне своей эпохи человек — ничто. Только из эпохи растет и поднимается к солнцу его душа. Юноши старых буржуазных романов очень часто талантливы. Но они почти всегда «без соломенного тюфяка», — брошены рукой слепого рока на острые камни грязных житейских дорог. Вы — совсем в ином положении. Для вашего роста не надо ни случайных успехов, ни рискованных удач. Необходимо лишь сознательное и деятельное участие в борьбе советского народа за будущее. Здесь — ваше бессмертие. И вместе с вашим — мое, потому что лучшую частицу самого себя я отдал вам, товарищи, вложил ее в вас, дорогие друзья. Потому бессмертен я, что именно вам оставил свои знания, — вам, инженерам Красной Армии, мастерам великого труда…
Величко говорил, говорил, потом закрывал глаза и, отдышавшись, передохнув, продолжал говорить. Когда он шел с кафедры на свое место, к нему подходили, жали ему руки, с чем-то поздравляли, за что-то благодарили и восхищались по поводу чего-то. Среди восхищавшихся был и Азанчеев.
— Как убежденный сторонник победы пролетариата в будущей классовой войне, — ласково отдуваясь, бормотал он, — я горячо благодарю вас, Константин Иванович, за вашу прекрасную речь…
Величко повернул к нему лицо, вдруг сделавшееся удивительно похожим на съежившийся пузырь с желчью, и злобно отчеканил:
— Красиво говорить, Леонид Владимирович, не трудно, а думать красиво не каждый умеет.
— Это почему же? — продолжая ласково отдуваться, спросил Азанчеев.
— Потому что боятся правды, как урод — зеркала.
— Какие нехорошие люди! Но ведь можно спорить, и не волнуясь…
— Нет, нельзя… Вы — в меня мыслью, а я по вас — фактом. Или — наоборот. Только следи да поглядывай, — кто кого! Вот — спор!
— Надо меньше любить славу! — наставительно заметил Азанчеев.
— Неверно! Надо больше любить ее — больше, сильней!
Величко обратился к столпившимся кругом выпускникам:
— Товарищи, любите славу! Живите этим могучим инстинктом. Это он толкает людей, жаждущих бессмертия, в объятия смерти для того, чтобы, раз умерев, они жили всегда…
«По обыкновению, — парадокс!» — подумал Карбышев.
Пятнадцатого мая Величко умер. Его торжественно похоронили на кладбище Невской лавры. Вернувшись из Ленинграда в Москву, Азанчеев рассказывал, будто Величко объелся копченой колбасой. Когда о смерти славного фортификатора заговаривали с Карбышевым, Дмитрий Михайлович пожимал плечами.
— Да разве он умер?
— Помилуйте, вы же сами были на похоронах…
— Возможно. И все-таки умереть такому человеку, как Величко, нельзя!
Глава тридцать третья
Лекция на тему о «заграждениях» давно уже признавалась в Академии Фрунзе как бы коронной ролью профессора Карбышева. Сравнение — лучший способ познавания. И Карбышеву это было отлично известно. Рассказывая о гигантском развитии современной заградительной техники, он то и дело обращался к прошлому, живым свидетелем которого был и остался до сих пор. Эти «живые» свидетельства о временах, когда основными средствами оборонительного строительства были кирка, киркомотыга, лопата и топор, производили на слушателей глубокое впечатление: отталкиваясь от простоты прошлого, они вплотную подводили их к сложности современных способов заграждения. Маскировка… Карбышев вспоминал о русско-японской войне.
— Были мы одеты в белые рубахи, — говорил он, — пожалуйста: целься, бей… Я своим саперам приказал вымазать рубахи свежим соком зеленой травы. И сам то же сделал. Так мы и ходили до зимы полосатыми уродами…
Слушатели смеялись. Но смехом этим решалась серьезнейшая задача. После одной из таких лекций начальник академии сказал Карбышеву:
— Благодарю за удовольствие! Замечательно прочитали… И о рубахах прекрасно. Так и ложится в память…
— Но ведь вас не было на лекции…
Начальник академии рассмеялся.
— Скажу по секрету: я — ваш усердный слушатель. Ведь у меня в кабинете — микрофон. И Ефим Афанасьевич тоже поучается. Кстати, он просил вас к нему зайти…
Ефим Афанасьевич Щаденко был заместителем начальника академии по политической части. Он и Карбышев не столько знали, сколько слыхали друг о друге давно — во, времена Первой Конной и разгрома Врангеля, но с тех пор не встречались до двадцать четвертого года. Да и потом прямых отношений между ними не было. Щаденко мало якшался со старыми профессорами, — можно было подумать, что он намеренно сторонится и избегает их.
По всем этим причинам Карбышев пошел к Щаденке без ясного представления о том, чем будет этот разговор. И в самом деле, предугадать было невозможно.
— Старые знакомые, — сказал Щаденко, широко раздвигая тонкие губы, что должно было заменять улыбку, и шевеля подбородком, — очень старые… А знаем друг друга мало. Лекции вы хорошо читаете… да…
Маленькие глазки сверкнули на его широком лице, и шея покраснела от какого-то невидимого усилия.
— На приемных испытаниях видел я у вас толстую книгу… Словно в бухгалтерии, — гроссбух… И вы туда — кап да кап… Любопытство взяло: что за математика? А?
Карбышев коротко усмехнулся и кивнул головой.
— Есть у меня, Ефим Афанасьевич, такая книга. Веду ее уже несколько лет. Но только математика тут не при чем.
— А что?
— Это статистика.
— Интересно.
— Очень интересно. Я вношу в эту книгу такие записи, чтобы можно было видеть, кто из проходящих приемные испытания грамотнее: пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы или инженеры. Это — во-первых. Во-вторых, кто из них грамотнее по категориям службы: командиры рот, батальонов, полков. В-третьих, кто из них лучше знает инженерное дело. И все это — за несколько лет. В конце концов можно составить график и дать статистическую сводку…
Щаденко думал, двигая губами и подбородком. Потом сказал:
— А зачем ты это делаешь?
— Чтобы не вслепую и не зря готовить смену.
— И это ты сам придумал?
— Сам. Это — моя идея.
— Хочешь глубже работать, чем прочие. Ты мне дай сводочку, да и в книгу заглянуть: чертовски интересное дело. Дашь?
— Слушаю…
Через несколько дней Щаденко говорил начальнику академии:
— Золотой материал. Вот это профессор! Недаром еще Михаил Васильевич ему цену знал, — стоит. О таких не просто говорить, петухом кричать надо…
С этого времени Карбышев приобрел в лице Щаденки незаменимого политического руководителя, друга и наставника, всегда готового помочь.
* * *
Педагогическое творчество влекло Карбышева вперед. Новаторские идеи возникали одна за другой. Он высказывал их на лекциях, излагал в статьях. Аргументы статей производили сильное впечатление. Карбышев несколько походил на Величку тем, что, как и Величко, сочетал в себе крупное инженерное и общевоенное образование с любовью к полю, к полевой обстановке. И Величко и Карбышев были настоящими полевыми, не только военными, но и войсковыми инженерами. Из всех профессоров-специалистов в академии, пожалуй, именно Карбышев самым глубоким и отчетливым образом понимал сущность общевойскового дела.
— Фортификация больна оторванностью от войск…
Это говорил Карбышев. Только он и мог утверждать это. Всю свою преподавательскую работу он стремился превратить в своеобразный процесс насыщения общевойсковых разработок элементами инженерного дела. В соответствии с этим дисциплина, которую он преподавал, переставала быть просто фортификацией. Карбышев учил инженерной тактике. Эту новую науку он называл «ВИД», — военно-инженерное дело. Тогда же, в двадцать седьмом году, он написал для Большой Советской Энциклопедии статью под названием «ВИД».
Журнальные выступления Карбышева обязательно сопровождались точными расчетами выработки и материалов. Под эту сторону его работы подкопаться не было никакой возможности. Но на лекциях, перед слушателями, он не щеголял ни сложностью, ни тонкостью исчислений. Между расчетами большого инженера и задачами, рядового сапера — необозримая дистанция. И Карбышев уже давно и хорошо понимал, что для «осаперивания» войск необходимо прежде всего привить им уменье и вкус упрощенно рассчитывать оборонительные работы. Что надо знать военному инженеру, того может совсем не знать общевойсковик. Он обязан владеть лишь малой техникой ВИД — укрепить полевую позицию для обороны, навести мост, организовать переправу, загородить дорогу, разрушить препятствие. А для этого совершенно достаточно уменья делать простейшие рабочие расчеты с помощью обобщенных, удобных к быстрому практическому использованию норм. На опытных учениях по механизации инженерного строительства (оборонительные сооружения, плотины, заготовка материалов) Карбышев муштровал выпускников:
— А ну-ка, фиксируйте производительность машины в час, в сутки…
— Подсчитайте, что может дать за три часа работы каждое электросверло…
— Зачертите подъем воды в искусственном озере за…
Выпускники только повертывались…
* * *
Легенда об «упрощенчестве» Карбышева возникла не вдруг. Но крайне досадную, даже несколько оскорбительную для него форму она получила внезапно. Родилось это в каких-то штабах и центральных военных управлениях, смаковалось в ГИУ, перебросилось в академию и покатилось дальше в анекдотцах и смешках.
— Слышали, как Карбышев своих учит? Один пень, один день; один сапер, один топор… Ха-ха-ха!
Щаденко спросил Дмитрия Михайловича:
— Что это насчет тебя болтают?
Карбышев пожал плечами. Но губы его дрожали, когда он ответил:
— Зато теперь будет легко отличать умных людей от глупцов.
— Как же это?
— Услышав глупость, дурак ее сейчас же повторит. А умный делать этого не станет.
Щаденко взял его за руку.
— Не огорчайся. Придумал Лабунский, распространяет Азанчеев, — эка беда! Народ известный…
Карбышев ахнул от неожиданности. Лабунский… И в самом деле, как же было не догадаться? «Один пень, один день»… Только Лабунский и мог, только он…
* * *
Отступать Карбышев не собирался. Наоборот, он шел вперед. Кажется, никогда не делал он столько публичных докладов, не читал столько внеакадемических лекций, как теперь. Закладка Днепрогэса, десятилетие Красной Армии — все это были даты, вокруг которых широким веером размещались выступления Карбышева. И все они были посвящены одной главной теме: что такое ВИД. В академической ячейке ОСО бурно действовала инженерная секция: адъюнкты и слушатели под руководством Карбышева коллективно разрабатывали множество вопросов, один актуальнее другого. Карбышев предложил тему: ВИД и проблема индустриализации. Сделал доклад. Ячейка ОСО премировала доклад. К Карбышеву потянулись делегации из частей Московского гарнизона и высших учебных заведений. Явились студенты из какого-то втуза. Разговор происходил в присутствии Елочкина.
— Уж вы не отказывайте им, Дмитрий Михайлович, — попросил Елочкин, — ведь они сейчас — трость, ветром колеблемая. Вопрос о выборе военной специальности идет. А умнеть от чужих мыслей лучше, чем глупеть от своих…
И он рассмеялся с веселой и доброй заливчатостью. Тут же выяснилось, что один из студентов — родной племянник Елочкина, сын несмышляевского сапожника, убитого «чапанами» почти одновременно с дядей Максимом…
* * *
Доклад во втузе Карбышев начал со ссылки на Энгельса: — «Тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства». Основная задача военно-инженерного дела — облегчить маневр своих войск и стеснить маневр противника. Это — задача чисто тактическая. Но решается она оборонительными, подрывными, переправочными и дорожно-мостовыми работами, т. е. работами строительными. Ясно, что, в таком соответствии с формулой Энгельса, именно они-то и служат связью между тактикой и промышленным производством.
— Какое значение для армии, — говорил Карбышев, — имеет появление шестиколесных и гусеничных машин? Огромное. Этим реально ставится вопрос о широкой механизации армии. Механизированные части способны преодолевать чрезвычайно крутые скаты, Грязь по ступицу, воду высотой до полутора метров, поваленные наземь древесные стволы толщиной до полметра. В известной мере они могут обходиться и вовсе без дорог. Механизированные части способны двигаться по дорогам со скоростью до сорока километров в час, без дорог — до пятнадцати, а ночью и без дорог — до пяти. Что отсюда следует для армии? При наступлении — сохранность дорог и точные данные разведки об их состоянии; при отходе — максимальная порча дорог. Портить — малыми участками, но на больших протяжениях. Почему? Слушайте…
И все было так ясно, вразумительно, захватывающе-интересно, что слушали студенты Карбышева, не шевелясь, почти не дыша, а проводили — ураганом хлопков.
* * *
Племянник прибежал к Елочкину, запыхавшись. Это был большой черноглазый парень с белыми зубами.
— Дядя Степан! Дело-то какое…
— Какое?
— Из ума нейдет…
— Скажи лучше: из головы. Этак, Костюха, точней будет…
— Ну, из головы… Ведь решил я!
— Куда?
— Буду в Военно-инженерную пробиваться…
— Ой-ли? Да ведь прямо из втуза не примут. Сперва в армию надо. А ты, Костюха, хвостом о припряг не бей. Поспешишь — людей… того… Ты сперва обсуди, обдумай. Вспомни: о чем читал? Чем интересовался?
— Чем? Ну, знаете, дядя Степан… Мало ли чем… И мелкокалиберной винтовкой, и Леонардо да Винчи, и МХАТ, и токами высокой частоты, и…
— Ух, как много!
— А вот как доклад профессора вашего, Карбышева, услыхал, так и… Не я один! Много нас! И думать нечего!
У Костюхи плясало сердце, когда он говорил эти решительные слова, и странные возникали в нем при этом ощущения. Казалось ему, будто свежий морской ветер густо плещет прямо в лицо. Он закрыл глаза и увидел себя вместе с другими такими же. Он бежит вверх по широкому и крутому трапу, взбираясь на просторную палубу гигантского корабля. За кораблем — светлая синь неба, зеленая голубизна океанских безбрежии. И встречает бегущих звон волн. Костюха открыл глаза. Корабля не было. Но сердце вздрагивало, и в ногах шевелилась зарядка внезапно прерванного разбега. Дядя Степан улыбался. Как и всегда, улыбка фонарем освещала его лицо. Но в улыбке этой и в далеком блеске задумчивых глаз была не одна лишь радость за племянника — было и еще что-то, грустное. Дядя Степан вспоминал свою, совсем-совсем другую, молодость и солдатскую безысходность своих тогдашних ранних лет.
— Пробивайся, Костюха, в академию, — тихо проговорил он, — так и надо!
* * *
Еще с маньчжурских времен верен был Карбышев старой военной привычке: любил выпить за широким столом, шумно и весело, оживлялся, шутил и острил, но, сколько не случилось бы выпить, оставался трезв. Разве что почерк малость ломался, а мысль, знай себе, шагала через все препятствия, нигде не шатаясь, нигде не оступаясь и с толку не сбиваясь даже на самых запутанных маршрутах. И вдруг всему этому пришел конец.
Лидия Васильевна еще не вставала с постели. Новорожденный, — это был сын, которого ждали долго и нетерпеливо, — пищал, и все понимали, что в квартире появился какой-то главный жилец и что именно для него-то и существует квартира. У Ляльки было испуганное личико, и говорила она шепотом. Малютка Таня старалась ходить на цыпочках. Сдержанно порыкивал запертый на кухне Реджи. А новорожденный пищал все громче да громче…
— Ну и крикун! — слабым голосом возмущалась Лидия Васильевна. — Уж такой капризный, беда…
Карбышев усмехался.
— Ничего, мать, ничего! Это в нем рост его шумит…
Однажды утром ко всем этим голосам, громким и тихим, веселым и озабоченным, внезапно присоединился еще один, звонкий, чистый, с мягким южным выговором, когда-то часто и привычно звучавший в карбышевской квартире, а потом замолкший на целых три года. Как — три года? Да, да, конечно! Страшно подумать: три года ушли, как месяц, как неделя, как день…
Якимах откомандовал полком, отстажировался и вернулся в Москву на преподавательскую работу в академии. Мечта сбылась — он был адъюнктом. И вот он сидит в кабинете Дмитрия Михайловича, большой, здоровый, круглолицый, румяный, и, вскидывая быстрыми движениями головы соломенные волосы на затылке, рассказывает что-то, широко поводя могучими руками. Хоть и не был он здесь три года, а чувствует себя, как дома, — говорит громко, в полный голос. И вдруг…
Тишина, шорохи, писк новорожденного сразу ударили в уши Якимаха. Он вздрогнул и, внезапно оробев перед догадкой, перестал размахивать руками, съежился и прошептал:
— Вон оно что… Поздравляю, Дмитрий Михайлович… Поздравляю!
Потом вскочил, выбежал на носках в переднюю, открыл там свой дорожный чемоданчик и вернулся с пахучими свертками магазинной гастрономии и пузатым флаконом яркожелтого бенедиктина.
— Отметим!..
…Менялись чашечки с черным кофе, пустел пузатый флакон. Якимах рассказывал о больших одесских маневрах. Форсировали Куяльницкий Лиман…
— Утром, раненько, Лабунский с посредниками на берегу. Балагурит, будто ни в одном глазу. Вдруг командующий — снег на голову: «Как игра, с душой идет?» — «Так точно!» — «С артиллерией что?» — «Вся переправлена, на том берегу!» — «Отлично! Благодарю за…» И — уехал. А на самом-то деле, представьте, всего лишь одна батарея перебралась. Дальнейшее — у меня под носом. Часа через три наскакивает командующий на Лабунского: «Как вы смели наврать? Артиллерия до сих пор здесь…» Стоит с рукой у козырька да посапывает. И что это, Дмитрий Михайлович, за человек?
— Либо на все годен, — задумчиво сказал Карбышев, — либо ни на что не годен.
— Второе, пожалуй, вернее: не годен ни на что.
Флакон стоял пустой. Но в высоких тонких рюмках еще сверкала густая влага золотого ликера. Карбышев и Якимах подняли рюмки.
— Знаете, Петя? — вымолвил Дмитрий Михайлович каким-то не вполне своим, как бы несколько туговатым, черессильным голосом, показывая глазами на свою рюмку, — ведь это — последняя в моей жизни.
— Что? — изумился Якимах. — Как? Почему — последняя?
— Больше не выпью ни одной. Понимаете? Сын родился. Сын… Это ведь не простое дело — растить сына. Кончено, больше ни одной.
Якимах крепко закрутил головой, отчего его светлые волосы разлетелись в дым.
— Извините, не верю. Все так говорят, очень часто. А потом…
Карбышев выпил «последнюю» рюмку. Рука его медленно опускалась к столу. На лице остановилось странное выражение грустного упрямства — остановилось и замерло. Якимах подумал: «А кто его знает? Он — такой, что все может быть…»
* * *
Был ли Лабунский пьян на одесских маневрах, осталось неизвестным. Но на выпуск из академии он приехал положительно не в себе, с хмельным, буйно раззадоренным взглядом и заплетавшейся речью. Дерзкая вера в себя и тут его не оставляла. Он все порывался выступить с речью:
— Молодые командиры, молодые, сильные… Вот мой совет: забудьте обо всем, чему вас здесь учили, будьте просто хорошими, молодыми командирами… Француз де Голль… говорит…
Азанчеев взял его под руку. Кто-то крикнул:
— А чем кончите?
— Чем кончу? Очень просто…
Он был похож на загулявшего человека, который, хотя и смутно, но все-таки еще понимает гибельность своих выходок, однако уже внутренне решил: «Эх, пропадай все!»
— Чем кончу? Пожалуйста… За перс-пективы! Долой негр-амотность! Да здравствует индус-триализация! Хорошо? Ха-ха-ха!..
Банкет еще и не развернулся по-настоящему, когда Азанчееву удалось выпроводить Лабунского…
* * *
Трехлетняя служба в армии на командных должностях была для будущих адъюнктов академии периодом практического овладения военно-научной работой, накопления опытного материала и усвоения навыков, Якимах твердо знал теперь множество таких вещей, о которых раньше лишь догадывался. Ему было отлично известно, чего требует от командира современная война. Он сравнивал эти требования с тем, что дала ему в свое время академия, и находил, что она дала далеко не все необходимое. Значит, предстояло впредь или мириться с недостатками учебной работы, или, наоборот, протестовать, вносить предложения, бороться за их реализацию. Академия уже подготовила около двадцати адъюнктов, таких, как Якимах. Никто из них не колебался в выборе направления для своих действий. Что касается Якимаха, он выступал с требованием улучшений везде, где возможно: в партийной организации, в методических комиссиях, в академическом совете, на курсовых собраниях, в учебной печати. И это сразу столкнуло его с той частью старой профессуры, которую возглавлял Азанчеев.
Еще Ньютон учил: всякому действию равно противодействие. Если бы Якимах наскочил на прямое противодействие, он знал бы, что делать, так как явственно ощущал в себе нарастание силы, смелости и предприимчивости, — словно крылья за спиной его развертывались в полный размах. Вскоре по приезде в Москву он и влюбленная в него девушка отправились на выставку живописи в Центральный музей Красной Армии. Общее внимание привлекала здесь работа художника Грекова «Знаменосец и трубач Первой Конной». Якимах долго стоял перед этим полотном, ярким и светлым, с двумя могучими фигурами посередине. Он стоял и смотрел до тех пор, пока не почуял, как за спиной растет, растет… Что растет? Крылья. Они росли, а встревоженная девушка тормошила его за рукав.
— Петя, милый, что с вами? Петя?
И тут только Якимах догадался, что из глаз его падают горячие, радостные слезы. Нет, прямого противодействия Якимаху, конечно, нечего было опасаться. То самое, что подняло его до высоты этих радостных слез, перенесло бы его без труда через любую преграду. Но трудность как раз в том и заключалась, что не было никаких преград, и разбивалась энергия Якимаха не о возражения стариков, а об их улыбки. Равнодушие и скука не делают людей ни добрыми, ни умными. Однако оставаться любезными нисколько им не мешают. Якимах еще не знал этого. Встречаясь с Азанчеевым, он даже не без удовольствия замечал его утонченно-вежливое обращение с собой. Однажды Карбышев сказал:
— А ведь он вас боится, Петя!
— Почему вы думаете?
— Уж очень вежлив. Такие люди, как он, обычно скрывают под вежливостью страх…
Вероятно, так оно и было. Может быть, продолжалось бы так и дальше. Но в один прекрасный день Азанчеева прорвало. После какого-то заседания он отвел Якимаха в уголок и взвизгнул:
— Вот и разошлись наши пути…
— Отчего разошлись? — не понял Якимах. — И цель у нас одна, и…
— Ничего подобного!
Задранная голова Азанчеева вскидывалась все выше и выше.
— Не понимаете?
— Нет.
— Значит, не умеете рассуждать сколько-нибудь точно. А надо уметь… Я, например, в таких случаях, как этот, словно корень кубический извлекаю.
— И что же получается?
— Получается, что мы — конкуренты. Да-с!
И он окатил Якимаха звонким смехом, именно окатил, как холодной водой…
* * *
Подобно Лабунскому, Азанчеев терял сдержки. Лабунский бушевал и скандалил, что называется, в открытую. Азанчеев же стискивал зубы, думая, что таким образом помогает себе терпеть. Но люди видели, как он злится, и действительно его постоянно прорывало. Так прорвало его и на заседании уставной комиссии, когда он вдруг сцепился с Карбышевым. Началось с того, что Карбышев высказал свой взгляд на военный устав:
— Устав не должен заниматься изучением вопросов, о которых в нем идет речь. Он не доказывает и не мотивирует своих положений. Устав — это выводы, уже доказанные и обоснованные. Это, если хотите, справочник или даже конспект. Он — сводка образцов, изложение взглядов, выведенных из оценки современного состояния тактики. Прикладная тактика и устав развиваются в ногу с изменением условий тактической практики. Меняются условия — меняется устав…
Азанчеев слушал, отдуваясь. И, как только Карбышев кончил, решительно заявил:
— Не согласен! Загляните, пожалуйста, в мою работу: «Классики стратегии». Я привожу там слова профессора турецкой академии генерального штаба фон дер Гольц-паши…
Карбышев повернул к нему свое длинное лицо с узкими, насмешливо поблескивавшими глазами. Припухлости ниже глаз были покрыты веселыми, улыбчатыми морщинками. Толстые, крепкие, сильные губы, как бы в любой момент готовые заговорить, чуть-чуть дрожали. Но большой, высокий и широкий лоб был неподвижен. Помолчав секунду, Карбышев спросил:
— А вы сами не были профессором стратегии в турецкой академии генерального штаба?
— Что вы этим хотите сказать?
— Я хочу сказать, что иностранщина — это лакейство мысли…
— А логика? Логика?
— Формальная логика то и дело опровергается фактами.
— Но не вам же всех учить!
— Мы всегда учили и будем учить вас, войсковиков. Мы — не техники, а инженеры, мы — род оружия, мы — боевые войска, а не десятники. Мы учим вас тому, что лучше вас знаем.
— Логарифмам? Они ни к чему в уставе. В уставе надо говорить о том, что главное условие успеха в бою — сохранение в своих руках свободы действий. Одна воля скована, другая — свободна…
— Чепуха! Обе воли всегда свободны, до конца. Прочитайте у Энгельса, в «Анти-Дюринге»: что такое — свобода воли? Способность со знанием дела принимать то или другое решение. Обе воли свободны. Но свобода действий обеих сторон неодинакова. Преимущество определяется политическим и моральным состоянием войск, их выучкой, подготовленностью к бою, искусством и тактической грамотностью командиров. Здесь — секрет победы…
— Если так, то я не понимаю, о каком же уставе, о каких положениях и правилах может идти речь?
— Конечно, не о тех, которые нельзя уложить в действительность войны. И не о тех, содержание которых противоречит ее реальным формам. К чертям такие правила…
— Милый мой! Вы — анархист… Вы — опаснейший враг порядка…
Карбышев рассмеялся. И другие члены комиссии — тоже.
— Мы затеяли бесполезный спор, Леонид Владимирович. Я говорю: «Эта лошадь белая». Вы отвечаете: «Ничего подобного. Она зеленая!» — «Но позвольте, — возражаю я, — у птиц бывают носы». Вы приходите в ярость: «Собаки играют в покер? Не верю! Ни под каким видом!» Галиматья — не спор. Какие-то нелепые гипотезы…
— Однако все это не так бесполезно и смешно, Дмитрий Михайлович, как вам кажется, — задумчиво сказал, вдруг перестав улыбаться, председатель уставной комиссии, — я совершенно не согласен с Леонидом Владимировичем. Я целиком на вашей стороне. Создавать гипотезы — не наше дело. Но отрицать пользу от них тоже нельзя. Гипотеза — необходимая точка исхода всякого исследования. Без нее немыслимо открыть что-либо новое. Всякое изобретение начинается с гипотезы. Только надо, чтобы гипотеза была, во-первых, возможна, то есть не противоречила достоверно известному; во-вторых, обширна, то есть обнимала как можно больше связей между явлениями; в-третьих, проста, так как основные причины явлений всегда просты; в-четвертых, доступна проверке…
— Все это очень прльавильно, — раздраженно оборвал Карбышев председателя комиссии, — но чем скорее гипотеза перестает быть гипотезой, тем лучше. А мы…
— Я утверждаю, — прошипел Азанчеев, — что с товарищем Карбышевым становится совершенно невозможно разговаривать на серьезные темы…
* * *
Первая лекция Якимаха была подготовлена на славу. Якимах ее написал, а Карбышев прочитал написанное, выправил и улучшил. Сделал он это так тщательно, что текст замечаний оказался гораздо больше текста самой лекции. В течение ночи Якимах перестроил и переписал лекцию. Утром она поступила на вторую редакцию. Замечаний было значительно меньше, но переделка опять потребовалась кардинальная. Все это повторялось несколько раз. Никак нельзя сказать, чтобы Якимах играл в работе по усовершенствованию лекции только исполнительную роль переписчика. Совсем нет. Критические замечания Карбышева подогревали в нем его собственный дух творчества: рождались в Якимахе новые мысли, возникали соображения, никогда раньше не приходившие в голову, из намеков вырастали обоснованные утверждения. Словно кучер, подхватывал он вожжи на лету и вскакивал на козлы стремительно несущегося экипажа. Какой-то из вопросов ему удалось поставить еще смелее и увереннее, чем это было сделано в замечаниях Карбышева. Дмитрий Михайлович ужасно обрадовался.
— Рад, черльтовски рад, — повторял он, тряся руку Якимаха, — я всегда говорил, что командир роты, командир полка есть самая прочная основа для…
Наконец он запер Якимаха в своем кабинете, а сам уселся в столовой, чтобы слушать, как Якимах будет вслух читать лекцию. Снова было много замечаний. И результаты хронометража не прошли бесследно. Переделки, переделки… Лекция была рассчитана на два часа. Что-то в этом расчете казалось Карбышеву сомнительным…
…Якимах, бледный, поднялся на кафедру. Пестрое море голов, мозаика из лиц, глаз и губ, — все это не то плыло, не то скакало перед ним в странной неразберихе. Но это было так лишь в самый первый, очень короткий, момент. Затем лица стали очерчиваться и определяться. Не трудно было на каждом из них в отдельности уловить живой и острый интерес к тому, о чем собирался говорить Якимах. Однако главным для него все-таки оставалось общее лицо аудитории. Якимах радостно и тревожно волновался. Вдохновение крылатой мысли часто рождается из взволнованности чувств. И он действительно заговорил красиво, образно, жарко и убедительно. Неровные красные пятна вспыхнули на его лбу и щеках, глаза зажглись. Руки с трудом скрывали силу в быстрых, полных энергии жестах. Якимах отдавал слушателям свою веру в знание, и слушатели принимали ее как самое бесспорное из доказательств. Расстояние между ними и лектором все уменьшалось и уменьшалось. Постепенно оно исчезло совсем, как бывает в театре, когда зрители в зале и актер на сцене превращаются в одно…
И вот Якимах — у конца. Сказано все, о чем надо было говорить сегодня. Вот уже и нет больше ничего, что можно было бы еще сказать. А слушатели ждут, не дыша, и звонка не слышно… Якимах взглянул на ручные часы и ужаснулся. До звонка оставалось полчаса. Неужели он так спешил выложить свой багаж, что сбился со скорости? Какой скандал! Какой позор! Чем же займет теперь Якимах зловещую пустоту получаса? Чем?
Карбышев поднялся со скамейки, на которой присоседился к стрелковому комбату, чтобы слушать лекцию Якимаха. Лицо Дмитрия Михайловича было весело и спокойно. «Он не видит, не понимает моего провала…» — с отчаянием подумал Якимах. Карбышев быстро шагнул к кафедре.
— Благодарю вас, — громко сказал он Якимаху с хода, — вы прекрасно сделали, что оставили мне полчаса. К тому, что вы сказали о возникновения русской военно-инженерной школы, можно добавить…
Вот — поддержка, без которой Якимаху предстояло погибнуть. Еще красный от конфуза, но уже думающий о том, как бы получше скрыть предательскую радость, он сходит с кафедры, уступая место спасителю. И, грудью вставая на защиту своего ученика и преемника, Карбышев говорит:
— Теляковский отказался как от французской системы укреплений, так и от немецкой. Он первый заявил, что начертание укреплений должно сообразоваться с местностью и особым назначением форта. Форт, по Теляковскому, — передовая позиция, выгодная для наступательных целей. Форт должен иметь все возможности для самостоятельной обороны — гарнизон, резерв, боевые и жизненные припасы. А в Европе, несмотря на опыт революционных и наполеоновских войн, все еще продолжали считать главной линией обороны крепостную ограду, а не форты. Теляковекий уже указал на необходимость фланкирующих укреплений для защиты промежутков между фортами. А в Европе…
Карбышев взглянул на часы.
— По поводу лекций Теляковского, читанных им офицерам Главного штаба в 1847 году, одна из петербургских газет того времени писала так: у нас образовалась «своя русская школа инженеров, во многом отличная от всех школ европейских и уже готовая выдержать смело сравнение с ними как в военно-строительном искусстве, так и в истинно-военном взгляде на теорию фортификации». К тому, что вы слышали сегодня от товарища Якимаха, это имеет самое прямое и очень существенное отношение, потому что…
…Звонок громко запел, возвещая конец лекции, и Карбышев, раскланиваясь, сошел с кафедры.
* * *
Еще сравнительно недавно публичные выступления Азанчеева имели уклончиво-оппозиционный характер. Потом начали походить на крикливые выпады неврастеника. И, наконец, превратились в наглые атаки откровенного врага. Азанчеев уже не просто брызгал ядом и желчью, а постоянно кому-то чем-то угрожал. В бесчисленных брошюрах, статьях, докладах и лекциях он с ожесточением и фанатическим упорством отстаивал самые дикие взгляды на будущую войну. Так, например, в статье «У истоков стратегического мышления» он страстно доказывал, что массовая армия в будущей войне исчезнет; что место ее займет небольшая армия «рыцарей», построенная по избирательно-классовому признаку. С этим связывался горячечный бред на тему о «стратегии измора» и «перманентной мобилизации» — вреднейшая болтовня, способная запутать всякую, еще не вполне отстоявшуюся мысль. Спорить с Азанчеевым не было никакой возможности: лицо его тотчас же принимало странно-студенистый вид, походка становилась шаткой; крича и бранясь, он начинал захлебываться от злости. Бездна между Карбышевым и Азанчеевым углубилась настолько, что слова уже не могли перелететь через нее, — она их поглощала. Самые простые разговоры были бесцельны. «Какое-то августейшее презрение к людям, — говорил, пожимая плечами, Карбышев, — откуда? Почему?» И все-таки им пришлось еще раз схватиться — в последний раз…
* * *
Карбышев делал иногда сообщения для академической общественности — с перекрестными вопросами, живой оценкой расходящихся мнений, проверкой тез и антитез. С таким именно сообщением выступил он в октябре тридцатого года, имея в виду оттолкнуться от данных военно-инженерной практики, показать тупик буржуазной военной науки и обосновать, как естественный вывод, идею революционного преобразования военного искусства.
— Фортификация на войне есть инженерное выражение стратегических и тактических планов командования, — начал Карбышев, — так по крайней мере должно быть. Но, к сожалению, далеко не всегда так бывает…
Он знал, как важно лектору принимать в расчет свою аудиторию. В докладах для высшего состава он охотно ссылался на прошлое, не сомневаясь, что будет понят, как надо.
— В тактическом отношении военно-инженерная оборона за время мировой войны перешла от линии к полосе, а затем и еще больше углубилась. К концу войны строились не одна, а три полосы с таким расчетом, чтобы артиллерия не могла подавить следующей полосы, пока не взята предыдущая. Борьба за укрепленные полосы была венцом технической войны на русском фронте. За три года русская армия израсходовала столько колючей проволоки, что… Астрономия! Оперативные штабы превратились в бухгалтерские конторы, вычислявшие, сколько снарядов пришлось на аршин окопа, а пехота — в подвижные мишени для артиллерии противника и в прикрытие для своих пулеметов. Что же это такое? Это — крах армии. Взвалив на себя чуть ли не с первого дня войны задачу спасения англичан и французов, русская армия была, наконец, сокрушена в шестнадцатом году. Революция семнадцатого года лишь сделала это обстоятельство вполне очевидным…
Крах армии — крах военной науки. Буржуазная стратегия повела войну на маневре по наполеоновским: рецептам. Но средства войны у буржуазии XX века и у Наполеона в начале XIX века были совершенно различны. Это привело к перенасыщению фронтов средствами войны и развязало силы многих противоречий. Стратегический маневр должен был исчезнуть. В тесноте сплошного фронта для него не осталось места. Маневр заменился прорывом. Однако новые стратегические отношения не родили новой тактики — искусства удержания больших пространств малыми силами не возникло. «Новая» тактика продолжала оперировать ударными, прямолинейными, элементарна простыми приемами: «Цепь, вперед! Цепь, ко мне! Ура!» Если прежде маневрировали армии, корпуса, дивизии и лишь иногда полки, то теперь они совершенно отказались от маневра. Маневр стал делом отделения, взвода, роты. Это, товарищи, и есть неопровержимое доказательство банкротства старой буржуазной теории военного искусства и крах его практики в гигантских жертвах и затяжке войны. Это — кризис старого-военного искусства, — громадное расхождение между средствами и усилиями, затраченными на войну, с одной стороны, и результатами, полученными от войны, — с другой…
Все попытки извлечь из печальной истории недавнего прошлого корень прогноза о характере будущих войн — ошибочны. Впрочем, они и не могут быть иными…
— Это вы обо мне, конечно, — раздался змеиный свист Азанчеева.
— Да, главным образом о вас, — отвечал Карбышев, — ибо навязывать нашему народу, который крепнет и цветет, силы которого множатся и сказочно растут в огне и буре всяческих преодолений, — навязывать этому народу-богатырю, народу-победителю тенденции стратегического смирения в будущих военных испытаниях стало теперь вашей специальностью. Председатель Союзного Госплана Куйбышев составляет гигантские пятилетние народнохозяйственные планы, а вы… Ведь вы же знаете Куйбышева, вы только вспомните… Военная наука должна быть партийна, как и всякая другая наука…
Карбышеву неожиданно бросилась в глаза бледная одутловатость азанчеевского лица. «Что с ним?»
— Я не хочу ни говорить, ни думать ничего дурного, — сказал он, — может быть, это у вас просто от малокровия…
В зале засмеялись. Азанчеев встал со своего места.
— Ваши дурацкие шутки, товарищ Карбышев, останутся без моего ответа. А по существу… История мировой войны — это история перехода империалистической войны в войну гражданскую. Я это понимаю! нисколько не хуже вас. Но интересуюсь не этим…
— А чем же? — раздался из зала свежий, молодой голос.
— Для меня, как военного исследователя, история мировой войны есть прежде всего история непрерывного ухудшения и разложения пехоты…
— Пехоты? — воскликнул молодой голос. — Разложения? Да ведь пехота — это основная масса участников войны, это — рабочие и крестьяне. И они, по-вашему, разлагались?
— Конечно…
— Не то слово, товарищ Азанчеев! Вы говорите: «разлагались». А на самом деле, они организовывались, осознавая свои классовые интересы…
— Но ведь они же дошли до отказа воевать…
— То есть вы хотите сказать, что они «разложились» в высшей степени. А на самом деле они так хорошо организовались, что еще и повернули оружие против своих капиталистов и их правительств…
Молодой голос звучал все громче, отдавался в ушах людей, наполнявших зал, все звончей. Якимах шел по залу и говорил:
— А у вас получается, что наша великая революция всего лишь «бунт» разложившейся солдатской массы. Я молод, своими ушами не слышал, но знаю, что это самое еще Керенский говорил!
— Позвольте! Позвольте! — тяжко отдуваясь, свистел смертельно бледный Азанчеев. — Позвольте же! Я совершенно согласен, что мировая война разрушила старое военное искусство буржуазии и создала основания… уф! пхе!.. основания… нового искусства империализма…
— И больше ничего?
— А что еще?
Якимах уже вышел на передний край зала и стоял теперь лицом к публике, взволнованный, разгоряченный, подкрепляя выразительность своих слов короткими, быстрыми жестами. У него были прямые, широкие плечи, железные руки с ровными блестящими ногтями и стройные сильные ноги. Большой, крутоголовый, с запавшими вглубь острыми глазами, он, как и прежде, оставался крикуном. И по мере того, как бурная весна его жизни начинала переходить в лето — жаркое, деятельное, изобильное, — все меньше понимал он спокойное отношение к делу. Карбышев смотрел на него с восхищением.
— Что же еще?
— А то, что на полях сражений мировой войны, в тылу этих сражений, в схватках ожесточенной классовой борьбы возникли основания для другого, для нового военного искусства, — для военного искусства революции. Если вы не сознаете, товарищ Азанчеев, неизбежности революционного преобразования военного искусства, не видите, как оно превращается в советское, сталинское, военное искусство, то откажитесь же от работы в этой области. Мы не можем вам разрешить заниматься подделками…
— Что?.. — взвизгнул Азанчеев. — Я требую…
Якимах, вероятно, не слышал, а если и слышал, то во внимание не принял. Он продолжал говорить, и мягкая коричневатость, окружавшая его живые, упрямые глаза, делала их еще больше, глубже и живее.
— …Подделками. Нельзя, чтобы под маркой борьбы за освобождение нашего мышления из плена буржуазных доктрин нам подсовывали подлинные концентраты буржуазных военных теорий эпохи империализма. Теории эти отражают в себе все характерные черты противоречий действительности, в которой отживает свой век империализм. Мы ничего не желаем заимствовать из практики кризисов, фашизма, социал-патриотизма, — не хотим! И вам, товарищ Азанчеев, не позволим проповедывать эту зловредную дребедень!
Последние слова Якимаха слились с шумом, вдруг разбежавшимся по залу. Шум быстро поднялся, но еще быстрее улегся. И тогда пронзительный голос Азанчеева ворвался в тишину.
— Говорю и буду говорить! — кричал он. — Это мое единственное, беспощадное и вместе с тем великое право. Нет, вы не заставите меня молчать…
И он действительно говорил — много, долго, с неудержимой экспрессией. Но так скучно и нудно, как если бы кто-то взял да и вырвал из него жало.
* * *
Бледнозолотистый свет осени играл за окном. Тонкий переплет рамы длинными и косыми прямоугольниками вырисовывался на гладком полу. Седой профессор, с желтым от страха лицом, оглядываясь, говорил Карбышеву:
— Да, да… факт! Я сам читал приказ. Азанчеев уволен из академии. Факт.
Профессор оглянулся и припал губами к карбышевскому уху.
— Дело… Что за дело?.. И Лабунский — тоже… И… И…
Карбышев смотрел в окно на осеннее, светлое небо и думал. Потом невесело улыбнулся.
— Что делать, Иван Иваныч? Всему бывает конец. Два конца — только у колбасы. И никак нельзя терпеть, чтобы на фундаменте, который построен для храма, стоял… трактир!..
Когда стало известно, в чем именно заключалось «дело», Иван Иваныч снова прилип к Карбышеву.
— Реставрация капитализма… Интервенция… Вредительство… Как же это они, а? Да что же это они, а?
Теперь Карбышев уже не улыбался.
— Шкуру с живого медведя вздумали делить мерзавцы!..
* * *
Четвертого ноября тридцатого года приказом по академии за № 215 был подведен итог прошлому. В приказе отмечалась неудовлетворительность научно-исследовательской работы в академии. Кафедры до сих пор все еще не приобрели значения научно-исследовательских коллективов. Этого никак не хотели допустить прежние руководители кафедр. Находя для себя невозможным вести научную работу в коллективе, они монополизировали за собой персональное право «вещать»…
Приказ выделял из общей картины две кафедры — авиации и военно-инженерного дела. Проблемы, которые принимались этими кафедрами на разработку, были актуальны и важны с точки зрения совершенствования боевой мощи Красной Армии. В частности, кафедра военно-инженерного дела много занималась вопросами службы заграждения. Она сумела своевременно и верно определить основное в тех изменениях, которые вносит в военное искусство непрерывно развивающаяся техника.
* * *
Дома, трубы, деревья плавали в алом свете утра, прикрытые синим облаком туманных курений, — как хорошо! Машина мчалась вдоль набережной. Закраины Москва-реки мертво спали в хрустальном гробу, но середина еще дышала дымными полыньями. Полнеба пылало холодным золотом. Лиловые и сизые тени вытягивались по белой земле. Климент Ефремович Ворошилов ехал в академию, чтобы поздравить ее с только что полученным наименованием «Краснознаменной». Ему предстояло выступить с небольшой речью на торжественном внутриакадемическом заседании. И, поглядывая из окна машины на декабрьский московский пейзаж, он обдумывал сейчас эту свою речь. Его простое, русское, всем советским людям превосходно известное лицо было серьезно. Он делал зарубку в памяти: «Карбышев, Карбышев…»
После заседания Ворошилов подошел к Карбышеву, взглянул на него быстро, но пристально и сказал:
— Благодарю вас за верность, добросовестность, честность и талант!
Глава тридцать четвертая
В марте тридцать первого года вышла в свет «Саперная таблица» Карбышева с подзаголовком «Графический упрощенный метод расчета оборонительных работ». Это была маленькая карманная книжечка. Содержание ее распадалось на пять разделов:
1) нормы построек на батальонный район («Окно»);
2) нормы успеха работ («Человек»);
3) заготовка материалов;
4) метод расчета;
5) ориентировочные данные.
Все это было сведено отчасти к графику, — в таблице серьезную роль играло изображение человечка с лопатой, — отчасти к иным, но тоже очень наглядным формам раскрытия подсчетной механики. Нормы таблицы были укрупненными нормами, сводными, средними, прикладными, удобными для практического использования при подсчетах полевого характера, когда нет под рукой справочника, нет инженера, у которого можно спросить. «Окно Карбышева» — удобнейшая подсказка для расчета укрытий, ходов сообщения, препятствий и маскировки без длинных цифирных записей, наизусть. Имея перед глазами «окно Карбышева», командиры батальонов, полков и дивизий уже не могли бы давать инженерам безграмотные задания. А те полевые инженеры, которые раньше с гордостью говорили о себе: «Мы — инженеры, мы — за точность, мы — за точный расчет», — теперь получали возможность простого и быстрого решения практических задач. Командир дивизии не прикажет теперь навести мост за два часа, если для этого требуется шесть часов; и дивизионный инженер сразу скажет комдиву, сколько ему надо времени, людей и материалов для этой работы. Словом, нормы «Саперной таблицы» были совершенно необходимы общевойсковым начальникам. Карбышев ни одной минуты в этом не сомневался. У него был на этот вопрос очень твердый и, главное, свой собственный взгляд. Собственный взгляд невозможен без широкого кругозора. Но Карбышев знал военно-инженерное дело не в одних лишь частностях, как многие другие, а в целом, и отсюда именно рождался его уверенный взгляд.
Ко времени выхода в свет «Саперной таблицы» в академии уже не было Азанчеева; не было и Лабунского в ГИУ. Следовательно, ни тот, ни другой не могли больше вредить делу. Карбышев полагал, что его «таблице» обеспечены признание и самое широкое применение. Пользуясь таблицей, он старался и в аудитории, и на ученьях разъяснить слушателям, к чему должны сводиться оперативно-правильные взаимоотношения между инженерными начальниками и общевойсковыми командирами. Ему казалось, что цель мало-помалу достигается. Казалось это также и Якимаху. И Елочкин подтверждал это своими наблюдениями над слушателями, приходившими работать в инженерный кабинет. Теперь Карбышев уже не был одинок, как месяц на небе…
Однако и антагонисты не переводились. Особенно возмущала их именно «Саперная таблица».
— Профанируете, Дмитрий Михайлович, науку… «Великий упрощенец…» Сложное и трудное подменяете простым и легким…
Антагонисты, конечно, не могли, да и не захотели бы стакнуться с Лабунским или Азанчеевым. Тут было совсем иное, — не шарлатанство и не отсебятина, а нечто гораздо более серьезное, чем водевильные шутки Лабунского. Может быть, даже и легенду-то об «упрощенчестве» Карбышева сочинил вовсе не Лабунский, а лишь надел на нее колпак с бубенчиками.
— А вот когда вам самому приходится выполнять расчетное задание, — спрашивал антагонист, — вы его тоже упрощенным способом выполняете?
Карбышев любил спорить до ссор и крика. Так он спорил прежде с Лабунским, с Азанчеевым. Но сейчас все было иначе…
— Видите ли, — спокойно отвечал он, — того смысла, который вы, повидимому, придаете моей деятельности, она отнюдь не имеет. Общевойсковых командиров я обучаю упрощенным способом, но задания, которые мне поручаются, выполняю с абсолютной точностью, как настоящий военный инженер, ибо я ведь и есть инженер, а не общевойсковой командир. Преподаю же я, как вам известно, в Академии Фрунзе и предлагаю свои упрощенные расчеты не инженерам, а общевойсковикам. В этом и заключается главное! Надо, чтобы общевойсковики начали разбираться в инженерных вопросах. Только тогда, наконец, они перестанут предъявлять инженерным начальникам невыполнимые требования…
Антагонист не сдавался.
— Однако семью семь все-таки сорок девять, а не пятьдесят, — недовольно твердил он, — нельзя же с таблицей умножения обращаться, как с воробьем…
Теперь и Карбышев вспыхивал. Лицо его покрывалось темноватыми пятнами. Антагонист ничего не понимал. Хуже того, даже и поняв, он, вероятно, сделал бы вид, будто не понимает.
— Отсюда мы пойдем врозь. Полевой подход к инженерному делу, по-моему, в том заключается, что у сапера семью семь действительно дает иной раз пятьдесят. А если, кроме того, нужно еще подогнать инженерное дело под вкусы и стиль общевойсковых командиров, то уже получится обязательно не сорок девять, а пятьдесят…
— И вы подгоняете?
— Безусловно. Подчиняю инженерное дело общевойсковым задачам. Метод моей «Саперной таблицы» — это метод быстрого применения инженерных знаний. Я сделал так, что инженерное дело кажется войсковым начальникам простым. Но ведь само-то оно от этого не стало проще, — поймите! Оно только стало доступнее…
Антагонист не понимал…
* * *
Много, очень много командиров-фрунзенцев пропили за последние годы через руки Карбышева и отправились в армию командовать частями. Уезжая, все они были уже в известной степени «осаперены». Теперь к их скромным познаниям присоединился еще и метод расчетов по «саперной таблице», быстро и широко распространявшийся в армии. Карбышеву было известно, что услугами его таблицы весьма охотно пользовались даже такие командиры, которые и не нюхали никогда Академии Фрунзе. Но что же в конце концов из всего этого получилось?
Постоянно бывая на разных маневрах и учениях в роли то консультанта, то руководителя по ВИД, Карбышев старался понять. Трудное дело! Командир кричал инженеру:
— Не торгуйся! Делай! От самого Карбышева знаю, что за два часа вполне можно построить.
Инженер пытался возражать. Но командир гнул свое:
— Пустяки! Как у Карбышева: один сапер, один топор, а потом множь…
— Да ведь летом — одно, зимой — другое; в лесу — так, в степи — этак… Сперва откорректировать надо…
— Брось! Без того верно будет…
Плохо, очень плохо! Вот она — настоящая вульгаризация инженерного дела… Разве этому учил своих питомцев Карбышев? Однако бывало и совсем по-иному. Командир говорил инженеру:
— Ты, брат, прав, — сделать за два часа невозможно. Я ведь и сам кое-что понимаю, еще от Карбышева набрался!
Толки подобного рода обязательно возникали между инженерами и командирами везде, где строилась позиция, наводилась переправа, минировалась дорога. И развивались эти бесконечные толки обязательно в одном из двух вариантов: то обе стороны с полуслова понимали друг друга, то, наоборот, затевалась неразбериха, тащившая дело не вперед, а назад. Карбышев долго не мог разгадать загадку. А решение оказалось простым. И нашла его дочь — Елена.
* * *
Ляля давно уже была худеньким, хорошеньким подростком со смуглым личиком, темным сиянием пышных волос над головой и острыми, черными, отцовскими глазами. Не только лицом и глазами, но и характером она была схожа с отцом: как он, упорна и неутомима в занятиях, как он, кряжиста в них и слегка фанатична. Ляля превосходно училась. Дмитрий Михайлович тщеславился школьными успехами дочери и ни при каких условиях не оказывал ей снисхождения в учебных трудностях. На Лялю обрушилась страда: экзамены. Дни торопились. Они бежали, обгоняли друг друга. Ночи были узенькой и тонкой перегородкой между днями. Эта перегородка то и дело ломалась, и тогда дни сливались в ураган времени. Девочка забыла про отдых, про еду, про сон. А отец твердил:
— Доводи, цыпленок, до конца! Доведешь — героем будешь, Не доведешь — мокрой курицей…
Наступала бессонная ночь. Дочь упорно копалась в учебниках и классных записках. Под висячей настольной лампой, в белом круге яркого света, среди большой темной столовой и в полночь, и под утро маячила ее кудрявая головка, поблескивал неотрывным напряжением мысли взволнованный взгляд. За настежь открытой дверью, в кабинете у письменного стола, отец клевал носом над английской книжкой. Никто, конечно, не мешал ему лечь спать и предоставить Лялю ее горькой судьбе. Однако честная тяга к товариществу, привычка подавать пример и еще какое-то сильное и похожее на страсть к достижению чувство держали его начеку. «Счастье — возможность борьбы и творчества…» Но английский самоучитель действовал как снотворное. И тогда Карбышев брался за академические планы, за программы, за папки с чертежами и схемами…
Совсем недавно начальником академии был назначен Шапошников. Собрав профессоров и преподавателей, новый начальник объявил: индустриализация страны идет вперед, социалистическое переустройство деревни — тоже; это — основа бесчисленных перемен, со сказочной быстротой совершающихся в армии и кругом нее; кафедра — решающий центр научно-исследовательской работы в академии; долг и обязанность каждого преподавателя — вести эту работу, используя опыт народнохозяйственного строительства для обогащающих военную науку открытий. Задолго до того как Шапошников предъявил эти требования, Карбышев уже шел по тому же самому пути. Он доказывал свои права на новаторство, отстаивал их на лекциях и в докладах и работу свою делал, именно как новатор. Глубокое сознание своей правоты всегда горячило, поднимало на взлет его творческую фантазию. И теперь он быстрее всех ответил на призыв нового начальника академии свежей идеей. Это была идея фугаса — «орешка». Елочкин уже возился в инженерном кабинете с какими-то стекляшками, похожими на коробочки с ваксой, а сам Карбышев, отстранясь от технической стороны дела, усиленно занимался проектами практического применения готового «орешка»…
— Папа, — вдруг громко сказала Ляля, — у тебя сейчас глаза были закрыты! Не притворяйся, хочешь спать. И я хочу, очень. Не могу больше. Я не притворщица, как ты. Не могу!
— Гадкий цыпленок! — попытался сконфуженный отец отбить неожиданную атаку, — да я закрыл глаза только для того, чтобы лучше видеть «орешек», а ты их открыла, чтобы меня поддеть. Нехорошо! Черльтовски нехорошо!
— Ах, как я устала! — вздохнула Ляля, — и как я хочу спать! Папа?
— Что?
— Я умная?
— Хм…
— Нет, кроме шуток… как ты думаешь?
— А сама ты как думаешь?
— Наверно, да!
— Почему?
— Я скажу. Вчера… Вчера ты говорил Якимаху, что не понимаешь, как это получается: одним людям в армии инженерная наука идет на пользу, а другим во вред. Говорил?
— Да, — подтвердил Карбышев и с любопытством спросил: — а ты при чем? Общевойсковым командиром тебе не быть. Военным инженером…
— Тоже. Я — девочка…
— Посмотрим…
— Нет, я не шучу, папа. Одним — польза, а другим — вред… И ты не понимаешь…
— Не понимаю, Аленка! — грустно согласился отец.
— А я понимаю.
— Ну?
Ляля подумала. Ее темные брови густо сдвинулись над тонким переносьем, все личико, чистое и ясное, потемнело, как это иногда бывало и у отца, и вдруг сделалось старше. Но продолжалось это миг. Она засмеялась и сказала:
— Проще простого. То самое, что умным командирам идет впрок, глупым…
— Аленка! — закричал Карбышев, выбегая из кабинета в столовую, обнимая и целуя дочь. — Умница! Верно, дочь! В том и вся суть… в том! Одни — умные, а другие…
* * *
Одни умирали, другие болели; все без исключения старели, седели, лысели; но доктор Османьянц оставался прежним. Как и два десятка лет назад, он был в меру лыс, в меру сед, поворотлив в мыслях, остер на язык и светился «склеротическими» улыбками. Декабрьское солнце еще не скатилось с чистого неба, и золотые лучи его весело разбегались, скользя по серебряной земле, когда Нерсес Михайлович пришёл на Смоленский с немецким журналом «Вермахт» в кармане. Сунул журнал Карбышеву: «Полюбопытствуйте!» — и сейчас же приступил к Лидии Васильевне с расспросами и сентенциями по поводу здоровья.
— Старик Кант говорил своему слуге Лампе, что готов умереть от чего угодно, но только не от медицины, — как вам это нравится, моя дорогая?
Карбышев быстро перелистал журнал и сразу наткнулся на рецензионную статью о своей, вышедшей в прошлом году, книге: «Разрушения и заграждения». Автор статьи довольно обстоятельно оценивал книгу Карбышева как труд, обобщающий практику боевого использования специальных частей, но особое внимание уделял вопросу об устройстве полосы предполья. Идея устройства такой полосы с целью разгрома противника еще до того, как он дойдет до переднего края, впервые ставилась и разрабатывалась Карбышевым в его книге с необходимой полнотой. Несколько французских и немецких журнальных статей, на которые книга ссылалась, лишь подбирались к этому вопросу, да и то больше с точки зрения исторических аналогий и примеров. Рецензия в «Вермахте» отдавала должное как самой идее, так и самостоятельному характеру ее широкой разработки советским военным инженером.
— Ну-с? На что же это похоже? — спрашивал, хитро улыбаясь, Османьянц.
— На что?
Странно, что комплименты немецкого автора не вызывали в Карбышеве ничего похожего на радость успеха или на чувство удовлетворенного самолюбия. Дмитрий Михайлович вдруг с удивительной ясностью представил себе, что мог испытывать Теляковский, когда его знаменитая книга тотчас по выходе в свет была принята как учебное руководство Сен-Сирской военной школой во Франции; когда ее немедленно перевели на немецкий, французский, испанский и шведский языки. Или когда немецкий военно-литературный журнал в 1856 году написал: «Школа, образующая таких теоретиков, как Теляковский, и таких практиков, как… Мельников, по справедливости, должна считаться первой в Европе». Конечно, не равняться «Разрушениям и заграждениям» с классическим трудом Теляковского, но и «Вермахт» — не Сен-Сир…
— Хотел обрадовать, — разочарованно говорил доктор, — а с вас, как с гуся вода.
— Федот, да не тот, — усмехнулся Карбышев.
— Похвалили не там, где хотелось бы? Мало чести? Нельзя так, Дмитрий Михайлович, нельзя! Мир заражается от нас новым здоровьем. А вы зачем пишете ваши книги?
— Пишу из потребности быть полезным. И еще из другой потребности — разгрузить мысль.
— Как это — разгрузить?
— Очень просто. Нельзя же без конца таскать с собой по свету битком набитый чемодан. Когда-нибудь, где-нибудь надо выложить из него содержимое: «Вот, смотрите…»
— Прекрасно. Но…
— Нерсес Михайлович, — позвала из столовой Лидия Васильевна, — идите пить чай…
— Моментально…
Османьянц и Карбышев вышли к столу, продолжая разговаривать, но почему-то уже не о статье в журнале «Вермахт», а о закладке нового здания Академии Фрунзе на Девичьем поле.
— Эх, Михаил Васильевич! — грустно произнес доктор заветное имя, и тишина повисла над столом…
* * *
Когда, наконец, Военно-инженерная академия перебралась в Москву, Наркевич занял в ней должность преподавателя. Вместе с тем он руководил научно-исследовательским отделом в одной из московских проектировочных организаций полувоенного типа. И вот Карбышев стал частым гостем как Инженерной академии, так и НИО.
Слава новатора бежала впереди Карбышева не потому, что он изобретал, а потому, что активно предлагал новое, разбрасывал смелые и неожиданные мысли. Он помогал направо и налево, никогда и нигде не делая секрета из своих мыслей. Он был, как открытая книга, из которой очень и очень многие черпали недостающие им сведения. Разница с книгой заключалась лишь в том, что книга не может дать больше того, что в ней написано, а Карбышев представлял собой живой источник разъяснений по любому военно-инженерному вопросу. Бывали, впрочем, вопросы, и его затруднявшие. Тогда он говорил: «Не знаю. Но сейчас узнаю и скажу». В НИО к Наркевичу он обычно для того и захаживал, чтобы кое-что узнать или кое-что сказать. Однако прекрасная способность Карбышева быть полезным как-то плохо прививалась в НИО. И очень возможно, что виноват в этом был он сам. Здешние сотрудники выступали с новой идеей не иначе, как предварительно закрепив ее за собой или подачей заявки, или докладом, или статьей. А Карбышев то и дело вторгался в запретные сферы их «личных» владений. Так, например, ему ровно ничего не стоило, пробегая по рабочим комнатам НИО к кабинету Наркевича, ухватить с чьего-нибудь стола чертеж и тут же углубиться в его рассмотрение, хотя чертеж только потому и лежал на столе, что хозяин не успел его припрятать. Ничего не стоило вцепиться в лаборанта: «Выкладывайте-ка, что нового?» И все это — прямо, просто, откровенно… Быстрота, внезапность, совершенно открытый характер набегов Карбышева на НИО крайне неприятно действовали на притаившихся в нем скопидомов. Смелая активность, с одной стороны, и застарелая, подагрическая привычка к осторожному ковылянию — с другой, размах и крохоборчество столкнулись лицом к лицу. И по месту столкновения распространился тяжелый дух шепота и сплетен. Добравшись до кабинета Наркевича, Карбышев бросал пузатый портфель на подоконник и говорил:
— А все-таки скверный тут у вас воздух! Что-то условное, невкусное, непитательное, как сахарин…
— Ну уж это вы чересчур! — недовольно морщась, возражал Наркевич.
Теперешний Наркевич совсем не походил на прежнего. Лицо его из бледного стало сероватым; черные, как дым, волосы — сивыми; надтреснутый голос превратился в плотный баритон; и по-детски узенькие плечи развернулись в длинное коромысло. Но как был он смолоду упорен, настойчив и в суждениях своих суховат, таким и остался. И попрежнему не хватало простора для творческой мысли в его умной, смелой и честной голове. Отношения Наркевича с Карбышевым складывались так, что разногласий между ними не было и не могло быть; только вел вперед Карбышев, а Наркевич лишь следовал с остановками; Карбышев открывал, а Наркевич догонял и придерживал.
Между тем время не шло, а бежало, и механика скорости, с которой оно совершало свой бег, казалась непостижимой. Дряхлое, безобразное исчезало, как сон, со старых улиц Москвы. Новое буйно поднималось на них в железобетоне и стекле гигантских сооружений, в сверкающем мраморе облицовок, в небывалой ширине тщательно выпрямленных трасс. И Карбышев и Наркевич — оба видели это. Вот они глядят из НИО в окно, как бы ожидая подсказки от того, что происходит снаружи. Но там нет ничего интересного. День хоть и майский, а серенький; в воздухе парит; пахнет близким дождем. По контрасту с этой обыкновенностью Наркевич вспоминает последние концерты Барсовой и Козловского. Наркевич знает толк в музыке, и ему приятно вспомнить, как пела вместе с Барсовой и Козловским жизнь и как в ее чистом голосе звенело счастье. На концерт Поля Робсона Наркевич не попал, но, когда Мариам Андерсен выступала в Большом зале консерватории[57], он сидел и слушал, застыв в немом очаровании. И сейчас он слушает, как за окном шумит Москва, но слышит все еще негритянскую песенку Андерсен…
Парит… Пахнет дождем… Все? Нет. Шумит Москва. Это — шум самой стремительной жизни на всем земном шаре. За Москвой идет страна, недавно завершившая гигантский тур великого пятилетнего труда. Вдруг что-то поднимает Карбышева со стула и ставит на ноги.
— Видите ли, Глеб… Я «их» понимаю. Но что же мне делать, если я люблю «новенькое»! А вы чем можете похвастать?
К конфликту Карбышева с сотрудниками НИО Наркевич относился двойственно. Конечно, сотрудники были правы юридически, этически и еще с множества других точек зрения. И, конечно, такой человек, как Наркевич, не мог не уважать их права и их правоты.
Но этого… не получалось. Хмурясь, морщась, внутренне стыдясь своей непоследовательности, Наркевич все-таки ясно видел в «вольных» действиях Карбышева нечто большее, чем обыкновенное право или обычная правота, нечто высшее, чем любой из уставов обыденной чести. И оправдывалась эта безусловная, обязательная, необходимая карбышевская бесцеремонность страстным желанием пользы для армии и страны. Карбышев быстро ходил, почти бегал по маленькому кабинету, с жадным нетерпением потирая руки. Никто лучше Наркевича не знал, откуда эти нетерпение и прыткость. Они — от мысли, на Которой безраздельно сходились убеждения старых друзей; если можно покрывать недостатки военно-инженерной техники заимствованиями из области промышленных достижений, то это и надо делать во что бы то ни стало. Мысль принадлежала Карбышеву. Он относил ее прежде всего к механизации трудоемких работ — земляных, дорожных, мостовых, лесозаготовительных. Имелись в виду траншейные землеройки, машины для установки надолб, электризация распиловки, скреперы, грейдеры, лопаты Беккера… Уже не первый день Карбышев и Наркевич прикидывали, как лучше приспособить эту технику, как спарить разные механизмы и что из этого должно получиться в смысле освобождения человеческой силы. И на чертежах мелькали сети проволочных заграждений с кольями и без кольев, рогатки, шахматные препятствия, бороны, засеки, фугасы, запруды. Сегодня Карбышев пришел за последними расчетами по движению танка.
— Чем можете похвастать, Глеб?
Расчеты сделаны. Да, танк не пройдет ни через болота, ни через срубленный, но невыкорчеванный лес, ни через отлогости крутизной больше сорока градусов, ни через отвесные эскарпы высотой больше, чем сам танк… Наркевич закурил папиросу, отошел от окна и, повернувшись спиной к звонкой майской улице, собрался доказательно представить расчет, когда Карбышев остановился прямо перед ним.
— Слушайте, Глеб! — взволнованно сказал он. — Почему мы так медленно работаем?
— Я не думаю…
— А я думаю. Только об этом и думаю. Вот уже скоро полгода, как Гитлер уселся на загорбок немецкого народа. И рейхстаг сгорел. И Япония вышла из: Лиги наций. А мы… Читали вы в газетах последнюю речь Гитлера?
— Да…
— Что же это такое, Глеб? Что такое фашизм?
Наркевич отлично знал, что такое фашизм. И удивился элементарности вопроса. Он положил свою только что закуренную папиросу на стол мундштуком к ребру, куркой — кнаружи.
— Фашизм? — риторически и несколько докторально повторил он. — Это — самое сильное орудие мировой реакции… самый хищнический и разбойничий отряд империализма. Именно потому империалисты Америки и Англии всячески помогают росту фашизма. В его стремлении к мировому господству они видят вернейшее средство удушения революции…
До сих пор Карбышев приходил в НИО к Наркевичу всегда лишь за «новеньким». И сегодня тоже должно было быть так. А получилось иначе. Получилось так, как будто между фашизмом в Германии и расчетами движения танка по труднопроходимой местности существует самая прямая и самая глубокая связь. И Карбышев открыл ее сегодня, а Наркевич, как и обычно, пустился за ним следом — объяснять и растолковывать…
* * *
Карбышев был из тех очень талантливых людей, которым только легкое — трудно, а трудное — легко. Замусоленная старая мишень с насквозь продырявленным яблоком — такой представлялась ему кабинетная работа завзятых теоретиков. «Осудить-то, может, и не осудят их, — говорил он, — но отвернутся и забудут их наверняка!» Карбышева тянуло в поле. Именно здесь его воображение седлало коня, и талантливость развертывала крылья; острый глаз его мысли интересно, красиво и ясно охватывал поле и глубоко проникал в природу боя. Много раз Якимах удивлялся этой его способности, стараясь ее перенять. Но выезды в поле бывали не часто…
Гораздо чаще выпадала Якимаху иная возможность дружной близости с шефом: вечерняя работа над составлением учебных задач. Якимах очень любил эти вечера. Карбышев говорил, что они «размозоливают» мозг. Действительно было в них много такого, что прямо служило для гимнастики ума. И тело и мысль Якимаха были одинаково молоды, сильны и здоровы. Тело скучало без турника и параллельных брусьев, а голова — без хитрых карбышевских загадок. Стрелковый корпус наступает на обороняющегося противника. Впереди — прорыв и преследование. Комкор дает указания корпусному инженеру. Из обстановки развертывается викторина. «Какие задачи стоят в наступлении перед ВИД? Назовите и опишите заграждения на дорогах. Определите среднюю платность дорог. Какие средства необходимы для устройства заграждений на один квадратный километр? Чем отличаются заграждения в зоне перед передним краем?» И так далее, и так далее…
Ночью Якимах прощается и на цыпочках, чтобы не будить малышей, выбирается в переднюю. Осторожно закрывает за собой дверь, сбегает вниз по широкой винтовой лестнице и, очутившись на бульваре, растворяется в белых клубах морозного тумана. А Карбышев продолжает работать. Чтобы дело шло ходче, он всовывает ноги в валенки, набрасывает на плечи старое пальто Лидии Васильевны и ставит под столом электрическую печурку. Он никогда не боялся никаких холодов. И теперь не боится. У него и в заводе нет зимней шинели или галош. Выходя на улицу, он оставляет дома все, чем обычно защищаются от холода люди, — теплый шарф, наушники, ватник. Но дома любит тепло. И когда печурка разгорится, он пишет…
«Электризация заграждений, — думает Карбышев, — инженерное снабжение массовых воздушных десантов… Уж не похож ли я на свифтовского профессора, который всю жизнь провозился с проектом извлечения солнечных лучей из огурцов? Или на алхимика, сочинявшего трактат о ковкости огня? А жизнь торопится.
Летом фашистские вожди встретились в Венеции… Потом умер Гинденбург, и Гитлер сделался германским президентом… Потом враги убили Кирова… Смятое их преступными руками, разорвалось великанское сердце Куйбышева… События спешат; Гитлер глотает Саар и не давится». Все эти происшествия, далекие и близкие, почему-то связывались в мыслях Карбышева вместе, удивительным образом сплетаясь в одном предощущении грозы. Будущее бросало перед собой тень, и он ясно видел ее, — тень эта лежала и на его работе. Хорошо, что Военно-инженерной академии присвоено славное имя Куйбышева. Слава этого имени в беззаветной преданности великому делу, в остроте и зоркости политического взгляда, в богатырском размахе планов и деятельности, в уменье поднять любой практический вопрос на высоту партийного понимания. Таким был Куйбышев. Такими надо быть советским военным инженерам. «А я? — думал о себе Карбышев, — я? Неужели я уже сделал все, что мог? Неужели мне нечего больше противопоставить натиску созревающих бурь?» И он писал, писал и писал, наваливаясь встревоженной мыслью на послушную бумагу.
Глава тридцать пятая
Весной тридцать пятого года, выступая на открытом партсобрании по вопросу о кадрах, которые «решают все», Якимах тряхнул головой и сказал:
— Политика — судьба миллионов… И от коммунистической сознательности масс все больше и больше зависят темпы свершения нашего великого дела…
После собрания Карбышев подошел, почти подбежал, к Якимаху.
— Я бы, знаете, Петя, что добавил? Так бы еще сказал: техника — важнейшая вещь, но люди — не вещь. И место людей не позади техники, а впереди нее.
Давно уже Карбышев не работал с таким увлечением и подъемом, как в это горячее время. Тонкая, плотная бумага широкой карты жестко потрескивает под его быстрой рукой. Цветные карандаши прыгают по бумаге. Яйцевидный участок, весь в кустарниках и лощинах, густо обведен красным, и к северу от него — флажок. Это — штаб. А вот — синий квадратик с инженерным значком… Острые стрелки вырываются на юго-запад из боковых линий войскового расположения… Стрелки показывают направление наступательных действий… Здесь — река. К этой реке тяготеет особая схема организации управления переправой. К схеме надо присоединить сложную таблицу исчисления пропускной способности. Карбышев сопоставляет данные по разным видам переправ: понтон, пешеходный мостик… Тут и вес, и размеры, и подъемная сила, и длина, и сечение смычного бруса, и настил, и ширина проезжей части. Тут и переправочные единицы, — и грузовые, и десантные, и на отделение, и на двуколку, и на повозку, и на артиллерийскую запряжку, легкую и тяжелую… Сухие цифры. Цифры — верно, но не сухие; отнюдь! Для Карбышева в них заключено дыхание бурной жизни.
Совсем недавно он вернулся с больших полевых занятий. Слушатели решали задачи по инженерному обеспечению переправы через реку с боем; смотрели показные ученья саперов по службе заграждения и по форсированию укрепленной реки. Слушатели учились, и Карбышев учился, как лучше учить их. Старые поплавки Полянского, несомненно, доживают свой век. Переправляться на них при сильном течении и ветре почти невозможно. Хорошо бы набивать поплавки соломой; но солома быстро мокнет и тогда теряет пловучие свойства. Да, конечно, ручей — не Волга, а речка — не океан. Но и ручей, и речка — природа, то есть нечто такое, что требует от предприимчивой человеческой мысли полета в даль. На Сандвичевых островах, на Суматре, на Яве растет «Епидендрон ауфректуоэум». Внутри стенок этого тропического растения скрыт пушок «капок» — бесценная замена для соломы в пловучем поплавке. У нас нет «Епидендрона»; зато есть ласточник и кандырь. Если поэзия требует от мысли мечтательно-наивных настроений, то Карбышев умел и помечтать…
Но на чем бы ни производилась переправа, — у него уже был разработан метод ее расчета. Основа «ПЕ» — переправочная единица; это — масштаб измерения, эталон потребности сил и средств. Карбышев вспоминает летние маневры в одном из западных округов. Войска переправлялись на паромах. Ширина реки была небольшая — метров семьдесят. Моторизованный отряд с общим весом машин до пятисот тонн потребовал на устройство пристаней и вязку паромов сорок минут. Погрузка… Обратный рейс… При четырех паромах за час удавалось переправить двадцать машин… На все ушло четыре часа… Много! Очень много!
Карбышев оторвался от расчета и поднял кверху голову, не то прислушиваясь, не то принюхиваясь. Затем встал, подошел к окну и настежь распахнул его. Мимо прошла струя тонкого запаха. Карбышев никогда не курил и терпеть не мог табачных ароматов.
— Днем у Ляльки были приятели, — тихо проговорил он. — Эй, Лялька, опять мальчиками пахнет…
Он сказал это и задумался. Ему ясно представилось, как бывало раньше: Лялька — в кудряшках; сам он — с засученными по локоть рукавами, с сачком в руке; рыбки прыгают из аквариума в ванну, до краев полную водой… Визг, хохот… Елочкин приносит Ляльке подарок. Это — крохотный моторчик, сработанный золотой елочкинской сноровкой. Если моторчик прикрепить к блюдечку, оно поплывет. И чашка… И всякий другой предмет, умеющий держаться на воде, тоже поплывет… Лялька потом сломала моторчик, — жаль… Карбышев высоко поднял брови. Он пристально смотрел перед собой, словно стараясь получше разглядеть что-то. И, действительно, видел. Это был старый фокус-покус выдумщика Елочкина. Но только мотор был не маленький, не игрушечный, а большой, десятисильный, навесной. Был он закреплен на огромном плоту и с шумом работал; а плот несся через реку. Интересно, в самом деле: какой же силы надобен мотор, чтобы паром перевез на себе танк? Карбышев схватился за карандаш. Опять — цифры… И опять — под суховатой видимостью этих черных червяков буйно преображается жизнь: метод «ПЕ» смыкается с новой идеей — моторизации плотов, и старая техника речных переправ обогащается замечательным открытием…
* * *
Реджи смертельно надоел всем в доме. Слов нет, он был очень красивый и породистый пес. Но было совершенно ясно, даже маленький Алеша понимал: Реджи глуп. Доберман расхаживал по комнатам широкой походкой, быстрый и нервный, непослушливый и шальной. У него были прозрачные коричневые глаза; стриженые уши стояли торчком. Он отлично видел и слышал, но вел себя так, будто не видел и не слышал ровно ничего. Когда ему хотелось играть, он становился окончательно безмозглым: кусался, грыз и рвал в клочки все, что попадало на зубы. Днем спал, а ночью выл от бессонницы. Если же не выл, то непременно занимался какой-нибудь разрушительной работой. Реджи был неудачный член семьи — тот самый красавец, о котором сказано: в семье не без урода.
Однажды утром Карбышев побрился, умылся, выпил чашку кофе и пошел в кабинет натягивать сапоги. Он нагнулся и, не глядя, опустил руку к тому месту у дивана, где полагалось находиться в это время дня свежеотчищенным, ярко блестящим сапогам. Однако из привычного движения на этот раз ничего не получилось. Он повторил жест — опять ничего. Карбышев с удивлением заглянул под диван. Сапоги стояли на месте, но голенищ у них не было. Вместо голенищ, на полу валялись рваные огрызки нагуталиненной кожи. Со стула свесилась кожаная куртка. Полы у куртки тоже не было — ее огрызки живописно дополняли картину разрушения. Сомневаться не приходилось: это была ночная работа идиота-Реджи.
— Черльт возьми! — крикнул Карбышев. — Каков негодяй!
Лидия Васильевна всплеснула руками.
— Я слышала, как он чавкал всю ночь! Сегодня же разбойника вон!
— Нет, не вон, — раздался звонкий голос Ляли, — не вон! Реджи — глупый… Он не виноват… Я не позволю — вон!
Она стояла на пороге кабинета, розовая от гнева. Темные глаза по-отцовски горели, и тень от длинных ресниц прыгала на смуглых щеках.
— Не позволю!..
Дмитрий Михайлович был добрый, заботливый, нежный и ласково-веселый отец. Когда Таня была еще в первом классе школы, ее уже обучали ритмике. У Тани с самого раннего детства было тяготение к подобным вещам. Дом превращался в танцкласс. Карбышев говорил жене:
— Мать, сделай из нее балерину!
Елена была в девятом классе, когда Дмитрий Михайлович потребовал, чтобы она училась стрелять.
— Я не понимаю, зачем?
— Надо, Аленка!
Она целую зиму носилась в ЦДКА, стреляла, выбивала очки, сама выбивалась из сил. И, наконец, окончательно выбившись, бросила ненужную науку. Узнав, отец вскипел:
— Как ты смела?
Прием, которым он наказывал детей, был один: молчание. Он переставал говорить с виноватым. В зависимости от проступка молчание продолжалось день или два. На этот раз оно длилось месяц. Все попытки и старания Лидии Васильевны разгустить, «рассиропить» атмосферу тяжести и неблагополучия, наполнявшую дом, ни к чему не вели. Отец был хмур, сух и как бы не видел Елены. И она сторонилась, уходила в себя, демонстративно обращалась только к матери. Ее брови сердито сходились у переносья. Нос морщился, как перед слезами, а красные узкие губы дрожали в усмешке. «Ну, и характеры! — думала Лидия Васильевна. — Оба хороши!» И с грустной тревогой в глазах посматривала то на одного, то на другого. Уже нечем было дышать, когда вдруг как-то само собой выяснилось, что Елена опять ездит стрелять в ЦДКА. И тут же все кончилось — сразу, как и началось. Сойдясь за обеденным столом, упрямцы заговорили как ни в чем не бывало. И с тех пор до истории с Реджи ничего подобного больше не происходило. Но тут произошло.
— Как ты смела кричать? — быстро спросил Карбышев.
Елена не ответила. И снова потянулись немые дни, тягостным безмолвием наполняя печальный дом…
* * *
В комсомол Елену Карбышеву принимали на открытом собрании школьной организации. Народу собралось столько, что у Елены в глазах зарябило. Члены комитета сидели, а она стояла, как свеча. Вопросы сыпались.
— Устав знаешь?
— Расскажи-ка свою биографию!
— Почему вступаешь в комсомол?
— Кто советовал вступить?
— Отец, — отвечала Елена на. последний вопрос и, вспомнив при этом свою нелепую ссору с отцом, зажмурила от стыда глаза.
«Если бы они знали!» — с тоской подумала она…
Из комитета дело перешло в бюро райкома комсомола, и здесь было так страшно, что, когда Елена отвечала на вопросы, у нее, как у пьяной, заплетался язык. Много раз представляла она себе торжественную минуту получения билета. Она не знала, как именно это бывает, и фантазия ее не рисовала никаких картин. Но что получение билета должно происходить очень торжественно, так, чтобы запомнилось на всю жизнь, в этом она не сомневалась. И потому была несколько удивлена, когда все сделалось самым обыкновенным образом. «Получите и распишитесь!» Правда, и это запомнилось. Только не так, как бы того хотелось. Зато вот что было прекрасно: с комсомольским билетом в кармане стало легче учиться — не потому, что способностей прибавилось или учебы убавилось, а по какой-то странной, необъяснимой причине. Стала Елена комсомолкой в мае, перед экзаменами. И экзамены сдавались на славу один за другим…
Дмитрий Михаилович спрашивал жену:
— Мать, как Аленка? Сдает?
— Сдает, — со вздохом отвечала Лидия Васильевна, — только что я за передаточная станция?
— Хорошо сдает?
— На пятерки…
Накануне одного из особенно трудных для Елены дней Лидия Васильевна по неотложному хозяйственному делу уехала на дачу. Утром, часов в восемь, Дмитрий Михайлович ушел из дома, не позавтракав. Вечером, после экзамена, Елена вернулась первая, с торжеством в душе и сияющим от счастья личиком. Следом за ней появился усталый и сумрачный отец. Ляля взяла у него из рук портфель, тяжелый, как мешок с кирпичом, и отнесла в кабинет. Затем остановилась на пороге ванной комнаты, где плескался и фыркал отец.
— Папа, ты что-нибудь ел сегодня?
Он вздрогнул и оглянулся с таким странным и неловким видом, точно в первый раз видел тоненькую фигурку дочери. На что же похоже уродство этих нелепых раздоров и ссор? Какие-то далекие и тягостно безобразные впечатления вдруг пришли на память Карбышеву. Он не сразу понял, о чем именно вспоминает. А потом догадался: о глупых столкновениях в дореволюционном доме Наркевичей. И, поняв, ужаснулся. Вот оно, вот!..
— Нет, ничего не ел, цыпленок… Как твой экзамен?
— Пять… Иди к столу, папа. Я сейчас разогрею котлеты…
Они ужинали вместе и разговаривали, как будто и ссоры не было. Но ссора все-таки была, долгая и упорная. И кончиться на этот раз простым застольным разговором она никак не могла.
— Вот я и в комсомоле, папа. Ты рад?
— Очень! Я ведь еще и не поздравил тебя. Поди ко мне, Аленка…
Она подошла и стала между колен, как становилась всегда раньше, когда была маленькой. Он поцеловал ее и погладил по лицу сухой и быстрой рукой совершенно так же, как делал это давно-давно.
— Папа, а ты?
— Что?
— Когда ты в партию?
Он помолчал и снова погладил ее по лицу.
— Я? Мне рано, Аленка!
— Как — рано? Почему? — спросила она озабоченно, как будто даже слегка пугаясь чего-то, — что ты хочешь сказать?
— Конечно, рано, — повторил он тихо, — уж коли мы с тобой ссоримся, как… младенцы, значит, рано. Так ведь?
Ляля энергично качнула головой. Она не была согласна с отцом. Но и спорить не стала.
…Мы говорим: «совпадение». Словечко это часто служит нам как бы прикрытием для нежелания вникнуть, для лени и равнодушия, для неуменья устанавливать между явлениями внутреннюю связь. Что-то очень изменилось в отношениях между дочерью и отцом к лучшему; и совпало это изменение с их последней ссорой. Когда Реджи отдавали на исправление в собачий питомник, Елена не только не шумела и не протестовала, но сама надела на него ошейник и сама вывела его со двора. И это вовсе не было уступкой младшего старшим. Елена знала, что никогда больше отец не поссорится с ней и не накажет ее своим тяжким молчанием, что это для них обоих стало теперь невозможным. Радость, с которой она думала об этом, была каким-то новым для нее, очень серьезным чувством. «Папа, я тебя люблю!» Ребячья теплота этих слов не остыла. Но глубоко под ними ощущались подлинная близость, настоящее разумение и действительный смысл любви. Видя, как отец систематически, кропотливо, с огоньком изучает историю партии, Елена думала: «Рано? Или пора?» И говорила:
— Папа, я тебя люблю!
* * *
Многого ли достиг Карбышев за восемнадцать лет, проведенных им на преподавательской работе в Академии Фрунзе? Это время было эпохой высокого уровня преподавания инженерных наук в академии. Именно с легкой руки Карбышева «осаперивание:» командирского состава в армии далеко шагнуло вперед. Восемнадцать лет прошли… И вот теперь, в июле тридцать шестого года, прощаясь с академией Фрунзе, Карбышев думал, что и как надо сделать, чтобы ни знания, ни опыт, ни блеск метода, ни педагогический талант не ушли из академии вместе с ним.
Готовясь к лекции на тему «Инженерное обеспечение обороны стрелкового корпуса», адъюнкт кафедры общей тактики Якимах развертывал программу лекции. Под ней была его подпись. А наверху стояло: «Утверждаю. Нач-к кафедры ВИД Карбышев». Итак, Карбышева уже не было в академии, но он никуда из нее не ушел. Да и физически, так сказать, персонально он то и дело появлялся в ней. Стоит собраться профессорам на кафедре, чтобы обсудить какую-нибудь уже напечатанную задачу, стоит им заспорить и, как часто бывает, упереться в тупик, — тут-то и растворяется дверь, чтобы впустить неизвестно откуда взявшегося Карбышева. «Здравствуйте, здравствуйте… Зашел послушать…» Он усаживается между тактиками и некоторое время беспокойно молчит. Карбышев — инженер, не тактик. Но исходящее от него молчаливое беспокойство действует очень странно. И тактикам в высшей степени интересно узнать, что мог бы сказать Карбышев по этому безнадежно запутавшемуся вопросу. «А ваше мнение, Дмитрий Михайлович?» Струей удивительной ясности врывается в неразбериху суждений быстрое слово «случайного» человека. Карбышев говорит, говорит, говорит, и вдруг все видят, как сошлись, примиряясь в его непредвзятой мысли, противоречия путаницы, которая только что казалась непобедимой. Итак, хоть и не было больше Карбышева в Академии Фрунзе, но часть себя, и притом не малую, он оставил в ней…
И в Военно-инженерной академии бывал он довольно часто. Здешние молодые преподаватели шептались: «Вот бы кого в начальники ВИА…» Академия готовила военных инженеров, умеющих использовать До дна новую технику и диалектически связывать теорию с практикой. В комиссии по защите дипломных проектов, где дело, конечно, не обходилось без Карбышева, наткнулся он как-то на работу одного выпускника, которая поразила его полнотой своего соответствия самым серьезным требованиям. Фамилия дипломанта была — Елочкин. Карбышев тотчас вспомнил историю парня из ВТУЗа, — и свой доклад, и его восхищение, и непреклонное решение «пробиваться» в ВИА. «Дядя Степан» вышел недавно в запас и уехал на родину, а племянник его, такой же горбоносый и кряжистый, как дядя, «пробился»-таки далеко вперед за линию посредственности и ремесла…
Карбышев написал большое письмо Степану Елочкину в город Куйбышев, где обосновался старик. На шести страничках, покрытых крупным и ровным почерком, он излагал свои впечатления от дипломной работы Константина и от него самого.
«Чертовски смахивает на вас, дружище, — на такого, каким вы были в те далекие времена, когда тянули в Бресте солдатскую лямку. Гляжу на него и чувствую себя на четверть века моложе. Вчера на комиссии не удержался и спрашиваю его: „Слушайте, а у вас к изобретательству никакой склонности нет?“ Покраснел. „Ну, какой же я изобретатель…“ — „А все-таки? По-честному? А?“ — „По-честному вот что. Иду я раз возле Ильинских ворот. Вижу, рушат двухэтажную кирпичную руину, загородившую проезд. Бьют ломами. Пыль столбом. Но руина не поддается. Сложена была на совесть. Что ж, думаю, за рукоделье такое? Неужели иначе нельзя? Ведь совсем понапрасну маются люди. Душа во мне так и заходила. Кинулся в Ленинку, попросил подобрать литературу по каменной кладке. Засел, — глаза разбежались. Это — сначала. А потом — разобрался“. — „И что же?“ — Тряхнул головой. — „Ничего покамест…“ А вчера читаю в „Вечерней Москве“, что изобретена конструкция из двух лебедок с движущимся стальным тросом, которая устраняет множество затруднений при распиловке каменных сооружений, и что фамилия изобретателя — Елочкин. Понятно?..»
Вечером, за чаем, Карбышев сказал Лидии Васильевне:
— Эх, мать! Перевалит человек за пятьдесят и живет в крепости. Осаждена эта крепость… смертью. И непременно будет взята.
Лидия Васильевна привыкла к неожиданностям в разговорах с мужем.
— Это что за новости? Да ты — железный, всех нас переживешь… Ты бы лучше об Аленке подумал. В сердце — перебои… И вообще — в чем душа держится…
— Об Аленке я так думаю, — серьезно проговорил Карбышев, — тщедушна? Узка в плечах? А Суворов не был тщедушен и узок в плечах?
— Да ведь она не Суворов…
— Зато моя дочь. И потому воля в ней прочная. А с молоду и я был худ. И теперь в толстяки не гожусь. Кончит Аленка в мае десятилетку…
— И пойдет в Московский авиационный институт, — решительно перебила мужа Лидия Васильевна, предчувствуя неладное и спеша заслонить Елену с опасной стороны, — очень ей хочется в МАИ.
— Хм… — сказал Карбышев, — нет, мать. Цыпленок поступит в ВИА. И будет военным инженером.
— Что?! — воскликнула Лидия Васильевна, но взглянула на мужа и смолкла…
* * *
Новая работа Карбышева была прямым продолжением старой, преподавательской. Но не очень-то сразу почувствовал он себя на ней хорошо. Прежнее влекло к себе. Нарушение многолетних привычек болезненно давило на какие-то тонкие хрящики внутри. О Карбышеве говорили: «Не просит ничего, а требует многого». Собственно, он и не просил и не требовал. Но для всех было ясно, что право требовать им действительно заработано. По этой причине никто не удивился, когда ему предложили должность начальника ВИА. Удивились другому: почти не задумываясь, Карбышев решительно отказался. Тогда вспомнили о его необыкновенной скромности. Кто-то из молодых преподавателей ВИА сказал ему прямо:
— Эх, напрасно, Дмитрий Михайлович, поскромничали…
Карбышев рассмеялся и похлопал наивного молодого человека по плечу маленькой, но сильной рукой.
— Думаете, напрасно? Очень может быть. За скромность редко уважают, чаще бранят. Впрочем, все зависит от умения быть скромным.
— Извините, Дмитрий Михайлович, — сконфузился молодой преподаватель, чувствуя что-то неладное в карбышевских словах, — я никак не хотел…
Скромность Карбышева, о которой он только что говорил, представлялась ему до этой минуты чем-то вроде слабоволия беспартийного одиночки. Но тут вдруг он понял, как глупо так думать о Карбышеве и как должны быть далеки от этакой скромности действительные побуждения этого непрерывно идущего вперед человека. Преподаватель очень смутился и замолчал. Он попрежнему не знал, почему именно уклонился Карбышев от назначения. Но если причиной и была скромность, то не уважать этой «скромности» было во всяком случае невозможно…
* * *
Чижи летали по комнатам карбышевской квартиры. Желто-зеленые комочки сидели на буфете, на рамах картин и весело перекликались «чижиным» писком. Несколько смельчаков обрабатывали миску с кресс-салатом, которая стояла на письменном столе в кабинете Карбышева. Эти смельчаки не пищали и не пели. Их коротенькие цепкие коготки мелко постукивали по краю глиняной миски, глазки сверкали, шейки раздувались и тонкие клювики беспрерывно ныряли в салат. Разводчиками чижиного царства в квартире были маленький Алеша и отец. Началось с того, что Алеша повесил у окна клетку с птицей. Дмитрий Михайлович увидел и возмутился.
— Ребенок сошел с ума… Да разве это возможно?
— Почему?
— Потому что нельзя держать живые существа в неволе!
Клетка висела до выходного дня. В воскресенье Дмитрий Михайлович куда-то уехал и вернулся домой в пыли, усталый, но веселый и довольный. За ним тащили березу в большой кадке.
— Это что такое? — изумилась Лидия Васильевна.
— Купил в «Соколе», мать. Из тамошних оранжерей.
— Для чего?
— Для птиц. Теперь им будет хорошо. Пусть летают…
Лидия Васильевна в ужасе упала в кресло. Ляля хохотала. Таня прыгала и танцевала. Алеша кинулся на шею к отцу. Так это началось. И теперь чижи царствовали в карбышевской квартире. Смельчаки трепали на столе кресс-салат, а Карбышев и Якимах рылись в бумагах…
…Переехав недавно в новое гигантское здание на Девичьем Поле, Академия Фрунзе широко и удобно разместилась в нем. Слушатели уже не теснились здесь за ученическими партами; ряды скамеек уступами поднимались к потолку. Прошлое круто меняло вид. Но в отношениях между Карбышевым и Якимахом оно оставалось прежним. Все так же, как и раньше, передавал Карбышев своему выученику новые разработки, неотрывно следя за тем, чтобы преподавание военно-инженерного дела в Академии Фрунзе ни на градус не падало с той методической высоты, находясь на которой, оно было оставлено Якимаху. Он просмотрел тезисы лекции и сказал:
— Погоди, постой, Лев Толстой! Мысль ваша, Петя, хороша, коренная мысль. Но выражена она плохо. Ее надо обточить, обжать. Надо ее так словесно обработать, чтобы могла она из вас вылететь, как стрела из лука…
— Да уж я бился, бился…
— А вот попробуем.
И он пускался отыскивать формулу. Якимах нервно обтирал с лица горячий пот. В таких случаях упрямство все чаще начинало поднимать в нем пока еще неслышный голос, а самолюбие, видимо, страдать. Нужное слово находилось не скоро, но оно обязательно находилось, — строгое, точное, ясное, сильное, образное, — такое, что его хотелось тронуть рукой.
— А вы говорите, нет слова… Чепуха! Если есть, Петя, мысль, то и слово всегда сыщется. Разум непременно возьмет свое. Но только не птичьим полетом, а трудом и усилием. Да!
* * *
Статья Якимаха называлась: «Инженерные уроки Испанской войны». Автор начинал статью текстом корреспонденции с фронта: «Теперь никого не надо здесь агитировать в необходимости фортификации. Война научила каждого быть самому себе сапером. На лопаты смотрят с завистью, просят их взаймы, в очередь. Всякий, кому надо оставаться в поле на одном месте более часа, уже косит глазами вокруг: нет ли дырок и щелей в земле. Если нет, начинает рыть лопатой, скрести навахой (длинный нож), царапать алюминиевой миской; у некоторых миска с краю наточена как лезвие. Копать землю — теперь здесь никто не считает потерей времени…» Дальше Якимах писал от себя: «Иначе и быть не может на таком театре войны, где горы и каменные строения встречаются на каждом шагу и с легкостью могут быть приспособлены к обороне. Отсюда — беспрерывное самоокапывание, постоянное усиление легких закрытий для истребителей танков, защитные сетки от ручных гранат — от „карманной артиллерии“ противника…»
Статья Якимаха была отпечатана только на правых страницах; пустые левые предназначались автором для замечаний Карбышева. Замечаний оказалось не меньше, чем текста в статье. Левые страницы густо чернели под прямыми, ровными строками крупного почерка твердой карбышевской руки. Рецензент спорил с автором по ряду вопросов и доказывал ошибочность его положений множеством аргументов. «Лицо изобилия — щедрость». Рецензент был особенно щедр на доказательства там, где речь шла о новом опыте Испанской войны по части начертания позиций, использования заграждений и укрытия войск в системе обороны. Полагая, что Испания выяснила бесполезность рвов и надолб при отражении танковых атак, Якимах утверждал, будто любой стрелковый окоп, даже специально отрытый, как узкая щель без выносных ячеек, не устоит против танка и будет им непременно раздавлен. Но это была точка зрения танкиста или общевойсковика, а никак не инженера. Карбышев думал иначе. Он считал маленький опыт Испании совершенно недостаточным для таких больших выводов, и, требуя усовершенствований и активного улучшения старых форм, допускал окончательный вывод не иначе, как после самых серьезных испытаний…
Якимах привык восторгаться резкой смелостью инженерных суждений своего учителя. И сейчас впервые наталкивался на его неожиданную осторожность. Широким захватом зачерпнув новое из испанского опыта, он не без досады ощущал сейчас удерживающее прикосновение Карбышева. «Теория молниеносной войны была проверена на практике в Испании, — писал Якимах, — я имею в виду преследования после Теруэльского сражения и после боев у Альфамбры».
— Не забегайте, Петя, вперед, — говорил Карбышев, — обождите!
Якимах засунул статью в портфель.
— Обожду, — сказал он сумрачно, — привычка вас слушаться — вторая моя натура. Но вот что мне, Дмитрий Михайлович, не ясно. Если, как вы говорите, лицо изобилия — щедрость, то почему бы вам самому не выступить со статьей об опыте Испанской войны? У меня не удалось. А почему вы молчите?
— Милый Петя! Да уж это вы не с обиды ли? Ей-богу, напрасно! Без критики и самокритики нет ни движения вперед, ни развития, ни свежего воздуха, ни полного вздоха. Писать? А когда мне писать? Состою в семнадцати комиссиях, в десяти — председательствую. И самая главная — жилищно-бытовая по дому…
Карбышев весело смеялся.
— Обиды нет никакой, — досадливо буркнул Якимах, — но и спросил я вас без шутки.
Карбышев перестал смеяться. Он серьезно посмотрел в непритворно смущенное лицо Якимаха, в его круглые голубоватые глаза и сказал без тени улыбки:
— Написано пером — не вырубишь топором. Сто раз примерь, но не ошибайся ни разу. И в особенности, Петя, нельзя ошибаться мне. Почему? Скоро узнаете. Испанская война — не способ проверки. Другого пока нет. Вы думаете, что смелость и осторожность всегда в конфликте? Нисколько. Нужно, Петя, много смелости, чтобы быть осторожным всегда, когда это необходимо…
Глава тридцать шестая
И в летние, вакационные, месяцы Карбышев не переставал ни на один день быть профессором. Только вместо лекций читал доклады — множество докладов в военных и гражданских организациях. Даже в Доме пионеров и на пионерских слетах выступал с докладами, быстро и ясно говоря о захватывающе интересных вещах и чуть ли не каждое слово подтверждая ссылками на десятки развешанных кругом кафедры схем и чертежей. Принимал и дома. Настоящего отдыха не было, — были полуслужебные дни. Работа захватывала, и казалось, будто и подумать ни о чем, прямо к работе не относившемся, бедный труженик не мог. Однако Елена знала, что это не совсем так.
Весной Елена кончила десятилетку полной отличницей и ходила по дому радостная и довольная. Бумаги ее уже были сданы в Московский авиационный институт. Она с нетерпением ждала извещения о приеме. Затем предполагалась семейная поездка в Сочи. Когда Елена пробегала мимо отца, он поднимал голову и, как бы вдыхая запах свежести и холодноватой чистоты, которым дышало ее светлое платье, внимательно смотрел на нее. Раза два он сказал при этом:
— Вот беда, Аленка! Будь ты мальчишкой, отправил бы я тебя в Инженерную академию. А так — что же?
— Что же? — смеясь, переспросила Елена.
— Да ведь я-то не виноват, что ты не сын, а дочь!
Елена смутно догадывалась: отец что-то замыслил.
Но туманная недосказанность его реплик ее мало беспокоила. Она давно привыкла к этим странностям. И знала, что самые трудные из отцовских загадок в конце концов разгадываются очень просто. Лидия Васильевна ахала:
— И почему в МАИ так тянут? Уж поскорей бы…
Всегда так: чем дольше и напряженнее ждут люди, тем внезапнее приходит к ним ожидаемое. Ответ из МАИ пришел в такую минуту, когда о нем и думать забыли. Но главная удивительность заключалась не в том. Институт сообщал, что Елена Карбышева забракована на медицинском осмотре (сердце) и принята быть не может. Отбросив со лба упрямый гребень темных волос, Елена стояла перед отцом в кабинете. В ее опущенной руке дрожала, шелестя тонкими углами, роковая бумага. По смуглым щекам катились блестящие, прозрачные слезы и падали одна за другой на светлое летнее платье.
— Папа, — шептала она, — что же это, а? Папа?
Дмитрий Михайлович открыл письменный стол, достал папку и с глубоким вздохом развязал на ней шнурок.
— Не думал, не думал, цыпленок… Уж и впрямь, как говорится: ехали в Казань, а приехали в Рязань. Ни грело, ни горело, да вдруг и припекло…
— Не понимаю, — сквозь слезы сказала Елена, — какая Рязань?
— А вот посмотри сюда.
Елена заглянула в папку.
— Видишь? Это копия моего письма товарищу Ворошилову. Это его резолюция. Это мой рапорт прямому начальству. Это — заявление на имя начальника ВИА: «Прошу о принятии дочери моей Елены на морское отделение командного факультета ВИА…» Видишь? Это… Словом, поздравляю: ты принята в ВИА. Хочешь быть моряком?
Елена выпрямилась. Вихрь самых разных мыслей кружился в ее голове. Одни мысли рождались из сожаления о пропавших надеждах, другие — из переменчивых картин будущего, третьи — из упорства, четвертые — из гордости, пятые — из благодарности к отцу, а все вместе — из удивления и радости. Она хотела все это высказать и уже раскрыла рот. Но сказалось совсем другое.
— Папа… А как же я буду моряком? Ведь я — девочка…
Карбышев махнул рукой.
— Ты? Девочка? Ха-ха-ха! Кто тебе наболтал, что ты девочка? Не верь, Аленка! Ты — совершенно взрослая девица. Можешь сама решать свою судьбу. Можешь мне буркнуть сейчас: «Не хочу в академию! Не пойду!» И будет по-твоему. Но ведь не буркнешь, — я знаю, — потому что… Нет, нет, Аленка! Я не агитирую. Ни-ни…
И опять Елена собиралась выговорить что-то очень важное и нужное, может быть, даже самое, самое важное и нужное при таких обстоятельствах. И вместо этого, сказала:
— А мама согласна?
Карбышев кивнул головой.
— Твоя мать — сокровище. С другой было бы иначе! Хочешь быть моряком? Я не агитирую… Хочешь?
— Хочу!
— Все! Спасибо, Аленка! Если бы ты знала, как я мечтал сделать из тебя инженера… Как давно мечтал… Очень давно, Аленка!
— С каких же пор? — с любопытством спросила Елена.
— С тех самых, как ты родилась, — тихо сказал Карбышев и, выйдя из кабинета в столовую, позвал: — Мать! Мать, иди сюда скорее!
Лидия Васильевна была уже тут.
— Как решили?
— Цыпленок хочет быть моряком. Ни о чем больше слушать не желает. Поздравляю, мать! Теперь будем собираться в Сочи…
Лидия Васильевна произнесла какое-то коротенькое, неслышное слово с восклицанием на конце и медленно опустилась на стул…
Еще с ранней весны Лига наций превратилась в нечто, очень похожее на Общество поощрения агрессоров и агрессий. Сперва Муссолини вцепился в Абиссинию. Затем как-то совсем неприметно для Лиги наций исчезло проглоченное Гитлером австрийское государство. Потом погибла республиканская Испания. Сентябрь начался «Судетским вопросом», то есть бешеным фашистским натиском на Чехию, а кончился мюнхенской Каноссой[58]; выбирая между позором и войной, Англия выбрала сегодня позор, чтобы завтра в дополнение к нему получить еще и войну[59].
Вот что делалось на свете, когда Карбышевы вернулись из Сочи в Москву. К этому времени все в семье свыклись с мыслью о том, что Елена — военный человек. И сама она свыклась. В Сочи было много военных инженеров. Все, как один, знали Карбышева и все очень интересовались судьбой его дочери. Судили вкривь и вкось. И от множества таких разговоров, не всегда серьезных, иной раз смахивавших на пустую болтовню, внутреннее решение Елены не только не ослабело, но, наоборот, окрепло и утвердилось. В Москву она приехала совсем не в том настроении, с каким уезжала. Но, когда выяснилось, что через несколько дней первая лекция, все-таки струхнула.
Сентябрь в том году был во многих отношениях решительным месяцем. Карбышев почти не выпускал газет из рук. В середине сентября Гитлер и Чемберлен встретились в Берхтесгадене и затем подписали соглашение в Мюнхене. В отличие от многих людей из разряда благодушных обывателей, Карбышев придавал этим событиям громадный смысл и говорил о них так, словно они касались самым непосредственным образом его самого, его дела, его семьи. Каким-то странным образом Берхтесгаден и Мюнхен связывались в его представлениях и с судьбой Елены.
— Чуешь, Аленка, что делается? — спрашивал он дочь. — Выходит, что я прав был…
Елена так именно и полагала: отец прав. Душа ее трепетала, чудесные мысли толпились в мозгу, и грудь колыхалась от бурных чувств. Настал день первой лекции. Накануне вечером Карбышев подарил дочери военную полевую сумку, набор отточенных карандашей и пачку тетрадей.
— Без этого в нашем ремесле и шагу не сделаешь…
В академию он отвез ее сам, но оставил одну на пороге. Она вошла бодро и смело. Мимо нее стремглав бежали туда и сюда молодые военные люди. Многим из них она бросалась в глаза, как что-то непонятное здесь, постороннее и странное. По-мальчишески узкие бедра, тонкая фигура и веселая улыбка на смуглом черноглазом лице… Платье с оборочками, бантик в волосах… Что такое? Откуда? Зачем? Кто-то спросил ее. И, узнав, в чем дело, проводил до аудитории. Первая лекция была на тему о воинском долге. Елена заглянула в аудиторию. Батюшки! Море зеленых спин колыхалось перед ней. «Нет, не войду, — малодушно подумала она и зажмурилась, — ни за что не войду…» В аудитории кто-то громко читал список курса.
— Карбышева, — услышала Елена и взяла себя в руки.
Строились в коридоре, и она стала в строй. А затем уже и в класс вошла вместе с другими. За партой она оказалась одна. В этом блистательном одиночестве было что-то не совсем ладное. Оно означало, что никто не захотел к ней подсесть. Так и промелькнула первая лекция в обидных ощущениях пустоты и заброшенности…
Потом — начертательная геометрия. Елена разложила перед собой карандаши и резинки. Когда закипела работа, стало уже не до обиды, не до грустных чувств одиночества. Елена осмелела и оглянулась. С соседней парты попросили:
— Можно карандаш?
Она еще раз оглянулась.
— Можно резинку?
После лекции она собирала свои карандаши и резинки. Тугое кольцо зеленых гимнастерок все плотнее сжималось кругом нее. На Елену смотрели, как на чудо.
— Вы — у нас единственная…
— Вы — дочь товарища Карбышева?
— Вы… Вы… Вы…
От первоначального смущения и конфузной онемелости в Елене не оставалось больше никакого следа. Все это исчезло и заменилось чем-то очень простым и ясным.
— А все-таки непривычно, что вы девушка, — сказал, краснея, какой-то чудак.
Его тотчас взяли на смех.
— Эх, ты, тюха!
Елена нашлась без малейшего труда:
— А вы привыкайте, товарищ!
И она всячески старалась помогать тем, которые привыкали…
* * *
Прошли времена, когда, выезжая со слушателями на полевые занятия, Карбышев впереди всех прыгал на колесную шину грузовика, перемахивал через борт и мгновенно устраивался в кузове на скамейке между другими. Но не потому прошли эти времена, что было теперь Карбышеву под шестьдесят, — он все еще оставался легким и быстрым, — а совсем по другой причине. Как-то случилось ему присутствовать на загородном ученье. Собирали плоты, наводили мост на поплавках нового типа. Трудно затопляемое имущество подвезли на машинах и сложили на берегу Москва-реки. Обучающихся развели по расчетам.
— Берись! Вводи вилки! Запри замки!
Понтонеры показывали, в чем именно состоят приемы. Через двадцать минут — команда:
— Подавай на воду!
Имущество подано; переправа действует. А где же Карбышев? До начала маневра он стоял на берегу, там, где было сложено трудно затопляемое имущество. Куда исчезло имущество, понятно. Но… с ним пропал и он. Через несколько минут Карбышев отыскался. Его обнаружили в одном из расчетов, среди обучающихся, — он так же, как они, повторял приемы понтонеров-инструкторов, так же принимал команду и выполнял ее точно и ловко. Удобно ли подобным образом вести себя на ученье старому заслуженному комдиву? Этот вопрос и в голову не пришел самому комдиву. Карбышев впервые видел трудно затопляемое имущество нового образца, да и образец был опытный, единственный в своем роде. Карбышев хотел приноровиться к образцу, ощутить его покорность умелой рукой и для этого стал в общий расчет с теми, кого ему предстояло учить. Правильно ли он сделал? Многие находили, что неправильно.
«Комдив… Профессор… Да как это возможно?..» И после этого случая сконфуженный Карбышев перестал прыгать вместе со слушателями в кузов грузовика…
Однако старая привычка всегда быть живым и активным, в первую очередь видеть дело, а уж потом сообразоваться с условной стороной обстановки, — привычка эта не потерялась. Увлекаемый ею, Карбышев попрежнему бегал на ученьях по боевым порядкам, сам проверял, как окопались роты и взводы, сам менял расположение пулеметов — сам, только сам, обязательно сам. Старая привычка действовала: никогда не был Карбышев просто командиром, а всегда — товарищем-командиром.
Весна в тот год — тридцать девятый — была тихая, серая, без черного блика на реках и прудах, без сияния и радостного шума в природе. Огромный ЗИС, с глухим шипеньем отжимая шинами мокрый песок, подошел к берегу подмосковной реки и остановился. Из машины вышли военные люди: Карбышев и еще четверо. Лагерь, куда они направлялись, был по ту сторону реки. Внизу, под берегом, приехавших ждал беленький катер из понтонного батальона. Карбышев и его спутники медленно спускались по сходням. Дмитрий Михайлович внимательно оглядывал бесцветное, сумрачное, грозившее дождем небо. Дальнозоркие глаза постепенно утрачивали прежнюю остроту.
Он начинал плохо видеть, и взгляд его беспомощно тонул в мутных переливах облачной пыли.
— Неудачно приехали — быть дождю!
В тот самый момент, когда его нога ступила на катер, суденышко вздрогнуло, и он тоже. Над катером взвился вымпел с двумя ромбами, плеснулся в мертвом воздухе и повис.
— Что это? — спросил изумленный Карбышев.
— Судно вас приветствует, товарищ комдив!
— Черт возьми!
Кругом смеялись. И Карбышев смеялся, отмахиваясь рукой от неожиданной почести. Два ромба висели на штоке; они же тихонько поблескивали и на петлицах смущенного комдива…
Карбышев и его спутники подходили к передней линейке лагеря, когда дневальные закукарекали, вызывая на линию[60].
— Неудачно приехали, — сказал Карбышев.
— Почему? Дождя не будет…
— Я не о дожде… Похоже, что командира корпуса встречают.
— Откуда вы взяли, Дмитрий Михайлович?
— Разве не видите, что делается? Дневальные…
— Да это же вас, вас встречают!
— Меня? Черльт возьми!
И опять — смех. Конфузливо смеется Карбышев, приглушенно хохочут его спутники. А два ромба, знай себе, поблескивают на воротнике комдивовской гимнастерки…
В состав комиссии, испытывавшей новые средства переправы, входил командир стоявшего в здешнем лагере стрелкового батальона Мирополов. Это был здоровый мужчина с бородой чуть не до пояса. Когда-то борода его побывала в академии и надолго запомнилась там многим. Мирополов состоял курсовым старостой и был товарищем Якимаха. Но теперь Якимах — старший преподаватель академии, а Мирополов давным-давно ушел в армию и уже целую вечность командует батальоном. С каждым годом борода его становится гуще, и все меньше волос остается на голове. Но служебное усердие Мирополова неизменно. Саперы налаживают штурмовые пешеходные мостики на длинных поплавках, обтянутых прорезиненной тканью и набитых соломой. Общевойсковые командиры ведут занятия с группами: объясняют, втолковывают. Карбышев бегает по группам.
— Почему поплавки не намокают в воде?
— Почему переправа не боится пуль?
За спиной Карбышева — комиссия. Мирополов ни на шаг не отстает от гостя. Он не видел Карбышева с тех пор, как ушел из академии, а было это добрых четырнадцать лет назад. И теперь усердно оглядывал знаменитого инженера. Вдруг Карбышев обернулся:
— Где и когда мы с вами встречались, товарищ комбат?
Мирополов захлебнулся от радости: «Уфф!»
— В Москве, на Кропоткинской улице, товарищ комдив!..
…А вот и лагерь Военно-инженерной академии. Сопровождавшим Карбышева лицам было известно, что его старшая дочь учится в академии. Большинство из них в душе осуждало странную идею превращения девушки в мужчину и удивленно помалкивало. К лагерю, свистя, подбегала «кукушка» — маленький паровозик с двумя вагонами[61]. Интересного кругом было немного. Перед старинным усадебным парком — палатки, словно огромная стая белых куропаток, плотно прижавшихся к земле. Открытая «с вольного духу» столовая под гигантским навесным «грибом». Служебные домики, пруд для переправ и мостовых работ, площадки маскировочных устройств, несколько дорожных машин и лесопильных приспособлений… Все.
Солнце всползало на небо, усталое, еле живое и холодное в эту сумрачную весну. А Елена уже была на ногах. Усталая и тоже еле живая, она быстро натягивала казенные сапоги на свои стройные, мускулистые ноги и застегивала суконную гимнастерку над узенькой грудью. День начинался с топанья по полям. Хрупкая, слабая, Елена отставала от строя. Стыд!.. Стыд!.. И потому еще в особенности стыд, что Елена — член партбюро морского отделения ВИА. Но это было еще самой ранней весной, только по началу. Потом — все реже и реже. Однако и теперь случалось. И в тот самый день, когда Карбышев появился в лагере, тоже случилось. Красная, потная, пыльная, тащилась Елена позади строя. Всякий, взглянув сейчас на нее, непременно подумал бы: «Вот бедная девочка! Ведь это — предел изнеможения…» Так оно и было; и уже во всяком случае, именно так казалось самой Елене. Отчасти по этой причине она увидела отца лишь после того, как он отыскал ее своими стариковскими глазами. Но, даже отыскав дочь и сразу поняв, как ей тяжело, он продолжал вполголоса разговаривать со строевым командиром.
— Стараемся не очень трудить, товарищ комдив, — докладывал командир с таким выражением на длинном костлявом лице, словно его только что уличили в чем-то нехорошем, а он, хоть и не виноват, но вынужден все-таки оправдываться, — да ведь как же быть-то?
— Ничего, ничего! Правильно! — сказал Карбышев и позвал к себе дочь.
Елена подбежала и вытянулась. Странно: изнеможение, которое она чувствовала за минуту перед тем, вдруг пропало. Карбышев посмотрел на нее и, догадавшись, улыбнулся глазами.
— Здравствуйте, Карбышева!
Потом добавил тихо:
— Терпи, Аленка! Тонкая былинка не ломается…
…Когда Дмитрий Михайлович уезжал из лагеря и, стоя возле ЗИСа, говорил какие-то последние слова членам комиссии по испытанию новых средств переправы, Мирополов был тут же. По правде сказать, он не слышал да и не слушал того, что говорил Карбышев. Он только с неослабевающей жадностью ловил его движения и смену выражений на живом, подвижном лице. Мирополову хотелось еще раз подчеркнуть на глазах у всех особый характер своего старого знакомства с замечательным комдивом и для этого не просто проводить Карбышева, а еще и усадить его в машину с сердечной заботливостью гостеприимного хозяина. Мирополов крепко держал дверцу машины, готовясь захлопнуть ее с разлету, когда наступит соответствующий момент. И момент наступил. Карбышев приложил руку к козырьку, вскочил на подножку, шагнул к сиденью. Дверца с треском захлопнулась, и на рукав Мирополова брызнуло яркой кровью из прихваченного ею карбышевского пальца. В первое мгновенье Мирополов даже и не сообразил, что именно произошло и откуда — кровь. Но это было только мгновенье. Лицо комдива исказилось гримасой боли.
— Черльт возьми! — сказал он, пытаясь выдернуть палец из зажавшей его дверцы.
Карбышев и Мирополов побледнели одновременно и одинаково сильно. Кто-то, — не Мирополов, — закричал:
— Фельдшера!
Но дверь распахнул все-таки Мирополов — он это очень хорошо помнил. Кровь из пальца лилась густой горячей струей. Мирополов схватился за голову. Карбышев вырвал из кармана носовой платок и замотал палец. Его взгляд уперся в отчаянную физиономию Мирополова, скользнул по его поднятым кверху рукам и остановился на могучей бороде. Карбышев улыбнулся.
— Перестаньте нервничать, товарищ комбат! Мне больно, а не вам. Что? Не можете?
Мирополов простонал:
— Н-не мо-гу!
Улыбка сбежала с лица Карбышева.
— Тогда я вам приказываю немедленно прекратить это безобразие!
* * *
Мир становился похожим на котел. Под котлом пылало пламя. Внутри что-то кипело с неистовым напряжением. Плохо привинченная к котлу крышка судорожно дрожала. Американские заправилы подкармливали из рук военного зверя германской фашистской агрессии. Англо-французские политиканы, уцепившись за власть, дружно взламывали фронт миролюбивых государств. Японские самураи на Хасане и Халхин-Голе пробовали силы в прямой борьбе. Белофинские газеты сообщали о восхищении английского эксперта генерала Кирка недавно осмотренными им на Карельском перешейке укреплениями.
За окном шумел май, и ветер бросал в комнату теплые запахи обласканной солнцем счастливой земли. Деревья звенели листвой, пели тонкие девичьи голоса — чудо весны совершалось за окном комнаты. Совершалось оно и внутри Карбышева.
Якимах, чуть-чуть пошевеливая влажными красными губами и жмуря зачем-то круглые светлые глаза, старательно вчитывался в лежавшую перед ним бумагу. Ровный почерк покрывал прямыми строками обе стороны листа.
«Переход к коммунизму, — читал Якимах, — требует от всех трудящихся нашего великого Советского Союза настойчивого овладения большевизмом, учением Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, повышения трудовой дисциплины и производительности труда.
Участвуя своей ответственной работой преподавателя по подготовке высококвалифицированных кадров нашей Рабоче-Крестьянской Красной Армии вместе со всей страной в построении коммунизма, я хочу быть ближе к великой Коммунистической партии большевиков и прошу партийную организацию — принять меня в кандидаты ВКП(б).
Обязуюсь настойчиво и систематически работать над изучением большевизма, над освоением великого учения марксизма-ленинизма, активно участвовать в общественной и партийной работе, образцово соблюдать трудовую дисциплину, быть бдительным и всемерно бороться с изменниками нашей Родине и врагами народа… Комдив Карбышев».
Якимах дочитал бумагу до конца. Несколько мгновений он сидел молча, все еще пошевеливая губами и жмуря глаза. Потом заговорил:
— Я о вашей подписи, Дмитрий Михайлович, думаю.
— О подписи?
— Да. Сколько раз я ее видел. И думаю: если взять все ваши подписи, которые я видел, да положить одна на другую, ведь, пожалуй, самым точным образом придутся. Твердая у вас рука! Толковали мы с вами о вашем вступлении в партию неоднократно, — и Елочкин с Наркевичем, и Юханцев. А решили вы сами, без нас. Когда решили?
— Давно, — сказал Карбышев, — тогда же и решил, когда толковали…
— Нет, я не о том… А когда…
— Заявление написал? Сегодня, двенадцатого мая.
— Не то… Когда окончательно созрело решение? Ведь не пятнадцать же лет назад и не сегодня…
— Конечно. Оно созревало постепенно, по мере того, как я завоевывал доверие партии. Помните, я хотел «доказать»? Пришло время, когда я по множеству признаков понял: «доказал». Партия мне доверяет, а это и значит, что я коммунист. Были годы проверки, самопроверки. Отходили в прошлое неустойчивость политической мысли, боязнь упреков в карьеризме. Все отчетливее ощущалась трудность работы без партийного контроля, без партийной помощи. Дочь — член партии, а я — нет. Вдруг когда-нибудь придет в голову Елены: «А странную все-таки жизнь прожил отец! Как будто и с партией, а не в партии…» Нельзя, чтобы дочь обо мне так думала, никак нельзя. Как я хочу видеть своих детей комсомольцами и коммунистами, так и они вправе желать, чтобы давнишние мои убеждения были, наконец, признаны действительно «моими». Подступала старость, и вместе с ней созревало решение…
Карбышев говорил очень важные, совершенно правдивые, все объясняющие собой вещи. Мог бы он к ним прибавить и еще одну. Она-то, собственно, и привела его сегодня к написанию заявления, которое так внимательно читал Якимах. Привела и вложила нынче перо в его руку. И, словно отвечая Якимаху на еще не заданный им вопрос, он сказал:
— Итак, Петя: почему же все-таки именно теперь вступаю я в партию? Очень просто. Время тяжкое. Будет еще тяжелей. И, шагая через высокий порог, я хочу пережить это грозное время вместе с партией, а если нужно будет, то и умереть за партию в ее рядах…
* * *
Действительно, время становилось все тяжелей. В Москву приехали военные миссии Англии и Франции для практического завершения затянувшихся переговоров о взаимной помощи. Однако миссии прибыли в Москву не только без искренних намерений прийти к соглашению, но даже и без полномочий, необходимых для его заключения. Зачем же они появились в Москве? Невозможно сказать. Как появились, так и исчезли. В один из последних дней августа Карбышев читал в «Известиях» интервью маршала Ворошилова с сотрудником этой газеты[62]. От Советского Союза требовали, чтобы он помог своими войсками Франции, Англии, Польше. А пропустить его войска через польскую территорию не хотели. И это несмотря на то, что никаких других путей для того, чтобы советские войска пришли в соприкосновение с войсками агрессора, не было. «Да что они — с ума поспятили?» Нет, они пребывали в совершенно здравом уме. Только, как ни боялись они гитлеровской Германии, Советский Союз был для них еще страшней. Вот оно — главное[63]. И здесь именно ключ к разгадке этой предательской тайны…
Да, время становилось все тяжелее, все грознее. Карбышев читал интервью Ворошилова, речь Молотова на внеочередной сессии Верховного Совета СССР и с нетерпеливой страстностью в смелой душе думал: «Зови же меня, партия, — зови! Иду, куда скажешь, мать…»
Глава тридцать седьмая
Штаб инженерных войск армии, действовавшей на выборгском направлении Карельского перешейка, стоял в лесу и расположен был в маленьком трехоконном домишке. На голых стволах кругом домишка не было и признака ветвей. Да и весь лес был исцарапан, обглодан, ободран: месяц беспрерывной бомбардировки не прошел ему даром. Куда ни глянь — коряги, вывороченные из земли, воронки, завалы из сбитых снарядами деревьев. И от этого еще угрюмей казалась дикая красота места. Солнце давно уже выкатилось на чистое, яркое небо, и золотые лучи его скользили по земле. Снег звенел под ногами. У танков, стоявших на поляне и укрытых хвоей и зеленым брезентом, толпились люди в черных колонках и шлемах с белыми от мороза очками. «Как дела?» — «Нормально!» — Спрашивали, но не отвечали; а думали о сюрпризах — о заминированных рождественских угощениях в деревенских домах, о поросятах и бутербродах с мелинитовым нутром, о забытых под сосной сапогах, об оброненных кем-то на дороге часах, о трупах, и разных других предметах, к которым нельзя было прикоснуться, чтобы не взлететь на воздух. Обилие сюрпризов рождало тревогу, пугало, подрывало не столько людей, сколько их мужество и уверенность в себе. Это было начало войны с белофиннами, время минобоязни, когда деятельно развертывалась подготовка к прорыву…
В столовой для среднего и младшего комсостава, которая помещалась в кирхе близ Райволы, были и деревянные миски, и ложки, и каша, — всего много. Но обедавших было еще больше. Здесь обедали командиры всех родов войск в неисчислимом количестве; девушки не успевали подавать, а за мисками, ложками и кашей надо было охотиться из очередей. Помощник командира саперной роты Константин Елочкин стоял в очереди и со скуки прислушивался к разговору двух летчиков в коричневых комбинезонах и меховых унтах.
— Эх, и замечательная нынче летная погода!..
— Да, уж прямо сказать: миллион высоты. Старый он?
— Старый… В черной шубке, романовской малахайкой, в валенках, мужичок мужичком. А фигура серьезная… Как доставил я его в штарм, вышел он из самолета, только и слышу: «Принимай! Приехал!»
«О ком это они? — подумал Елочкин, — кто приехал?» Вдруг один из летчиков сказал изумленным полушепотом:
— Гляди, видишь? Да вон он и стоит, кашу ест… Ты смотри, брат, что деется… Кашу!
Он показывал на невысокого человека в черном тулупчике, который действительно стоял с двумя другими у занятого стола с миской в руках и с аппетитом ел кашу, приговаривая:
— Ну, и вкусно, Петя, а?
Чувство, повинуясь которому Константин Елочкин выскочил из очереди и метнулся поближе к черному малахаю, отнюдь не было простым любопытством. Елочкин не знал, кого увидит, но почему-то не сомневался, что увидеть ему предстоит необыкновенное, нужное, хорошее и радостное — человека, в котором все это должно обнаружиться зараз. Так и случилось. Помкомроты сунул между приезжими свой горбатый, елочкинский, нос и тотчас признал двоих — Карбышева и Якимаха. Третий — молоденький воентехник — был ему не известен.
— Товарищ комдив, — сказал Елочкин Карбышеву, — зачем же вы здесь кушаете? Есть столовая для высшего комсостава. Там бы… А здесь неудобно. Позвольте довести?
Карбышев засмеялся.
— Везде — «дети»… И тут — тоже. Хорошо, Петя? Право, хорошо. За столовую для высшего комсостава благодарю вас, товарищ. Но предложения не принимаю. С нами — младший командир из Москвы приехал. Мы и порешили вместе с ним здесь обедать. Дело, как видите, не случайное. А кто вы такой и откуда меня знаете?
— Елочкин я, товарищ комдив, — сказал помкомроты. — Елочкин, Константин.
* * *
Крепко рассчитывая на своевременную помощь французских и английских друзей, противник хотел расстроить советские части уже в оперативной зоне заграждений Карельского перешейка, еще до того, как они подойдут к главной оборонительной полосе. Тут-то и узнали советские командиры и бойцы, — не на учениях, а на практике, — что такое доты и дзоты. Узнали и живо научились различать старые одноэтажные доты на один-три пулемета, без убежища для гарнизона, от новых, «миллионных» — огромных сооружений с четырьмя-шестью амбразурами и убежищем на сотню человек. Случалось натыкаться и на такие узлы обороны, где под одним квадратным километром чистого снежного поля пряталось по пяти дотов и по десятку дзотов. Наблюдение за дотами организовалось не сразу. Но, когда в средних числах декабря советские войска все-таки подошли к переднему краю линии Маннергейма, разведка оборонительной системы противника уже была налажена: ни днем, ни ночью не прекращались поиски, и непрерывно захватывались «языки». Советская артиллерия то и дело вскрывала прямыми попаданиями отдельные бугорки под деревьями и разбрасывала веером каменные подушки.
Всего страшнее были морозы. К новому году ртуть в термометрах окончательно застряла на сорока градусах ниже нуля. Бойцы жили в землянках с жестяными печами, не вылезая из перчаток, валенок и телогреек. Командный состав надел полушубки. Карбышев ночевал в лесной дачке у начальника инженеров армии, не снимая ни шубы, ни шапки. Но чувствовал себя превосходно и никогда не мерз.
— Дмитрий Михайлович, — шутил Якимах, — а вы знаете, что стали похожи на Лялю? Такие же щечки розовенькие, и губки свеженькие, и все личико…
— Скандал, Петя! Если и дальше так пойдет, как бы под старость в грудное дитю не превратиться…
С утра — разъезды по частям. Карбышев восхищался пехотой и артиллерией.
— Когда-то Гинденбург говорил: русская пехота и русская артиллерия — суд божий! А теперь…
Водитель давал ход, и машина, «клюнув», уверенно шла вверх по крутому подъему.
На левом фланге линии Маннергейма саперы готовили сеть траншей для исходных рубежей будущей атаки. Впереди лежало снежное поле в четыреста-пятьсот метров, — такое со всех сторон открытое поле, что идти по нему в атаку было невозможно. По ночам саперы выползали вперед с зарядами тола. Взорвав заряд, рыли траншею шагов за десять до воронки. И траншейная сетка быстро покрывала поле. Саперы постепенно подбирались почти вплотную к неприятельским заграждениям. Наколовшись на первый ряд проволоки, ложились животом кверху и работали ножницами. Прорезав несколько проходов, ползли дальше, к гранитным надолбам, и, подтянув за собой на салазках толовый груз, подкладывали под каждую надолбу по заряду.
И Константин Елочкин ежевечерне надевал халат и выползал с охотниками на разведку новых рубежей. Счастье не отставало от него. Уже не раз случалось, что под белым пухом мягкого снежного покрова нащупывал он какие-то белые шнуры, какие-то рваные кусочки блестящей стальной проволоки. Что это? Б-бах! На миг оживало мертвое поле в огне и грохоте минного взрыва. А Костя — хоть бы что.
— Ставим знак!
С каждой ночью он делался все опытнее. Вот из-под снега торчит соломенный прутик. Ага! Не спеша, с пристальной осторожностью разгребает Костя снег. Так и есть: небольшая кухонная кастрюля, медный стерженек посередине — мина. Металлическая оболочка выкрашена в коричневый цвет. Стержень вывинчивается. Это и есть взрыватель. «Английская», — думает Костя про находку. И, вспомнив порядок расстановки мин, уверенно ищет вторую…
В районе Кархула — Хотинен, справа от озера, перед высотой 65,5 и двумя железобетонными дотами, лежало глубоко заснеженное болото с торчавшими на нем кое-где кустьями ржавой осоки. Несмотря на мороз, болото пружинило. Не только автомашина, но и лошадь не смогла бы пройти по нему. На кочках загорались, краснея, пятнышки кем-то раздавленных ягод клюквы. Кто и когда раздавил их? Говорили, — был здесь у белофиннов до войны полигон. Странно. Полигон над бездонной прорвой… Однако не было на болоте точки, которой не обстреляли бы шюцкоровцы с высоты 65,5, закрыв глаза. И не было такого человека, который, оторвав на минуту голову от снежной болотной глади, вернулся бы целым назад. Пристрелянность, тщательная заминированность и болотный характер делали это место совершенно непроходимым при атаке. Неизвестно, как звалось оно раньше. Саперы прозвали его «долиной смерти». А между тем выйти во фланг главным неприятельским укреплениям можно было только через «долину смерти».
Первой же ночью Костя Елочкин со своими саперами убрал мины из прохода в два десятка метров шириной. Но днем проход был опять заминирован. На вторую ночь саперы снова нашли и убрали мины. К вечеру мины были расставлены. Получалось похоже на сказку о дураке: таскать не перетаскать. В таких-то именно случаях и бывало полезно неожиданное появление Карбышева на трудном пункте. Никто в армии, от начинжа до полкового инженера, до любого саперного командира, не оставался в стороне от направлений, по которым Карбышев совершал свои объезды. Сам он говорил о своей задаче: «Езжу, чтобы изучить опыт войны, да, где надо, посоветовать инженерным начальникам…» Советы Карбышева касались таких коренных вопросов войны, как борьба с минобоязныо или действия штурмовых групп, а изучение военного опыта сводилось, по существу, к планированию прорыва Карельского укрепленного района белофиннов. Но эта внутренняя, огромная, сторона дела не только не останавливала на себе внимания рядовых начальников, но даже и вовсе не замечалась ими. От Карбышева ожидали главным образом помощи в преодолении конкретных трудностей. И тут он тоже не обманывал ожиданий.
* * *
В саперную часть, уже двое суток бесплодно пытавшуюся очистить от мин «долину смерти», Карбышев приехал под вечер третьего дня, когда болото было только что вновь заминировано. Автомобиль пыхтел, как самовар, не сходя с газа и по временам громко всхрипывая простуженной грудью. Карбышев, Якимах и полковой инженер стояли в кружке, топоча ногами. Костя, в халате, такой же сумеречно белый, как и вечерний снег кругом, с белыми треугольными волдырями на обмороженных щеках, вытянувшись, не отрывая руки от виска, а глаз от Карбышева, молча слушал, о чем говорило начальство. Про сказку «таскать не перетаскать» он уже давно доложил и теперь с тоскливым недоумением ждал и не мог дождаться ответа. Судя по времени и разговору, Карбышев сейчас уедет. И уедет, как видно, ничего не ответив Елочкину. Вот он уже идет к машине, а начальство идет за ним, а Елочкин — за начальством, все еще с рукой у виска, но с угрюмой досадой в сердце: «На нет и суда нет». Это приходит на мысль, как последнее оправдание в беспомощности. Но что же может быть обиднее для безотчетной костимой веры в Карбышева, как не это бессильное оправдание? Подошли к машине. Она стонала, крякала и, дрожа заиндевевшим телом, готовилась принять отъезжавших.
— Еще два слова, — сказал Карбышев и сделал знак Елочкину подойти, — о «долине смерти»… Конечно, так нельзя. Вы снимаете мины, они ставят. Это — носить не переносить. Что-то надо… А что? Я вам «посоветую»: нынче ночью уберите финские мины, а потом поставьте свои; но не там, где раньше ставили, а на подступах к проходу. Утром поймаете в эту ловушку несколько человек. На этом, вероятно, и вся игра кончится… Поняли?
— Так точно, товарищ комдив! — восторженно крикнул Костя. — Очень хорошо понял!
И он посмел усомниться сегодня в дивном уменье Карбышева все преодолеть, — если не силой преодолеть, то осилить хитростью и уменьем… А комдив, усаживаясь в автомобиль и подбирая полы тулупа, говорил полковому инженеру:
— Все — мои дети… И этот, молодой Елочкин, — тоже!
* * *
Железобетонное сооружение в рост человека: С четырех сторон — узкие проходы, как незастекленные окна в новом доме, и ни одной двери. Это — дот. Ночная разведка пехоты обнаруживала доты и устанавливала пути к ним. Ходила пехота в разведку с проводом, чтобы артиллерия могла ее поддержать в нужный момент. Карбышеву очень хотелось попасть в разведку. Интересное дело! Хорошему разведчику нужна не только смелость, а еще и железные нервы, и воля, и находчивость, и уменье ориентироваться в любой обстановке, и память, и сильное тело… Разведчик не имеет права волноваться. Выдержка и спокойствие — закон для него. Оглядываясь в прошлое, Карбышев с удивлением и тревожной неловкостью вспоминал, что никогда не ходил в настоящую пехотную разведку. И он стал «проситься» у командира корпуса. Но командир корпуса отвечал что-то невнятное. Во всяком случае разрешения не было. Карбышев попробовал «увязаться» в каком-то полку за уходившей группой. Командир полка отменил разведку. Нетрудно было догадаться, отчего все это так получается: Карбышева было приказано «беречь». Это дошло до рядовых бойцов. И они говорили: «Куда вы, товарищ комдив, пойдете?» И все-таки Карбышев пошел…
К полудню мороз ослабел, и снег падал тихо, прямо в глаза, затягивая белой завесой и небо, и лес. Сегодня ночью батальону, которым командовал Мирополов, предстояло выдвинуться вдоль леса по шоссе на три километра. Пообедали. Отметили, что мороз опять начинает забирать. Воздух вдруг сделался таким колючим, что каждым вольным вздохом безжалостно обдиралось горло. Мирополов готовил партию разведчиков. Бойцы надели белые халаты.
— Ей-ей, невозможно, товарищ комдив! — говорил Карбышеву взволнованный Мирополов. — Уж вы поверьте, нельзя! Да и бойцы не согласятся вас взять. Дело, знаете, какое… «Кукушки» — на каждом шагу. Пропустит мимо и бьет в спину — самый подлый у них прием. Вдруг угодит…
Карбышеву это надоело, и он сказал, не скрывая досады:
— Что вы мне все о бойцах толкуете? Разве вы не командир? Я вижу, вы только и умеете, что людям пальцы отхватывать. Заметьте; мы еще с вами не расквитались…
Неизвестно, как понял Мирополов эти сердито-шутливые слова. Несмотря на мороз, он вдруг стал красен и потен. На лице его ярко зажглось выражение самого мучительного конфуза. Да, старое сознание вины перед комдивом и потребность ее искупления были очень сильны в комбате.
— Не расквитались?
— Так точно, нет… товарищ комдив!
Мирополов был из тех простых людей прямой и короткой мысли, для которых не сделать — гораздо труднее, чем сделать, ибо дальных и сложных расчетов действия они не признают. Мирополов остановил свой испуганно-спрашивающий взгляд на Якимахе. И Якимах ответил: подмигнул и еще зачем-то языком прищелкнул, энергично вертя головой туда и сюда. Что должен был означать такой ответ, Мирополов не понял. Еще с академических времен он привык смотреть на Якимаха несколько снизу вверх, осуждая его в глубине души за обидное превосходство над собой. И сейчас, не поняв его сигнала, по обыкновению, обиделся. В конце концов никаких категорических приказаний насчет Карбышева не было. Говорилось: «беречь». То есть прежде всего находиться возле оберегаемого и охранять его собой…
— Как прикажете, товарищ комдив, — сказал Мирополов.
Якимах опять качал головой. И теперь было совершенно понятно, что он возмущен поступком Мирополова. Комбата снова бросило в жар. Однако отступать было уже некуда и некогда: бойцы становились на лыжи…
Шли по шоссе, с пограничниками впереди. Шли гуськом, шли, шли, шли… Каждый следил за впереди идущим. Каждый удивлялся тому, как снег под ногами отливает синевой, а кое-где и вовсе кажется синим. От холода каждому казалось, что череп его под шлемом становится маленьким и голым, — чужим черепом. Якимах по-ребячьи шмыгал носом, и ноздри его слипались — чужие ноздри. Луна еще около получаса цеплялась за верхушки сосен, а потом оторвалась кверху. Ночь засеребрилась, заголубела, захолодела. Пограничники осадились.
— Стоп! Дальше и мы дороги не знаем. Счастливого пути!
Двинулись. Разглядев на высокой сосне огромное черное пятно нелепой птицы, Якимах почему-то не тотчас понял, что это — финский наблюдатель. А ведь, кажется, достаточно наслышался про «кукушек». Оптический прицел… Черный ручной пулемет…
— Шестьсот метров. Огонь!
Шюцкоровец выронил из рук пулемет и, медленно отделившись от дощатого мостика под ногами, полетел вниз, растворяясь своей серой курткой в столбе белой снежной пыли. Дорога была перегорожена. Тут и противотанковые рвы, и надолбы, и проволока, и завалы из сосен толщиной в полный охват. Надо было завалы обходить. Сзади подтягивался батальон. Вот и Мирополов. Рядом с ним — Карбышев. Мирополов что-то прикинул — ему одному ведомое. Затем приказал старшему разведки:
— Ищите обход справа!
Спустились с шоссе и опять потянулись гуськом через сугробы. Шли около часа, пока не наткнулись на проволоку.
— Сколько?
— Семь колов!
— Режь!
Старший вытащил из сумки гранату «Ф-1». Якимах вспомнил радиус действия этой гранаты и с удовольствием подумал: «Сильная штука!» Разведчики резали проволоку. Она звенела под ножницами, ныла, выла, скрежетала на все лады и свертывалась, как струна, клубками, — мороз сковал ее. Странно, что противник не слышал этой музыки, — он мог бы бить прямо по звону. За проволокой еще шли. Лес тонул в хрусткой тишине. Может быть, из-за касок и подшлемников тишина казалась такой полной, такой подавляющей. Вдруг пустая консервная банка загремела под ногами Якимаха. Что это? Дорога. Стали. Прикрыв фонарик полой шинели, старший долго смотрел на карту.
— Похоже, обошли финнов с тылу…
Знакомый Якимаху голос отозвался.
— Да, мы как раз позади завала…
Якимах вздрогнул и оглянулся. За ним стоял Карбышев.
— Дмитрий Михайлович! Вы как здесь?
— Вырвался с партией… Потихоньку… Все боялся на глаза попасть… Вот мы и позади завала!
Действительно с той стороны, откуда обходом пришла сюда разведка, явственно слышались резкие очереди автоматов «Суоми». Это с завала встречали мирополовский батальон. В темноте поблескивали огненные шнурки трассирующих пуль.
— Ложись!
С каждой минутой обстановка делалась ясней. Завал глядел лицом на батальон, а на разведку — задом. В бревенчатых гнездах завала прятались пулеметные расчеты, — по три человека на гнездо. И Якимаху, который отлично видел в темноте, уже казалось что он различает их пятки.
— Ура!
Это крикнул Карбышев. Теперь он был не в хвосте разведывательной партии, а перед ней.
— Ура! Ура!
Граната «Ф-1» ударилась в спину завала. Ослепительный блеск и грохот разрыва наполнили ночь. Вот уже и нет ни пулеметчиков в гнезде, ни самого гнезда. «Ура» гремит и по ту сторону завала, — батальон идет в атаку. Карбышев опорожнил подсумок убитого пулеметчика. Попробовал вставить в ствольную коробку целую обойму, — не пошла. Загнал патрон — идет, как к себе домой. Пуля щелкнула Якимаха по каске, — дзинь! — каска — наземь. Какой-то высокий человек шагает через бревна завала, торопится, прыгает, бежит. Он — тоже без каски. У него — лысая голова и красное лицо. Он так извалялся в снегу, что и борода у него, и даже брови — белые.
— Товарищ комдив! — кричит он. — Товарищ комдив! Где товарищ комдив?
Это — Мирополов. Нет, нет, все — в порядке. Карбышева не задело. Только шинель пробило осколками, да из ватника повыпустило вату на простор.
— Товарищ комдив! Живы? — кричит Мирополов и радостно машет рукой.
Из руки его брызжет кровь, но он этого не замечает.
— Что это с вами?
Он смотрит на руку. Вместо пальца — лоскутки окровавленной кожи и мелкая осыпь остреньких белых костей.
— Да, действительно… — с недоумением говорит он, — пальца, как не бывало. Вот мы теперь и квиты с вами, товарищ комдив!
И он улыбается, смущенный своей находчивостью.
— Петя! — говорит Карбышев Якимаху, — помните? «Каждый боец должен стремиться к взаимной выручке и во всех случаях помогать товарищу огнем, штыком, гранатой, лопатой и личным содействием». Вот оно…
— Что?
— Статья восемнадцатая Боевого устава пехоты… Мирополов! Мирополов! Идите сюда, мы вам перевяжем руку!
* * *
Делегаты связи из частей собирались по ночам в штабе начальника инженеров седьмой армии. Делегат из корпуса, где Карбышев сумел-таки «увязаться» за разведкой, красный не то от смущения, не то от бега по снегу, сбивчиво доложил о происшествии. Начальник инженеров армии недовольно крякнул: «Да разве так берегут?» На следующий день о том, как Карбышев штурмовал блокированную дорогу в тылу у неприятеля, было известно уже и товарищу Жданову. Товарищ Жданов покачал головой. «Этак можем потерять старика… Надо выманить его сюда. А здесь — глаз да глаз…» Карбышева вызвали в штаб фронта. Он горестно развел руками.
— Беда, Петя! Значит, опять в учителя. Только и знаю, что консультирую. А дело делать когда?..
Январь был в половине. К этому времени картина расположения неприятельских укреплений была уже совершенно ясна. Советские войска стояли перед Хотиненским узлом линии Маннергейма. Основные препятствия этой системы были расположены у дотов «45», «35», «40»: проволочные заборы, мины, завалы и каменные надолбы. Подготовка к штурму здешнего укрепленного района шла полным ходом. Саперы рыли для пехоты укрытия от огня, разрушали заграждения, устраивали проходы в надолбах, блокировали и подрывали доты. Собственно, доты уже были обнажены. Что ни день, траншеи все ближе и ближе подступали к врагу. Заглушая шум тракторов грохотом специально инсценированной артиллерийской канонады, подтащили на заранее подготовленную площадку стопятидесятидвухмиллиметровую пушку. И затем принялись сбивать стальные колпаки с неприятельских наблюдательных пунктов и рушить их амбразуры.
И в штабе фронта удержать Карбышева было нелегко. Его автомобиль молодцевато прыгал то здесь, то там, взрывая снег на ухабах, — то нырял в какие-то ямы, то сразбегу выскакивал на открытые места. А по дорогам шагу было невозможно ступить без риска взлететь под холодное белое небо. Дороги были изрыты ямами и чуть ли не в каждой — прикрытая снегом английская или шведская мина. Покрывались дороги и бревенчатым настилом. Но стоило потревожить бревно, как все сооружение взметывалось в воздух.
Саперам случалось из-под настила длиной в четыреста метров вынимать по двести восемьдесят мин. Карбышев твердил:
— Ищите грибы, товарищи! Ищите!
Однако его выезды из штаба фронта имели теперь совсем иной характер, чем прежние «вольные» экскурсии по частям. Тогда он «советовал», теперь — учил. Карбышева не стесняли в средствах. Возле дивизионного командного пункта, в трех километрах от передовых позиций, находился захваченный у неприятеля рубеж с надолбами, рвами и проволочными заграждениями. Здесь Карбышев со сказочной быстротой построил «укрепленный район» — точную копию белофинской оборонительной полосы. Здесь войска учились сбивать надолбы, преодолевать проволочные заборы и блокировать доты. Артиллеристы-противотанковики старались поспевать со своими пушками всюду, где требовалось поддержать пехоту. Танкисты подвозили блокировочные группы к дотам на прицепленных к танкам бронесанях. Пехота проверяла бой оружия, практиковалась в стрельбе и метанье гранат, тренировалась на лыжах. Карбышев учил:
— Во-первых, товарищи, держаться как можно ближе к артиллерийскому огневому валу… Прижимайтесь к нему вплотную, — плохого не будет. Во-вторых, долго на одном месте не лежать. Стоит противнику пристреляться, — каюк!
И саперы тоже массами вводились в показные бои, первым и главным участником которых был Карбышев.
* * *
Первого февраля сорокового года советские войска были готовы к прорыву. Стрелковым дивизиям уже были приданы и пушечные, и гаубичные полки, и группы дальнего действия, и танковые, и инженерные батальоны. Точно установлены полосы прорыва. Артиллерийские дивизионы вели дружный огонь по подступам к большим дотам. Все явственнее выступали между воронками на расковыренной земле страшные серые квадраты «миллионного» в Хотинене. Костя Елочкин сам слышал, как пленный белофинн говорил:
— Когда возьмете этот дот, ключ от ворот Хотинена будет у вас в руках…
Костя смотрел и видел черные стальные плиты, вделанные в бетон передних стен «миллионного». Вот уже открываются мало-помалу длинные щели его амбразур. Вот встает он голым из земли и оказывается весь, как на ладони. Танки подвозили взрывчатку на санях. Пехота Мирополова передавала ее по траншеям из рук на руки…
«Миллионный» взорвался днем второго февраля. В ночь на четвертое взорвался еще два раза и перестал быть дотом. Для трех взрывов потребовалось шесть тонн взрывчатки. За грудой развалин широко открывались Хотиненские ворота. Подготовка заканчивалась. Выбирались места для наблюдательных и командных пунктов; разрабатывалась схема связи. Танки точно проходили те расстояния, которые им предстояло за то же время пройти в бою. Саперы оборудовали исходные рубежи и фланги. Десятого войска получила приказ о наступлений на следующий день. Вечером был указан час атаки: 12.00, и выдан на ужин штурмовой паек. Ночью войска не спали. Двигались артиллерия, танки и пехота. Командные пункты переходили на самые близкие к огневым позициям противника высоты. Но к утру советская сторона была неподвижна и так замаскирована, что казалась почти невидимой на снежных полях…
А-ахнули пушки. Тысячи снарядов вырвались из их длинных и коротких, узких и широких дул и полетели, догоняя друг друга, к Хотинену. Артиллерия вела огонь два часа. За двадцать минут до его конца загудели моторы. Двинулись танки. Пехота шла на бронесанях. В батальоне Мирополова звонко пели «Походную»:
Раскинулись ели широко, В снегу, как в халатах, стоят. Засел на опушке глубоко В земле белофинский отряд…Впереди, под пулеметным огнем «саперные щупальцы» вытаскивали из-под снега четырехметровые чугунные тумбы, начиненные толом. Здесь был и Костя Елочкин. Границы минного поля довольно легко определялись по тонко затесанным деревянным палочкам или по проволочкам, которыми бывали утыканы его края. И кроме «щупалец», перед стрелковыми частями работало немало саперных команд. Одни заваливали бревнами и жердями полузамерзшие болота, открывая танкам путь; другие возились с голубыми глыбами льда, разбитого снарядами и нелепо повисшего над рекой; третьи укладывали ящики с взрывчаткой на казематах дотов и, уложив, отбегали. Командир блокировочной группы подавал сигнал. Саперы подносили огонь к запальным трубкам, и красный язычок струйкой устремлялся по шнуру. Вот он подскочил к двери дота. Слышен легкий, мягкий шип… Затем — мгновенье тишины… И вдруг громадный огненный фонтан с неистовым грохотом ударяет в небо. В ушах — звон; в глазах — неразбериха, все наоборот… Грязный прах валится сверху на голову… Кругом черно, черно… Доты рвутся на всех соседних высотах — «Огурец» и «Апельсин», «Фигурная»… С начала атаки не прошло и получаса, а над высотой «65,5» уже взвивается красное знамя, взвивается и плавно развертывается в голубом просторе.
— Ура! — кричит танкист в комбинезоне с огромным пятном еще не застывшей крови на правом рукаве. — Ур-ра!..
Туда, где отработали свое саперы, мчались теперь танки, вздымая бешеные снежные вихри. Они мчались в атаку, а казалось, будто это плывут ледоколы, то взлетая, то исчезая в глубоких оврагах и ямах. Позади остаются занесенные снегом рвы. Танки поднимаются вверх по крутому скату и вминают в мерзлую землю длинные ряды колючей проволоки…
Так — до семнадцатого февраля. В этот день советские войска подошли к переднему краю укрепленных районов главной оборонительной полосы белофиннов. Двадцать восьмого февраля массированный огонь советской артиллерии завершил разгром главной полосы. Тринадцатого марта, когда передовые советские части были уже севернее Выборга, вдруг прояснилось угрюмое небо, светлое, яркое солнце разгорелось над стылой землей, и первый вздох весны теплой волной неслышно пронесся по миру. В полдень неожиданно смолкла канонада. Еще через сутки войска узнали: линия Маннергейма прорвана. И уж если затемнение снято, — значит конец войне…
* * *
Но Европу война заливала. В начале апреля гитлеровские войска приступили к захвату Дании и Норвегии. Через месяц вторглись в Бельгию, Голландию и Люксембург. Около тридцати германских дивизий сосредоточились против слабейшего, Саарского, участка линии Мажино. Затем немецкие моточасти вышли к Па-де-Кале. Открылось наступление на реке Сомме, и начались бои за Париж. Гитлеровские генералы повели атаки на Саарский участок линии Мажино. Французские армии отходили сперва на рубеж Верден — Марна — Сена, а оттуда и дальше, обнажая левый фланг и тыл знаменитого Лотарингского укрепленного района. Пятнадцатого июня пал Верден. На следующий день Рейно ушел в отставку — «мавр сделал свое дело», — и преступный карлик Петэн принялся формировать кабинет поголовной измены. Английские войска уносили ноги из Нормандии. Понадобилось всего четыре дня, чтобы сдались Орлеан, Лион, Брест и Нант. Двадцать второго в Компьенском лесу под Парижем было подписано перемирие. «Что же должно за этим последовать?» — думал весь мир.
* * *
В апреле выяснилось, что морской факультет Военно-инженерной академии, на котором обучалась младший военный техник Елена Карбышева, должен быть переведен в Ленинград и поступить в состав Высшего военно-морского строительного училища. Выяснилось также, что командиры, обучающиеся на факультете, перейдут на положение курсантов. Лидия Васильевна забила тревогу:
— Да как же это будет? Лялька не ест рыбы, а там их только рыбой и будут кормить (поразительна осведомленность Лидии Васильевны). И вообще Лялька почти ничего не ест. Кто же за ней будет следить? А где Лялька будет там жить? Не в общежитии же с курсантами?..
Отъезд Елены в Ленинград поднял множество вопросов и недоумений, и они, как мутное облако, заслонили собой будущее. Сама Елена уезжала без полной ясности в мыслях и с грустной неуверенностью в себе. Карбышев видел состояние дочери. Проводив ее, он сейчас же принялся сочинять доброе, бодрое и веселое письмо в Ленинград. С тех пор не проходило дня, чтобы он не писал дочери, и уж, наверно, никакие влюбленные никогда не бывали так точны в переписке, как Елена и он. В августе Карбышев вырвался в Ленинград. Случилось это вскоре после получения им звания генерал-лейтенанта инженерных войск.
Высшее военно-морское строительное училище помещалось на улице Каляева, в новом здании бывшего Ленинградского промышленного института. Начальник училища, флагман 2-го ранга, встретил Карбышева с подчеркнутым уважением к его высокому званию. Курсанты жили не в училище, а на улице Чайковского, бывшей Сергиевской. Там, на втором этаже, у Елены была отдельная комнатка.
— Немедленно вызвать младшего воентехника Карбышеву! — приказал начальник училища.
И, вытянувшись, доложил:
— Товарищ генерал-лейтенант! Младший воентехник Карбышева будет здесь через восемнадцать минут. Прошу обождать в моем кабинете.
Елена явилась через шестнадцать минут — вбежала в кабинет, рванулась к отцу и, остановленная строгим взглядом начальника училища, замерла на пороге. Нежная тонкость фигуры и лица странным образом гармонировала в ней с легкостью справной солдатской повадки. Короткая военная служба только закрепила за Еленой эту повадку, перешедшую к ней от закоренелой «строевитости» ее насквозь военного отца. Елена совершенно свыклась со своим полуматросским положением. Переезд в Ленинград смутил ее лишь поначалу. А потом пришелся по вкусу. Елене нравилось натыкаться в жизни на необыкновенное. Здесь же все именно таким и было, особым и неожиданным: и Ленинград, и море, и гидротехника, которая сделалась ее главным увлечением, почти страстью.
— Как успехи, как здоровье?
— Спасибо, товарищ генерал-лейтенант, — успехи хороши, здоровье в порядке.
Начальник училища вышел из кабинета.
— Здравствуй, цыпленок!
Елена бросилась на грудь отцу. И Карбышев крепко прижал ее к груди. «Старость — оборотная сторона молодости», — думал он, глядя в ее молодые, горящие глаза.
— Говоришь, здорова? Вот и славно. Заметь, Аленка: счастье, как здоровье, — если его не чувствуют, значит, оно есть. Счастлива?
— Не знаю, папа, — говорила Елена, держа отца за руку и не выпуская его руки из своих, — сейчас вполне счастлива.
— Заметь еще: у всякой жизни есть свой запах, свое тепло, свое счастье. Есть оно даже и у самой несчастной жизни, потому что на свете много прекрасного даже и без счастья. А ты — моя дочь. Ты должна быть счастливой. Только не перетяни!
— Как это — не перетяни?
— Да, цыпленок, да… жизнь похожа на ткань, которую на что-нибудь натягиваешь. Иногда жизни так много, что она комкается. Иногда — ровно столько, сколько нужно для счастья. А иногда не хватает, — тянется, тянется, да и лопнет…
* * *
Когда Карбышев вернулся в Москву, был сентябрь, и осенняя зелень московских бульваров пестрела в ярких переливах коричневого, золотого и красного цветов. Еще ни разу осень в природе не казалась Карбышеву такой близкой, такой схожей с осенью его собственной жизни. Никогда еще не представлялся ему таким ощутительным уклон пути вниз и не виделись так ясно ступени, уходящие из-под ног. Почему? Он был здоров. Мысль его была сильна, быстра, как и смолоду. Любимое дело кипело в руках. Вскоре по приезде он был переведен из кандидатов в члены партии. «Сегодня — знаменательный день, мать!» — сказал он Лидии Васильевне. Она гордо подумала; «Еще бы, прошел под аплодисменты!» Но, кроме этого, было и еще нечто, казавшееся Карбышеву по преимуществу знаменательным. Став членом партии, он не почувствовал решительно никакой разницы между прежним и новым отношением партии к себе. Прежде был беспартийным большевиком, а теперь стал партийным, — вот и все. И он с радостью набирал и вел кружки.
Лидия Васильевна, отлично помнившая все семейные даты, сказала за вечерним чаем:
— Дика, а ты знаешь, что в октябре тебе стукнет шестьдесят?
Он пропустил это мимо ушей и ничего не ответил. Но потом, ложась спать, с досадой вспомнил про недавно разбившиеся очки, без которых совсем не мог работать, и про дурной короткий сон по ночам, и про шестьдесят лет. «Черльт знает, что такое!»
* * *
Начальник Карбышева, молодой генерал, умно и талантливо руководивший педагогической отраслью работы Генерального штаба, совершенно случайно узнал о шестидесятилетии Карбышева за два дня до юбилейной даты. Генерал этот был человеком вдумчивым и осторожным в принятии решений, но выполнял свои решения в высшей степени энергично, быстро и твердо. Глядя на него, почти невозможно было предположить в нем силы, энергию и твердость, какими он в действительности обладал. Он был не очень высок ростом, худощав, приятно светел глазами и лицом, с ласковой ямочкой на тонком подбородке, спокоен, даже несколько медлителен в движениях и тихоречив. Узнав о шестидесятилетии Карбышева, спокойный и тихий генерал этот, не теряя ни минуты, попросил к себе своего помощника и сказал:
— Чуть не проморгали… Сегодня же представим Народному Комиссару Обороны, немедленно!
И он тут же набросал текст представления, в котором очень высоко оценивал педагогический талант Карбышева, отмечал значение его лекций как органического элемента в работе по образованию и воспитанию войск, и, кроме того, их редкое методическое мастерство; подчеркивал наличие у Карбышева богатого опыта, тесной связи и рабочего содружества с войсками (карбышевский метод решения военно-инженерных задач — достояние многих тысяч генералов и офицеров, вышедших из наших военных академий) и, наконец, обращал внимание Народного Комиссара как на фортификационно-строительные, так и на боевые заслуги этого старого военного инженера. Если бы строгий, фирменный характер бумаги, которую писал генерал, позволял ему свободно высказать в ней все, что он думал о замечательных свойствах Карбышева, он бы прибавил к написанному и еще кое-что важное. Так, например, непременно упомянул бы о способности Карбышева не только нести в себе пафос своей работы, но и внушать его другим, создавая вокруг дела прекрасную атмосферу приподнятости и высокого интереса. Сказал бы о том, что, не любя проявлять свою власть, Карбышев обладал каким-то веселым уменьем заставить людей делать все, чего требует от них воинский устав. И о том, что Карбышев превратился в советского офицера без всяких усилий, словно всегда им был, ибо таких народных офицеров, как он, создает народ. О многом подумал еще генерал, но не написал…
Для конца октября день двадцать восьмого был отличным днем — тихим, теплым и, хоть серым, но с прозрачностью. Нет-нет да и проглядывало солнце, выбрасывая на землю розовый, сизоватый свет. Утром выпал снег и покрыл тонкой белой пеленой комья замерзшей грязи на улицах, крыши домов и сучья деревьев. Карбышев ничего не знал ни о наградном представлении, составленном двое суток назад, ни о стремительном движении этого документа к Народному Комиссару, от него — в Совнарком, а отсюда — в Президиум Верховного Совета, ни о конечных результатах двухдневных странствий документа. Поэтому, когда Карбышева пригласили в начальнический кабинет, он вошел туда, отнюдь не предвидя дальнейшего. А было так.
Карбышев быстро вошел в кабинет, почти вбежал, по своей привычке, и остановился посреди комнаты.
Начальник встал, его заместитель, плотный, круглоголовый генерал-лейтенант, — тоже; с ними — еще несколько генералов, сидевших за столом для совещаний, — все поднялись. Начальник выступил вперед. Всегдашнее светлое выражение его умных серых глаз и сухощавого лица превратилось в улыбку, и ямка на подбородке сверкнула. Он поздравил Карбышева с шестидесятилетием и громко прочитал приказ Народного Комиссара Обороны СССР. В этом приказе, за № 379, говорилось о выдающихся заслугах Карбышева в деле строительства и подготовки командных кадров Красной Армии. Затем приказ поздравлял юбиляра с награждением орденом Красного Знамени и желал ему долгих лет плодотворной работы по укреплению армии. Ямочка на генеральском подбородке еще раз сверкнула, и в руки Карбышева перешел футляр с орденом. Генералы один за другим подходили к нему, жали руки, обнимали и поздравляли. Карбышев был очень рад тому, что происходило, но не так, как обычно радуются люди чему-нибудь неожиданно приятному, то есть не растерялся, не засуетился, не растрогался до слез, не запутался в ответных словах. Он стоял, маленький среди огромного кабинета, странно не моргая горячими черными глазами, крепко пожимая протянутые к нему со всех сторон руки, и говорил, по обыкновению, быстро и твердо, точно уже давным-давно знал, что именно надо будет сказать сегодня:
— Надеюсь, товарищи, на главное: вновь обрести молодость. Обрету ли? Сегодня же проверю, когда вернусь домой. Если до сих пор поднимался со ступеньки на ступеньку, так теперь буду брать лестницу сразу через две…
* * *
Вечером в карбышевской квартире собрались «свои» люди — Наркевич, Якимах, еще кое-кто. Неожиданно явился Батуев, давно не казавший носа на Смоленский бульвар. Якимах сказал:
— А все-таки превосходная, Дмитрий Михайлович, эта должность…
— Какая?
— Быть на земле человеком!
Какими-нибудь другими, себе принадлежащими, словами он не сумел бы выразить то множество мыслей о прошлом, настоящем и будущем, которое гнездилось сегодня в его голове. И тотчас вспыхнул разговор, — простой, душевный, дружеский разговор когда мысли собеседников в свободном и стремительном разбеге захватывают все больше и больше тем, сближаются, совпадают, отталкиваются, перекрещиваются и обгоняют друг друга.
— Между человеком и тем, чего он хочет, — говорил Карбышев, — почти всегда дьявольская даль. Что касается меня, я хотел немногого: переплыть жизнь, а не купаться в ней, пуская пузыри. Но что из этого вышло?
— Сегодня выяснилось, что вышло, — почтительно сказал Батуев.
— Годы и труд шли в ногу, как лошади, запряженные парой. И я, как. завзятый пешеход, знай, шагаю через поля, леса, реки. Иду, иду, этак под красным вечерним небом и вдруг вспомню: а ведь есть же на свете и пассажирские самолеты, и международные вагоны с мягкими диванами, и люди в них мчатся… Мне бы? Ничего подобного! Промчится такой человек в своем вагоне и ничего не увидит из окна, кроме вокзалов да телеграфных столбов. Кто же в выигрыше? Он или я? Конечно, я, потому что…
Лидия Васильевна внимательно слушала, разливая чай по стаканам, и лицо ее выражало сосредоточенную мысль, как будто проверяющую старые впечатления по новым, которых так много приносит жизнь.
— А я, — сказал Батуев, — вроде того горшка из басни, которому и на старости лет не будет другого названья, как «наш маленький горшок»…
Все засмеялись. Батуев зачем-то вынул из кармана и надел очки. Руки его слегка дрожали. В очках он из молодого, веселого, сразу превратился в пожилого и сердитого. Что-то простое, хорошее, бывшее в нем минуту назад, вдруг испарилось через очки. Батуев протянул Карбышеву только что вышедший номер военного журнала, развернутый на странице с большим портретом.
— Узнаете?
Все принялись рассматривать портрет. И всем бросилось в глаза, насколько лицо Карбышева, сухощавое и жестковатое в натуре, казалось на портрете мягче и припухлее, как это обычно и бывает у очень немолодых людей. Но выраженье мысли, являющееся подлинной красотой иных некрасивых лиц, отнюдь не расплылось в этой припухлости; наоборот, оно стало еще полнее, чище и выразительнее. Карбышев махнул рукой.
— Так похож, что плюнуть хочется…
Наркевич поправил гладкие седые волосы.
— Смотрю на оригинал, на портрет, и, знаете… Как бы точнее сказать?.. Чувство прошлого как бы омолаживается во мне предчувствием будущего.
Прошло около двух лет с тех пор, как Наркевич ушел из армии. Он работал теперь начальником большой организационно-технической конторы, называвшейся «Оргастрой». Карбышев относился к уходу Наркевича с военной службы очень неодобрительно. И поэтому сказал:
— Вы уж меня извините, Глеб… Но какие у вас там могут быть омоложения и предчувствия будущего, коли вы не нашли ничего лучшего, как променять работу в армии на гражданскую?
— Да ведь я, собственно, никогда и не был военным, — возразил Наркевич, — я только состоял на военной службе…
— Пожалуй, и стрелять не умеете?
— И стрелять разучился. Ничего чрезвычайного не произошло. Просто вернулся в «первобытное» состояние…
— Все это, может быть, и верно, — задумчиво проговорил Карбышев, — но предчувствовать будущее вам, Глеб, к сожалению, не дано.
Наркевич пожал плечами и опять пригладил белые волосы. Разговор свелся на горячую тему об угрозе войны.
— Я так рассуждаю, — сказал Глеб, — если мы не готовимся к войне, то…
Карбышев заспорил:
— Схоластика! Не готовимся? Ошибаетесь, Глеб. Готовимся прежде всего тем, что выполняем великий план социалистического преобразования нашей экономики. Потом — тем, что всячески помогаем расцвету социалистической культуры. И, наконец…
Звонок в передней оборвал спор. Принесли телеграмму.
— Из Куйбышева? От Елочкина Степана. Вот и еще один отставной. Ну-ка, читайте, Авк!..
Глава тридцать восьмая
У старости привычка хватать жертву за горло. Иногда, например, первый встречный ребенок вдруг возьмет да и назовет человека «дедушкой». И перед человеком, искренне считавшим себя до сих пор всего лишь «немолодым», внезапно откроется скверная истина: он — старик. Нечто подобное случилось и с Карбышевым.
В ночь на одиннадцатое ноября сорокового года он проснулся, вскочил с дивана и, опустив ноги на пол, отчаянно подумал: «Схожу с ума!» Диван ехал всеми четырьмя ножками по полу от стены к шкафу с книгами. «Сошел с ума!» Однако тут же все и кончилось. Придя в себя, Карбышев прежде всего заметил, что не помнит ни одной из тех мыслей, с которыми лег спать накануне. Эти мысли унес из его головы вихрь ночного смятения. Зато новая тревога переливалась в груди, и с необыкновенной яркостью выступали из прошлого далекие впечатления. Карбышев пристально глядел в черную и пустую ночь. От ее пустоты прошлое становилось ярче, а тревога — острей. Квартира мирно спала, погруженная в глухую тишину. Ни звонкое поддакивание будильника, ни лай собаки на улице не могли разорвать тишины. Да Карбышев и не слышал ни того, ни другого. Он подумал: «Проснулся я или еще сплю?» — и для проверки кашлянул. От этого ничего не изменилось: прошлое продолжало наступать. Но вместе с тем он понял, что не спит и что не заснет больше, и, протянув руку к штепселю, зажег свет.
На полу резко белело прямоугольное пятно конверта. Вероятно, это был пакет, соскользнувший с письменного стола, когда кабинет со всем, что в нем находилось, дрожал и трясся в непостижимом оживлении. Первая мысль о вчерашнем, вернувшаяся к Карбышеву, была такая: «Вот если бы я лег вчера спать не в темноте, а при свете, я непременно увидел бы этот конверт и вчера же прочитал письмо». Он торопливо нагнулся и поднял конверт. Письмо было от Елочкина — послано в догонку за поздравительной телеграммой, но запоздало. Давно, очень давно не было вестей от Степана, и много за это время пронеслось через жизнь всякой всячины. Впрочем, только слабый огонь гаснет на ветру, а сильный — разгорается. Карбышев быстро проглядел четыре мелко исписанные страницы, часто шевеля улыбавшимися губами. Потом его руки с письмом медленно опустились на одеяло. Но губы все еще продолжали шевелиться. Он говорил с самим собой. Итак, у Степана трое внучат, трое… Это — у Степана, который на десять лет моложе Карбышева, которому, следовательно, всего-навсего пятьдесят лет — у него трое внучат… Черльтовски важно, черльтовски. Коли так, то и очки Карбышева, и его скверный сон, и небывалое раньше ощущение тяжести на крепких плечах, и юбилей, и поздравления, — все это лишь частности. А главное… Елочкин знает об этом главном. Он пишет о своих внучатах, но дело-то, собственно, не в них, а… Старость! В старости дело!
На следующий день в газетах сообщалось об отозвавшемся в Москве землетрясении с эпицентром в Румынии и о том, что подобного не случалось в Москве с 1802 года. Именно в эту удивительную ночь к Карбышеву пришла старость, то есть он впервые почувствовал себя стариком.
* * *
Франция капитулировала. Армии Англии, Бельгии и Голландии были разбиты, и Западная Европа превратилась в колонию германского фашизма. Днем и ночью военные заводы Шкода в Чехословакии, Шнейдер-Крезо во Франции, Аскальдо в Италии работали на гитлеровскую Германию. Кроме своей собственной, огромной, хорошо обученной, опытной армии, Гитлер распоряжался войсками Италии, Финляндии, Венгрии, Румынии, франкистской Испании. Рядом с сознанием правоты и силы, тягостные предчувствия жили в сердцах советских людей. Когда Наркевич пришел к Карбышеву и попросил его выступить в «Оргастрое» с лекцией, между ними уже не было больше ни споров, ни разногласий.
За окном снег ярко горел на февральском солнце. Крыши домов искрились алмазной россыпью, глазам было больно смотреть на этот блеск. Волны удивительно свежего и чистого воздуха катились по улицам. Наркевич уславливался с Карбышевым о теме и времени его лекции и думал о нем самом. Как воздух сегодняшнего дня, чиста атмосфера труда и терпенья, в которой живет этот человек. И так же, как этот воздух, свежа новая, новаторски развиваемая им наука. Может быть, было бы преувеличением сказать, — что Карбышев создал законченную теорию инженерного обеспечения боя и операций. Но никто так много не работал над ней применительно к новым условиям современной машинной войны, как он. Уже и в старой Военно-инженерной академии поговаривали о тактической стороне этих вопросов; но теперь из них сложился целый отдел военно-инженерной науки. Трудно знать, как бы все это получилось без Карбышева, Теперь он стоял на самой широкой стезе признания. И начиналась по отношению к нему совсем иная, чем прежде, «отдача». Даже «стороннему» человеку, Наркевичу, было известно, что Карбышева опять прочили на должность начальника Военно-инженерной академии и что он опять отказался. «Поздно, товарищи, стар…»
Гость и хозяин сидели в столовой. Комната казалась огромной и пустой после того, как из нее вынесли застоявшуюся с Нового года елку. Карбышев говорил:
— С удовольствием прочитаю у вас лекцию. Глеб… В «Оргастрое» народ ученый. Рождают гипотезы. А что такое гипотеза? Выступление науки в поход. Следовательно…
Наркевич потер складку, успевшую лечь поперек его переносицы после памятного юбилейного вечера в октябре, и тихо усмехнулся.
— Следовательно, уничтожение гипотезы — победоносный конец похода. Вот с этой точки зрения и надо, Дмитрий Михайлович, выбрать тему.
— Правильно. «Боевые эпизоды» из войны с белофиннами — не годится…
— А жаль.
— Почему?
— Я слышал, что, когда вы выступали с «Боевыми эпизодами» в Доме журналистов, вас слушали, разинув рот.
— Да. Стены дома потряслися, и некоторые литературные женщины, находившиеся в интересном положении, прямо оттуда разъехались по родилкам. Может быть, «Колонные дороги» — о роли инженерных войск при движении армии вперед? Исправление дорог, мостов… А? Нет, пожалуй, и это не годится…
— Почему?
— Не то, Глеб, не то. Ага… Кажется, нашел: «Современный укрепленный район на опыте разгрома линии Маннергейма». Хорошо?
— Великолепно!..
Клуб звенел звуками. Певучие голоса скрипок сталкивались, схлестывались, но не сливались даже и тогда, когда под натиском трубных басов становились еле слышными. Воздух жил, его делали живым звуки. Они неслись, растекаясь по широким коридорам, между цветами в кадках и картинами в золотых багетах, и казалось, что нет ничего проще, как видеть эти волны музыкального моря и даже трогать их рукой. Карбышев шел по коридору и думал: «Сколько беззаботного спокойствия в этой музыкальной громкоголосице… И как вместе с тем она близка к тому голосу борьбы, которым сейчас заговорю я…» Дверь в зал, полный пиджаков и рабочих курток, закрылась позади Карбышева, и музыка осталась за дверью. Карбышев быстро поднялся на эстраду, еще быстрее шагнул к ее краю и начал говорить:
— Энгельс писал об осаде Севастополя, что она «не будет иметь равных себе в военной истории». Севастопольская оборона — дело рук русской фортификационной школы. Позвольте! Но что ж это за необыкновенная такая школа, из рук которой вышло чудо фортификации? Чему же нас учит русская школа? Тому, что не проволока и не мертвый бетон, а живая сила войск достигает победы; но что достижению победы помогают и проволока и бетон. Именно они стоят между войсками обороны и огнем наступления. Защищаемая ими, оборона становится по-севастопольски непреодолимой и активной на Каховский манер…
Карбышев уже не стоял у края эстрады, а ходил вдоль края, разгоряченный и взволнованный.
— Итак, в плохих руках укрепления часто бывали бесполезны и даже опасны, в хороших же руках они всегда были силой. А в очень хороших — богатырской силой, о которую разбивался самый грозный прибой осады…
Он говорил о том, что «хорошие» и «очень хорошие» руки создаются революционным преобразованием военного искусства, и тут же точно определял роль новой техники в этом преобразовании. Вспомнив сложную историю своих изобретательских стремлений, он неожиданно для слушателей засмеялся и сказал:
— Извините за парадокс: хотя на пути технического новаторства мы иногда и терпим поражения, но побеждаем в конце концов всегда…
И затем перешел к событиям войны с белофиннами.
— Задачи советской фортификации прямо вытекают из политики мира нашего государства: мы не хотим чужой земли, но и своей не отдадим. Разгром образцового современного ура — линии Маннергейма — был практическим решением одной из таких задач…
…Лекция кончилась и люди в пиджаках и куртках уже не сидели, а стояли. Дверь зала то открывалась, то закрывалась; из коридора то буйно врывались отзвуки неугомонного музыкального кавардака, то сейчас же бесследно тонули в гуле восклицаний и дружном звоне хлопков, ни на минуту не смолкавших в зале. Наркевич подошел к Карбышеву и, крепко сжав его маленькую руку в своих холодных ладонях, долго благодарил, признательно глядя в лицо тревожными глазами.
— Ну вот и вышло, Дмитрий Михайлович, по-вашему…
— А что вышло?
— Возвращаюсь в армию. Еду на запад.
Он вынул из кармана клетчатый платок и понес было к лицу, но не донес и снова спрятал в карман. Карбышев сделал быстрое движение, точно муху со лба смахнул.
— Что вы говорите?
— Да. Предсказывать будущее трудно. Но не стараться в него проникнуть еще трудней. Вы сегодня говорили на лекции: «мало уметь, надо знать; мало знать, надо понимать. — И наоборот». Это очень верно. Конечно, я не то, что вы, — знай себе, шагаете через бурю, только шапку поглубже нахлобучиваете. Я — не то. Я, что называется, пожиже влей. Но ведь всякий человек, Дмитрий Михайлович, хорош, если перенестись в него и не требовать от него больше того, что он может дать. Тут, собственно, и колец всяким толкам о людях…
Карбышев и Наркевич вышли из залы.
— Жаль бросать «Оргастрой», — самое прямое, казалось бы, для меня дело. А вместе с тем я и рад его бросить… Так надо. Всю жизнь стремиться к массам, мечтать о подвиге… Всю жизнь… Но где же, спрашивается, самый простой, самый доступный подвиг, как не в армии, не на службе в ней? Я знаю, вы сейчас думаете: «Опять — тенденция крайностей, опять — интеллигентский трюк…» Думайте, что хотите. Вы — шире, проще, народнее меня. Зато я больше страдал. И выстрадал. Фанатическая страстность юности, — помните мои сражения с отцом? — странным образом привела меня к революционному педантизму. Вы первый мне об этом сказали. Много раз потом, после гражданской войны, здесь, в Москве, замечал я ваш осуждающий взгляд. Вы осуждали мое филистерство. В теории все было хорошо, даже превосходно. А на практике я оставался жалким индивидуалистом, и настоящая массовость самоощущения была мне все-таки чужой. Но теперь это кончилось, повернулось, стало на верный, на самый короткий путь от мечты к ее свершению. Ясно вам, Дмитрий Михайлович, почему это я, совсем не военный, в сущности, человек, вдруг затосковал по армии? И зачем иду в армию?
Карбышев остановился и схватил Наркевича за рукав. Глаза его горели и жгли. Несколько мгновений он молчал. А потом словно горохом простучал по звонкому блюду:
— Древний миф об Антее? Стоять, Глеб, можно где угодно, но ходить — только по земле. Тут и подвиг, и массы, и мы с вами, все — вместе, все — рядом. Я ведь тоже решил проситься в армию, на запад!
— Когда? — с изумлением спросил Наркевич, — когда вы это решили?
— Сегодня. Сейчас!
* * *
Со времени переезда Елены в Ленинград очень многое изменилось как вокруг, так и внутри нее. Прежде всего изменилась атмосфера товарищества и простого, веселого дружества, которую ей удалось без особого труда создать около себя в Военно-инженерной академии. Правда, товарищеских, дружеских отношений было и в Ленинграде не меньше, и были они не хуже, чем в Москве. Только в эту область чистых настроений все с большей силой вторгался здесь совершенно иной мотив. Тонкая, стройная фигурка Елены, смуглый румянец ее нежных щек и быстрый взгляд, умевший вспыхивать загадочно темным огнем, мутили курсантские головы. Стоило веточке ландышей закачаться в петлице ее матросской куртки, как со всех сторон неслись к ней вздохи и восхищенный шепот: «Девушка — май!» Были курсанты с такими откровенно влюбленными глазами, что все, о чем бы они ни заговорили с Еленой, не могло иметь ровно никакого другого значения, кроме единственного: «Люблю!» О таких Елена думала, притворяясь сердитой: «Вот „мол-лодой человек“… Но что-то изменилось и в ней самой. В Москве тоже началось с активности этих „мол-лодых людей“. А кончилось совсем другим, потому что она нашла в себе довольно твердости и энергии для решительной борьбы с их активностью. В Ленинграде что-то мешало Елене быть твердой к энергичной. Открытия, которые она делала, наблюдая за собой, подрывали ее уверенность в себе. Здесь она впервые испытала тревожное чувство радости, внушая любовь и любуясь ею. Маленький шаг отделял ее от того, чтобы и самой захотеть любить. Розовый кипяток ее жил быстро превращался в настоящую густую кровь. Елена еще властвовала над собой умом, но уже искала, кому бы покориться сердцем. Кому?
Все чаще вспоминала она слова матери: «Помни, Лялька: умные люди бывают скучными, а талантливые — никогда. Талантливый человек все видит, все замечает, всегда заинтересован чем-нибудь. Вот почему я была счастлива с твоим отцом…» Елена оглядывалась, зорко высматривая, выискивая такого талантливого человека. И мысль и сердце ее взволнованно бились. Как будто ничто не препятствовало ей быть счастливой. А когда отец, приехав в Ленинград, спросил ее: «Счастлива?», она не знала, что ответить. Это — потому, что жить без страстных поисков настоящего счастья нельзя. Жить — искать счастье. И лишь к апрелю месяцу, когда на зелень ленинградских парков и садов легли такие необычайно яркие краски, что ни на какой картине не встретишь, оно нашлось…
Избранником Елены был ее товарищ по училищу — юноша способный, трудолюбивый, умный и душевный, только без блеска в мысли, без сверкания в словах. Такие, как он, хорошие и нужные люди обычно бросаются в глаза из вторых рядов, но остаются совершенно незаметными в первых. Уже очень, очень много раз Елена видела его и на лекциях, и в общежитии, всегда с ясным, нежным и застенчивым взглядом, обращенным на нее. Но если он не был талантлив, как того хотела Лидия Васильевна, то и к разряду совсем обыкновенных «мол-лодых людей» отнести его тоже было невозможно. Однажды он сидел с книгой у окна, под теплым и ласковым весенним солнцем, нагнувшись и заткнув уши, чтобы не слышать шума, наполнявшего комнату. Действительно он не слышал шума. Зато и легких шагов дежурившей в тот день по общежитию Елены тоже не услыхал. Она видела его профиль, склоненный над книгой, упрямый, чистый и четкий профиль под светлой шапкой гладких волос, ровно распадавшихся на пробор посередине. Он не мог знать, что Елена — рядом. Она подходила к нему со спины: Уши его были плотно прикрыты ладонями рук. Внимание захвачено книгой. И вдруг он вскочил с табуретки, да так неловко, что она упала. Нагибаясь, чтобы поднять ее, покраснел, и румянец конфуза уже больше не сходил с его лица. Темные глаза Елены смотрели загадочно и странно, и он краснел все гуще и гуше. Ей захотелось помочь ему, сказав что-нибудь очень шутливое и доброе.
— Замечательно, как это вы без глаз, без ушей…
— Ничего замечательного нет, — резко возразил он, — и быть во мне ничего замечательного не может.
— Это почему же?
— Уж такой я человек.
— Ошибаетесь, — засмеялась Елена, — а я думаю, что каждый человек обязательно чем-то замечателен. Так и отец мой думает.
От этих благодетельных слов румянец конфуза мгновенно схлынул с его лица. И он стоял теперь рядом с ней, бледный, с добрым подбородком, с глазами, радостный блеск которых был влажен и горяч, как слеза…
* * *
Карбышев редактировал «Наставление по форсированию рек». Помогал ему Якимах. Работали усердно, дружно, весело. Якимах любовался Карбышевым, — простецкой мудростью старого солдата, который столько видел и знал, что уже, пожалуй, и довольно бы, но которому все мало да мало. Работа шла полным ходом Карбышев отдавал ей очень много времени и почти все внимание, — он спешил закончить ее до того, как выйдет решение по его ходатайству о переводе на запад. Чем ход скорей, а препятствие внезапней, тем сильнее толчок. Так и здесь получилось.
Письмо Елены коротко сообщало о том, что она вышла замуж. Прочитав письмо, Лидия Васильевна окаменела. Потом с жадной энергией перечитала его еще и еще — раз десять подряд. И тогда, наконец, лицо ее приняло выражение стремительности и порыва, большие серые глаза требовательно остановились на муже, и бледные губы решительно произнесли:
— Дика, немедленно поезжай в Ленинпрад!
Был момент; когда изумление, похожее на окаменелость, чуть было не овладело и Карбышевым. Но он живо стряхнул это с себя. Положение почти сразу представилось ему с наиболее ясной из всех его сторон, и он облегченно вздохнул. Елена была права. Вмешиваться не было ни малейшего смысла. Но увидеть и узнать — надо.
— И не подумаю ехать, мать.
Лидия Васильевна всплеснула руками.
— Опять — то же! Дочь, родная дочь…
Карбышев весело насвистывал в передней, он собирался уходить и, по обыкновению, спешил.
— Прикинь тут без меня сама, да поспокойнее. И поймешь, кому из нас следует ехать…
В этот же день Карбышева вызвали к очень высокому начальству. Разговор не имел никаких предисловий. Речь сразу пошла о том, что особенности современного боя — высокая точность и плотность огня, авиация, мотомехсоединения, широкие возможности маневрирования — требуют непрерывного и четко организованного инженерного обеспечения. Ключ к победе в современной войне — правильное сочетание большого маневра с развернутой системой инженерных сооружений.
— Существует вреднейший взгляд, будто маневренная война снижает значение инженерного оборудования, едва ли не сводит его на нет. Именно вы, товарищ Карбышев, очень правильно восставали в своих последних статьях против этого взгляда…
Итак, инженерное оборудование границ, — что нужно, как нужно, сколько нужно, — становится важнейшим вопросом. Чтобы помочь его решению, Карбышеву надлежало выехать на западную границу, проинспектировать Гродненский укрепленный район, выработать там, на месте, практические предложения по усилению его обороны и наблюсти за их реализацией. Невозможно было бы придумать еще что-нибудь более согласное с тем, чего желал для себя Карбышев.
— Мы очень рассчитываем на вас…
Он вскочил с кресла и вытянулся по-солдатски.
— Слушаю-сь!
И потом, как бы окончательно подтверждая безошибочность возлагаемых на него расчетов, добавил, тоже вполне по-солдатски:
— Благодарю за честь!
* * *
До командировки оставалась неделя. Карбышев уже закончил свои служебные разработки и сдавал Якимаху редакторские обязанности по «Наставлению» к форсированию рек.
Пятого июня в Москве было очень холодно, — среди дня из летучих белых облаков падали на улице звездочки неподдельного снега. В этот день Карбышев и Якимах, выйдя вместе из Академии Фрунзе, с удивлением разглядели на своих гимнастерках крохотные, быстро таявшие снежинки.
— Война делает вид, будто она — мир, — говорил Карбышев, — никто никого не бомбит, и разини думают: мир. А на самом-то деле война уже началась — война, самая настоящая…
Они разговаривали и шли, куда глаза глядят, в сторону от города, к Новодевичьему монастырю, к Москва-реке. Сегодня, на этой необычной прогулке, им предстояло проститься. Завтра уезжала в Ленинград Лидия Васильевна. А еще через день отправлялся в Гродно сам Карбышев. Было пасмурно. Свежий ветер дул с Москва-реки. Облака жемчужно-матового цвета, перерезанные лучами невидимого солнца, мчались по небу, как расшитые золотом шелковые паруса. Река медленно развертывала зеленоватые, тяжелые воды. Карбышеву захотелось подойти к ней поближе. Он и Якимах зашагали в обгиб монастырских стен справа, спускаясь к пруду и постепенно втягиваясь в аллею. Мягкий свет лился сверху сквозь блестящие ветви ветел и ив. Крыша из ветвей заплелась так густо, что ни единое дуновение ветра не колебало под ней листьев. Однако время от времени воздух приходил в неуловимое движение, и тогда наполнявшие его влажные испарения казались свежим дыханием растений и вод.
Карбышев с порывистой силой сжал руку Якимаха.
— Петя! Хотите зарок?
— Какой?
— Встретиться после войны…
— Где? Здесь?
— Нет… На месте победы?
* * *
Карбышев не любил проводов и всегда старательно избегал их. Но в тот вечер, когда Лидия Васильевна уезжала к Елене в Ленинград, он, против обыкновения, был на вокзале. Бросалось в глаза его невсегдашнее, какое-то совсем непонятное для Лидии Васильевны, настроение. Он неподвижно стоял возле вагона, который должен был увезти жену, и молчал, упрямо о чем-то думая. Лидия Васильевна все хотела поймать его светлую, собранную у глаз и губ, давно ей знакомую и постоянно новую улыбку, — увидеть ее и понять… Но… улыбки не было.
— Что сказать Ляльке?
— Поздравь. А впрочем… сама догадаешься, что и как.
— Дика!
— Что?
— Поезжай-ка домой!
— Нет, нет, подожду!
И опять — молчание. Лидии Васильевне было очень тяжело. Так тяжело, что она не стерпела.
— Дика, уходи!
— И не стыдно гнать? Ведь долго, очень долго теперь не увидимся!
Наконец-то, он улыбнулся, слабой, бледной улыбкой. И Лидия Васильевна с неясным ощущением горя в душе подумала: «Уж лучше бы не смеялся… Что с ним? Что будет с нами?» Затянуто продребезжали звонки, — два. Дика протянул руки, быстро и крепко обнял судорожно хватавшуюся за вагонный поручень жену и помог ей подняться на площадку. Потом легко и ловко спрыгнул на перрон и пошел сначала рядом с медленно набиравшим ход вагоном, а затем все заметнее отставая от него. Лидия Васильевна, высунувшись за поручень, смотрела в сторону убегавшего к Москве дебаркадера. Слезы мешали ей. Но она все-таки хорошо различала маленькую, стройную фигуру мужа, быстро шагавшего за поездом. Она видела, как он идет, идет, идет, словно желая во что бы то ни стало нагнать поезд, и как в то же самое время что-то относит, относит и относит его назад. И вот уже она не может больше разглядеть, где Дика, и только по смутному пятнышку между двумя фонарными столбами догадывается, где надо его искать. Вот уже и пятнышка не стало. И оно пропало, и он — все пропало, все!..
Лидия Васильевна вырвала из-под ударов холодного ветра свое горящее, облитое слезами лицо и, неся в ушах свист и лязг, быстро вошла в вагон. В купе никого не было. Обрадовавшись этой пустоте, как самой счастливой из находок, она шагнула через порог и, едва успев повернуть за спиной медную рукоять двери на запор, упала на диван и заплакала…
Часть IV
Золото, золото
сердце народное!
НекрасовГлава тридцать девятая
Штаб армии стоял между Брестом и Гродно, в чистеньком городке, с гладкими мостовыми, с уютными зелеными улицами, весело сбегавшими к голубой реке. Помещался штаб в большом трехэтажном доме, у парка. Армией командовал тучный генерал огромного роста и могучего телосложения, окончивший две военные академии. Он принял армию недавно, всего несколько месяцев назад, и еще не вошел, по его словам, в настоящую гущу работы. «Армия — вещь большая…» Однако войскам, подчиненным генералу, были уже известны его редкая трудоспособность и постоянное стремление быть первым в деле и последним на отдыхе. Штаб армии работал, как машина, слаженно, систематизирование, с неукоснительной планомерностью.
Сейчас в кабинете командующего, на втором этаже, происходило совещание. Генерал сидел в широком кожаном кресле за большим письменным столом и вел серьезнейший разговор с тремя собеседниками. Это происходило в первой половине отличного летнего дня. За предместьем яркое утро сверкало прозрачными далями, и свежие струйки прохлады еще не перестали вливаться в солнечное тепло. Но здесь, в центре города, солнце уже превозмогло прохладу. Командующему было жарко.
— Уф! — сказал он и вытер пот со лба, — я учился у Карбышева в Академии Фрунзе. А вы, Глеб Александрович, говорите, что еще с гражданской его знаете?
— Раньше, — ответил Наркевич, — с девятьсот четырнадцатого… По Бресту. Он ведь и тогда выделялся как заметный военный инженер…
— Д-да… В общем очень хорошо, что он сюда едет. Жаль, конечно, что действовать будет не у нас, а по эстонской границе, вдоль канала до Августова. Ну, что делать… Но и нам, по дороге, поможет. А мы ему Осовец покажем, посоветуемся. На все вопросы прошу, товарищи, давать совершенно исчерпывающие ответы. Секретов от Карбышева у нас нет…
— Правильно, — подтвердил Член Военного Совета.
Командующий повернул к начальнику штаба армии бледное от жары лицо.
— Это в особенности к вам, Петр Иванович, относится. И в оперативном пусть знают…
— Правильно, — задумчиво сказал Наркевич.
* * *
В самый день приезда, не теряя ни часа, Карбышев выехал на работы. Сопровождали его Наркевич и начальник оперативного отдела штаба армии, черноголовый голосистый полковник — академик из буденновцев времен Воронежа и Касторной. Автомобиль бежал по шоссе, подскакивая на щебнистых заплатах неровного полотна. За канавами, по сторонам шоссе, блестела под солнцем светлая песчаная россыпь. За песками кудрявилась темнозеленая, словно маслом обрызганная, тяжелая ботва бесконечных картофельных гряд. А уж за грядами шли поля — разноцветные, ржаные, ячменные, овсяные и гречишные поля…
Карбышев был и рад и не рад встрече с Наркевичем. Видеть его было приятно по старой привычке. Но Карбышев так привык видеть Наркевича именно в Москве, что встречей с ним здесь до боли остро оживлялись последние московские впечатления: грустный отъезд Лидии Васильевны; через сутки еще более грустный — самого Карбышева; дети — на даче; на вокзале — ночная пустота; и какая-то бесповоротная одинокость в душе… Стараясь заслониться от этих тяжелых воспоминаний словами, Карбышев говорил много, быстро и нервно.
— Хорошо бы заехать в Осовец — посмотреть, что можно сделать для обороны из старых тамошних казематов. За Брест не беспокоюсь.
— А мне кажется, что эти крепостные развалины отжили свой век, — сказал голосистый полковник, — лебединая песня их спета. Еще в академии…
— Ошибаетесь, — решительно возразил Карбышев, — обороняются не стены, а люди. Стены только помогают людям обороняться. Был когда-то в Академии Фрунзе профессор Азанчеев. Помните? Да, да, тот самый. Он любил приговаривать: «Я — не марксист, я — марксоид. А гражданская война — придаток, аппендикс к мировой…» Так вот этот Азанчеев никак не мог понять простейшей вещи: советскую крепость можно уничтожить, но взять — нельзя. И Осовец, и Брест…
— Это — другое дело, — согласился полковник.
— В Бресте теперь — Юханцев, — тихо сказал Наркевич.
— Вот, вот… То самое, о чем я говорю. Юханцев — в Бресте… А это как раз и значит, что Бреста взять нельзя!
— С ним — Надя, — еще тише проговорил Наркевич, — и дочка их, моя племянница…
Уже не в первый раз по приезде Карбышев замечал, как странно изменился Наркевич — как далеко отошел он от своей прежней манеры суховатого философствования. «Что с ним? Уж не влюбился ли по-стариковски?» Чем позже загорается звезда любви, тем ярче горит и медленнее догорает. «Ей-ей, похоже!..» И, как будто подтверждая догадку Карбышева, громкоголосый полковник вдруг поднялся с сиденья и, выпятив крутую грудь, оповестил:
— Приехали!..
Дивизия, в расположение которой приехал Карбышев, имела точные указания насчет рубежей обороны: особым армейским приказом определены были участки для каждого из ее полков. Передний край оборонительной полосы прилегал к восточному берегу двух речек и тянулся по фронту километров на двадцать пять. За флангом, — из дивизий армии эта была правофланговой, — проходила шоссейная дорога, та самая, по которой прикатил сюда автомобиль с Карбышевым и штабистами. В первой линии дивизии стояли два полка. Третий был пристроен в затылок крайнему полку первой линии, со специальным назначением прикрывать направление по шоссе. Стрелковый батальон с несколькими противотанковыми орудиями в сторожевых заставах оборонял и наблюдал опасную дорогу. Командир батальона встретил приехавших с рукой у козырька, стремительно порываясь подойти с рапортом Карбышеву бросилась в глаза его могучая борода. «Где я ее видел?» Он взглянул на майора, на его черно-коричневое от загара, исполненное радостной готовности лицо, и на беспалую руку у козырька, и вдруг почувствовал, как досадная тягость одинокости, вывезенная из Москвы, уходит, тает, как бы проваливается куда-то без следа. И тогда, с веселым удивлением вскинув брови над невольно улыбнувшимися глазами, он сказал:
— Здравствуйте, товарищ Мирополов!
— Здр-равия желаю, товарищ генерал-лейтенант!
Куда ни глянь, везде виднелись земляные работы. Седая голова начальника инженеров не дремала, и сноровка его не бездействовала. Наркевич — старая карбышевская школа. Пехота рыла и копала; саперы учили, перебегая от группы к группе; звенели топоры, обтесывая колья; трещали ящики с «техникой», вскрываемые ловкими ударами ломов под зашив. Наркевич принялся, было, объяснять.
— Не надо. Все понятно.
Карбышев быстро зашагал к ближайшему месту работ, жадно вдыхая воздух этого места — какой-то стоячий воздух, и свежий, и жаркий вместе, и, главное, полный того крепкого запаха горячо работающих человеческих тел, который он так давно знал и так особенно любил…
Оба штаба — и укрепленного района, который предстояло отинспектировать, и армии, войсками которой был занят этот район, — стояли в городе Гродно. Поэтому Карбышев обосновался в Гродно, то есть занял номер в тамошней военной гостинице. Время же проводил главным образом на «точках», вдоль Немана и шлюзов Августовского канала. Комендант укрепленного района иногда сопровождал его в этих разъездах, иногда — нет. Зато молоденький, пышноволосый саперный лейтенант, прикомандированный к инспектору для «поднятия» карт и технической разработки его проектов, не отставал от своего шефа положительно ни на шаг. По вечерам Карбышев сам наносил «точки» на «поднятую» лейтенантом карту. Как ни был генерал прост, ласков и внимателен в обращении со своим юным подручным, лейтенант не поддавался на этот тон. Ему казалось невозможным погрешить какой-нибудь случайной словесной неловкостью против высокого и чистого уважения к знаменитому инженеру, состоять при котором его назначила счастливая судьба. Поэтому он ни на мгновенье не распускался, — всегда на месте, в постоянном ожидании приказаний и в молчаливой готовности их исполнить. Приходилось ему, правда, отвечать на некоторые вопросы Карбышева внеслужебного характера, — о семье, о родине, о школе. Лейтенант отвечал на них кратко и точно. Но уже зато сам никогда никаких разговоров не затевал и ни о чем своего шефа не спрашивал. Впрочем, в Друскениках не выдержал и спросил.
Друскеники — пограничный курорт, начисто отмытый и насквозь пропитанный своею собственной минеральной водой. На главной улице городка было удивительно много больших и маленьких игрушечных магазинов. Попав в Друскеники, Карбышев сейчас же начал обход этих магазинов. Что за непонятная страсть к игрушкам? Генерал заваливал покупками легковую машину. Что такое? Тут-то и не выдержал лейтенант.
— Товарищ генерал-лейтенант, разрешите спросить.
— Пожалуйста.
— Вы, товарищ генерал-лейтенант, дедушка или…
— Нет, не дедушка. Только — «или»…
— Извините, товарищ генерал-лейтенант.
— В чем? Я действительно «или». Пока — не дед, но могу им через некоторое время сделаться. Игрушки пойдут в Москву. А все остальное, и я сам в том числе, это только — «или»…
* * *
Недалеко от Друскеник Карбышев встретил Батуева. Авк был начальником здешнего УНС[64]. Он обстоятельно доложил о своих работах.
— Забиваем «точки». Если угодно, вызову начальников с ближайших инженерных участков.
— Не надо, — торопливо остановил его Карбышев, — на ближайших участках я и сам сегодня побываю. Жаль, что на далекие не поспею, — завтра нужно быть в Гродно. Но то, что я видел, Авк, плохо: не идете, а еле плететесь вперед…
Прежде Батуев так бы и вспыхнул и строптиво занесся в каких-нибудь с трудом приглушенных самолюбиво-злых словах. Но сейчас ничего этого не было. Его яркое, смугло-румяное, красивое лицо оставалось невозмутимо-спокойным. Можно было подумать, что сказанное Карбышевым даже и относилось-то не к нему. Только что-нибудь очень большое, счастье или горе, может так сильно менять людей. Однако Батуев не походил на несчастного. Наоборот, по довольному лицу его то и дело скользили проблески совсем других выражений…
Ночью, вернувшись из объезда участков в строительство и уже собираясь укладываться спать, Карбышев спросил:
— Вы женаты, Авк?
— Четыре года, — сейчас же оживился Батуев, — четыре… Откуда вы знаете, Дмитрий Михайлович?
— Сам догадался.
— Замечательно… Да что ж? У нас тут такое поветрие. Даже Наркевич. Правда, он еще не женат… Но… Когда были у них в штабе армии, не видели его предмета? Нет? Машинистка из оперчасти… Хорошенькая… Венецианочка… А я — что ж? И женат, и счастлив…
Авк принялся рассказывать, как, когда, на ком он женился, и какой у него прелестный трехгодовалый сынишка, и как еще в апреле к инженерно-техническим работникам УНС'а и участков приехали семьи. И к нему, — Батуеву, — тоже. На лето матери с детьми отлично устроились в пионерском лагере, близ озера, у самой границы. Он назвал какое-то еврейское местечко. И сейчас они все — там. Рассказывая, Батуев несколько раз вынимал из кармана кителя маленькую фотографию и смотрел на нее глазами, полными слезливо-радостного блеска.
— Все бы прекрасно. Но «точки», «точки»… Вот вы, Дмитрий Михайлович, говорите, что мы здесь плохо идем вперед. По совести сказать, не очень-то я верю в эти «точки». Ей-богу, надо съездить на границу за семьей и… Как вы посоветуете?
Он опять вынул фото. По губам его побежала синеватая тень страха, и глаза, полные тоски и откровенных слез, заморгали.
— Не берусь советовать, — быстро сказал Карбышев, вдруг внутренне ожесточаясь против Батуева, — могу только сказать, что в Бресте находится сейчас мой старый приятель Юханцев с женой и дочерью, молоденькой девушкой. Уверен, что Юханцев не нюнит, как вы.
— Это — его дело, — огрызнулся Батуев, — но согласитесь, что Брест, например, — не наши «точки». Это — горы камня, столетнее железо…
— Дело не в железе. Само железо не стреляет. Стрелять должен человек под прикрытием железа.
— Все это я хорошо знаю. И в Бресте, конечно, плохо. У меня на участке, — он назвал еврейское местечко у границы, близ которого был пионерский лагерь, — сидит молодой инженер Елочкин. Племянник того, вашего Елочкина… Он — только что из Бреста.
Рассказывал. Вместо фортификационных сооружений — какие-то полуразвалившиеся склады. Внутри казематов и сыро, и темно, и со стен течет…
Авк уже забыл, что минуту назад завидовал прочности старых крепостей. И теперь говорил об их слабости даже с некоторым удовольствием. «Не нам одним здесь скверно». Ожесточение Карбышева против Батуева усиливалось. Чтобы прекратить этот разговор, он сказал:
— Черльтовски жаль, что не увижу Елочкина.
— Завтра от нас идет к нему на участок пятитонный зис. Прикажите и…
— Не могу. А вы, очевидно, поедете?
— Так точно.
— На участок — к Елочкину или просто — за женой?
— Да ведь это — рядом…
Прошло с полчаса, а то и гораздо больше с тех пор, как гость и хозяин лежали в кроватях. Они лежали совершенно неподвижно. Но каждый знал про другого: не спит.
— Дмитрий Михайлович! — вдруг сказал Батуев.
— Что вам?
— Я не разбудил…
— Не говорите пустяков.
— Хорошо. Дмитрий Михайлович! Но что же это в конце концов за штука — национал-социализм?
— Не штука, а слово. Только слово. И — больше ничего.
— Позвольте. А… как же тогда называется дело этих людей? Как сами люди?
— Дело — преступлением. А люди — преступниками.
И Карбышев энергично повернулся со спины на бок.
* * *
Было еще совсем темно, когда дивизия, звеня пушками, прошла через местечко, к границе. Затем небо начало розоветь. Золотые потяжины распластались по нему из края в край. И над строительным участком, где работал Елочкин, зажегся день — самый летний, самый жаркий. Земля легко поддавалась, открывая людям свое разогретое мягкое нутро. В этот день с утра у Елочкина кружилась «свадьба». Воздух пел, как струна, тронутая на гитаре веселой рукой, — на «точке» укладывали бетон. Это, собственно, и называлось «свадьбой». Забивку «точки» надо было кончить в сутки. Затем — взорвать грунт и расчистить обстрел перед амбразурами, заложить, где надо, мешки, убрать мусор и рыть траншеи, — словом, готовить «точку» к обороне. Дот сооружался на прекрасном месте, в стороне от шумливого местечка, близко к тихому, круглому, многорыбному озеру, перед острой, лысой горой с древними зданиями наверху. Земля кругом холмилась под ржаными и ячменными полями, песками и сочными луговинами. Впереди горизонт был свободен; сзади заслонялся сплошной стеной из хвои и березовых рощ. Зайцы скакали между ног; белки в лесу прыгали над головой…
Елочкин смотрел на всю эту благодать равнодушными глазами. Сердце его было далеко отсюда. Всего лишь месяц назад он был переведен в Гродненский укрепленный район из Бреста. И до сих пор все еще мерещились ему кругом толстые стены брестских оборонительных казарм и казематов из тёмнокрасного кирпича, и мосты, и ворота, и пронзительные свистки трудолюбивых буксиров на реке Муховец. Когда после войны с белофиннами Елочкин попал на службу в эту старую крепость, он никак не думал, что со временем она станет так близка и дорога ему. Да едва ли бы так и случилось, не переведись зимой из Пуарма четвертой в Брест дивизионный комиссар Юханцев.
Еще в детстве слыхивал Елочкин рассказы от дяди Степана об этом человеке и уже тогда усвоил к нему восторженное, чуть ли не благоговейное отношение. Часто бывает, что от таких заглазных восторгов мало, а то и ничего, не остается при первом же непосредственном соприкосновении с предметом восхищения. Но здесь получилось иначе. Увидев Юханцева, Елочкин сразу понял, что герой его детских фантазий только таким и может быть, каким оказался в действительности. Все в Юханцеве приходилось Елочкину по душе: и густая шапка седых, круто вьющихся волос над низким, широким лбом, и глубоко спрятанные, суровые и добрые глаза, и мужественный голос, до сердца проникающий внезапностью мягких интонаций, и умная, сильная речь. Приехал Юханцев, и «красноармейские политучебники» замелькали в руках бойцов. Елочкину навсегда запомнился первый доклад нового начполитотдела дивизии. Он тогда же записал в свою тетрадку с конспектами по истории партии некоторые мысли докладчика. И теперь еще часто раскрывает тетрадку и перечитывает записи. «Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами». Приводя это замечательное положение Маркса, Юханцев говорил: «Политическая идея без материальной силы может существовать лишь в кабинете ученого или в сочиненной им книге. А с помощью материальной силы идея готовит действие. И успех действия — ее законное торжество». Под этой записью Елочкин поставил дату: «17 апреля 1941 года». Необыкновенная дата!..
И для Юханцева племянник Степана Елочкина не был безразличен. Уж очень много было в прошлом такого, к чему прямо через него тянулась душевная связь. Нельзя сказать, чтобы старый и малый просто сдружились, — Юханцев дружился не легко, — но не было между ними ничего, что могло бы этому помешать. Елочкин частенько захаживал к начальнику политотдела дивизии на дом. Юханцев любил порядок. Полы в его квартире всегда были чисто вымыты. Вдоль стен в строгой симметрии расставлены стулья. Бумаги и книги на столе собраны в стопках. Кровать аккуратно покрыта синим плюшевым одеялом. Он ждал со дня на день приезда жены и дочери. И семнадцатого апреля — необыкновенная дата! — они, наконец, приехали.
Прямо с доклада Юханцев отправился на вокзал — встречать. Сам не зная, почему, Елочкин увязался с ним. Паровоз, отфыркиваясь, подошел к платформе и тяжело, но решительно превозмог разбег. Вагоны всхлипнули на прицепах, сначала — передние, потом — средние, затем — в хвосте; жестко ударяясь тарелками буферов и все еще продолжая с лязгом наезжать друг на друга, они постепенно заполнили собой черный тоннель дебаркадера.
— Папа! Папа! Здравствуй!
Серебряный голос девушки звенел в открытом окне вагона. Позади — ярко освещенное купе. Высокая, румяная, с пышным узлом золотых волос на макушке, девушка смеялась и протягивала руки отцу.
— Яша, — сказал какой-то другой женский голос, вероятно, Надежды Александровны, жены Юханцева. — Яша! Надо вынести вещи. Не мешайся, Ольга…
Елочкин стоял неподвижно. Что-то странное с ним случилось: он ничего больше не понимал в происходившем, да и не видел ничего, кроме золотой головки на светлом фоне окна и протянутых вперед рук, и не слышал тоже ничего, кроме серебряного голоса Ольги. Юханцев засмеялся и дернул его за рукав.
— Ведмедь! Идем за чемоданами!
Только тогда Елочкин что-то понял и ринулся в вагон, опережая носильщика, готовый схватить, взвалить на спину и нести, если понадобится, хоть целый кусок земного шара…
…Все свое свободное время Елочкин проводил у Юханцевых.
— Костя еще не приходил?
— А где же Костя?
Без светлых, пытливых глаз Елочкина, без упрямой складки его губ чего-то не хватало в семье Юханцевых. Чувствовала это вся семья поголовно. Но, конечно, не одинаково, — кто больше, кто меньше, — а тот, кто всех больше, никому об этом не говорил. Да и вообще в течение месяца никто ни разу, ни вслух, ни шепотом не произнес главного слова, хотя все отлично знали, что дело завязалось нешуточное и что название этому делу одно единственное: любовь. Лишь когда пришел Елочкину перевод в Гродно, вдруг все вышло наружу…
Елочкин и Ольга прощались за Тереспольской башней, там, где торчали высокие палки для прошлогодней фасоли. Ольга казалась спокойной и не говорила никаких особенных, соответствующих случаю, слов. Только руки ее были холодны и дрожали. А он сказал:
— Мечутся по свету половинки целого и ищут друг друга. Редко-редко, когда случается найти и, соединившись, составить целое. А нам случилось. Но… подождем, Оля!
Она повернула к нему лицо. В ее глазах сияли слезы, щеки горели глубоким румянцем, в пушистых золотых волосах прятался ветер. Она хотела что-то сказать и не смогла: голос был непослушен. Елочкину показалось, что главное из несказанного ею он все-таки понял. И тогда, быстро наклонившись, он поцеловал ее в губы. За башней стало тихо, тихо. Наконец, эта странная тишина взорвалась еще одним сочным звуком согласного, громкого поцелуя…
…Прошел еще месяц. И вот, сейчас, в ночь на двадцать второе июня, военный инженер третьего ранга Константин Елочкин, сдав перед рассветом смену по укладке дота на строительстве гродненских укреплений, сидит в своей избушке и пишет письмо в Брест. Ни один человек на свете не знает, что Елочкин, подобно дяде своему Степану, — поэт. Ни один человек, кроме Оли Юханцевой. А ей это очень хорошо известно, потому что почти все его письма к ней — в стихах. И то письмо, которое он сейчас пишет, тоже начинается стихами:
За охрану родного края Ты мне ласково руку пожми, Не тоскуй, не грусти, дорогая, Крепче нашей любви не найти…* * *
Пески и суглинки Принеманья мелькали мимо стекол автомашины и уносились назад. Великолепные старинные костелы северной части города поднимались на высоком правом берегу реки и стремительно бежали навстречу Карбышеву. Был уже вечер, когда он возвращался в Гродно. Машина промчалась вдоль парка, по главной городской улице, и остановилась у подъезда военной гостиницы, против штаба армии. Здесь, в первом этаже гостиницы, у Карбышева был номер — большая удобная комната, тихая и спокойная, не теплая и не холодная, которой он был совершенно доволен. Возвращаясь из поездок, он всегда привозил с собой блокноты с кроки и зарисовками — материал для лейтенанта, «поднимающего» карты и готовящего чертежи деревянно-земляных укреплений. Выходя из машины, Карбышев сказал лейтенанту:
— Итак, первое: взять в библиотеке справочник по гражданской войне; второе: поднять южные районы большой карты. А завтра — на танкодром.
В восьми километрах от города был танкодром, на котором по чертежам Карбышева строились и потом проверялись учебные препятствия. Последнее препятствие — с надолбами — было очень удачным. Целый взвод танков упирался в надолбы и дальше не шел. Правда, один танкист сумел проскочить, но водитель чуть не разбился. Карбышев представил его к подарку. И тут же придумал то самое дополнение к конструкции препятствия, которое должно было сделать его окончательно непреодолимым. Назавтра были назначены новые испытания в присутствии командующего армией, штаб которой стоял в Гродно. В вестибюле гостиницы Карбышев столкнулся нос к носу с начальником инженеров округа, только что приехавшим из Минска. Это был высокий сухощавый генерал с длинным и морщинистым, всегда озабоченным лицом.
— Дмитрий Михайлович! — закричал он. — Мы уже и поужинали, а вас все нет. Я, по правде сказать, хотел тревогу бить…
— Напрасно. Вы не забыли, что завтра на танкодроме…
— Испытания? Что вы, что вы… Конечно, помню. Вы ведь на первом этаже?
Они разошлись. Карбышев открыл свою комнату. Дверь ее бесшумно захлопнулась за его спиной, и тотчас же какая-то удивительно мягкая, «пристальная» тишина надвинулась со всех сторон. Карбышеву показалось, что не он прислушивается к тишине, а она — к нему и что чуткость ее ушей чем-то грозит и о чем-то его предупреждает. Он сел к столу, намереваясь написать домой. Но письмо не писалось. Он подумал и, махнув рукой, быстро вывел на листке бумаги.
«Маме Папа.
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
А остальное поймешь сама».
Запечатав это странное послание, Карбышев разделся, лег в постель и сейчас же заснул.
* * *
Начальник инженеров округа проснулся от грохота. Подбегая к окну, он думал:
«Пальба? Да ведь под Гродно и полигона нет!..» Но в этот самый момент что-то грянуло под окном с такой неистовой силой, что рассуждения его сразу прервались. Генерал выбежал из номера и, перемахивая длинными ногами сразу через две ступеньки, слетел по лестнице в первый этаж. Когда он ворвался в номер Карбышева, Дмитрий Михайлович еще сидел на кровати. Но, повидимому, он уже все прекрасно понимал, потому что первым словом его было:
— Началось?..
За те несколько минут, в продолжение которых генералы шагали через площадь, бомбежка чрезвычайно усилилась. Разрывы бомб следовали в разных концах города один из другим. Кое-где вспыхивали пожары. Зажглось у железнодорожного моста через Неман. Карбышев был бледен, как бывает с недоспавшими людьми, но совершенно спокоен. Он говорил своему спутнику:
— Видите ли, Петр Михайлович… Вероломство внезапного нападения с неизбежностью дает преимущества нападающему… По крайней мере в начале войны… Конечно, инициатива сейчас у них, а не у нас… Сила первоначального удара на их стороне… Они могут сразу развернуть все свои войска, а мы — нет… Думаю, что и танков, и самолетов у них больше… При таком положении задача наша — в том, чтобы…
Б-б-бах! — грохнуло, звякнуло, и дождь стеклянных осколков опрокинулся на площадь.
— Что? Что? — кричал высокий начальник инженеров округа, пригибаясь к маленькому Карбышеву, чтобы лучше слышать его ответ, — в чем задача?
— В том, чтобы развернуть свои силы. Многое, конечно, зависит от того, как будут вести себя войска прикрытия — как они будут сопротивляться. Поймите, Петр Михайлович: фашисты строят свои расчеты на успехе первых дней и недель войны. Следовательно, нам надо в эти дни и недели лишить их преимуществ вероломного нападения. Преимущества эти — вре-мен-ные…
Б-б-бах!.. Б-б-бах!..
В котельной подвального этажа здания, в котором размещался штаб армии, жгли какие-то бумаги. На лестнице лейтенант, состоявший при Карбышеве, нагнал его с пистолетом и противогазом.
— Приказано вручить, — сказал он, как и всегда, самым тщательным образом отбирая слова.
В эту минуту потух свет: очевидно, бомба угодила в электростанцию. Командующий армией принял Карбышева в темноте. Это был человек очень небольшого роста, с крутой грудью и седыми висками. Карбышев сейчас не видел его, но ясно представлял себе не только его наружность, а и еще многое. Он был так же по-офицерски спокоен, как и сам Карбышев, и немедленно заговорил о том самом, что, по его мнению, прежде всего требовало решения, коль скоро Карбышев сидел сейчас в его кабинете.
— В моем распоряжении, — сказал он, — большая группа стажеров из московских военных академий. Я должен отправить их в Москву. Если угодно, вам можно будет уехать с ними.
Карбышев подумал: «Каждый человек обязан рассчитывать на себя во всем, что уже испытано силами его воли и крепостью души». И, подумав так, ответил:
— Благодарю. Но ехать в Москву мне нельзя по двум причинам. Во-первых, нет приказания о моем отъезде. Во-вторых…
— Пожалуйста, — сказал командующий, — решайте сами…
От Геродота и Тацита до наших дней войны всегда понимались, как события громадной важности, чреватые неизгладимыми последствиями. И верно. Любовь к родине мертва без воли к борьбе с ее врагами. Лишь в действии осуществляются высокие идеалы справедливейших войн. И вот пришло время, когда именно такой войной должно было решиться будущее советского народа…
…В полдень армейская инженерная школа подорвала железнодорожный мост через Неман. Город пылал. А бомбы все падали на него и рвались, рвались с оглушающим грохотом. Карбышев вышел из штаба армии с рулеткой в кармане и направился через площадь. Добравшись до первой воронки, он быстро сбежал на ее дно и, выхватив рулетку, принялся тщательно вымеривать какие-то расстояния и вычислять в блокноте наклон скатов. Осколки он складывал в фуражку.
— Товарищ генерал-лейтенант! — кричали ему сверху, — что вы делаете? Вас же убьют!..
Он махал рукой: «Не мешайте!»
— Двух попаданий в одно место почти никогда не бывает… А мне надо знать, чем «они» работают…
«Юнкерсы 87» с черными крестами на крыльях носились поверху. Пикируя, ревели бомбардировщики — падали, взлетали и снова падали. И на перекрестках улиц а-ахали в ответ четырехствольные зенитки. Вдоволь наползавшись по воронкам, Карбышев отправился с добычей к себе в гостиницу, в номер, и уселся за письменный стол. Перед ним лежало написанное ночью и оставшееся неотправленным письмо. Он спрятал его в карман кителя. Но мысль, рожденная его видом, не спряталась вместе с ним. Карбышев разложил на столе осколки бомб и выкладки на листках блокнота. Затем надел очки и приготовился писать совсем другое письмо в Москву. Носились юнкерсы, ревели бомбардировщики, а-ахали зенитки. Карбышев готовил доклад о новых явлениях войны: авиабомбы. Тогда их вес еще не превышал полутонны…
В номер вбежал какой-то генерал.
— О чем вы думаете? Шоссейный мост через Неман разбит. Придется объезжать по деревянному, южнее Гродно…
— Объезжать? Зачем?
— Командующий переводит штаб в лес. В городе оставаться больше нельзя…
— Да ведь фашисты бомбят уже, наверно, и тылы, и резервы.
— И по второй оборонительной полосе бьют, и по штабам, которые за ней…
Однако решение командующего было правильно: лучшее из возможных. Уже смеркалось, когда по деревянному мосту, что на пятнадцать километров выше Гродно, прямо под ливень красных трассирующих пуль проскочил броневик, увлекая за собой целую колонну легковых и грузовых автомашин…
* * *
Елочкин дописывал письмо в Брест, когда быстрый и громкий стук в окно заставил его оторваться и поднять голову.
— Товарищ военный инженер третьего ранга, вас немедля в штаб участка требуют!..
Елочкин распахнул окно. Но посыльного уже и след простыл. Удивляясь и все еще поглядывая на белые листики неоконченного письма, Елочкин живо натянул сапоги и вышел из дома. Странный, двойной гул наполнял воздух. Было в этом гуле что-то похожее на далекую артиллерийскую пальбу — рывки могучих звуков, то сливающихся вместе, то распадающихся на отдельные удары. Но было и другое, — такое тесное сцепление множества летучих свистов, что выделить из него хотя бы один самостоятельный звук было невозможно. Оба гула шли с границы. Первый не двигался с места, а второй несся поверху, с неимоверной быстротой нарастая в силе. «Фашистская авиация, — вдруг понял Елочкин, — летит бомбить наши города…» И, спотыкаясь обо что-то в предрассветном сумраке, натыкаясь на что-то, через что-то прыгая, он стремглав помчался в штаб участка…
В штабе был сам начальник УНС'а Батуев. Он только что приехал с границы. Лицо его было бледно, губы дрожали.
— Товарищи, — говорил он, — гитлеровцы перешли нашу границу. Надо сниматься и отходить… Это — война…
Елочкина будто по голове ударило; он вспомнил о «свадьбе» на доте, до завершения которой остается, вероятно, всего лишь несколько часов.
— А работа? — с отчаянием в голосе крикнул он, — ведь с бетоном работаем, остановить нельзя…
Но никто не ответил на его вопрос. Да и сам он тут же понял, что прокричал глупость.
— А… семьи? — трепещущим голосом спросил Батуева начальник участка, — как прикажете с семьями?
Батуев вздрогнул и отвернулся. Несколько мгновений он молчал, как бы о чем-то думая. Потом медленно выговорил среди общей тишины:
— Я потерял свою семью. Пионерский лагерь разбомблен. И там… Спасайте, товарищи, детей и жен… Сколько на участке зисов?
— Четыре.
— Это — под семьи. Отправлять — прямо в Москву…
Геройское самообладание несчастного начальника УНС'а, только что потерявшего самое близкое и дорогое, что есть у человека, и в то же время отлично помнящего свой долг, произвело на всех громадное, резко поднимающее дух впечатление. Даже два инженера, — один постарше, другой помоложе, — жены и дети их тоже были в пионерском лагере на границе и, следовательно, погибли, как и батуевская семья, — нашли в себе достаточно воли, чтобы принять жестокий удар без звука и, незаметно смахивая с глаз огненные слезы, слушать и молчать. И Елочкин, застыв в немом изумленьи, глядел на Батуева и думал: «Ну, и человечина… Д-да… Выходит, что дядя Степан вовсе напрасно его поругивал!»
* * *
Дивизия, проследовавшая сутки назад к границе через местечко, где стоял штаб участка, вышла на указанный ей рубеж и развернулась на фронте в сорок километров, образовав очень тонкую линию сторожевого заслона. В ночь на двадцать второе июня, — было около трех часов, — пробойные колонны танков и гитлеровской мотопехоты внезапно врезались в редкое расположение советских войск, укрепленное почти исключительно лесными завалами, смяли его, прорвали и, выйдя на большие дороги, понеслись вперед. В гараже строительного участка, почти рядом с пионерским лагерем, этой ночью стояло множество машин, переделанных на бункера для развозки бензина, щебня и песка. С полсотни шоферов мирно спали в машинах, когда рота пьяных гитлеровцев ворвалась в гараж и, захватив сонных, поволокла их к озеру. В это самое время советская батарея получила с границы просьбу о поддержке и открыла по пьяным фашистским солдатам огонь. Роли переменились. Шоферы мгновенно оправились под огнем, а гитлеровцы, наоборот, растерялись. Шоферы перешли в нападение; гитлеровцы пустились наутек. Раздумывать не приходилось. Население лагеря мигом повскакало на грузовики, шоферы кинулись к рулям, и длинная вереница машин с женщинами и детьми, тяжко дрыгая кузовами, покатилась по песчаным проселкам, старательно избегая близости большаков. За ними никто не гнался. Наверно, пьяная фашистская сволочь приняла случайный огонь советской батареи за подготовку к атаке. Но на лагерь налетел отряд фашистских бомбардировщиков и обрушил на его пустые бараки груз смертей…
Батуев примчался на границу, когда все кончилось. Он не был очевидцем происшедшего, но слышал о нем от очевидцев. Следовательно, мог не сомневаться в спасении своей семьи. Но мог и сомневаться. Пресная простота элементарной истины казалась ему чем-то, не стоящим настоящего доверия. Другое дело — законное право говорить трагическую полуправду, выделяясь на ее мрачном фоне блеском собственной доблести. В натуре Батуева не было ничего героического. Может быть, именно поэтому, когда его спросили, как быть с семьями, он и почувствовал привлекательную остроту дешевой возможности сыграть в героя. Как и обычно, он думал в этот момент только о себе, а о тех, кому причинил своей игрой подлинное горе, даже и не вспомнил. Но так или иначе Елочкин все еще смотрел на него, не отрываясь, и думал с восторгом: «Вот настоящий человечина! Эх, дядя Степан…»
* * *
Начальник УНС'а приказал выдвинуть вперед строительный батальон и немедленно приступить к рытью траншей. С батальоном ушел Елочкин. Затем велел подготовить к вывозке негромоздкие материальные ценности, механизмы и продукты. И, наконец, составил и подписал общий приказ об эвакуации с назначением места встречи эвакуируемым со всех участков в Лиде. Приказ начали было передавать на соседние участки по телефону, но связь почти тут же оборвалась. Тогда Батуев сел в машину и двинулся по соседям сам.
Ночь подходила к концу. Солнце встало, и весь восточный край неба заполыхал в огне. Розовые облачка не то убегали куда-то, не то просто таяли. Разгоралось утро — светлое, чистое, веселое. На сверкающе-синем небе появился горбатый разведочный «Хейнкель-126», покружился над «точками», над траншейными работами, брызнул пулеметной очередью, швырнул несколько маленьких бомбочек и ушел в синеву. Елочкин был на самой передней «точке». «Хейнкель» ушел, а к маскировочному забору, окружавшему дот, храпя и лязгая, уже подступали танки. Дула их орудий смотрели на «точку». Не эти ли машины прорвали несколько часов тому назад нитку нашей дивизии на границе? Елочкин сбежал с купола «точки». Надо было сейчас же снимать и уводить строительный батальон. Надо было… Он не успел додумать, что еще надо, потому что грохот орудийного огня заглушил его мысль. С этой минуты ему казалось, что он уже ни о чем больше не думает, а только действует…
В десять часов утра участок сдвинулся с места. Строительные батальоны ехали на грузовиках, а начальники — на пикапе. Шофер дал газ, и машина, на которую попал Елочкин, рванулась вперед. За машиной бежал вприпрыжку квартирный хозяин Елочкина и, размахивая в воздухе новыми синими галифе своего постояльца, кричал:
— Сто тысенц дьяблов! Цо еще забыли?
Хозяин отстал. Навстречу бежали глина, пески, валуны пустынных дорог и стены хвойных лесов по сторонам. Еще немного, и машина наскочила с хвоста на кричащую толпу ополоумевших людей. Они тащили на себе странные, неожиданные предметы: корыта, гладильные доски, хомуты, ведра, лампы. У этих людей были потные, грязные, изуродованные страданием и ужасом лица. Из глаз их глядело отчаяние. Длинная колонна человеческого горя медленно вилась По дороге. Машина обогнала ее. Путь шел на подъем — все круче да круче. Был полдень. Солнце припекало. Горячая пыль забивалась в носы и в легкие — люди чихали и кашляли. Вдруг пронзительные вопли и грохот автоматного огня донеслись сзади, оттуда, где ползла, извиваясь по пыльной дороге, лента гибнущих людей. «Что такое?» — Эсэсовские мотоциклы насели на хвост колонны, расстреливая ее, безоружную, в упор. Мотоциклистов было немного. Елочкин и еще несколько офицеров с задних машин живо ссадили двух-трех из пистолетов. Прочие исчезли. Но дело было не в них. Появились мотоциклисты, появятся и танки. С высоты, на которой стоял обоз эвакуирующегося участка, в бинокль, сквозь пыль и блеск солнца, уже нетрудно было разглядеть грозную погоню. Задача была теперь в том, чтобы, уходя перекатами, оторваться от противника и во что бы то ни стало прийти на место встречи, — в Лиду.
* * *
Город только что встряхнулся и вздохнул после первой бомбежки, когда в него вкатилась автоколонна строителей. У коменданта узнали, что место сбора — в лесу под городом. Комендант советовал отходить на Минск.
— Опять — отход? — спросил Елочкин.
— А вы что думали? — отвечал комендант. — Непременно. Время нужно, чтобы по-настоящему изготовиться для отпора…
Елочкину это было очень понятно. Но он был молод и горяч. Нетерпение в нем кипело. Он смотрел на печальный городок, куда занесла его кривая судьбы, на полусъеденные веками развалины гедиминовского замка, на циклопические камни обвитой зеленью решетчатой башни, на величественные и грустные остатки прошлой славы, и мечтал о славе настоящего. Борьбы и победы страстно хотел он…
В лесу под Лидой собрался почти весь личный состав батуевского УНС'а, несколько строительных батальонов, начальники участков, инженеры. И здесь тоже никто не сомневался в необходимости дальнейшего отхода. Начальник УНС'а указывал маршруты. Было часов пять дня. К этому времени Батуев уже не только твердо знал, что его семья действительно спаслась, но даже и видел жену и сына, когда они в полдень проезжали через Лиду на Минск. От жены ему стали известны подробности спасения, и он был совершенно спокоен за будущее близких. Волновало его теперь другое: он хотел во что бы то ни стало сохранить за собой внезапно приобретенную репутацию подвижника долга. Из потребности отстоять репутацию возникало в нем активное чувство предприимчивости. Возможно, что Батуев никогда и не слыхал поговорки: «Честь ума прибавит», но поступал в точном соответствии с этим старым примечанием. Он видел, что его строительные батальоны одеты скверно, замызганы и ничем не похожи на регулярные войсковые части; что молодые инженерные офицеры, вроде Елочкина, только и думают, как бы вырваться из этих батальонов и ринуться в настоящее боевое дело. И, подогретая самолюбием, предприимчивость Батуева работала. Под вечер он созвал начальников участков, сменных инженеров, командиров батальонов и рот.
— Товарищи! — начал он свою короткого речь, — через Лиду отходит стрелковый корпус. Я только что договорился с его командиром. Он согласен дать нам оружие. А шанцевый инструмент…
— Ура! — в восторге крикнул Елочкин.
— Ур-ра! — понеслось по лесу.
Через город отходили линейные части. И, хоть шли они с непрерывными боями, то и дело занимая оборону, но были бодры и в порядке. За городом, на дорогах, действовали с полной исправностью регулировочные посты. Но грозные огневые всплески прорезали ночь. Гитлеровцы бомбили шоссе не только по колоннам, но и по одиночным машинам. К утру открылась горькая картина. И на полотне дороги, и по обочинам, в канавах, и далеко в стороны от канав, — везде, куда глаз хватал, — во множестве виднелись трупы людей, чемоданы с разинутой пастью, детские распашонки и бесчисленные предметы домашнего, теплого, уютного обихода. Казалось, будто кто-то незримый взял да и высыпал все это сверху на землю, и, как оно упало, так легло и лежит. А на самом деле это был только след, который оставили потоки беженцев, пролившиеся по этому пути под огнем самолетов.
Машины остановились у бензоколонки — заправиться. Шоссе тянулось по насыпи. На запад шагала дивизия из превосходно экипированных казахов.
— С этими не сговориться, — радовался шофер трехтонки, на которой ехал Елочкин со своими людьми, — эти разговоров не любят…
Шофер был худенький, поворотливый, с нахальным шишковатым носом, любитель «отбрить» и «отпеть» и, главное, — не «валандаться» ни при каких обстоятельствах. Он был из тех сорока шоферов, которые отбились от гитлеровцев в гараже и вывезли с границы третьевошней ночью пионерский лагерь. Звали его Федя Чирков.
— Наши! Наши! — закричали кругом.
Восемнадцать бомбардировщиков с красными звездами вились вдоль шоссе.
— Держи карман — наши, — сказал Федя, — сейчас поздоровкаются.
И только что сказал, как бомбардировщики сбросили груз на шоссе, и в грохоте разрывов, в огне и дыму исчезла земля…
* * *
Между широкими полями пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи и проса, через песок и нескончаемые болота, бежала гладкая лента белого, словно мелом посыпанного шоссе. Сквозь облако пыли, густой и жаркой, как дым под огнем, мчались машины к Минску. Вдруг шофер рывком отдал машину назад и соскочил наземь. Перед радиатором стоял высокий, грузный человек и что-то кричал, размахивая руками. Несколько секунд Елочкин никак не мог сообразить, о чем он кричит. Щеки этого человека своей бледностью походили на сырое тесто. И что-то вроде мутной плесени покрывало его осовелые глаза. Очевидно, он бросился под машину, чтобы остановить ее.
— Хромовые сапоги, — кричал человек, — хромовые, товарищи! Хромовые…
Э, да не завскладом ли?.. Елочкин никогда не видел, как плачут заведующие складами. А этот кричал, и плакал, и показывал в сторону от шоссе — туда, где за версту, не больше, было расположено подведомственное ему вещевое имущество. Действительно, командир корпуса приказал ему без имущества не уходить, хотя бы до смерти.
— До смерти… Я и не уйду… Да что ж? Берите, товарищи, что есть. Сапоги хромовые, шинели, белье, шанцевый инструмент, свежий, масляный, — все берите… Под простую расписку, товарищи… Моя фамилия — Линтварев. А? Один возьмет, другой, глядишь… Берите!
Шофер Федя Чирков быстро ковырнул Елочкина острыми глазами.
— Ей-ей, товарищ военный инженер, — сказал он, — дело подходящее. Никому вреда, кроме пользы. Забирать надо, ей-ей…
И, заметив, что Елочкин склоняется к такому же решению, поддал жару:
— Главное, чтобы не валандаться… А то бывает, что… И не смотрел бы!
— Под простую расписку, товарищ военный инженер, — хлопотал Линтварев, — людей своих оденете, хоть на смотр выводи… А с меня — камень прочь!..
Батальон уже поспрыгивал с машин и строился. Дело представляло самый живой интерес. Линтварев радостно ухмылялся.
* * *
Ночь… На перекрестке Минского шоссе еще с каким-то, где поворот, тысячью стальных голосов взревела тьма. Это шли к границе советские танки — тысяча танков. Они шли, оглушительно гремя и неся в своем грохоте смертную гибель разбойникам. Радость надежды светилась на лицах строителей. «Эка силища! Да рази…» Елочкин ничего не говорил. И ему радостно было видеть мощь Родины. Но тоска от невозможности приключиться к ней мускулами, телом становилась невыносимой. Вероятно, не он один это чувствовал. Плывут грозные боевые машины, танкисты идут в бой.
— Э-эх, товарищ военный инженер, — сказал Федя Чирков, — и до чего же надоело!..
В Минск въехали утром, прямо под бомбежку вокзала. Милиционеры кричали: «На бульвары! На бульвары!» — жители толпами бежали по улицам. Но магазины, несмотря на ранний час и на бомбежку, торговали. Елочкин зашел в гастрономический. Девушки спокойно взвешивали товар. Кассы щелкали, отбивая чеки.
— Полкило помидоров, — сказал Елочкин.
Белокурые волосы продавщиц напомнили ему золото Олиной головки, и сердце его захолонуло: «Что с ней? Как будет?» — Девушки кричали из-за прилавков:
— Платите, товарищ капитан! Платите!
Он не заметил, как уплатил, как получил сверток и как вышел из магазина на ревущую и грохочущую улицу. И только здесь очнулся, наскочив на шофера Федю Чиркова.
— Товарищ военный инженер, — кричал Федя, стараясь переорать бомбежку, — они вам товару наотпускали не хуже Линтварева… Я ведь рядом был… Валят, валят, что, думаю, за…
Елочкин посмотрел на сверток, дивясь его объему, и теперь только ощутил тяжесть своей покупки. Странно! Он и Федя вышли на бульвар и остановились. Елочкин открыл сверток.
— Видали? — в восторге крикнул Федя.
Между красными боками будто ниткой перетянутых и оттого готовых брызнуть зернами помидоров блестела свинцовая оболочка ноздреватого сыра и, обложенный прозрачным целлофаном, благоухал свежий круг знаменитой «минской» колбасы.
— На бульвары! На бульвары!
Елочкин протянул сверток Феде.
— Держите! Будем делиться…
Тр-р-рах! Тр-р-рах!
— С-сволочи, что делают, — сказал Федя, принимая сверток, — покорнейше вами благодарен, товарищ военный инженер. Теперь одно: пронеси подоле, не на наше поле!
* * *
Строительный батальон, с которым отходили Елочкин и Федя, был вполне готов к тому, что с ним произошло в Минске: стараниями интенданта Линтварева он был отлично обмундирован, предприимчивостью Батуева хорошо вооружен и, главное, — хотел драться. Еще не кончилась бомбежка, как батальон уже был переформирован в специальный отряд, и Елочкин назначен командовать в нем отдельной группой. Задача ясная: производить разрушения за спиной отходящих войск, всячески мешая противнику наступать. Взрывать — или по приказанию командира отходящих войск, или при появлении противника. Елочкин получил на свою группу два грузовика, взрывчатку, мины и пол-отделения кадровых саперов, Все это совершилось с необыкновенной быстротой.
Федя спал в товарном пакгаузе, когда Елочкин разбудил его и сообщил новости.
— А я-то куда же, товарищ военный инженер? — испуганно спросил он.
И очень обрадовался, услыхав, что поступает в елочкинскую команду на полуторатонку с пулеметом.
— Вот это — дело, а то… валандаться!
Вечером Елочкин уже получил задание. С поста, стоявшего у Кайданова, сообщили о появлении гитлеровских танков. И вслед за тем пост исчез. Надо было разведать на месте заставы, что там случилось. Елочкин и Федя выехали вдвоем на грузовике. До заставы добрались, не заметив ничего тревожного, но заставу нашли пустой: ни пограничников, ни фашистов. Спрятали машину, подползли к шоссе и — замерли. По дороге, со скрежетом и лязгом, катились головные машины фашистского танкового отряда. Разведчики лежали у самой дороги и считали: «Восемьдесят шесть… восемьдесят семь». Гитлеровцы шли без охранения, без всяких предосторожностей, — наглая беспечность их была поразительна. Немилосердно жгли фары у танков. Одна машина застряла, — развели костер. Солдаты орали, кричали, — хорошо одетые, сытые, горластые. Европа научила их орать. Скоро завоют… Итак, восемьдесят семь машин, — Т-3 и Т-4.
Как ни удачна была первая разведка Елочкина и Феди, но она могла бы стать и последней, так как в Минск, занятый гитлеровцами, они не вернулись и прорваться на восток за своими уже не смогли…
Глава сороковая
Май для брестского гарнизона был месяцем учебно-боевых стрельб. Стреляли изо дня в день и выполняли упражнения, как правило, на «отлично» и лишь отчасти на «хорошо». «Посредственных» результатов почти не бывало. В половине июня стрелковая дивизия, где Юханцев служил начальником политотдела, оставив в крепости по одному батальону от каждого го своих полков, вышла из Бреста в район Кобрин — Жабинка на большие тактические ученья. За ней двинулись инженерные войска и выехало много всякого командного и начальствующего состава. А так как часть гарнизона с весны стояла в лагерях, то крепость осталась занятой всего лишь полком пехоты, школой да танковым батальоном.
Из пограничных частей, развернутых по Бугу, до Юханиева постоянно доходили сведения о какой то подозрительной возне на левой стороне реки. Юханцев несколько раз выезжал на берег. Действительно что-то как бы тянулось к руслу Буга, усиленно копошась в его зарослях и на поймах. «Неужели сосредоточение?» Эта мысль не давала покоя Юханцеву. Он не раз толковал о ней с командиром дивизии; адресовался и к высшему начальству. Но передвижения гитлеровских войск наблюдались по всей границе. Действовал договор с Германией о ненападении. Правда, знали, что этот договор — вовсе не мир между добрыми соседями. Знали, что его практический смысл — в выигрыше времени; что нападение фашистской Германии на СССР неизбежно; и ждали этого нападения. Но, случись оно сегодня, вдруг, без объявления войны, оно все-таки было бы внезапным. И поверить в возможность такого недопустимо-позорного вероломства было как-то не легко. А между тем против Бреста уже был сосредоточен целый корпус четвертой гитлеровской армии в составе трех пехотных дивизий с танковыми, саперными и другими специальными частями, с множеством легких и тяжелых артиллерийских батарей, с мортирными дивизионами и минометными ротами. Если бы Юханцев, вдруг узнав об этом, смог подсчитать и сопоставить числовые данные обеих сторон, он увидел бы, что у гитлеровцев, собранных под Брестом, в десять раз больше людей, чем в крепости, а техники, танков и артиллерии больше раз в пятнадцать. Но он об этом не знал. И так, радостно привыкая к новой близости с женой и дочерью, еще не окончательно обжившимися около него в Бресте, в странной полутревоге дожил до двадцать второго июня…
* * *
Весь день накануне Юханцев провел в крепости и заночевал дома. Было четыре утра, когда он вскочим, растрепанный, с постели и несколько мгновений стоял неподвижно, с белым облаком волос над круглой, большой головой. Грохот рос и рос, достигая невыносимой силы. Где-то со звоном сыпались стекла. С треском рухнули вниз перекрытия какой-то крыши. Ольга слушала, застыв в дверях с раскрытым ртом и полными слез огромными глазами. За окном взметнулось пламя. Багровая туча пыли и дыма быстро заволакивала небо. Надежда Александровна подошла к мужу и взяла его за руку.
— Яша… Это — война!
Столбняк соскочил с Юханцева. Он молча принялся одеваться, бешено торопясь, словно спешил обогнать самого себя.
— Папа… — сказала Ольга, стуча зубами, — папа…
Он взглянул на нее. Она ахнула. У ее отца никогда не было таких глаз.
— Война, дочурка… Началась война!
— Папа! А как же… Костя?
Она тихонько опустилась на стул, неслышно ломая тонкие пальцы и с отчаянием переводя изумленный взгляд с отца на мать. Звонко запел телефон. Надежда Александровна схватила трубку.
— Алло!
Кроме хрипа и бульканья, в трубке не было ничего.
— Алло! Алло!
Что-то далекое, похожее на человеческий голос, вырвалось из бульканья и пропало.
— К черту телефон! — крикнул Юханцев.
Трубка жестко стукнулась, падая на рычажок.
— Надя! Сейчас будут раненые… Ты всегда была…
— И буду…
— Сказать Османьянцу и другим?
— Конечно!
— Спасибо!
— Мама, я с тобой!
Юханцев выбежал из квартиры, звонко хлопнув дверью…
…По башням, фортам и казармам неслось:
— Война! Война!
Люди с хода становились к окнам и амбразурам. Они видели рядом седую голову Юханцева, слышали знакомые голоса командиров и политруков. Крепость принимала бой.
Противник вел огонь главным образом по цитадели и лишь отчасти — по городу, перенося его с места на место. Так продолжалось около часа. Затем атака двинулась к переправам, — к железнодорожному мосту и на только что наведенный понтонный. Здесь, у понтонного, близ деревни, ее встретила пограничная застава. Внезапных нападений для пограничников не существует, — служба их в вечном ожидании и на постоянном чеку. Правда, к шести часам утра ружья и пулеметы заставы примолкли, — мертвые руки не владеют огнем, — но зато и гитлеровцы до утра проплясали на своих понтонах. Лишь теперь их первые штурмовые отряды высадились на западный остров крепости и затоптались под ружейно-пулеметным огнем цитадели. Крепость отбивала атаку, стреляя не только из окон и амбразур, но и с крыш, и из подвалов, и с чердаков, и из-за каждой двери или водосточной трубы, — отовсюду, где может укрыться человек. Трудно сказать, где было жарче, — здесь, или у Муховецкого моста, куда группы гитлеровских автоматчиков прорвались через земляной вал и ворота. И там тоже стреляла всякая щель, да еще и курсанты полковой школы то и дело переходили в контратаку, опрокидывая пробившуюся вперед неприятельскую пехоту на огонь бронемашин, сгрудившихся в воротах, и на штыки пограничников.
Но всего удивительнее складывались дела на южном острове крепости, где находились госпитали и был расквартирован медсанбат. Первые снаряды ночного огня упали именно сюда, на госпитальные здания. Старинные толстостенные корпуса запылали.
— Выноси раненых и больных! — закричал маленький человек в медицинской форме, подтверждая свое приказание таким энергичным движением руки, как будто сразмаху разваливал что-то громадное пополам.
— Куда прикажете, товарищ военврач первого ранга?
— В цитадель! — крикнул начсандив Османьянц, — а там — по указанию товарища Юханцевой.
Раненых и больных уносили, уводили. На чердаке, под крышей, лопнули цистерны с водой, и вода разлилась по лестницам и этажам. Пожар прекратился. По мере того, как все это происходило, пустеющие палаты госпиталя наполнялись пограничниками. Это были остатки заставы, отошедшей на остров. Доктор Османьянц встречал людей и, продолжая резать воздух правой рукой, направлял их по местам. Атака катилась на госпиталь. То здесь, то там взвивался кверху черный и узкий столб — рвалась граната. Обдало гарью, дымом, комьями рваной земли. Доктор Османьянц упал, — ему показалось, что он споткнулся. Когда же поднялся на ноги, что-то заставило его оглянуться. Командир пограничной заставы лежал поперек панели с приставшими ко лбу красными космами слипшихся волос. Этого недоставало! Кто же теперь будет… Неожиданное наблюдение поразило Османьянца: среди людей, отходивших к госпиталю, не было ни одного пулеметчика. Но раздумывать, куда они делись, было некогда. Откуда взялись у Османьянца гранаты, он тоже не знал и так никогда потом и не догадался. Зато сквозь дым разрывов довольно отчетливо виделись ему сейчас впереди зеленые фигуры, и он швырял в них гранату за гранатой. Вид зеленых людей сам по себе был ничто. Но из него рождалась неожиданная мысль о том, как тонет в грязной прорве обтоптанных гитлеровцами болот чистое изобилие земли. И этой мыслью о земле безмерно расширялась злоба Османьянца к наступавшим, становилась необъятной по огромности и нестерпимой по остроте. Он швырял и швырял… Кем-то недоговоренные слова домчались к нему под последний размах.
— Товарищи, гра… нет больше…
Да, гранат больше не было…
Близ Османьянца шлепнулась «ихняя». Он не успел ни поддеть ее ногой, ни отбежать от нее и остался, как был, замерев на месте. «Вот, — подумал он, внимательно разглядывая свою смерть, — вот и все!» Но граната не рвалась. Османьянц успел еще подумать: «Долгорукая»… И тут же засветился одной из самых своих светлых «склеротических» улыбочек. Действительно рукоятка у фашистской гранаты была так длинна, что ухватиться за нее и, размахнувшись, пустить туда, откуда она только что прилетела, не стоило бы ровно ничего. Османьянц пустил. На полдороге к своим граната с грохотом лопнула в туче черного дыма.
— Польскими бьют, — прокричал поблизости пограничник, — через девять секунд рвутся…
Этого доктор Османьянц не знал. Да и откуда может знать об этом выслуживший вторую пенсию, старый-престарый военный врач? Но…
— А наши? — крикнул он.
— Четыре — пять…
На мгновенье Османьянцу стало нечем дышать, словно тройка кованых коней взыграла у него на груди. Стенокардия? Это длилось мгновенье. К черту стенокардию! Расчет прост и верен. И Османьянц снова швырял гранату за гранатой. Но только теперь он швырял не наши гранаты, — ведь наши кончились, — а польские долгоручки. И они летели к нему, чтобы тотчас же вернуться назад и лопнуть среди немцев…
Не все гранатометчики сразу поняли, в чем дело. Одного или двух ранило. Зато остальные действовали наверняка. Впрочем, и гитлеровцы скоро раскусили, фокус: долгоручки падали все реже. Разрывы их переставали сливаться в сплошной грохот. Вихрь другого, невидимого огня бежал по госпитальному двору: та-та-та… Османьянц поднял руку, чтобы взглянуть на часы. Что такое? Беленький круглый циферблат со стрелками на семи вдруг сжался, смялся и ушел в себя, превратись в грязный комочек из эмали, стекла и металла. Под комочком заныла рука. Что такое? Ржаво блеснуло в мутных глазах нутро часов, и кисть руки бессильно повисла на бахромке из розовых жилок и мелких белых костей. Да что же это? Огненная боль обожгла перебитое место; грудь, живот, сердце Османьянца дрогнули и сжались, пронзенные этой болью. Зубы его скрипнули, голова запрокинулась. И, не коснись в этот миг его губ и щеки легкое дуновенье свежего ветерка, он бы, конечно, не устоял на ногах…
* * *
К семи часам первая атака этого дня была отбита. Гитлеровцы отошли, но огня из скорострельных штурмовых орудий не прекратили. Теперь они били по окнам крепостной казармы прямой наводкой. Было около девяти, когда между давно заброшенными инженерными постройками четырнадцатого года, перед западным островом крепости, замаячила неприятельская разведка на мотоциклах. Здесь ее ждали пограничники. Они подпустили мотоциклистов под дула своих автоматов и уложили всех. Выехала конная разведка. И — тоже легла. Тогда повалила вторая атака. Крепость встретила ее ружейными залпами, густым пулеметным прочесом и метким снайперским огнем. Атака захлебнулась на полпути и отхлынула.
Переправив свои войска южнее и севернее крепости, гитлеровские командиры рассчитывали на быстрое окружение гарнизона и на полную изоляцию узлов сопротивления. Расчет был верен вообще. Но в его формуле отсутствовал очень существенный коэффициент: узлы сопротивления — прежде всего люди. А люди не хотели сдаваться. И выбить, например, пограничников, засевших у Холмских ворот крепости, на берегу Муховца, возле купы лохматых деревьев, густо заплетшихся над крышей красной казарменной стены, не удалось ни утром, ни днем. Так было почти везде.
Однако к полудню гитлеровцам все же удалось проникнуть в город. Они достигли этого после жестоких боев у вокзала, на Пушкинской и Московской улицах, на улице Дзержинского. Теперь крепость оказывалась зажатой в плотном кольце пехоты, артиллерии и танков. Грозные машины уже продвигались к Тереспольским воротам. Если ворваться в крепость с хода оказалось невозможным, то дело надо было решать «генеральным штурмом». На третью атаку сегодняшнего дня возлагалась задача окончательно и бесповоротно сокрушить Брест…
* * *
В полдень лавина из танков и автомашин со штурмовой пехотой прихлынула к крепости и разлилась по ее островам, западному и южному. Огонь по цитадели велся прямой наводкой из пехотных противотанковых орудий и полевых гаубиц. У Белого дворца, у церкви и казарменных стен, у каждого из сколько-нибудь приметных строений ревели снаряды, разрываясь и раскидывая кругом вихри осколков. Сквозь тучи пыли и дыма было видно, как пылают дома, обвитые красными жгутами пламени. Слышно было, как валится вниз что-то громадное, тяжкое. Асфальт под ногами корежился, как живой, и ломался, то проваливаясь куда-то вниз, то вспучиваясь на трещинах острыми горбылями. Очень ли помогала атакующим стрельба прямой наводкой? Они думали, что очень помогала. И, хотя толстые стены оборонительной казармы держались, как ни в чем не бывало, но гнезда сопротивления и вне и внутри цитадели с засевшими в них людьми никак не могли, по мнению гитлеровских командиров, устоять против ураганного обстрела такой невиданной силы. И командиры не сомневались в том, что все эти гнезда без исключения должны быть подавлены.
А между тем этого не случилось. Гнезда перемещались с чердаков под стены, из-под стен в подвалы, и не было в крепости угла, из которого не торчали бы дула ее защитников. Поэтому, когда приземистые, широкие, ободранные осколками и обшарпанные пулями Тереспольские ворота пропустили, наконец, штурмовую пехоту атаки во двор цитадели, сразу заварилась самая крутая каша. Куда ни повертывались пехотинцы штурмовых отрядов, они везде натыкались на бесчисленные гнезда сопротивления, беспрерывно попадая под меткие выстрелы бивших на выбор снайперов.
Защитники цитадели отовсюду надвигались на штурмовиков, вклиниваясь между отрядами и блокируя их остатки с разных сторон. В неразберихе из домов, деревьев и обломков артиллерийские наблюдатели атаки уже не могли отличить своих от чужих, и огневая поддержка атаки начинала с каждой минутой все больше и больше слабеть…
Наконец, настал момент, которого давно ждал засевший в гарнизонной столовой и много часов отстреливавшийся оттуда Юханцев. Почти все гитлеровцы, блокированные в крепости, были уничтожены. Артиллерия неприятеля молчала. Штурмовики отходили под густым ружейно-пулеметным огнем, стремясь до сумерек выбраться за реку. Настал момент, когда незваных гостей можно было проводить. Юханцев выбежал из столовой и огляделся. Ни души — кругом. «Да куда же пропал народ?»
— Товарищи бойцы!
Он приложил к губам рупор из жарких, грязных ладоней и не крикнул, а заревел:
— Кто жив, друзья? За мной, за комиссаром! В контратаку!
Да, конечно, это было глупой ошибкой фашистов — думать, что гнезда сопротивления подавлены. Ничего подобного! На зов комиссара посыпались люди — из дверей и из окон, с крыш и с деревьев; они выскакивали из воронок и из подвальных люков, выбегали десятками из-за каждого угла. Они пристраивались друг к другу, брали ружья на руку к команде «коли» и кричали Юханпеву:
— Веди, товарищ комиссар!
* * *
И «генеральный штурм» крепости Брест был отбит. Солнце опрокинуло на землю море рубиновых блесков. Где-то близко-близко прятались сумерки.
Фашист лежал на винтовке, разбросав по сторонам каску и котелок, круто выпятив живот и прикрыв его лиловой рукой. Из ранца выпали ножницы, зубная щетка, тюбик с пастой для полоскания рта, зеркало, шкатулка с нитками и красивенький, ярко блестевший пенальчик для иголок.
— Полное хозяйство!
— А то! Ты в него — очередь, а он, знай, себе зубы чистит.
Кругом засмеялись. Итак, солдаты уже могли шутить. Пронзительный свист одинокого снаряда привлек их внимание.
— Палили-то! Страсть! Я думал, и жив никто не будет!
— Да ведь мимо!
— И то — мимо!
Радостно видеть около себя знакомые лица, когда смерть прошла рядом. Это так радостно, что шутка сама слетает с запекшихся в корку губ…
Способность любящих людей к сближению безгранична. Кажется, так слились два человека, что живут как один. А толкнет жизнь, и еще глубже войдут они друг в друга, еще тесней сольются в единстве чувства, в сплоченности своей любви. Оле Юханцевой никогда не приходили в голову подобные мысли. Она просто любила отца и мать, даже и не зная, какие они и за что их надо любить, — просто любила. Но здесь, в полутемном подвале аптекарского склада, в душном воздухе, полном ядовитых испарений крови и больного человеческого пота, среди стонов и воплей, перед самым лицом неумолимой смерти множества людей что-то случилось с олиной любовью. Здесь Оля поняла, за что она любит мать, за что невозможно не любить ее, и до того прониклась этой новой, «доказанной» любовью, что сама стала почти такой же, как и мать…
Вот — первые потери: Пинкин — левая рука; Казаков — правая нога; Уруднюк — контужен; Омельченко — правая нога; Офименко — голова и лопатка; Ковтун — рука; Мельник — контужен… Надежда Александровна и еще какие-то женщины, и Оля с ними, обмывали, перевязывали. Неловкая, неумелая Оля с изумлением и восторженной завистью смотрела на мать — на ее неслышную, летящую походку, на быстроту и легкость прикосновений, на уверенные движения смелых пальцев. Пришел Османьянц, в изорванной гимнастерке, без фуражки, с похожей на ржавую проволоку щетиной у висков и с перебитой кистью левой руки.
— Врачу, исцелися сам! — сказал он, мертвенно улыбаясь. — Пожалуй, придется откромсать…
И уперся плечом в сырую стену, такой же бледный, как стена. Оля сняла часовую браслетку с его раненой руки. Она старалась это сделать, как мать, — быстро и легко, и, вероятно, ей удалось так сделать, потому что Османьянц не только больше не бледнел, но даже еще и улыбался, чуть слышно поскрипывая зубами. Впрочем, это было уже тогда, когда к нему подошел хирург…
* * *
Золотой месяц плавал в синеве вечернего неба и осыпал жемчугом сумеречную землю. Сотни ракет то и дело взвивались за рекой, освещая крепость, и месяц бледнел в белых разливах их ослепительного блеска. Орудия гремели, без перерыва обстреливая Брест. В эту ночь, с двадцать третьего на двадцать четвертое, гитлеровцы ждали большой вылазки советского гарнизона.
Вылазка была не по силам гарнизону. Но вместе с тем и успех его обороны был очевиден. Штурмы двух первых дней не удались; гитлеровцы отошли от крепости, уложив под ее стенами множество людей. Растерянность, владевшая осажденными в первые минуты нападения, исчезла. Их сопротивление становилось все более организованным и стойким.
— И уж тут наше дело — помочь, — говорил Юханцеву заместитель командира 84-го стрелкового полка по политической части, — разработать общий план обороны и прочее. Это, Яков Павлович, все равно как производственное совещание на заводе. Политика, производство, быт — все в переплете, пока тут же, на совещании, не распутается… И тогда…
Юханцев очень хорошо понимал «замполита». Да, это — школа. Буря гудит, корабль рвется вперед, ты — у руля и знаешь: от малейшей ошибки в нажиме на руль, от неверного поворота, от случайной нечеткости действий — мель, риф, крушение. Школа партийной работы! Полковой комиссар считал, что надо немедленно собрать командиров и на собрании обязаться такими решениями, чтобы…
— Где соберем? — спросил Юханцев.
Он считал эту мысль находкой.
— У нас, в штабе полка. И Османьянц придет. Он нынче на южном острове за командира…
— Без руки?
— С рукой. Загипсовали. Придет…
— Хорошо. Собирай!..
Из того, что сказал собравшимся Юханцев, с величайшей ясностью вытекала задача: обороняться. Каждая попытка сопротивления ценна и нужна, ибо из суммы задержек рождается выигрыш времени для организации настоящего отпора, с одной стороны, и враг изматывается — с другой. Только так может действовать советская крепость — задерживать противника, наносить ему возможно большие потери, отвлекать на себя возможно больше неприятельских сил, всячески замедлять их движение, чтобы высшее командование успело создать необходимые заслоны и оборудовать новые оборонительные рубежи. Только так мог гарнизон Бреста приблизить конечную цель войны — погнать гитлеровцев назад. Только так…
Выступил начсандив Османьянц, с подвязанной рукой, красным, странно улыбающимся лицом и блестящими маленькими глазами.
— Чтобы мобилизоваться, стране, товарищи, — сказал он, — нужны не дни, а месяцы. Хватит у нас сил и средств, чтобы обороняться месяцы? Нет, не хватит. Следовательно, будем обороняться, пока живы!
И, улыбаясь, отошел к стене. Потом заговорил помощник командира полка капитан Зубачев, — сухощавый, стройный, с тонким, нервным лицом. Подняв кверху, высоко над головой, свой планшет, в котором у него хранились конспекты по истории партии, капитан сказал, словно присягая:
— Мы не получали приказа об отходе, — значит, надо стоять до конца. Погибнуть, но не отступать!
И все, кто еще выступал, говорили то же самое. Юханцев жадно слушал этих людей. У некоторых из них были здесь, в крепости, жены и дети. Думают ли они о своих семьях, когда клянутся умереть? Ведь умереть они не смогут без них, — без жен и без детей, — а только с ними. Значит ли это, что они клянутся и за них, и от их имени тоже клянутся? В таком именно положении был и сам Юханцев. Он слушал слова великой клятвы, с готовностью произносившиеся кругом командирами, смотрел на их взволнованные, горячие лица. Да, он сделал сейчас все, чтобы поднять их дух на смертный подвиг, и он поведет их за собой умирать. Здесь — его право и его долг. Новая мысль зажглась, ослепительной яркостью наполнив мозг. Юханцев вдруг увидел прямо перед собой смысл своей жизни. Смысл был необъятен, как история человеческого разума, и так же, как эта история, выражал в себе философию подвига. Не всякий подвиг — только жертва. Есть подвиги завоевания через жертву, как тот, к которому зовет сегодня своих людей Юханцев. И в громадности таких подвигов, перед лицом их бессмертия, жить или не жить — все равно. Нет, не может быть, что кто-нибудь не знал этого, — не может быть! Юханцев подошел к Османьянцу, к Зубачеву и быстро, но крепко обнял их. Шум, наполнявший низенькие, сводчатые комнаты штаба полка, где происходило собрание, смолк. Командиры понимали: Юханцев прощается.
— Товарищи! — громко сказал он. — Партия нам велела… Умрем, а крепость не сдадим! И Родине послужим до последнего…
* * *
С пяти утра гремели тяжелые орудия осады. Огонь был направлен главным образом на цитадель и северный остров крепости, туда, где инженерный парк и кладбище. Огонь чередовался с налетами. Под огнем крепость замирала, уходя в подвалы. Но как только гитлеровцы прекращали обстрел, чтобы бросить на штурм пехоту, солдаты становились на места и хватались за ружья. Длинные стволы тяжелых зениток втыкались в утреннее небо. И штурм остывал. В девять часов на северном земляном валу завозилось что-то очень большое и несуразное. Подтянув радиоагитмашину, гитлеровцы устанавливали ее в направлении ветра. До защитников крепости долетело: «Предложение есть честной капитуляции… Уже многи русски города пали… Уже вся русски армия пал…» Ураган ружейного и пулеметного огня заглушил геббельсовскую болтовню. Но был на нее еще и другой ответ.
Командиры читали бойцам приказ № 1:
«Создавшаяся в крепости обстановка требует организованных боевых действий для дальнейшей борьбы с противником. Руководство решило объединить основные силы находящихся в крепости воинских частей в сводную группу. Командование сводной группой поручить капитану Зубачеву И. Н. Начальником штаба группы назначить старшего лейтенанта тов. Семененко. Всем командирам частей учесть бойцов по спискам. Боевой приказ поступит после составления списков и окончательной организации подразделений…»
Крепость и не думала «падать»…
…Потянулись, захлебываясь в крови, часы и дни непрерывной, отчаянной, яростной борьбы, когда сутки бежали за сутками сквозь тонкие перегородки призрачных ночей, и люди — с ними, равнодушные к восходу солнца, безразличные к его закату, забывшие о том, что есть время, и ни на миг не забывающие о пространстве, за которое надо умереть.
Еще двадцать четвертого гитлеровцы ворвались в северо-восточную часть крепости. Огненная буря быстро подмела здесь улицы, и бои развязались в руинах школы 125-го стрелкового полка, в подвалах и подземных казематах. Шагнуть через дорогу, которая вела из города в крепость, противнику не удавалось. Ружейно-пулеметный огонь с восточного форта северного участка, — это был фланкирующий, боковой огонь, — косил все живое у крепостных стен. Так было двадцать четвертого.
На следующий день удары штурма перенеслись на цитадель. Дрались между Тереспольской башней и Холмскими воротами, у Ильинских и Центральных ворот. И снова фланговый огонь восточного форта северного острова делал свое спасительное дело…
Уже три дня, как стрелки восточного форта изнывали от жажды. В форту не было колодцев, и поэтому, когда гитлеровцы опоясали его тугим кольцом, положение стало грозным. В подвале отыскался лед, — надолго ли? На конюшенном дворе обнаружили ров. Начали его перекапывать на колодец. Вода выступила, но пить эту вонючую воду было нельзя. В форту были женщины, дети, много раненых. Храбрецы вызывались пробраться ночью на Муховец с котелками. Им казалось, что погибнуть, пробиваясь через заставы гитлеровцев, легче, чем видеть запекшиеся от свирепой жажды детские губки и молящие ребячьи глаза. Одни пробивались, немногие, — и приносили воду. Другие, почти все, не возвращались, ибо мертвые вернуться не могут. Под шинелями, плащ-палатками, в широких солдатских гимнастерках встречали мученики-дети грохот рвущихся гранат, которыми фашисты забрасывали форт, старательно прочесывая из пулеметов каждый проход. И все-таки восточный форт держался, а фланговый огонь его защиты не смолкал ни на минуту…
Штурмовой отряд гитлеровцев ворвался у Холмских ворот в дом санчасти 125-го стрелкового полка. Это случилось двадцать пятого, после полудня. Раненые завалили двери и лестницы в доме шкапами и койками, установили на удобном месте пулемет и начали швырять из окон гранаты. Так шло часа два. Потом смолк пулемет, расстреляв патроны, и говорить продолжали одни лишь винтовки и пистолеты. Все меньше и меньше оставалось раненых бойцов на ногах. Комната дымилась, как камин с засоренной трубой. «Неужели я один?» — подумал, оглянувшись, старший лейтенант. Действительно он был в этой комнате единственным живым существом. Старший лейтенант швырнул гранату. Она была последняя. Тогда он бросился вниз, размахивая ружьем. Однако и тут не упал. Дюжина фашистских штыков подняла его высоко, высоко…
К вечеру двадцать пятого гитлеровцам удалось захватить южный и западный острова крепости.
Вторично раненный Османьянц, — он командовал обороной южного участка, — явился к капитану Зубачеву.
— Куда прикажете?
— Идите, товарищ военврач, на восточный, — сказал Зубачев, вытирая с лица рукавом пот, грязь и кровь, — совсем в командиры заделались…
Османьянц улыбнулся и показал глазами на забинтованную руку.
— Была баба девкой…
— И то так, — сказал Зубачев, думая уже о другом, — бомбардировщиков сколько нынче наслали. А я еще и танков жду!
Ветер гнал по улицам дым от разрывов и сажу. Женщины и дети бежали с мешками на спине. «Несут боеприпасы», — сообразил Османьянц и почувствовал мокрое на глазах.
— Нерсес Михаил…
Его позвала девушка с золотой косой, босая, сильная, с коромыслом через плечо, и на коромысле — два качающихся ведра, полных воды.
— Оля!
Тяжелая ноша оттягивает круглое, нежное плечо девушки. Вероятно, ей больно. И Османьянц снова почуял на глазах мокрое и горячее.
— А вас опять задело?
— Чуток…
Ольга подумала: «Замечательно! Стоим под огнем, разговариваем. Если бы Костя…» Легким, но сильным движением плеча она перебросила коромысло поближе к шее. Ведра качнулись, и вода в них всплеснулась, но так, что наземь не упало ни капли. «Эх, кабы Костя…»
— Мама с утра сорок восьмого перевязала. А я…
Ольга подбородком показала на громадную, словно придавленную своей тяжестью к земле, каменную глыбу Центральных ворот, с тремя приземистыми, полукруглыми по верху, проходами. В проходах оглушительно трещали пулеметы; расчеты при них хлопотали и суетились.
— Несу воду для пулеметных стволов…
— Ведь не вернешься! — крикнул отчаянным голосом Османьянц.
Она посмотрела на него удивленно. Да, и он удивился: «Как же я раньше считал, что храбрец — тот, кто умеет скрывать трусость? Я, например, умею. А она… Она не умеет. И нечего ей скрывать…» Не переставая удивляться, он смотрел вслед девушке, бежавшей прямо к воротам…
Глава сорок первая
Почти то же самое, что случилось под Гродно, — внезапное ночное нападение, бой на тонких линиях пограничного заслона и стремительное движение вглубь страны громадных танковых и мотопехотных масс противника — все это произошло и в расположении той армии, где командовал батальоном майор Мирополов. Дивизия, в которой служил Мирополов, стояла на правом фланге этой армии, а полк, в состав которого входил его батальон, — на правом фланге дивизии. Еще правее, за шоссе, находившимся под охраной Мирополова, начинались участки соседней армии. Дивизия имела задание, в случае прорыва первого оборонительного рубежа, преградить противнику движение как по шоссе, так и по дорогам, параллельным шоссе. Но сведения, которые получал от своей разведки штадив, сильно запаздывали по сравнению с данными радио и армейской авиаразведки. Поэтому штадив узнал о начале войны только из сообщения штарма, да еще и потому, что сам был часов в десять утра вдруг атакован с воздуха пикирующими бомбардировщиками. Штарм сообщал, что левый фланг соседней армии прорван, что в прорыв катятся большие механизированные копонны противника и что от того, как поведет теперь себя правофланговый полк дивизии, многое зависит…
Мирополов еще только принимал из штаба полка предупреждение штадива насчет обхода, когда обход уже совершился. Тучи гитлеровской мотопехоты навалились на шоссе и сразу отрезали крайний правый взвод батальона. Сквозь грохот минометного огня еле проскальзывал треск пулеметных очередей. Взвод держался, но не в нем было дело, а в том, что тылы дивизии вдруг оказались под угрозой. Из штадива приказывали: резервному батальону триста сорок седьмого прикрывать фланг. «Эка новость!» — подумал Мирополов. Действительно его батальон уже около получаса отбивал атаки. Вихрь огневого вала бушевал по всей его позиции, и все, что могло гореть у переднего края обороны, пылало…
В расположении дивизии возникали «окна», — одно за другим; отдельные группы ее войск были окружены. Но командир дивизии приказывал полкам обороняться. Свой левый фланг, по северной опушке леса от совхоза, в котором стоял штадив, он прикрыл саперным батальоном, а правый и тыл, по южной опушке, — батальоном Мирополова. Он очень надеялся на этот батальон, то есть главным образом на его командира, которого давно и хорошо знал. О своем решении командир дивизии донес в штарм по рации и при этом расхвалил Мирополова на все корки. Между тем батальон, сражавшийся у шоссе и отбивавший атаку за атакой, изнемогал. Место, на котором он держался, было похоже на клокочущую, ревущую бездну. И бездна эта с чудовищной жадностью притягивала и топила в себе непрерывные взрывы авиабомб. Но именно в те страшные минуты, когда Мирополов уже думал, что все погибло, роты вдруг поднимались и бежали вперед, принимая на штыки оторопевшего врага, и Мирополов тоже бежал впереди своих рот, встречая грудью и лицом горячий ветер боя и чувствуя непонятное облегчение от того, как развевается под этим ветром, вскидываясь до плечей, его пушистая борода.
Вечером в штадиве подсчитали потери. Серьезное дело! Но как ни поредел за день людской состав дивизии, как ни много орудий полковой и дивизионной артиллерии оказалось выведенными из боя, — все-таки главное заключалось не в этом. Мужество удесятеряло силы бойцов, и орудия в геройских руках действовали одно за два, за три. Главное заключалось в том, что боекомплект снарядов, мин и патронов в частях заметно подошел к концу, а подвоза не было, и никакое мужество не могло восполнить этого недостатка.
Правда, несмотря даже и на это, дивизия продолжала стоять. Но сколько она могла бы еще простоять? Крепко-крепко подумал командир дивизии и… приказал отходить. Ночью выступил обоз с ранеными; за ним — остатки строевых частей; а с третьей партией — штадив. Гаубичная артиллерия двигалась на тракторах. Район сосредоточения, указанный дивизии штабом армии, находился в лесных массивах, к западу от железнодорожной станции Елита.
* * *
В общем армия держалась. За весь день двадцать второго гитлеровцы потеснили ее центр всего лишь на восемь километров. Но на флангах было плохо. Справа — потеряна связь с отходившими в неравном бою частями соседней армии и фланг обойден. Слева — еще хуже. Командующий был человек находчивый и твердый. Он знал: остается одно — отвести армию и так перегруппировать ее на отходе, чтобы выделить резерв. Однако отход означал сдачу Осовца, а также и города, где до войны стоял штарм…
Командный пункт находился в лесу, километрах в десяти к западу от города. Здесь штарм простоял два первых дня войны. Лес был колючий: сосна и ель непролазной стеной окружали пункт. Несколько дальше к востоку кудрявился дуб, заплеталась береза, ольха и осина выходили на опушку, и уже по самой опушке бежал легкий пояс из орешника и диких яблонь. Под вечер двадцать третьего Наркевич был на пункте, когда в лесу появился пыльный и потный пограничный генерал. «Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — «Откуда?» — «Из Гродно». — «Что там?» — Но генерал больше трех километров прошагал пешком.
— П-пить! — прохрипел он, дико вращая красными глазами, и остыл только над третьей кружкой.
Вопросы посыпались.
— Карбышев в Гродно? — спросил Наркевич.
— Вчера вечером был… Уж не знаю, уехал в Мосты или нет… А говорил, что сюда к вам собирается…
— Отлично, — сказал командующий армией, высовывая из палатки грузное тело, быстро оглядывая гостя и сейчас же опять исчезая в палатке, — наш отход — не простой отход, а… Это — активная стратегическая оборона. Из глубины страны идут формирования. Вот теперь — Карбышев… Понадобится широкое применение заграждений в обороне, инженерные меры, быстрые, точные…
Тр-р-рах! Тр-р-рах! — командующий зажмурил глаза и качнул головой. «Жену с ребенком отправил. Стажеров-академиков — тоже. А Карбышев…»
— Только беречь Карбышевых надо, — сказал он.
Мысль его снова повернулась на главное. Как для него, так и для члена Военного Совета армии, — они были вдвоем в палатке, — главное сейчас заключалось в том, чтобы правильно понять происходящее на фронте и принять соответствующее решение. Первое было легче второго. Они понимали: противник хочет охватить с обеих сторон все три советские армии, заслоняющие московское направление, потом выйти им в тыл, замкнуть кольцо у Барановичей и… Приказ об отходе лежал перед ними. Оставалось его подписать.
— Надо уметь принимать большие решения! — сказал член Военного Совета и взял в руку перо, но сейчас же бросил, словно обжегшись.
— Нет, не могу!
Заслышав снаружи шум, командующий высунулся из палатки. Ловко крутясь между шалашами и землянками, с треском ломая еловые сучья и дрыгая на змеистых сосновых корнях, из лесу выскочила разбитая полуторатонка. В кузове, держась за борт, стоял, окруженный солдатами, маленький темнолицый человек, собираясь прыгнуть наземь. Наркевич протягивал ему руку…
Карбышев заговорил быстро и решительно:
— Мое мнение? Раз мы отходим, — значит все хорошо. Стратегическая цель гитлеровцев — первым же ударом уничтожить наши войска. Им надо, чтобы мы из пограничной полосы и выбраться не могли. А мы отходим. Стало быть, прекрасно! И отходим не просто, а ведя упорные оборонительные бои…
Карбышев был прав. Он не знал, что эти бои на белостокско-минском направлении уже сковали почти всю девятую, всю четвертую армии гитлеровцев, части их третьей и второй танковых групп. Но ему было ясно: наступление самой сильной, самой центральной группировки фашистских войск, рвущихся к Москве, наткнулось на неожиданное сопротивление отходящих войск и задерживается. Удар основной группировки ослабляется, и сила его растрачивается в преодолении множества препятствий… Он пожал плечами.
— Мое мнение? Отходить с боями…
И вот — приказ подписан. Отданы приказания об отходе. Корпуса и дивизии подтвердили их получение. Стемнело. Командный пункт штарма поднялся и двинулся на восток, к железнодорожной станции Елита, возле которой уже было выбрано и подготовлено для него в лесу подходящее место.
* * *
Тр-р-рах! Тр-р-рах! Лес вздрагивает, как испуганный зверь, и глухо стонет, отзываясь на грохот разрывов и на звонкие человеческие голоса. Разрывы бомб не так уж близки, а крики людей — рядом. «Что случилось?» — «Убит»… Убит был генерал пограничных войск, приехавший вчера из Гродно.
— Дмитрий Михайлович, — сказал командующий, — знаете что? Ей-богу… кольцо не нынче-завтра замкнется. Берите машину и охрану. Поезжайте в Москву…
Мимо пронесли генерала-пограничника. Карбышев отдал покойному честь и, когда заговорил, лицо его было задумчиво и серьезно.
— Товарищ командующий! Срок моей командировки в здешний округ не истек. Ехать в Москву до его истечения только потому, что началась война, — зачем же? В Гродненском укрепленном районе мне мало удалось сделать, но это — не моя вина. Выжимайте из меня любую помощь. Согласны?
— Согласен, — подтвердил генерал.
* * *
Бои в оборонительной полосе имели до сих пор целью дать фронтовому командованию время сорганизовать контрудар и, отбросив прорвавшегося противника, восстановить линию фронта. Но делалось все ясней, что линия фронта может быть создана лишь заново, много восточнее прежней.
Штаб армии передавал войскам, что он перемещается в северо-восточном направлении. Туда же двигались и корпуса, и дивизии ночными переходами и преимущественно колонными путями. Со штабом армии шли несколько стрелковых батальонов; Мирополовский в их числе, — разведка и автообоз с горючим, — боеприпасами и продовольствием. При колонне было два танка. В одном из них ехал командующий…
Двадцать пятого можно было уже без ошибки сказать, что кольцо у Барановичей сомкнулось. Гитлеровцы наступали на левый фланг армии двумя корпусами, а левый фланг состоял из двух дивизий. Ожесточенные бои не затихали там ни на час, постоянно переходя в контратаки. И Карбышев почти не показывался на командных пунктах штарма, — не покидал дивизий.
В тылу армии высадились неприятельские десанты. Люди со значком зеленого черта на рукаве, — гитлеровские парашютисты, — замелькали кое-где на дорогах и полях. Командующий отправил в тыл два батальона, приказав освободить пути. С батальоном Мирополова пошел Карбышев. В первой же деревне, через которую проходил отряд, выяснилось, где группируется неприятель. На перекрестке проселка и старой дороги командир отряда остановился и приказал устраивать командный пункт. Рота автоматчиков залегла на опушке леса, под елками, где до того спокойно и уединенно сидели одни лишь красные грибки. Саперный взвод расчистил перед лесом площадку. Телефонисты поставили аппараты и потянули провод в батальоны. Установили даже стереотрубу, и дежурный по пункту открыл журнал наблюдения. Все — как надо. Но дальше пошло не так, как надо.
На шоссе, за километр или полтора от командного пункта, вдруг обозначились быстро движущиеся серые груды танков и волнистое месиво мотопехоты. Все, кто мог, схватились за бинокли. В бинокли можно было очень хорошо наблюдать движение: машины шли одна за другой беспрерывной вереницей. И продолжалось их движение не час, не два, а шесть часов, — вплоть до вечера. Как только начало темнеть, командир отряда самолично отправился в разведку. Через час бойцы доставили его на пункт с перебитыми ногами. Встреча с зеленым чертом ни черту, ни ему не обошлась даром. Майор Мирополов вступил в командование отрядом. Карбышев смотрел на него, удивляясь. Как был он много лет назад кряжист, осадист, быковат, — таким и остался. Только лысина его, — он часто снимал фуражку и вытирал лоб, — доползла до макушки, да на висках блестела такая чистая седина, что казалось, будто они обсыпаны снегом. Мирополов подошел к Карбышеву.
— Товарищ генерал-лейтенант! Прошу приказаний!
— Приказаний не будет, — живо отозвался Карбышев, — но посоветовать могу.
— Слушаю-с.
Разведка доносила: по шоссе продолжают двигаться гитлеровские машины; дороги вдоль шоссе тоже забиты гитлеровцами; но проселок и старая дорога пока свободны.
— Ликвидация десантов не удалась, — сказал Карбышев, — затевать большой бой нашими силами — глупо. Задача в том, чтобы нынче же ночью оторваться от противника и, пока не поздно, соединиться со своими.
— Слушаю-с! — повторил Мирополов.
Карбышев рассердился.
— Да не «слушаю-с», а…
— Так точно. Будет исполнено, товарищ генерал-лейтенант!
«Правильно сделали, — с досадой подумал Карбышев, — что выгнали его за глупость из академии…» Между тем Мирополов, не теряя ни минуты, начал распоряжаться. Оставалось неизвестным, что он думал по поводу отрыва от противника: считал ли он такое решение единственно правильным, или, может быть, видел возможность для других действий. Но совет Карбышева он принял, как приказ, и выполнить этот приказ лучше, чем сделал Мирополов, было, пожалуй, нельзя. Старик отлично понимал, что отрыв нужно произвести без шума, что в этом фокус успеха. И, выставив в прикрытие две роты, принял решительно все меры, чтобы спрятать маневр. Было так тихо, что казалось, будто дальний грохот гитлеровских машин на шоссе вырывается из земли под ногами. А с нашей стороны — ни голоса, ни стука. Когда поднялась луна и поля под ее светом сделались белыми, отряд спокойно шел пустой дорогой, быстро подвигаясь к своим.
Итак, задача армии была теперь в том, чтобы вырваться из окружения, которое явно замкнулось в тылу с подходом туда громадных неприятельских сил. Это открытие было успешнейшим результатом рекогносцировки в тыл. С этого времени Мирополов без передыха выполнял рекогносцировочные задания командующего армией. Он сделался чем-то вроде особого специалиста по этой части. «Уж как дождь пойдет, так и мочит», — по-солдатски говорил старый майор, собираясь в очередную операцию подобного рода. И непременным его спутником «под дождем» бывал Карбышев…
Отходила армия по ночам, а днем билась. По ночам же переносился и командный пункт. Командующий твердо держался правила — переносить пункт только тогда, когда уже было твердо известно, что все корпуса и дивизии получили и выполнили очередной приказ об отходе. Выйдя в район Волковыска, штарм перенес командный пункт на окраину городка, в густой, как пуща, Замковый лес. Волковыск пылал; издали казалось, будто город пляшет в пламени гигантского костра. Сквозь тучи дыма взвивались к небу огненные всплески, и смутные очертания строений то выступали между ними с резкой ясностью, то пропадали без следа. Казалось бы, что на этом костре не найдется места и для одного живого человека. А между тем Волковыск был закупорен отходившими через него войсками. И Карбышев был там, чтобы помочь беде, — рассосать пробку.
Кратчайший путь отхода от Волковыска на Минск лежал через Зельву — прямое продолжение дороги, по которой армия дошла сюда. Но путь этот не нравился командующему. Карта ясно показывала все танкопроходимые места впереди. И мест этих около Зельвы было много. Пока Карбышев был в Волковыске, план командующего зрел и зрел. Местечко Зельва отстояло от Волковыска к востоку на двадцать километров и было расположено на левом берегу речки Зельвянки. В этом именно направлении и выступил Мирополов со своим отрядом, из двух батальонов. Командующий ожидал его возвращения из рекогносцировки утром; но прошла ночь, настало утро; Мирополова не было. Приехал из Волковыска Карбышев со сведениями о том, что в Зельве высадился большой неприятельский десант. Протянулся в бесплодном ожидании еще день. Мирополова не было. И он и отряд его пропали. С этого времени начала теряться связь штарма с войсками. Управление превращалось в какое-то полуправление. И вскоре совсем прекратилось…
* * *
Об отходе на Зельву и думать бросили. Оставалось взять от Волковыска покруче на север, перейти Зельвянку у Песков и выбраться на реку Шару поблизости от тех мест, где она впадает в Неман. Так именно и хотел сделать командующий, когда стало известно, что гитлеровцы закрыли все переправы на Шаре отчасти десантами, отчасти диверсиями. Разведка доносила, что не может найти на реке ни одного открытого моста. Штарм уперся в тупик. Все приуныли. Но Карбышев не сдавался.
— То ли бывает! — повторял он.
— А что, например?
— Да хотя бы разгром Второй армии Самсонова в Восточной Пруссии в четырнадцатом году… А нас никто не разгромил. Мы еще сами собираемся громить!..
И вдруг мост отыскался. Он не был показан на карте. Вероятно, потому и гитлеровцы только полуразрушили его с воздуха, но не уничтожили совершенно и не заняли. Мост этот находился неподалеку от устья Шары, возле большой пристани, где раньше об эту летнюю пору скоплялось многое множество мелких сплавных судов — дубасс, лигив, комыг и ботов, — а теперь было пусто, безлюдно и тихо. Когда головной бронедозор добрался, наконец, до места, Карбышев выскочил из машины и огляделся. Речка текла по болотистой долине, закрытой с юга и с севера густыми сосновыми лесами. Стога черного, гниловатого сена торчали на гладких, чуть холмистых берегах. И частые водяные мельницы робко прятали в вешняках свои присохшие затворы; колеса мельниц не двигались, поставы молчали. «Ну, и Шара, — подумал Карбышев, — хоть шаром покати…» Однако и здешний мост не годился для переправы, въезд стоял горбылем, а середина висела, — и надо было сейчас же браться за его «усиление». Карбышев уже облазил с полдюжины воронок от пятисоткилограммовых бомб и занес в аккуратно пополнявшуюся с первой военной ночи записную книжку немало ценных цифр, а саперы все не шли…
Деревня, что за мостом, только казалась необитаемой. Человек тридцать крестьян, — ни одного молодого, все старики, — сочно хлюпая ногами по мокрому лугу, подступили к Карбышеву.
— Здравствуйте, — сказал самый старый.
— Здорово, дед!
— Свои, что ль?
— А то чьи?
— Сын мой при вас полковником служит… Да служба-то ноне…
Старик не договорил: ему не хотелось обижать грубым словом случайных военных людей. Как ни было кругом плохо, а он все-таки предчувствовал славу своей Родины. Только трудно было ему представить это конечное будущее сколько-нибудь ясно: известное несравнимо с неизвестным. Потому-то и одолевала его тяжкая досада по поводу настоящего. Мало сказал старик. Но Карбышев все понял.
— Солдат?
— Был.
— С Японией воевал?
— Было.
— А кто с немцем воевал в четырнадцатом, — много таких найдется?
— Есть!
Из толпы выступило человек пять.
— Ну вот, ладно!
— И что теперь?
— Пойдем мост чинить.
— Да кто вы сам-то будете?
— Я-то?
Карбышев засмеялся.
— На кого похож?
— Ровно бы…
— Верно. До революции подполковником был, а теперь…
— Товарищ генерал-лейтенант, — доложил командир бронедозора, — саперы идут…
Изумленные улыбки заиграли на лицах, старых солдат.
— Вишь, ты… Веди, товарищ генерал, веди на мост, приказывай… Не хуже саперов случалось…
* * *
Шара осталась позади. Но впереди не было ничего хорошего. Оторванный от своих войск, штарм передвигался внутри вражеского кольца. Гитлеровцы охотились именно на него, — на штарм, — и то, что он до сих пор не был еще захвачен, могло казаться чудом. Двадцать восьмого командующий армией собрал совещание. По какому направлению и в каком порядке отходить дальше? Был очень жаркий день. Совет собрался в густой березовой роще. Карбышев сидел на пеньке и жадно облизывал сухим языком запекшиеся белые губы. Начальник штаба полагал, что надо выходить кратчайшим путем.
— Прямо на Минск, товарищи, — говорил он, смахивая ладонью с красного лица огромные градины пота, — а оттуда — на Днепр…
— Минск, вероятно, занят, — сказал Наркевич.
— Ничего не значит! Под Минском — густые хвойные леса… Обойдем.
Наркевич опять возразил:
— Во-первых, не густые. А во-вторых, у Новогрудка, то есть, как раз на пути к Минску, очень много лиственных, и притом жидких…
— Позвольте… Вот на карте…
Начальник штаба показал пальцем какое-то место на карте.
— Здесь…
— Видите ли, — упрямо сказал Наркевич, — я эти места знаю не только по карте, но и потому еще, что родился в них.
Действительно он родился неподалеку от Несвижа и по ранним детским воспоминаниям, еще до отъезда за границу, довольно ясно представлял себе природу этой части Белоруссии. Случалось ему также наезжать в Несвиж впоследствии студентом, даже еще позже. И сейчас ему казалось, что нет ничего проще, как вывести штарм через Несвиж и Узду к Могилеву. Только именно — к Могилеву, а оттуда на Смоленск, но никак не к Минску, который наверняка занят гитлеровцами. Подобно Наркевичу, почти у каждого из собравшихся имелась своя собственная точка зрения на вопрос. Кто-то, например, доказывал, что единственная гарантия спасения — двигаться через Беловежскую Пущу и Пинские леса, обходя гитлеровцев с юга. Черноватый, голосистый полковник, начальник одного из отделов штарма, подал справку:
— Чтобы выйти на Беловежскую Пущу, надо пересечь занятую гитлеровцами большую дорогу. При движении на Минск переходить ее не надо. Следовательно…
— А шоссе Слоним — Новогрудок? — спросил Наркевич.
Все эти слова — и Наркевича, и других споривших — не бежали, даже не шли, а ползли, точно выжимаясь из-под пресса, — тяжелые и сердитые. Особенно много возражений вызвал полесский маршрут.
— Это — чтобы живыми провалиться в бездонную прорву ржавых пинских трясин… Нет, уж лучше в прямом бою…
Командующий армией поставил точку:
— Полесье нас примет, но не выпустит, — раз. Второе: разведка показывает, что неприятель жмет главным образом к Смоленску и Могилеву; значит, и полицейская служба там у них крепче. Три: нажим на Бобруйск и Рогачев — всего слабее. Туда и будем отходить. Еще вопрос: в каком порядке отходить?
Карбышев сказал:
— Фронт дырявый. Поэтому — выйдем. Но…
Он быстро оглядел лица собравшихся, точно прощаясь с этими людьми. Вероятно, он знал, что его предложение принято ими не будет.
— Но отходить, товарищи, надо не так, как мы идем.
— А как, товарищ генерал-лейтенант?
— Мелкими партиями.
— Ну нет, — заговорили собравшиеся, — это напрасно…
— Что вы разумеете под партиями? — спросил командующий.
— Небольшие группы людей… Крупнее, мельче, но в общем небольшие. Место ближайшего сосредоточения — старая граница.
— Почему?
— Потому что на старой границе мы наверняка встретим наши войска. Сегодня вечером можно будет разделиться на партии, а ночью вырваться из котла.
— Дельно, — задумчиво произнес командующий, — очень дельно насчет границы. Хм! А насчет того, как отходить, — в одиночку, мелкими, крупными отрядами или всем вместе, как до сих пор, — это вопрос, который решим… по обстановке!
* * *
Вечером все было готово. Колонна штаба армии выступала на старую государственную границу. Колонна была построена в трех отдельных отрядах. Передний, головной, состоял из нескольких бронемашин, пятнадцати человек пограничников и двух мотоциклистов. Его вел начальник штарма. Во втором шли танки и батальон пехоты: здесь же находился командующий армией. В третьем двигался обоз с ранеными, которых было около ста пятидесяти человек.
Головной отряд быстро вышел на полевую дорожку. Туман, еще вечером поднявшийся с болотистых речных верховьев, подобно белой кисее, затягивал окрестность. Кисея эта плотнела, плотнела; постепенно ее влажная тяжесть становилась такой густой, что хотелось раздвинуть ее руками. И, наконец, пошел мелкий холодный дождь. Отряд перевалил через шоссе и углубился в лес…
…Машин, набиравших ход по гладкому шоссейному полотну, было не меньше тридцати. Впереди шли полуброневики с пулеметами. За ними — легковые авто. В окнах мелькали высокие офицерские фуражки, бархатные воротники с разноцветными петлицами и разнохарактерные профили то жирных, то сухих физиономий. Колонну стремительно мчавшегося по шоссе фашистского штаба сопровождала рота самокатчиков. Генерал, ехавший в самой большой из пассажирских машин, говорил своему соседу-полковнику:
— Упорное сопротивление русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших уставов. В Польше и на западе мы могли позволять себе известные вольности и отступления от уставных принципов. Но здесь это недопустимо…
Когда генерал высказывал свою мысль, его машина несколько замедлила ход: сквозь серую мокреть туманной ночи шофер разглядел впереди черное пятно селения. Это было местечко Дятлово — самое тихое и спокойное селение на свете, где с незапамятных времен жили и трудились мастера-паркетчики. Но именно здесь, перед Дятловом, мелкий березовый лес подбирался к самому шоссе, и это требовало осторожности.
— Утверждаю, — продолжал свою мысль генерал, — что в немецком языке существуют лишь два слова, которые могут в полной мере соответствовать нашей задаче здесь, в России.
— Какие слова, господин генерал-полковник?
— Eisen und Blut![65]
Вдруг что-то случилось. Машина остановилась с такой порывистой внезапностью, что фуражка еле усидела на бритой голове генерала. Шофер выскочил из-за руля и точно провалился в березовые кусты. Пули били по щебнистому полотну шоссе и высекали из него маленькие желтые огоньки. Полковник открыл дверцу и выглянул, но сейчас же закрыл и упал на подножку. Генерал шагнул через него. В кузове шедшей сзади машины кто-то лежал, запрокинувшись. Неужели квартирмейстер? Пули щелкали. Генералу показалось, что это пистолетные выстрелы. Он страшно удивился и быстро сделал два шага в сторону от своей машины…
* * *
Отряд командующего почти сразу по выступлении отстал от головного. Он не столько шел, сколько боролся с неожиданно возникавшими на каждом шагу препятствиями. То вдруг откажет машина, то трактор, и из-за этого стоит весь отряд. Обходных путей не было. Отряд находился как бы в коридоре из гитлеровских частей. Сквозь холодный и мокрый туман трудно было что-нибудь разглядеть по сторонам расстилавшейся впереди долины. Но сомневаться, что все дороги на ней заняты гитлеровцами, не приходилось…
Подтянувшись к шоссе у Дятлова, с радостью увидели, что оно пусто. Дождик усиливался с каждой минутой; темнота ненастной ночи сгущалась. Надо было поскорей перебраться через шоссе, но батальон болтался где-то далеко позади, — опять задержка. Стоя возле своего танка, командующий вполголоса отдавал распоряжения. Вдруг сбоку, откуда выбегала дорога, мутно засветились желтые пятна автомобильных фар. Два… пять… Без счета! Командующий выхватил револьвер. Ледяной пот облил его большое бледное лицо. Да, сейчас все решится…
— К бою! — скомандовал он.
Люди вмиг залегли по канавам вдоль шоссе. В танках хлопнули люки. Гитлеровские полуброневики придержали ход. И в тот же момент рой стальных смертей, сразу выпущенных всеми автоматами, револьверами и пулеметами советской стороны, влепился в стекла и лак фашистских авто. Прошло несколько решающих мгновений, прежде чем полуброневики очнулись. Но огонь их бил наугад, вслепую. А штабные машины наскакивали одна на другую и, встав на дыбы, одна за другой валились с шоссе…
Карбышев и Наркевич стояли в березняке, против места, где только что оборвалась затейливая декларация фашистского полководца на тему «Eisen und Blut». Карбышев видел, как кто-то выпал из машины, как кто-то другой перескочил через выпавшего и, сделав несколько шагов деревянными ногами, изготовился дать стречка.
— Врешь! — сказал Карбышев и нажал револьверный спуск.
Генерал присел, а потом улегся на бок, делая такие движения, как будто ему хотелось лежать поудобнее. Карбышев показал на него капитану ОН.
— Труп забрать. Документы снять.
— Слушаю.
Из шестидесяти лет, прожитых на свете, в течение сорока двух ежедневно тренировать глаз и руку на меткость — шутка? Карбышев обернулся в ту сторону, где только что стоял Наркевич.
— Видали?
Но Наркевича уже не было ни рядом, ни поблизости. Бой затихал. «Какую булгу подымут теперь гитлеровцы!» — подумал Карбышев. В воздухе что-то завозилось, зашумело, подсвистывая. Разведка? Ищут?
— По машинам!
Это был голос командующего. На шоссе свирепствовала суматоха. Рядовой и сержантский состав набивался в полуброневики. Надменные хозяева уцелевших офицерских авто смиренно шлепались мертвыми тушами в канаву, а по их местам живо рассаживались советские офицеры, медленно и неудобно устраивались раненые. Вот комбриг ВВС… Вот — заместитель начальника артиллерии. Сильные руки двух лейтенантов подхватили щуплого Карбышева и поставили на шоссе у машины, которую только что очистил от постоя фашистский генерал. Трое раненых — в ногу, в живот и в голову — лежали в кузове. У руля сидел капитан и нетерпеливо поглядывал на Карбышева. Место возле него было свободно.
— Пожалуйста, товарищ генерал-лейтенант! Карбышев сел. Гитлеровские машины с советскими офицерами уже мчались по шоссе.
— Разрешите трогать? — спросил капитан.
— Куда?
— Куда все…
— Гм!..
А вот и Наркевич… Он стоит у машины, поддерживая дрожащей рукой бесчувственную девушку. Ее лицо бледно, как камень под луной. И, по мере того, как подгибаются ее обессиленные ноги, она бледнеет все больше и больше. Маленькие пузырьки черной крови вскипают около уха. «Машинистка, — вспомнил Карбышев. — Венецианочка…» Наркевич молчит, ни слова. Он только смотрит, и Карбышев понимает, почему так пронзительно-остр сейчас взгляд его черных глаз.
— Хорошо, — быстро говорит Карбышев капитану за рулем, — поедете, куда все. Но только…
Он выскакивает из кабины и помогает Наркевичу усадить туда девушку. На мгновенье она открывает глаза и даже хочет что-то сказать. Но… не может. Карбышеву показалось, будто она улыбнулась Наркевичу. Едва ли… Наркевич стоял, отвернувшись и прикрыв лицо рукой.
— Трогайте, — сказал Карбышев капитану за рулем.
Капитан хотел что-то сказать. Он не знал, можно ли оставить генерала.
— Без разговоров!
Машина неслышно сдвинулась с места, блеснула черным боком и, качнувшись раза два на мягких рессорах, провалилась в ночь. Наркевич схватил руку Карбышева и прижал к мокрой щеке. Ночь кончалась. С каждой минутой становилось все светлее и светлее. Дождик прекратился. Туман редел, и сквозь лесную поросль уже начинали кое-где явственно просвечивать открытые полянки. Дорога впереди как будто раздалась в стороны. Заметно усиливались шум и свист в небе. Воздушная возня означала: ищут.
— Идемте, Глеб, — сказал Карбышев.
— Да…
Две фигуры — маленькая, быстрая и высокая, тонкая — спрыгнули с шоссе в канаву, взбежали на гребень ската и зашагали по серой вязкой земле сквозь зеленую, как вода в аквариуме, предрассветную рань к лесу.
Глава сорок вторая
Рекогносцировка на Зельву оказалась роковой и для отряда майора Мирополова, и для него самого. Когда он подошел к Зельве, местечко уже было занято неприятелем. К высадившимся здесь крупным гитлеровским десантам со всех сторон подходили автомашины с пехотой, группы танков и артиллерийские батареи. Отряд советских войск — восемьсот бойцов, пятнадцать станковых пулеметов и несколько минометов, — был окружен почти мгновенно. Мирополову между тем и в голову не приходило, что штарм идет уже не на Зельву, а на Шару. Поэтому он принял отчаянное решение — пробиваться назад, навстречу своим, и для этого обойти Зельву с юга, несколько рот оставить на месте, я прочими атаковать местечко с востока, северо-востока и северо-запада. Словом, Мирополов задумал настоящий бой. Хоть он и предвидел его полную безуспешность, но все-таки полагал, что только бой, а ничто другое, может отвести беду. Итак, бой…
Танки подступали вплотную к лесной опушке, на которой залегли роты, и поливали ее почти непрерывным пулеметным огнем. Роты отвечали, но слабо. У них вовсе не было бронебойных патронов, а мины — на исходе…
Вокруг командного пункта Мирополова разгуливало десятка три неприятельских танков. Они не шли в прямую атаку, но старательно выбивали людей с пункта. Так продолжалось довольно долго. Наконец подъехала пехота и высадилась с автомашин. Вот она двинулась на штурм пункта, и танки — вместе с ней. Ее-то они и ждали…
— Товарищи! — кричит Мирополов, — товарищи!…
Он кричит и еще что-то. Только прочих слов не слышно. Да, пожалуй, и не нужно, коли главное слово услышано. Мирополов садится за пулемет, оставшийся без расчета. Удивительно звонкий ветер ударяет в его уши и срывает фуражку с лысой головы. Почему-то на фуражке — кровь. Пулемет дрожит, и дрожь его отдается в ладонях, в плечах, в груди, в сердце Мирополова. Пулемет трещит и хлопает. Мирополову хочется перекричать его.
— Товарищи!
Эх, кабы сказать сейчас бойцам: «Умереть в бою храброму — раз; а трус каждую минуту жизни подыхает…» Но не скажешь. Что это? Вдруг скакнул лягушкой и перевернулся вскинутый кверху разрывом гранаты мирополовский пулемет… В руке у Мирополова — револьвер… «Сдаться живым? Ни за что!» Он уже поднял руку, чтобы… Но что-то ударяет его по руке. Выстрел мимо… Фашистский солдат с нежнорозовым, как поросячье рыльце, лицом хватает Мирополова за бороду… Рвет клок… еще… еще… Рот полон соленой горечи… Рука, секунду назад еще державшая револьвер, висит бессильная… Под плечом — огонь…
* * *
Оторвавшись от своих, Елочкин и Федя продолжали шнырять на своей полуторатонке со станковым пулеметом по проселкам и между дорогами от Кайданова до Узды. Собственно, заниматься разведкой и разрушениями они не переставали ни на час. Но только теперь Елочкин получал задания не от командира своего заградительного отряда, который был за пределами досягаемости, а от невидимого, хотя и вездесущего в этих местах «дяди Павла». Кто такой «дядя Павел»? Елочкин ничего не знал о нем, кроме того, что он советский полковник и что есть у него на речке Уссе верные люди. Как фамилия «дяди Павла», Елочкин тоже не знал; но полагал, что он должен быть из здешних уроженцев. Ни Елочкин, ни Федя даже еще и не видели «дяди Павла». Но невидимая, как и сам он, партийная рука уже связала с ним Елочкина и Федю. И пошли уже третьи сутки с тех пор, как послушные этой партийной руке, они начали получать его приказания и беспрекословно выполнять их…
…Коротка летняя ночь и полна странных звуков. Рождаются звуки между темносиним небом и черной землей. Рождаются сами собой, тихие, жалобно-непонятные, то усиливаясь, то становясь глуше, то сливаясь в одну мелодию, от которой в сладковатом трепете застывает встревоженное воображение. Что это такое? Трудно сказать. Легонько шумит ветер, шевеля на меже высокие стебли полыни, кашки и мяты. В овсе кричат перепела. Мокрый от росы заяц выскочил на межу и присел. Посидел, послушал, двигая ушами, и пустился дальше, вскидывая задом. Утро…
Гладко укатанное шоссе бежало через луговину между ржавыми кустами. Два танка стояли на шоссе. Один из них, сорвав гусеницы, ремонтировался. И у Елочкина и у Феди были очень молодые, сильные, зоркие глаза. Но фашистские кресты на танковых башнях они по-настоящему разглядели лишь метров за сто пятьдесят, — не дальше. И шлемы у танкистов были стальные, а не кожаные, как у наших. Танки шли по дороге в совхоз «Победа». Еще вчера, выполняя приказ «дяди Павла», Елочкин основательно потрудился в совхозе, все приготовив к приему незваных гостей. И сейчас было ясно: дело только в том, чтобы поспеть в «Победу» до гитлеровцев.
— Повертывай, — сказал Елочкин Феде, — дуй!
Но и танкисты разглядели машину. Стукнула пулеметная очередь и выбила бинокль из руки Елочкина, диск — из автомата. Планшетка с картой — в клочья.
— Черт поумнел, — заметил Федя, нажимая на стартер, — а больше ничего не случилось…
Елочкин схватился за пулемет. Машина ходко уносила разведчиков из-под огня, торопясь отплеваться погуще. Все шло прекрасно. Вдруг пулемет Елочкина смолк. Что такое? Перекос патрона. Машина рванулась и стала. А это что такое? Федя соскочил наземь, распахнул капот.
— Хана! Бензопровод перебило!
Действительно бензин хлестал. Впоследствии Елочкину казалось, что он очень долго думал, стоя перед этой картиной. На самом же деле думал миг. Машину — бросить. Пробежать три километра зайцами — пустяки. Фашисты усиливают огонь, но с места не трогаются. Надо их сбить с толку. Так!
— Открывай бочку с бензином, — приказал Елочкин Феде, — лей, обливай…
В мотор — пара ручных гранат; есть. Огонь из пулемета по мотору; есть. Взрыв… другой… Машина вспыхнула, и вместе с пламенем к светлому утреннему небу поднялся жалобный, нечеловечески резкий, рвущий ухо вой. Елочкин и Федя изумленно переглянулись. Выла автомобильная сирена. Ее провода расплавились в огне, и машина подавала свой последний голос, прощаясь с хозяевами. Федя смахнул слезу с затуманившегося глаза. Гитлеровцы перестали стрелять.
…Елочкин и Федя бежали. Сперва они бежали по всем правилам учебного бега: прижимали локти к бокам и выкидывали левые ноги. Но когда к ногам пристало по мокрой земляной гире, а сердце начало ухать, срываясь и падая вниз, они бросили правила. Теперь они просто неслись вперед, обтирая рукавами лица, слегка прикусив чуть высунутые языки и все чаще трогая левой рукой ту часть груди, под которой ухало сердце. Физически такой бег был очень мучителен. Однако он нисколько не мешал Елочкину думать. Отчетливость его мысли даже как будто увеличивалась от того, что работа ее происходила впопыхах…
Влажный ветер набегал тягучими волнами, — зачем? Помеха бегу. Под горой дымилась речка — сейчас еще очень, очень раннее утро. Роса блестела на траве крупными каплями. Тихо шушукались листья на мелькавших мимо березках. От цветущей липы потянуло медовым духом. Еще и день не разошелся, а пчелы уже гудели и кружились под липой. «Вот сарай… Сейчас добегу и упаду… Прямо на землю… И Оля так ничего обо мне и не узнает…» Но и пробежав мимо сарая, Елочкин продолжал думать. Совхоз «Победа» — огромное хозяйство. Вон, далеко, далеко, на горе, белеет светлый и просторный дворец старых здешних владельцев. Два бронзовых льва охраняют его сон. И пруды с карпами… И свинарники, каких Елочкин никогда и нигде не видал. Совсем еще недавно на залитых солнцем совхозных полях копошились бригады плугарей, бороновальщиков, сеяльщиков. Тракторы трещали, поблескивая электролампочками. Пружинные бороны трепали рыхлые комья суглинка, ставшего похожим на чернозем. Бурьянные места выжигались. В начале июня спелые колосья грузно повисли над землей. А потом зашипели бы жнейки, засвистели бы на токах молотилки, плавно загудели бы сортировки, толкая вперед поющие барабаны. Подбоченились бы по-хозяйски крестьянские избы, загорелые крепкие люди столпились бы на дворе конторы, и снарядил бы совхоз «Победа» к отправке свой первый обоз с зерном… Так бы все это было. Но не будет так, нет… Елочкин вдруг остановился посреди дороги, на пустом, открытом месте. И зажмурил глаза, словно в них ударило нестерпимым блеском. «Что это? Смерть?..» Однако через секунду он уже бежал дальше и думал. Будет не то, а совсем, совсем другое. Директор совхоза роздал войскам все свои хлебные и мясные богатства и ушел в лес. Служащие, рабочие, жители окрестных деревень, — все ушли в лес. Только всего ведь не захватишь с собой, и поэтому многое осталось. Вон дюжина пестрых телят идет через выгон, осторожно переступая шаткими ногами и прижимаясь ребристыми боками друг к другу. Что-то мотает телят из стороны в сторону. Ясно, что каждый из них в отдельности не сделал бы и шагу, не простоял бы и минуты, — так они голодны и изнурены. Вон стадо гусей столпилось у пруда белоснежной, растерянно голосящей массой. Теперь Елочкин бежал, уже не останавливаясь…
Плотина на пруде и мост у въезда еще вчера были подготовлены к взрыву. У Елочкина не было ни подрывных машинок, ни электродетонаторов, ни сухих батарей. Подвесив к мосту заряды и отведя от них детонирующий шнур, он связал им четырехсотграммовую шашку, а в ее отверстие вставил бикфордов шнур с капсюлем. Метров за сорок от моста Федя отрыл окопчик. И Елочкин отвел туда запал. «Чистая работа!» — восхищался вчера Федя.
Бег кончился. Дрожа всем телом и екая чем-то внутри, как загнанная лошадь, Елочкин стоял на мосту. Но отдыхать было некогда.
— Чирков! — крикнул он, — тащи сюда, что ни попало! Закладывай мост ящиками, бревнами… Городи, городи… Ближе к этому концу, ближе…
Танки подошли минут через двадцать. Первый с лязгом влетел на мост и остановился перед баррикадой. Второй резко свернул в сторону и тоже остановился. Беглыми, шаловливыми вспышками сверкнули над мостовым полотном желтые и голубые огоньки. Ударило, взметнулось пламенем, грохнуло, выбросилось к небу грудами железа и дерева и рухнуло вниз, в воду, между остатками подорванного на двух пролетах свайного устоя. Не стало моста. Но не было также и танков…
* * *
Работа набегала на Елочкина. Сейчас же после дела в совхозе «Победа» он взорвал еще в разных местах два деревянных мостика, а ночью — металлический мост на двух фермах. К утру Елочкин и Федя начали «обрастать». Бешеный топот лошади разбудил их и поднял со случайного ложа в придорожных кустах. Это прискакал от «дяди Павла» человек, оказавшийся бывалым сержантом из какой-то заблудившейся саперной роты. Затем прибились еще три солдата. С такими силами можно было развертывать деятельность. Елочкин начал с того, что обстрелял и задержал машину с несколькими милиционерами. Машина мчалась по проселку возле старой границы, где еще недавно целыми таборами собирались беженцы, проходя через пропускные пункты, а теперь было совсем пусто. «Милиционеры» были одеты в какое-то чересчур новое обмундирование. Елочкину показалось, что они пьяны. Один из них громко выругался по-немецки. Вот этой самой машины как раз и нехватало елочкинскому отряду…
Незадолго до случая с переодетыми фашистами огромная бело-зеленая вереница гитлеровских танков ворвалась в районный поселок Узду, что к югу от Минска, на речке Уздянке, растеклась по улицам, дворам и задворкам полупустого поселка и остановилась — застряла без горючего. Машин в колонне было около сотни, и принадлежали они 116-й танковой дивизии графа Шверина («Борзая собака»). Очутившись в бедственном положении, фашистские командиры тотчас начали принимать меры, то есть сообщили по радио о потерях и просили о помощи. Но они не знали, что советская авиация уже обнаружила «Борзую собаку», а радиосообщение перехвачено. Между тем рядовые танкисты «собаки» тоже принимали меры: разбили потребительские лавки, где было очень много водки, и перепились. Поэтому, когда отходившая мимо Узды крупная и сохранявшая полный порядок советская часть атаковала город, «собака» не смогла даже и хвост унести. Пьяных гитлеровцев брали из окопчиков, из хлебов и кустов, — отовсюду, где им вздумалось отсыпаться. Взяли, конечно, не всех. Некоторые ускользнули. Одного из таких удалось, захватить Елочкину. Это был толстый рыжий голубоглазый немец с изображением борзой собаки на рукаве и двумя железными крестами. Он ехал по проселку на мотоцикле, когда его окружили и взяли, как рыбу бреднем. Пленный говорить не хотел. И Елочкин решил отправить его к «дяде Павлу». Гитлеровец понял, что ему предстоит путешествие, и с наглой флегмой в тоне сказал:
— Напрасно. Не успеете отправить, как меня освободят…
К вечеру закапал теплый дождь. Солнце светило сквозь тучу, точно через желтое стекло. Наконец стемнело. Заправляя новую машину, Федя ворчал:
— Плохой бензин, мотор сдает, глохнет… Валандаться…
Пленному связали руки и ноги. Потом его посадили в кабину рядом с Федей.
— Держи ухо востро, — сказал Феде Елочкин, — не засни, бывает…
Чирков обиделся.
— И это вы мне, товарищ военный инженер! Всей-то ночи осталось с воробьиный нос… Сам вижу, кого везу: парень рисковый…
Дорога шла лесом. Днем этот лес был серо-зеленого цвета — ель, ольха, можжевельник, плющ. Теперь же все его оттенки слились в черной одноцветности. Деревья гудели под сильными порывами ветра. Но гул этот распространялся лишь поверху, — внизу было тихо. Облака, как дым, быстро неслись над деревьями. В прорезях между облаками тускло светилось бледное небо. Так было сначала. Потом небо начало гаснуть, гаснуть и, когда совсем погасло, полил дождь — настоящий ночной дождь, крупный, шумный и долгий. Листья заговорили. Под их тревожный разговор в усталой голове Феди все глуше и глуше звучала его собственная мысль: «Не спать…» Глаза его были открыты, руки лежали на руле. Немец смирно сидел рядом. Федя вел машину и думал: «Ни в коем разе не спать…». Множество знакомых и незнакомых ликов и обликов окружало его; но ни одного лица он не видел. В тонком, до совершенной прозрачности сне, который постепенно овладевал Федей, грезы приходят без видений. И Федя то засыпал от шума дождя, то от этого же самого шума просыпался…
* * *
Два человека сидели у дороги под деревом с босыми ногами. Дождь прекратился, но трава была мокрая, холодная, и людям этим было приятно упираться в нее разгоряченными в долгой ходьбе ступнями. Лес был полон ночных звуков — странных, ни на что не похожих, таких, что и понять нельзя, кто их производит и зачем. А между тем все — просто. Вот птица встрепенулась во сне и хлопнула крыльями. Ветка под ней дрогнула, листья зашуршали, и вниз упал сучок. А показалось, будто мир рухнул.
— Глеб, — сказал маленький человек своему длинноногому спутнику, — я вам еще раз говорю, что сюда идет машина.
— Ничего не слышу, — отозвался Наркевич, — вы простужены, и в ушах у вас шумит от температуры. Советую обуться.
Карбышев был третий день болен. Всегда смеявшийся над гриппами, ангинами и градусниками, он занемог ровно через сутки после того, как суматоха ночного боя на шоссе под Дятловом оторвала его вместе с Наркевичем от армейской группы. Может быть, это и была простуда. Ведь ночи стояли сырые и холодные, а Карбышеву было за шестьдесят. Но самому ему казалось, что дело не в простуде. На отходе вдвоем чрезвычайно быстро выяснилось, какой Наркевич никудышный проводник. Если он и знал в молодости здешние места, то давным-давно забыл и теперь шагу не мог ступить без карты. Упрямство толкало его из одной ошибки в другую. Чтобы спасти невесту Наркевича, Карбышев не задумался пожертвовать своим спасением. Но жертвовать собой в угоду самоуверенности и упорным предвзятостям закоренелого сухаря, когда все дело заключалось в живой и практической ориентировке, было по меньшей мере досадно. От этой-то досады напрягались нервы Карбышева, и он чувствовал себя разбитым и больным. Уже больше трех суток шел он с Наркевичем, и все это время не прекращались между ними споры. Заболев, Карбышев стал еще упрямее своего здорового спутника. И сейчас, хотя Наркевич и не слышал шума приближавшейся по дороге машины, Карбышев вынул из кармана револьвер и палец прижал к спусковому крючку…
…Машина вырвалась из тьмы с такой неудержимой внезапностью, какую можно видеть только на экранах в кино. Кабина для водителя была ярко освещена.
Два человека, сцепившись в ней, как бешеные кошки, душили, кусали, мяли и коверкали друг друга. Толстый одолевал худого, подминая его под себя. Стараясь выбиться, худой попадал то локтем, то плечом в проемы между спицами рулевого колеса, — руль вертелся, и с ним вместе вертелся грузовик, бросаясь вправо, влево, закидываясь кузовом по сторонам и с грохотом ударяясь им о деревья. Может быть, худой это делал нарочно, отвлекая от борьбы яростное внимание врага. Поэтому толстый постоянно крутил по сторонам своей рыжей, характерно-немецкой головой. Вдруг его широкая, круглая спина дугой выгнулась над рулем. Как видно, худому пришел конец. Карбышев нажал крючок револьвера. Б-бах! Машина врезалась радиатором в сосновый ствол, хрястнула всеми своими членами и осела набок. Мертвый немец отвалился от руля. Из-под немца выскочил Федя Чирков, без царапины.
— Вот как надо, — сказал Карбышев, пряча револьвер в карман…
…От Феди Карбышев и Наркевич в первый раз услыхали про «дядю Павла». Но, кроме того, что есть «дядя Павел», не узнали ничего. Федя звал их с собой.
— И без машины дотяпаем… Главное, чтобы… не валандаться.
Но это-то именно и было невозможно. Карбышев показал на свои босые ноги. Они были так истерты и поранены, что походили на две огромные морковины. Сапоги лежали рядом на траве. Карбышев не мог смотреть на них без дрожи. Орудия пытки… «Испанские сапоги…» Было и еще одно обстоятельство. О нем путникам не хотелось говорить. Уже двое суток, как Карбышев и Наркевич ровно ничего не ели. Федя не знал об этом. А если бы и знал? Главное для него заключалось сейчас в том, чтобы поскорее добраться до «дяди Павла», если не с живым фашистом, то, по крайней мере, с его документами и запиской Елочкина. И, жалостливо глядя на обросшее седой щетиной, измученное лицо своего спасителя, он сказал:
— Главная причина теперь, товарищи командиры, чтобы к «дяде Павлу» присватать вас. Потому как оправитесь, выходите прямо на восьмой отсюдова километр, к речке Усса. На ней деревенька есть — Низок. С двух сторон — речка, с третьей — лес и болото. И дороги проезжей нет. Место вполне тихое. Там и передохните. А «дядя Павел» волокитничать не станет, враз подберет…
— Ну что же, — сказал Карбышев. — Низок, так Низок… Только бы ходить научиться.
Федя встряхнулся, как курица под дождем.
— Уж это вы, товарищ командир, на баб деревенских надежду имейте. Наговорят, нашепчут, листьями обложат, свет увидите. Э-эх, ноженьки-то у вас страдай-ют! — добавил он надтреснутым от сочувствия голосом.
И, заклявшись еще раз в точности насчет встречи в Низке, двинулся в путь.
* * *
Мальчик собирал в лесу сучья. Он растянул между деревьями длинную веревку и накладывал на нее сучья ровными охапками, стараясь так аккуратно подогнать укладку, чтобы можно было всю ее сразу же увязать и, покрепче закрутив узел, взвалить на узкую, худенькую спину. Мальчик делал работу отлично, но мысли его были далеки от нее. Недавний разгром фашистской танковой колонны в Узде держал в плену его детское воображение. Хоть от деревни Низок, где жил мальчик, до Узды всего семь километров, а до сегодняшнего дня ему ни разу не случалось видеть ни одного гитлеровца, — ни живого, ни мертвого. И только сегодня… Мальчик с отвращением и с ужасом все снова и снова представлял себе картину, на которую натолкнулся в этом самом лесу час назад, на дороге с Уздянки. Вдребезги разбитая грузовая машина… В кабине — толстый немец, с рыжей головой и двумя железными крестами на груди… Пуля попала ему в затылок и убила наповал. Казалось, будто он пристроился в кабине за грязной надобностью, потому и сидит на карачках. Мальчик с ужасом вспоминал эту картину. Но вызывала она в нем не одно лишь отвращение и не один ужас. Дрожащие губы мальчика чуть слышно шептали:
— Замордую цалу копу злодеев!
Чей-то голос оборвал его мысли:
— Малыш!
Он живо обернулся. На траве сидели два человека, вытянув истертые, густо покрытые красно-сизыми волдырями, волосатые голые ноги. Оба они были в военной форме. У одного — седая голова, у другого — щетина на щеках. Второй спросил:
— Как нам, малыш, до Низка добраться?
Освободиться от мыслей, вызванных тем, что он видел сегодня в лесу, мальчику было не легко.
— А я вас знаю!
— И знать тебе нас не нужно, — слабо улыбнулся небритый человек.
— Как не нужно? Я — пионер. А тут кругом — фашисты. Вон на дороге убитый с двумя крестами…
— Видел?
— Да.
— И что думаешь?
— «Дяди Павла» работа…
— Нет, — сказал небритый, с трудом поднимаясь с травы, — это мы его ночью ухлопали.
— Вы-ы-ы…
…Зыбкие кочки качаются под ногами. Из-под ног блестящими пузырями выступает вода. Мальчик ведет своих новых знакомцев в деревню Низок. Он уже рассказал, что речка Усса — сплавная река, шумная, но сейчас на ней пусто, тихо, что жители в Низке гнут колеса, выделывают овчины; что в деревне есть школа — большая, хорошая; и что сам он в этой школе учится; но только занятий в ней теперь нет; а в школе есть учитель; и всего, всего бы лучше…
Вечернее солнце висело над деревней. Ее очертания мягко расплывались в золотистом летнем паре. Облака плыли над лесом. Солнце пряталось за деревья, и на дорогу ложилась прозрачная, сине-лиловая тень. Закат краснел, краснел, и, наконец, все небо за рекой стало багровым. На плоских муравчатых берегах, за ровными грядами огородов было пустынно и тихо. Среди этой мертвой тишины тонко звенели в неподвижном влажном воздухе какие-то невидимые волшебные струны. Не то это звенели мошки высоко над землей; не то далекий дождь проходил стороной; не то просто струился сырой, теплый воздух и, двигаясь, звенел в деревьях. Где-то лаяли собаки. Но и лай этот не был похож на обыкновенный собачий лай; он тоже казался чем-то непонятным и бессмысленно маленьким. Слепые окна деревенских домиков зажигались живым и ярким огнем зари. Школа стояла на конце деревни и выделялась железной крышей. Шагах в полутораста от нее торчали кладбищенские кресты; за ними — лес, луг и снова лес…
Учителя дома не было. Хозяйка встретила гостей со смущенным и встревоженным видом, сострадательно поглядывая на их страшные ноги, но в. лица почему-то смотреть избегая. В квартире спорили запахи только что вымытого пола и жареной картошки. И на стол хозяйка подала тоже картошку, а к ней — сушеных раков. Однако многодневная голодовка требовала осторожности. Путники выпили по чашке молока, а к прочему и не притронулись.
— Где же хозяин? — спросил Карбышев. Хозяйка засуетилась, закашлялась: ответ еще не был приготовлен.
— У «дяди Павла» в лесу, — сказал пионер, приведший гостей в Низок и продолжавший незаметно стоять у дверей, — продукты понес…
Хозяйка молча вышла, чтобы постелить в классной комнате на диванах, — школа не работала, и классы были, пусты.
— Пожалуйте, — сказала она, тоскливо глядя на дверь.
И Карбышев понял, с каким нетерпением ждет она возвращения мужа…
Добравшись до диванов, Карбышев и Наркевич думали, что тут же и заснут. Но получилось иначе. Совершенно стемнело и, наверно, уже перевалило за одиннадцать, а они все перевертывались с боку на бок. Сон не шел. Наконец в соседней комнате послышались осторожные шаги, приглушенный разговор. Не вернулся ли учитель? Карбышев быстро сел на диване и позвал:
— Товарищ хозяин!
Учитель вошел в классную комнату с далеко вперед протянутой рукой.
— Здравствуйте, гости дорогие, здравствуйте! А я ведь знал, что в Низке у нас гости. Только не думал, что прямо ко мне. И про машину, и про немца знаю… От разведчика Чиркова…
Насколько можно было рассмотреть в темноте, учитель был коренастый человек с резкой складкой между бровей и острым взглядом серых глаз.
— Два командира… Два командира… А какие командиры?..
Он стукнул о стол донышком жестяной лампы и с легким звоном снял с нее стекло.
— Не зажигайте, — сказал Карбышев, — не надо. Я понимаю — вам важно знать, кто мы такие. Пришли люди в военной форме, а без сапог. Не беспокойтесь: покажем документы. Секрета нет: я — профессор Академии Генерального штаба, генерал-лейтенант советских инженерных войск; мой товарищ — полковник…
Учитель вскочил и быстро заходил по классу.
— Вот оно как, — взволнованно повторял он, — вот как! Это — случай исторический… И на меня большой, очень большой ложится долг… Жена говорит: накормлю, отдохнут, а ты побриться дай… Рассуждение, — прямо скажу, — куриное. Конечно, и — побриться, и — все… Но ведь главное-то… Вот вы не дошли до шоссе Слуцк — Минск, а сюда завернули. Правильно вам Чирков посоветовал. Но ведь он и сам не знал, что по шоссе фашисты так и прут. Ведь самого Чиркова чудом пронесло. Как же так — вслепую? Мое предложение: снять форму и… Вид у вас преклонный…
— Форму мы не снимем, — решительно сказал Карбышев.
— Хм… Понятно! Тогда — выждать. Да… Это уж непременно, — выждать здесь, у меня, пока «они» не пройдут, и слуцкое шоссе не откроется…
— Это — дело другое.
Учитель остановился посреди класса и как бы в недоумении развел руками.
— Да, впрочем, зачем я берусь советовать? Завтра…
— Что — завтра?
— Завтра утром «дядя Павел» здесь будет.
* * *
Странная была эта ночь с первого на второе июля. Когда учитель ушел, Карбышев сказал себе: «Теперь всем беспокойствам — конец. Спать!» За окном тихо струились звездные потоки. Новорожденный месяц выглядывал из бездны, кокетничая тонким и нежным профилем. Карбышев слышал далекое мычанье коров, близкую возню мышей под полом, громкое пение запертого в сарае петуха — слушал и не спал от множества мыслей, распиравших его мозг. Или все-таки спал? И это — возможно. Наркевич несколько раз говорил ему: «Что это вы так стонете?» — а он и не знал, что стонет. Так незаметно подступило утро, и покрытый блестящей пылью луч солнца ворвался в классную комнату…
Иволга пела, как ей полагается петь по утрам в июле. Учитель вошел с мыльницей, полотенцем, бритвой и чайником, полным горячей воды. Стоило взглянуть на его выразительное лицо, чтобы насторожиться.
— Прошу привести себя в порядок, — предложил он, — а потом поднимемся на чердак. Там поджидает нас «дядя Павел». Там и позавтракаем.
— Как — «дядя Павел»?
— Ну да… Он еще с ночи здесь.
— Значит, я все-таки спал, — сказал Карбышев, — ничего не слышал.
— И не услышали бы. Большую осторожность соблюдаем. Но когда я «дяде Павлу» сказал, кто вы такой, он вас будить чуть не кинулся. Еле удержал. Да и вы его знаете.
— Я?
— Безусловно.
— Вот так фунт, — сказал Карбышев, далеко отводя от мыльного лица руку с бритвой и пристально глядя на учителя, — коли так, расшифровывайте «дядю Павла» до конца.
— Извольте: полковник Романюта!..
— Фью-ю-ю!!!
…Сидели рядком на дымоходной кладке под крышей, завтракали сухими раками и с величайшим вниманием слушали рассказы друг друга. Карбышев и Наркевич подробно повествовали о своих приключениях день за днем, вплоть до наслаждений, связанных с сегодняшним утренним туалетом. Карбышев погладил щеки.
— Теперь бы можно и в академию — лекции читать…
Шутка значила: а что же дальше? Так все и поняли. И никто не ответил на нее шуткой. Романюта заговорил о себе. Нет, он не «отстал», и не «отбился», и не околачивается без дела в родных местах, скрываясь до счастливого случая. У него — задания. О таких, как он, говорят: «заброшен». Дело его еще не развернулось, но развернется — непременно. Успех для него — вопрос жизни и смерти. Естественно, что связан Романюта еще и с разными мелкими войсковыми группами из «отбившихся». Есть саперная группочка. Из нее — Чирков, спасенный Карбышевым.
— Уж и тонконогий, — похвалил Романюта Федю, — настоящий разведчик, — везде пройдет. Отправил его вчара к бедакам…
— Что за бедаки?
— История с географией…
«Бедаками» Романюта называл остатки какой-то стрелковой части, потерявшей в бою всех командиров и все-таки упорно пробивавшейся на восток и без них и без продовольствия.
— Послал для связи.
Романюта рассказал, как командир отряда был ранен и взят в плен, как отряд вскоре остался без горючего, расстрелял снаряды, а материальную часть артиллерии подорвал и состоит теперь из двухсот рядовых, десятка конных подвод с тяжело ранеными да другого десятка со станковыми пулеметами и боеприпасами к ним. Положение «бедаков» отчаянно главным образом потому, что нет у них настоящего командира. А ведь части, оказавшиеся в тылу у врага, могут и даже обязаны действовать с пользой. Для этого надо только, чтобы они отвлекали на себя силы противника с фронта.
Карбышев спросил:
— А вы не знаете, товарищ Романюта, кто был у «бедаков» командиром?
— Знаю, Дмитрий Михайлович. Из академических неудачников, вроде меня, — майор Мирополов.
Карбышев промолчал. Трудно сказать, почему, но судьба Мирополова остро задела в нем какое-то глубокое и больное чувство. От этого вдруг похолодели руки и резкая боль свинцовой тяжестью легла на виски.
— Что это с вами? — встревожился Наркевич.
— Что?
— Побелели…
— Не знаю.
— Извините…
Наркевич протянул руку ко лбу Карбышева.
— За тридцать восемь ручаюсь. Оставайтесь-ка здесь, отлежитесь, отдохните. Нельзя больному человеку реки вплавь брать.
И учитель заволновался.
— Оставайтесь, товарищ генерал…
Но Карбышев строго посмотрел сперва на Наркевича, потом — на него.
— Солдатам болеть некогда, товарищи!
* * *
Однако выждать, когда подживут ноги, было необходимо. Школа не работала и стояла на отшибе. Поэтому мало кто заходил с деревни к учителю. Но и это случалось. Карбышев и Наркевич обосновались на чердаке. Романюта то исчезал, то появлялся — всегда по ночам. Учитель прятал на чердаке радиоприемник и часто слушал Москву. Третьего июля, в половине седьмого дня, он включил радиоприемник.
— Слушайте, товарищи, нет ли чего из Москвы…
Машинка засветилась ярче, ярче, и послышался далекий голос:
— «В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие… Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу… Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма…»
Слышался далекий голос Сталина, и программа разгрома врага вставала на школьном чердаке белорусской деревни перед радостной мыслью случайно собравшихся здесь людей как широкая перспектива. Да, страна входила в трудную полосу тяжких испытаний. Гроза многих дней, черных, как ночь, гремела над ней. Но молния сверкала во мраке, и люди, собравшиеся на чердаке, следили за ее мгновенным полетом. Они смотрели вперед и видели будущее. Разгром врага неизбежен, каковы бы ни были его первые воровские успехи. Страна идет и непременно придет к победе. Она же направит свои победоносные усилия на освобождение порабощенной Европы…
Многое стало понятно Карбышеву — почти все. Правда, он попрежнему не знал фактов. Не знал, что благодаря организованному отходу большинства войск прикрытия и развертыванию ставкой свежих сил в районе Пскова, на Западной Двине и на Днепре до Гомеля наши армии уже начинали противостоять неприятелю севернее Полесья сплошным фронтом. Но и не зная этого, он более или менее ясно представлял себе общую картину совершающегося на фронтах. Военный взгляд может быть верным или неверным. Но верный военный взгляд еще никогда никого не подводил. И Карбышев словно видел со своего чердака, как советские подвижные войска уже наносят контрудары во фланги фашистских танковых групп, а стрелковые соединения фронтовых резервов развертываются для обороны тыловых рубежей на основных направлениях наступательных действий врага. Чтобы отмобилизоваться и сосредоточиться главным силам Красной Армии, нужна героическая борьба войск прикрытия и партизан в тылу гитлеровцев. Многое, очень многое решается партизанским движением. И Карбышеву вспоминались вещие слова Фрунзе, сказанные им еще в двадцать втором году, о «малой войне» и о применении ее идеи в будущих больших войнах.
— Воспоминания… — говорил он Наркевичу, — нет на свете ничего, за что мы платили бы дороже! Это — что-то вроде наследства, которое самым противозаконным образом переходит от прошлого к будущему.
— Почему — противозаконным?
— Потому что между прошлым и будущим стоит настоящее.
Еще вчера больной, измученный, сегодня Карбышев с наслаждением подставлял коричнево-розовую спину под жгучий поток проникающих через слуховое окно на чердак солнечных лучей и, подперев кулаком подбородок, вглядывался ленивым, неподвижным взором в зеленую панораму речки и лесов. Вчера он вдруг задремывал среди дня, незаметно переходя во власть сна, полного воспоминаний и надежд. А сегодня речью Сталина как бы оборвалась эта нирвана[66] отдыха и вялого выздоровления. В хлебах бил перепал. Наливные колосья на заречных полях важна клонились к земле. Даль тускнела и наполнялась загадочными тенями. Коровы шли к деревне, взбивая клубы румяной пыли.
— Не жизнь, а времяпрепровождение, — говорил Карбышев, — пора, Глеб, уходить.
— Да вы еще больны…
— Здоров! Ноги заживают. Лихорадки как не бывало. А главное, — я решил, куда идти и что делать. Помните, Глеб, что писал Энгельс о русских солдатах?
— «Являются одними из самых храбрых в Европе…»
— Да. И еще — так: «Всегда легче было русских расстрелять, чем заставить бежать обратно»; «они недоступны панике». Наш долг, Глеб, вести за собой геройский отряд безначальных солдат, «бедаков», о которых давеча рассказывал Романюта.
— Мы с ними не выйдем, — пропадем. Вы сами считали, что…
— Конечно, конечно… Может быть, и пропадем. Даже наверно. Но ведь нельзя же, чтобы пропадали только они. А?
— Я готов, — тихо сказал Наркевич, — это, собственно, то самое, зачем я и пошел на войну. Это — подвиг. И я готов.
* * *
Мать хозяйки, сгорбленная седая старушка с лицом такого цвета, какой бывает у румяных осенних листьев, сшила четыре пары дорожных туфель, — две пары из брезента, две — из половиков.
— Ступайте, батюшки мои, — говорила она, — ступайте! Главное дело, чтобы «их» с заду-то, с заду насечь…
Старушка стояла перед Карбышевым, как живая деталь чего-то, давным-давно умершего, — собственность истории, вырвавшаяся из ее цепких рук. Она смотрела на Карбышева и улыбалась.
— Понял? Вижу, понял. Красовиты мы с тобой никогда не бывали, а молоды были оба. Как не понять?
Учитель хлопотал, упаковывая продукты. Карбышев написал на клочке бумаги свой московский адрес.
— Очень прльошу, — сказал он учителю, — когда будет можно, напишите жене.
Складка между бровями учителя резко углубилась.
— Разве если в живых не останусь. Я ведь в партизаны уйду.
Хозяйка возилась на дворе возле рыжей коровенки с белой звездой на лбу. Карбышев никак не мог понять: что такое делает хозяйка. А она ничего не делала, — только всхлипывала и сморкалась, всхлипывала и сморкалась без конца. Настоящий разговор не нуждается в словах. Довести Карбышева и Наркевича до «бедаков» Романюта непременно хотел сам. Он считал, что направление через Узду к Днепру — самое правильное: сплошные леса да болота. А уж кому бы лучше знать эти места! Ждали темноты. Солнце грузно скатывалось с неба. Окна низовских хат брызгались жидким пламенем заката. По деревьям, по траве медленно проходил холодный вздох. Звездная мелочь ясно выступила из темной прорвы ночи. Облако повернулось серебристыми краями, и бледный лунный свет, дробясь в змеиных извивах, пролился между густою тенью деревьев школьного сада. Собака выбежала за ворота, наскоро огляделась и, заметив месяц, яростно залаяла сперва на него, потом — на трех скоро и бесшумно уходивших людей.
Глава сорок третья
Уже неделю оборонялся Брест. Двадцать восьмого, в субботу, около двух часов дня, над крепостью взмыл советский самолет-истребитель. Откуда он взялся, никто в крепости не заметил, — вдруг обозначился в ясном небе над самой линией фашистской атаки. Гитлеровцы тотчас перенесли огонь своих зенитных батарей на смельчака. Вылетели три мессершмитта и кинулись на истребителя. Но он сбил одного и, не теряя времени, скрылся. «Весь гарнизон неотрывно следил за воздушным боем. Весь гарнизон единодушно кричал „ур-ра!“, когда падал мессершмитт. А когда советский летчик уходил, весь гарнизон, как один, махал ему вслед пилотками и руками. Ушел, совсем ушел летчик, и не видно уже ничего в сверкающем синем небе, а пилотки все мелькают над головами, и руки машут, прощаясь…
Случай этот ровно ничего не мог изменить в отчаянном, безнадежном положении гарнизона. И люди это знали. Но так устроено сердце у людей, что радость действует на него, как кислород. Видеть «свой» самолет в успешной борьбе — радость. Вдруг ощутить свою связь с этим самолетом, а через него — с армией, а через армию — с народом, за свободу и счастье которого бьешься, — громадное счастье. Гарнизон ободрился, дух его поднялся. И оказалось, что это было очень нужно для завтрашнего дня…
Все попытки гитлеровцев проникнуть в цитадель до сих пор были неудачны. Лязгая гусеницами по мостовой, ползли к Центральным и Ильинским воротам танки с открытыми люками; из танков грозно смотрели жерла пушек. Вот башня танка вертится то в одну, то в другую сторону. Танк ведет огонь осколочными. Снаряды летят и рвутся. Но недаром комиссар Юханцев долго служил в инженерных войсках. Недаром слушал «частные» лекции Карбышева. Все это очень и очень пригодилось ему теперь в Бресте. Танк подползает к воротам. И вдруг что-то так грохает под воротами, словно шар земной треснул. В дыму и в огне, в вихре красных искр, разваливается танк. Подорвался на мине… Загородил путь другим танкам… Ур-ра! Тогда гитлеровцы усиливали огонь тяжелых батарей, расставленных по улице 17 Октября, около театра, на площади Ленина и на Каштановой аллее. И это — не мед. Но терпеть можно. Так шло до воскресенья, двадцать девятого.
В этот день с восьми часов утра фашистские штурмовики заревели над крышами крепостных зданий. До полудня они сбрасывали на цитадель пятисоткилограммовые бомбы. Шипят, визжат, свистят и воют бомбы. И стены домов двигаются, словно их поставили на шарниры. Что ж? Бомбежка — точь-в-точь такая, как полагается ей быть. Терпеть можно. Но с полудня начался ад. Во-первых, вступили в дело осадные батареи. Во-вторых, эскадрильи фашистских самолетов стали разгружаться бомбами весом по тысяча восемьсот килограммов каждая. Великаны эти падали тяжело и грузно, взламывая мостовую. Еще не упала бомба, а земля уже брызгала миллионами струй, точно раздаваясь, чтобы принять ее. Из тучи черного дыма, приникшей к мостовой, фонтаном летят осколки и камни. Разрыв за разрывом встряхивают воздух. Словно дыша, дымятся воронки. Одна бомба ударила в Ильинские ворота. Другая проломила крепостную стену там, где Муховец расходится на рукава. Третья свалилась на крышу дома, где, засев в штабе своего полка, с утра оборонялся капитан Зубачев с тридцатью двумя солдатами. Оконная рама летит вниз, рассыпая дождь мелкого стекла. Высокая, толстая, несокрушимой прочности, кирпичная стена шатается, шатается и, как бы надломленная у самой земли, рушится, превращаясь почти мгновенно в безобразное нагромождение камня и железа. И вот уже нет больше ни капитана Зубачева, который так мечтал отстоять свою родину, ни тридцати двух бойцов, сражавшихся вместе с ним до последнего вздоха. И места, где они сражались, не сыскать под гигантским кирпичным развалом…
…В крепости полыхали пожары. Огромное, как сказочный зверь, багровое, как кровь, пламя металось и прыгало, издеваясь над беспомощным мужеством боровшихся с ним смелых людей. С каждой минутой оно становилось все ярче и ярче: начинало смеркаться…
Бомбежка не прекращалась и вечером. Когда вовсе стемнело, восточный форт северного острова выслал разведку. Ночью разведка вернулась и сообщила удивительные вещи. Бомбы поражали не только цитадель и укрепления, занятые советскими войсками, но и фашистские окопы. Причина — в близости окопов к фортам. Разведка докладывала: «Своими глазами видели, как они солдат назад оттягивают…» Это было известие громадной важности. До сих пор, изо дня в день, гитлеровцы били по восточному форту из восьмидесятивосьмимиллиметрового зенитного орудия. Изо дня в день скатывали к подножию форта бочки с бензином и поджигали их гранатами. Форт держался. Но жажда и голод истомили его защитников, и держаться дальше они не могли. Самое страшное заключалось в том, что, несмотря на близость цитадели, связи с ней не было. До сегодняшней ночи очистить укрепление можно было, только сдавшись неприятелю в плен, то есть ни говорить, ни думать было не о чем. А теперь открылась и другая возможность. Если передовые фашистские части отошли, перед гарнизоном восточного форта открывалась прямая дорога к своим. И вот уничтожены документы, спеленуто знамя, построены женщины с детьми, подняты раненые. Гарнизон уходил в цитадель. В форту ничего не оставалось, кроме множества битой посуды, банок из-под консервов, сломанных противогазов, пустых бидонов и еще чего-то такого, чему и названия нет…
* * *
Едва занялся день тридцатого июня, как бочки с бензином покатились через земляной вал к подножию восточного форта и, подожженные пулями, разлились жидким пламенем по рвам и канавам. Но форт молчал. Прикрывшись танками, гитлеровцы медленно двинулись на штурм. Форт молчал. Разведка вошла внутрь оставленного укрепления. Кровь, обломки, кучи железобетона, — неважная добыча. Да вот еще надпись на щербатой руине разбитого дома: «Мы вернемся…»
…Тогда начался штурм цитадели. Вся артиллерия и все танки осады вновь обернулись против старой кирпичной казармы. Чтобы проникнуть в цитадель, надо было форсировать Муховец и пройти через ворота. Но площадь здесь была так пристреляна, что, стоило появиться на ней гитлеровцам, как огонь снайперов из Тереспольской башни мгновенно сбивал их с ног. Для осаждающих оставался один путь — проломы в стенах, образовавшиеся вчера от бомбежки. Они кинулись в них и ворвались в цитадель. Каждый бастион, редут, башня, лестничная клетка — место боя и рукопашных схваток. Из бойниц, окон и подвалов, с крыш и деревьев — огонь. Дрались этажи: в нижнем — «они», в верхнем — наши. Османьянц действовал на проломе. То, что он держал в руках, уже не было ружьем. От него оставались в целости только ствол и магазинная коробка. Гитлеровцы куда-то бежали. Османьянц, задыхаясь, бежал за ними. Вдруг ему бросилось в глаза, что бегуны зажимали ружья подмышками дулом назад. Что такое? Неужели они свободной рукой… «Ну, и…» Сегодня Османьянц был полон какого-то презрительного, почти насмешливого отношения к смерти. «Ну, и…» — успел он еще раз подумать и — упал, оглушенный грохотом взрыва. Комья земли взлетели над минным полем. Вихрь огнецветной пыли взвился и погнал перед собой тучу едкого дыма.
* * *
Вой летящей бомбы послышался вдруг. Усиливаясь с каждым мгновением, он приобретал странный оттенок осатанелости. Бесстрашие ожесточалось по мере того, как все отвратительнее и отвратительнее становился вой. Ольга Юханцева зажмурила глаза, втянула в плечи голову; злая тоска наполнила ее грудь. И, как всегда, в этот последний момент, блеснуло в мыслях: «Костя…» Грохот, огонь слились вместе. Тугая волна воздуха ударила Ольгу в бок, и она поплыла. Сверху, разламываясь на куски, со звоном рухнул на нее целый мир. «Кончено!» — «Нет, жива!» — Мир, свалившийся на Ольгу, был дождем штукатурки с полупробитого потолка. А в общем подвал уцелел, и Надежда Александровна кого-то уже перевязывала. Ольга вскочила на ноги и схватилась за бинты. В это самое время Аня Шишкина притащила в подвал на спине доктора Османьянца. Нерсес Михайлович пришел в себя, но не двигался. Выражение лица у него было в высшей степени неопределенное: посмотреть справа — смеется; а слева — перекошено лицо горем, едва не плачет. Ольга бросилась, к нему, спросила о чем-то. Но он смотрел на нее, не говоря ни слова, и невозможно было понять, слышит он что-нибудь или ничего не слышит.
— Сволочи… — прохрипел кто-то из раненых, вероятно, бывший пациент доктора, — какого человека ухайдакали!.. Эх!
Аня Шишкина уже не первый день подбирала раненых и выносила их из-под огня. Вчера, плохо ли, хорошо ли, она сделала еще и две неотложные операции. Сегодня утром сняла с себя рубашку и отдала Надежде Александровне: «На перевязки»…
— Пойду, — тяжело дыша, проговорила она, — у-у-у, как жарят! Теперь только принимайте…
Ушла и — больше не возвращалась.
* * *
И все-таки штурм тридцатого июня был отбит. Первого, второго, третьего гитлеровцы репетировали новый. Юханцев думал: пробоины в стенах крепостной казармы — самое уязвимое место обороны. Надо их загородить. Чем? В цитадели было около двадцати танков. Если выставить танки к пробоинам и воротам, прорехи закроются. Среди танков много учебных, — они не умеют ходить. Подтянуть. А исправные будут курсировать от одного угрожаемого места к другому. Командир танковой роты понял задачу с полуслова. К четвертому июля танки вышли на линию боя.
В этот день, как и следовало ожидать, гитлеровцы, после добросовестно-жестокой артиллерийской подготовки, приступили к переправе через Муховец. Огонь танковых орудий живо разметал переправу. Люди тонули. Одни повертывали назад, другие перебирались на правый берег реки, под крепостные стены, и погибали под ними. Артиллерия осады подошла к Муховцу и принялась бить по танкам. Черные смерчи пыли и дыма завихрились между машинами. Снаряд ударил в башню танка, — стальной звон оглушил Юханцева. Но снаряд почему-то не разорвался. Второй пришелся по броне танка и, взрываясь, заклинил пушку в башне. Юханцев припал к смотровой щели.
— Давай задний! — крикнул он водителю.
Три снаряда разорвались впереди.
— Попали в вилку. Теперь давай полный вперед!
Но танк был подбит. Юханцев выскочил на мостовую. Что делать? Что делать? Бронебойным угодило в башню соседнего танка. Машину встряхнуло, и она заплясала. «Сейчас взорвутся баки!» — с тоской подумал Юханцев. Водитель обреченной машины открыл люк и глотнул воздуха. Его белое, чумазое лицо с красными глазами и широко раскрытым ртом мелькнуло перед Юханцевым.
— Выходи! — крикнул комиссар.
Водитель посмотрел на него, словно не понимая, мотнул головой и захлопнул люк. Он погибнет с машиной. Танк выпустил из себя гигантскую струю огня.
Гитлеровцы сплошной толпой валили в пробоину. И вдруг горевший танк вздрогнул и понесся к ним навстречу. Стреляя и давя, он мчался, пока, наконец, охваченный пламенем, окутанный дымом, не остановился и не припал в неожиданном бессилии на левый бок…
Теперь под прямой обстрел попал Белый дворец. В этом прекрасном старинном здании жил когда-то Суворов; потом — молодой гусар Грибоедов. Здесь в восемнадцатом году был подписан мир с Германией. Часть дворца лежала в развалинах. Но нижний этаж с тяжелыми сводами и узкими, как бойницы, окнами мог сослужить еще одну службу — последнюю службу опорного пункта крепости, которая не сдается. Как очутился Юханцев у Белого дворца, он и сам не знал. Как оказался внутри, среди своих, не заметил и не запомнил. Только радостные крики людей, встречавших огнем из око» прибой неприятельской атаки, хорошо запомнились ему. Кто-то сказал:
— Голыми руками не возьмут, товарищ комиссар! Еще и церковь отбивается…
Юханцев представил себе затхлые, промозглые руины крепостной церкви, стены в сажень толщиной, полукруглые окошки. Солдат был прав: голыми руками не взять. Был в цитадели еще один опорный пункт: Дом комсостава. Но о нем Юханцев ни от кого ничего не слыхал. Была Тереспольская башня…
…Тереспольская башня продержалась еще несколько суток. Гарнизон ее состоял из взвода солдат. Командовал взводом молодой лейтенант Наганов. С первого дня войны он не выходил из башни и отбивал атаку за атакой. Мало-помалу солдаты Наганова выбывали из строя. Шквальный огонь гитлеровских пулеметов косил людей. Наконец Наганов остался один. Вот его невысокая, худощавая фигурка маячит на полутемной башенной лестнице, и бледное, строгое лицо с узкими, плотно сжатыми губами кажется поразительно неподвижным. Все существо лейтенанта напряжено, как мускул, на котором повис небывало тяжкий груз. Он отходит лицом к врагу, поднимаясь со ступеньки на ступеньку и непрерывно отстреливаясь из пистолета «ТТ». Полевая сумка лейтенанта изорвана осколком; из нее торчат кусок топографической карты с какими-то пометками и пробитая пулей тетрадь с конспектом урока «Стрелковый взвод в обороне». В кармане гимнастерки — комсомольский билет, аккуратно обернутый чистой бумагой. Это и весь лейтенант Наганов в тот день и час, когда он защищал в одиночку приворотную башню старой крепости Брест. В 1812 году наполеоновский маршал Ней вьюжной морозной ночью подошел к костру, возле которого грелись отступавшие из России французские солдаты. Один из них спросил его: «Кто ты?» — «Я — арьергард великой армии, — сказал он, — я — маршал Ней». Эта красивая фраза, такая удобная для мемуарно-анекдотической истории Сегюров и Коленкуров, в течение целого столетия вспоминалась с восторженным уважением к горделивой памяти полководца. Еще с большим правом на истинность могла бы быть сказана и другая фраза: «Я — гарнизон Тереспольской башни; я — лейтенант Алексей Наганов». Но Наганов не говорил никаких фраз. Он только отстреливался из пистолета «ТТ», медленно поднимаясь на второй этаж. Здесь, на площадке, он остановился. В пистолете оставалось четыре патрона — три в обойме, один — в канале ствола. Отсюда ему удалось свалить еще одного гитлеровца. И отсюда же, пополам перерезанный очередью из автомата, он рухнул вниз.
В этот день смолкли и Белый дворец и церковь; но Дом комсостава продолжал стрелять.
* * *
Санитарные поезда из серо-черных вагонов с желто-зеленой маскировкой и красными крестами на белых кругах один за одним уходили на запад от железнодорожной станции Брест. Это сорок пятая дивизия четвертой германской армии, осаждавшая крепость, отправляла в тыл своих раненых. Кругом вокзала — орудия всех видов: полевые, штурмовые, противотанковые; броневики, грузовые машины, походные кухни, легковые авто, цистерны и передвижные громкоговорители рот пропаганды. В пристанционном домике мигают электрические лампочки — то вспыхивают, то тускнеют, гаснут совсем и снова вспыхивают. Это придает бесцветному скучному дому вид загадочной театральной декорации. В большой комнате — неправдоподобное скопление кроватей, диванов, подушек, стульев, шезлонгов, скамеек, гамаков и пустых чемоданов. На письменном столе — бутылка кюммеля. За столом — гитлеровский генерал. Он что-то пишет; подумает, приложится к рюмке и снова пишет.
Командир сорок пятой дивизии генерал-майор Оскар фон Дрейлинг составлял донесение: сопротивление крепости Брест сломлено; завтра крепость будет занята войсками фюрера. Донесение адресовалось командующему четвертой армией для передачи Гитлеру. Бегство фон Дрейлинга из Харькова в Германию, столь удачно предпринятое и осуществленное им девятнадцать лет назад, оказалось далеко не таким беспроигрышным шагом, как можно было предполагать. Кавардак, который представляла собой Германия под управлением социал-демократов, только издали выглядел чем-то вроде оранжереи для редких цветов. На деле в нем расцветали самые банальные отечественные проходимцы, и притом в таком огромном количестве, что для приезжих положительно не хватало места. «Русский хвост» тянулся за фон Дрейлингом; всякий, кому не лень, наступал на этот хвост, и тогда «большевик» вскрикивал от боли. Долгое время фон Дрейлинг бедствовал материально и морально. Лишь преодолев величайшие трудности, удалось ему, наконец, втереться в рейхсвер на незаметную должность в маленьком штабе. Но и здесь было нелегко. Армия из десяти дивизий, из ста тысяч человек, — что за армия? А служба? Во-первых, неинтересна; во-вторых, бесперспективна; в-третьих, абсолютно неустойчива. Толпы старых, кайзеровских офицеров осаждали штабные канцелярии. Предложение настолько превышало спрос, что сомнительный выходец из России ежедневно ожидал вылета в окно. И так продолжалось до тридцать третьего года, — уничижение, щелчки по самолюбию, защемленный хвост. При Гитлере стало легче.
В тридцать пятом году армия начала развертываться, учредился генеральный штаб. Образованные офицеры из хороших старонемецких фамилий получили ход. Фон Дрейлинг был прибалтиец, но в основе своей дело от этого не менялось. А то, что он был раньше офицером российской императорской гвардии, хотя и окружало его какой-то мутноватостью, но эта мутноватость смахивала вместе с тем и на ореол. До тридцать шестого года Дрейлинг состоял при военной академии. В этом году его назначили начальником штаба мотомехвойск и произвели в полковники. Отчего хорошее приходит поздно? Возникал еще и такой вопрос: по-настоящему ли все это хорошо? Подделка и фальшь царствовали в Германии. Фон Дрейлинг думал о Гитлере: человек низкого происхождения, ничтожного образования, грубого воспитания, наглец, лгун, хвастун и вдобавок полусумасшедший… Иначе Дрейлинг и не мог думать об этом человеке. Но обстоятельства сложились чудовищно странно; приходилось сказать: «Однако, если не он, то кто же?» Обстоятельства так дико сложились, что надо было признавать этого грязного человечишку Гитлера не просто прохвостом, а избранником истории, ослепшей от слез, одуревшей от дряхлости. Недаром же целый народ, умный, сильный, принадлежностью к которому фон Дрейлинг всегда гордился, целый народ этот безоглядочно отдался во власть обманщика и плута. Может быть, не весь народ? Фон Дрейлинг не хотел углубляться. Да, да, да… «Если не Гитлер, то кто же?»
Перед самой войной фон Дрейлинга произвели в генерал-майоры и назначили командовать дивизией, предназначавшейся для штурма Бреста. Прежняя служба в русском Бресте помогла карьере. Но связь с прошлым и в этом случае продолжала держать фон Дрейлинга в щекотливом положении. Поручая ему действия под Брестом, надеялись именно на эту связь. Она обязательно должна была помочь, должна была облегчить задачу. А если не поможет? Не облегчит? Тогда — начинай сначала. «Русский хвост» снова вылезет на свет своим концом. Обрюзгший, лысый, с толстым, как подушка, затылком бритой головы и щеками, дрябло обвисшими над воротником мундира, фон Дрейлинг думал о своем будущем и содрогался. Под Брестом решался исход его борьбы за служебное благополучие. И, надо сказать, решался не в хорошую, а в дурную сторону. Требовалось, чтобы Дрейлинг захватил полупустую и отлично знакомую ему крепость с ходу, в первые же сутки по начале войны. Вместо этого лишь сегодня, на шестнадцатый день войны, уложив на бесплодных штурмах почти половину своей дивизии, он пишет донесение о том, что крепость прекратила сопротивление. Не «взята», а «прекратила сопротивление»… Что это — удача? Дрейлинга бросало то в жар, то в холод, когда он думал о своем провале и о том, как надо написать записку, которую будет читать презренный фюрер, чтобы не получить прямого удара сапогом в лицо. Карьера висела на ниточке; от малейшей неосторожности ниточка могла лопнуть…
Сегодня ночью перестали стрелять пулеметы и противотанковые орудия, еще сохранившиеся в Доме комсостава. Фон Дрейлинг отлично знал это здание по прежним временам своей службы в Бресте. Дом стоял на высоком месте; вероятно, из него было очень удобно наблюдать всю картину боя, который шел уже на совсем небольшой площади. Вчера Дрейлинг сам был возле Дома комсостава. Боролись за каждый подвал, лестницу, комнату, чердак. Беспрерывно фланкирующий огонь из дома помогал обороне всех этих мест. В докладе стояло: «Чтобы уничтожить фланкирование из Дома комсостава на центральном острове, действовавшее очень неприятно, был послан 81-й саперный батальон с поручением — подрывной партией очистить дом и другие части. С крыши Дома комсостава взрывчатые вещества были спущены к окнам, а фитили подожжены, были слышны стоны раненых русских от взрывов, но они продолжали стрелять». Ночью Дом комсостава пал, и облако черного дыма, расцвеченное лентами огня, стояло над ним весь день. Стоит еще и теперь, вечером.
Когда Дрейлинг приступил к составлению донесения о предстоящем назавтра занятии крепости, ему казалось, что дело действительно кончено и сопротивление фактически прекращено. Но час за часом приходили новости. Держался штаб крепости. Отбивались казармы двух полков. И во множестве отдельных мест то стихала, то снова разгоралась отчаянная борьба. Получалось так, что, обязавшись в докладе занять крепость завтра, фон Дрейлинг все-таки не знал, займет он ее завтра или не займет. Ниточка, на которой висела его карьера, натягивалась все туже и туже…
«Что случилось с русскими? — думал фон Дрейлинг, — ничего подобного не было раньше. Были хорошие солдаты и офицеры, плохие генералы. Но такой дьявольской силы, такого стального упорства, как теперь, у русских не было. Откуда же это взялось?» Он почему-то вспомнил гражданскую войну, разные случаи из тех времен, более или менее похожие на то, что происходило под Брестом: он, Дрейлинг, предлагал гарнизону либеральнейшие условия сдачи, а гарнизон отвечал огнем. Удивительно! Генерал склонил над листом бумаги тяжелую голову и приписал: «Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и настойчиво, они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к сопротивлению. Считаю долгом обратить на это особое внимание моего командования». Затем встал из-за стола и крикнул денщику:
— Развернуть резиновую ванну!
* * *
И девятого, и десятого, и одиннадцатого, и двенадцатого июля гитлеровцы не заняли Бреста. Дивизия фон Дрейлинга все плотнее сжимала кольцо кругом полковых казарм. А было между казармами всего триста — четыреста метров. Остатки гарнизона изнемогали без воды и пищи. Душные запахи пота, бензина, дыма, табака, лекарств и еще чего-то наполняли углы и норы, в которых жило и никак не умирало сопротивление. Дни были на редкость знойные. Солнце с утра опрокидывало на землю потоки палящего огня. Светлая серебряная муть затягивала небо и роняла на землю серый сухой дождь. Юханцев протянул ладонь. Что это? Зола.
— Главное беспокойство от солнца, товарищ комиссар! — сказал боец. — Стоит себе на одном месте, не садится, да и только… Эх!..
В подвале, где ютились раненые, женщины и дети, не было солнца. Подвал дышал сыростью и затхлостью — дыхание еще не засыпанной могилы. Дети умирали здесь без хлеба и молока, женщины — в тоске и тревоге за детей, раненые — от физических страданий.
Тихо в подвале. Ольга Юханцева сидит у стены, пристально всматриваясь в длинное узкое окно под потолком. Фантасмагория мгновенных превращений постоянно совершается в этом окне. То оно становится прозрачно-голубым, до такой степени прозрачным, что тонкий переплет решетчатой рамки со всей отчетливостью выступает из темноты, то бесследно проваливается в черную ночь. То взовьется за окном ракета, то потухнет. И опять — свет, и снова — тьма. Ольга поглядывает еще и на дощатую скамью нижнего яруса нар, где лежит умирающий доктор Османьянц. Полуобморок, в котором он находился, когда Аня Шишкина притащила его в подвал, до сих пор не прекратился. Тело Нерсеса Михайловича попрежнему неподвижно, и чем выше поднимается температура, тем оно становится неподвижнее. Вот уже несколько дней, как он не говорит, а до того говорил почти непрерывно; только языком ворочал так судорожно и слова произносил так невнятно, что разобрать их было почти невозможно. А между тем он говорил важные вещи. «Ну, и довольно… Довольно… Ребенок вырос, игрушка ему больше не нравится, не нравится, ни к чему. И — довольно! Ребенок ломает игрушку… Вы спрашиваете меня, что такое смерть? Я отвечаю: вершина жизни. Да, да… Страдают лишь те, кто не умеет думать. Почему я смеюсь? Есть такие страшные вопросы, что отвечать на них можно не иначе, как смеясь…» Где-то в крепости, но не близко, с грохотом рвется снаряд. Ольга оглядывается на нары, и ей кажется… «Неужели?…» Она встает и подходит к доктору Османьянцу. Да, так и есть. Ольга не ошиблась. В то самое мгновенье, когда грохот снаряда встряхнул ночь, мозг Нерсеса Михайловича, охваченный испепеляющим жаром, потонул в непередаваемо-глубоком молчании вечности.
Что-то жесткое расперло грудь девушки, сжало ее горло, забилось слезинками в длинных ресницах. И, сама не зная, зачем она это делает, Ольга выбежала из подвала наверх. Над головой — свинцовые облака, и со всех сторон — духота и запахи горькой гари, странной тяжестью ложащиеся на уши. Деревья разбиты, точно в каждое из них ударила молния; листья — как черные тряпичные узелки. Сотни разноцветных ракет взлетают над крепостью и кругом нее. Ольга видит черную тень человека, крадущуюся вдоль стены. Это солдат. Она знает этого солдата и знает, откуда он идет. Она хватает его за рукав.
— Ну как?
С вечера из крепости на разведку выбрался лейтенант. Он пошел для того, чтобы нащупать дорогу, по которой можно было бы вывести из цитадели матерей с умирающими детьми. Этот солдат пошел вместе с лейтенантом, а вернулся один.
— Ну как?
Солдат махнул рукой.
— На патруль нарвались… Убит лейтенант…
Ветер шевелит на облупленной стене дома куски оторвавшейся штукатурки. Ракеты взлетают и, рассыпаясь зелеными звездами, ярко освещают стену. Отчетливо выступают нацарапанные на ней камнем или штыком слова: «Умрем, а не уйдем!». Ольга подумала: «Это говорил отец… Он не уйдет… И мы умрем: мама… я… Костя…»
— Есть нож? — спросила она солдата.
— Кинжал, — ответил он и, вытащив из-за ремня, протянул ей.
Она начала торопливо выводить на стене острым концом: «Нас было… (солдат внимательно следил за ее работой), — „нас было… отец, мама, я, Костя… И — он“, — мысленно присоединила она солдата к своему счету. На стене вывелась надпись:
«Нас было пятеро. Умрем…»
Громовой удар адской силы упал на мир. За ним — второй. Еще и еще… Все заплясало вокруг Ольги Юханцевой. Начинался последний штурм Бреста…
* * *
На рассвете над развалинами крепости загудели четырехмоторные бомбардировщики, и пехота сорок пятой дивизии атаковала здание штаба, окружив его со всех сторон. Нижний этаж был взят быстро. Но второй штурмовали несколько раз, а он все держался. Предложили сдачу и не получили ответа. Генерал фон Дрейлинг, сам руководивший штурмом, приказал взорвать дом вместе с его защитниками. Заложили тол. Подожгли фитиль. От взрыва рухнули тяжелые железобетонные и каменные перекрытия. Гора щебня и мусора увенчала могилу. Теперь — все! Нет… Что это? Из развалин — стрельба…
— Кто? — трясясь от бешенства, кричит фон Дрейлинг.
— Живые, ваше превосходительство, — докладывает офицер…
Атака прибивает к стене между Тереспольскими и Холмскими воротами. Здесь все иссечено, разбито, изранено, выщерблено ураганом огня. Если бы не прожекторы и не разрывы гранат, вдруг освещавшие то частями, то сразу всю линию неприятельской атаки, нельзя было бы и разобрать, что происходит впереди. Но каждая вспышка рождала картину. Сверкнет гребень штыковой оправы… Блеснут касками бегущие навстречу малыши… Бегут малыши, бегут и на бегу растут, вырастают в настоящих больших людей. Головы их прижаты к правым плечам. Из мрака вырываются их белые фигуры, во множестве наваливающиеся вперед. Они катятся лавиной живого прибоя, падают, прыгают. Одни что-то ломают, другие рубят, третьи опрокидываются назад, вздыбив руки. В огне разрыва мелькнул розовый до прозрачности, словно нарисованный на стекле, высокий фашистский офицер с сигарой в зубах. Вспыхнуло правей, — солдат на коленях, но без головы. Почему у него нет головы? Гитлеровцы шли густыми цепями, очень быстро и при этом что-то орали во все горло. Не были ли они пьяны? «Умру, а не уйду!» — Юханцев схватил пистолет, прижался к стене и стал ждать…
* * *
Пылающее небо лежит на крепости, приникая к ее развалинам, к торчащим вверх стропилам и балкам снесенных крыш. Пожар кончается: пламени уже нет; но между кирпичами ползают желто-синие огоньки, кирпичи трещат, источая нестерпимый жар. Смрад трупов, горячая, почти огненная пыль от падающих и рассыпающихся зданий, тошнотворный вкус крови на губах… Но и сегодня то в одном, то в другом углу крепости, где гитлеровцы уже распоряжаются, как хозяева, нет-нет да и прогремит перестрелка. В окопах, казематах, отсеках еще сидят советские бойцы. У многих нет патронов. Они дерутся врукопашь…
Пленных и раненых «победители» собирают в подвалах форта Сикорского. Составляются списки. Идут непрерывные переклички. Постоянно кого-то недосчитываются. Начальники кричат, грозят. Вот исчезли двое. Куда? Как? Непостижимо. Но они еще ночью сговаривались. «А не трус ты?» — «Я в Красной Армии служу. Понятно?» Кого-то расстреливают во рвах около кирпичного завода. Расстреливают уже и за Бугом, в районе Тересполя, и в лагерях близ Острова Мазовецкого. Но об этом пленные еще не знают…
Люди в грязных и рваных гимнастерках, а то и просто в рубахах, сквозь дыры которых глядят обтянутые черной кожей острые ребра, строятся к выводу из цитадели. К ним пристраиваются женщины с детьми. Пленных окружает сдвоенный конвой СС в черных мундирах. Конвоем начальствует старший ефрейтор СС с черными петлицами на воротнике, медалью за Нарвик и холодно-равнодушным, тусклым взглядом бутылочного цвета глаз. Зовут ефрейтора Теодор Гунст. Он — потомственный берлинский слесарь. И он и покойный отец его были когда-то социал-демократами. Но все это кончилось, прошло, испарилось из архива неверной памяти. Да, встречались в Германии и такие социал-демократы, для которых нация была превыше всего. Самый бурно-пламенный звериный шовинизм то и дело выбивался из этих людей наружу. И в конце концов выбился. Всякий мало-мальски порядочный немецкий рабочий, имевший дело с Теодором Гунстом при фашизме, не колеблясь, говорит о нем: «Сволочь!» А сам Гунст, с кем бы и о чем бы ему ни пришлось толковать, тотчас приплетает к своей речи «Landesvater'a»[67] — так «сволочь» титулует Гитлера, — и тогда все кругом умолкает.
Гунст выводит отряд пленных на бугский мост. Детям трудно идти по шпалам. Бойцы подхватывают их и несут. Одни раненые поддерживают других. Несколько бойцов почти тащат на себе тяжело раненого высокого и широкоплечего человека с седой головой. Это — Юханцев. Обе руки его прострелены и крепко закручены проволокой за спиной. Лицо залито кровью. Рядом с ним — жена и дочь. «Сволочь» то и дело поглядывает на эту группу. Гунсту известно, что седоголовый был самым главным и самым опасным в крепости коммунистом. И хоть сейчас ему оставлена только одна единственная возможность — брести на смерть, но Гунст хорошо знает, что такое большевики. Поэтому он полон предусмотрительности и настороженной злобы, и в тусклых глазах его явственно мерцает страшный огонек. Он вспоминает надписи на стенах крепости: «Умрем, а не уйдем!» и думает: «Ага! Уходишь живым, а умрешь лишь ночью…»
Нет ничего удивительного, что о том же самом думает и Юханцев. Да, он говорил: «Умрем, а не уйдем!» И люди повторяли за ним, писали на стенах свою клятву и умирали, только бы не попасть в руки врага живыми. Юханцев страстно хотел для себя точно такого же конца. Но вместо этого слабеющие ноги все дальше и дальше уносят его от места, с которого он не должен был сойти. Юханцев чувствовал, как в мозгу его бьется пульс. Мысль его судорожно работала. Да, он идет на смерть. Но смерти предшествует плен Комиссар Юханцев в плену… в плену! Пульс перестал биться в мозгу: мысли были додуманы. Юханцев повернулся к жене. Дорогое, нежное лицо, которое он так долго и сильно любил, было бело, как стеклянный абажур на ночной лампе, и так же просвечивал сквозь его бледность теплый блеск. Юханцеву показалось, что никогда, ни до женитьбы, ни после, он не любил своей Нади с такой полнотой чувства, как в эту последнюю минуту. Это дало ему силу рвануться к ней и поцеловать, устояв на ногах. Надежда Александровна смотрела на него с ужасом и радостью. «Она знает… знает…» — мелькнуло у него в голове. Еще быстрее он поцеловал дочь. Гунст что-то кричал сиплым угрожающим голосом. Юханцев стремительно шагнул к перилам моста, под которым, рябя на легком ветерке и сверкая серебряными гребешками волнующихся струй, тихо катился Буг, еще стремительнее перекинул через перила ногу, другую и камнем полетел вниз…
Ольга коротко крикнула, точно кто-то выстрелил из детского пистолета. Несколько бойцов с разбегу перемахнули через перила, — за комиссаром. Гунст махал руками и командовал. Автоматчики били в воду, приканчивая бросившихся, да и по оставшимся на мосту — для острастки.
Глава сорок четвертая
Июльские ночи в Москве еще коротки, но уже темны. В одну из таких ночей Лидия Васильевна, с противогазом и полевой сумкой мужа, — ремни обоих предметов перекрещивались у нее на груди, — ходила взад и вперед возле ворот дома на Смоленском бульваре. Состоя в домовой пожарной команде, она уже не первый раз несла ночные дежурства и была сейчас на посту. Она ходила и думала о странном молчании Дики. Скоро месяц, как началась война. Ни одного письма! Самые тяжелые, самые страшные мысли приходили ей в голову и, при всем их кажущемся разнообразии, непременно складывались в одну из двух вариаций: убит? ранен? Но и в этом случае известия непременно должны быть получены. Иногда Лидии Васильевне думалось даже и так: уж если нет известий, то, наверно, не убит и не ранен. Что же другое? Кто-то из знакомых подсказал: «А не попал ли он в окружение?» С тех пор Лидия Васильевна стала думать еще и об окружении. К двум вариантам прибавился третий, и терзания соответственно умножились. Она зашла под ворота и остановилась у ящика с песком. Гитлеровская авиация еще ни разу не налетала на Москву. Но надо было ждать налетов. Население подбиралось в пожарные команды и группы самозащиты, инструктировалось и готовилось встретить первую бомбежку. Редкий дом не выставил у ворот, на лестницах, на чердаках и на крышах ящиков с песком и кадок с водой для тушения «зажигалок», которым в скором времени предстояло огненным ливнем упасть на город. Стоя у ящика и раздумывая о своих тревогах, Лидия Васильевна смотрела на бульвар. Сначала он был совершенно пуст. Затем по левой его стороне, от Зубовской площади к Арбату, замелькали две человеческие фигуры. Один пешеход был поуже в плечах и с некоторой вихлявостью в походке, роста небольшого и чем-то смахивал на бабу в зипуне. Другой — здоровенный детина вполне богатырской стати. Они шли, не спеша, переговаривались вполголоса и довольно внимательно разглядывали афиши и плакаты, расклеенные по стенам домов. Плакат, изображавший женщину под красным покрывалом, с выражением властной требовательности на лице и с листом присяги, крепко зажатым в повелительно протянутой руке, привлек к себе особенное внимание пешеходов. «Родина-мать зовет», — читали они, качая головами. «Родина-мать зовет!» Трудно было не ответить голосом совести, не отозваться порывом верности на этот в самое сердце проникающий зов. Так, по крайней мере, казалось Лидии Васильевне, когда ей случалось видеть этот плакат. Потоптавшись, пешеходы двинулись дальше. Но, сделав несколько шагов, опять остановились. Лидия Васильевна слышала, как крепко и громко ругнулся здоровяк. Суровое лицо женщины под красным покрывалом, в ореоле из винтовок и. штыков, снова смотрело на него со стены. Скверная брань здоровяка относилась к плакату.
— А ты не больно зорись, брат, — сказала, хрипя по-мужски, баба в зипуне, — и у стен уши бывают!
— Нет, уж теперь дудки, — отвечал здоровяк, — дудки!
— А я тебе говорю, не шуми! Душа действовать просит? Так ты возьми да безо всякого…
И он тут же показал, что значит «безо всякого»: ухватив плакат с угла, рванул его по всему полотнищу.
— Вишь? А в тебе никакой осторожности нет. Это я, Жмуркин, тебе говорю…
— Отстань, старый мерин…
Ни тот, ни другой не видели по близости ни малейшей опасности. Просто — один был потрусливей, а другой — понаглей. «Жмуркин? Жмуркин? — вспоминала Лидия Васильевна, — откуда я слыхала про Жмуркина?» И вдруг все вспомнила: «Это — тот самый скверный неприятель Дики… И Наркевича… Жмуркин? Ну, конечно, он!» Жмуркин не помышлял об опасности. А она уже давно следовала за ним по пятам. Две серые шинели не отставали от ночных друзей с Зубовской площади. Патруль? Да, с винтовками. Дозорные приникали к подъездам, тонули в черных подворотнях, невидимыми тенями перебегали от окна к окну. Однако именно в ту минуту, когда плакат, сдернутый со стены, свис к земле бессильными клочьями, дозорные вдруг перестали прятаться и очутились прямо перед физиономиями друзей.
— Стой! Предъявите, граждане, документы!
Здоровяк почесал багровую рожу. Кому ни попадись он сейчас на глаза, всякий без колебаний признал бы: вдребезги пьян, еле держится на ногах человек. Он качнулся вперед, потом — вбок и, устояв не без труда, затянул:
А и пить будим, И гулять будим… А и смерть придет — Помирать будим…Такое дело, товарищи солдаты, — война!
Он стоял, качаясь, и незаметно старался при этом выскользнуть своей могучей фигурой за грань холодной полосы прожекторного света.
— Пойдем, Вася, пойдем, — сказал Жмуркин, — бог с ними!
— Предъявите, граждане, документы!
А и пить будим, И гулять будим…— Держи одного, — сказал дозорный товарищу, — а я — другого. Видать птиц по полету!
— Эх, ты, садова голова, — вдруг перестав ломаться и сразу повертывая на полный серьез, прогудел великан, — жалко мне тебя, ей-ей! За чем пойдешь, то и найдешь…
— Без разговоров!
— Что за разговоры!
Великан привычным и точным, как секундный ход Часов, движением выхватил из кармана револьвер. Дозорные вскинули винтовки.
— Отстаньте-ка от нас лучше, ребята! — странно захлебываясь, быстро проговорил Жмуркин.
Два выстрела взорвали мертвую тишь Смоленского бульвара. Великан лежал лицом вниз, царапая асфальт растопыренными пальцами выброшенных в стороны рук. Один из дозорных стоял у стены, в том самом месте, где слабо колыхались под ветром клочья рваного плаката, и, странно скосившись, медленно сползал наземь. Другой мчался к Арбату, стреляя из винтовки по вертко убегавшему Жмуркину. Бегун уходил не стреляя, вероятно, экономил заряды. Но, когда наперерез его ходу, из-за угла выскочили еще двое патрульных и навалились на него кучей, он перестал экономить заряды и выпустил пулю за пулей — все. Один из солдат упал. Жмуркина связали.
* * *
Ту самую ночь, когда в Москве, на Смоленском бульваре, разыгралось это происшествие, Карбышев, Наркевич и остатки мирополовского отряда, с которым свел их Романюта, просидели в глухой лесной чащобе, на речке Свислочи, окруженные со всех сторон гитлеровцами. Все выходы из леса были взяты неприятелем под контроль. В отряде не было решительно никакой материальной части, если не считать винтовок. Патроны подходили к концу. И продовольствия не оставалось. Солдаты жадно глядели на лошадей. Но конный обоз был необходим под вывозку тяжело раненых. В эту ночь решалась судьба отряда…
Человек двести бойцов выстроились на опушке лесной поляны. В предрассветных сумерках лица этих людей, обдутые ветрами и обожженные солнцем, казались черными. Карбышев поздоровался. Ему ответили стройно, но не громко.
— Товарищи солдаты, — заговорил он, — мы пришли сюда лесными колоннами и просеками и ни разу не встретились с неприятелем. Впереди — Березина, а за ней — Днепр, Могилев, свои… Пройдено от границы раз в пять или в шесть больше пути, чем остается. Но вот хлынули дожди, лесные дороги испортились, мы забились в эту трущобу, и фашисты нас окружили. Отступать некуда, маневрировать негде…
Солдаты слушали и, не отрываясь, смотрели на генерала. Они ловили его смелый, звонкий голос, живые, энергичные движения и яркий огонь глаз.
— Есть способ — разойтись по двое, по трое, рассыпаться поодиночке. Но бросить целый обоз с ранеными мы не можем. Спасая себя, мы должны и о них подумать. Разве я не так говорю, бойцы?
Карбышев замолчал. И все двести человек молчали, продолжая смотреть на него. Они знали, что сейчас будет самое главное. Но в чем оно заключается, этого они не знали. В такие минуты человеку на холоде становится жарко, а солнечный луч не может его согреть.
— Товарищи солдаты! — сказал, наконец, Карбышев главное. — Кто хочет вместе со мною драться, прорываясь к своим, пусть сделает два шага вперльед!
И все двести человек, от первого до последнего, шагнули вперед раз и два…
…Сплошной бор, темный, таинственный и грозный — ствол к стволу, — могучая, на первый взгляд непреодолимая, стена, поднимался отовсюду, закрывая стрелков Карбышева. С раннего утра гитлеровцы вели концентрированное наступление, стараясь выбить стрелков из леса. Поддерживал их густой минометный и артиллерийский огонь: у них было никак не меньше дивизиона артиллерии. Отдельным группам гитлеровцев удавалось проникнуть в лес, но назад они уже не возвращались. Прямые атаки отбивались огнем и контратаками. Для Карбышева воскресли старые времена Перемышля. С ружьем в руках он водил своих стрелков в наступление. Длинные пулеметные очереди прокладывали наступающим путь. «Это — станковый…» Но вот затих пулемет. Каток опрокинут, ствол зарылся в землю. А патронов в автомате — всего три диска. И у бойцов — по обойме…
Двадцать пятого июля Карбышев атаковал гитлеровцев на участке в полкилометра по фронту, вырвался из леса, поджег какие-то склады, повернул на север, оседлал линию железной дороги и ушел за линию на восток…
* * *
Сердце бьется, словно на привязи, — где-то далеко, далеко. В голове — одна мысль: выстоять под огнем и идти дальше. Шли уже без обоза с ранеными, — он растаял, оседая по деревням, — шли, почти не скрываясь, вдоль лесных опушек, так быстро, что и догнать было бы не легко. То и дело натыкались на гитлеровские заслоны. Отвечать на огонь было нечем: просто шли сквозь преграды и повсюду на этих преградах оставляли самих себя. Отряд состоял теперь всего Лишь из сотни людей. Но что это были за люди! Федя Чирков, как и положено разведчику, то пропадал, то снова появлялся, по двадцать раз переползал через поразительно прочные в этих местах, словно металлическим полотном укрытые, шоссе, угрем переплывал речки, отыскивал глубокие канавы для ночлега. Кроме того, в нем начинал говорить сапер. «Эх, товарищ генерал, отрыть бы ступеньку, да и стрелять, стоя… Только вот за патронами в булочную сходить!» Карбышев говорил Наркевичу:
— Молодец Чирков! Нашел канаву, хоть кровать ставь.
И добавлял, невольно отдаваясь привычному течению инженерских мыслей:
— Заметьте, Глеб: лучше сидеть в хорошо замаскированной канаве, чем в самом крепком, но незамаскированном убежище…
…Солнце закатывалось, и сумерки были красные. Федя пробирался сквозь колючий кустарник, выискивая укромный выход на широкую и судоходную в этих местах Березину. Ноги его скользили по коврикам рыжей травы. Камни, на которые он ступал, шатались, угрязая в хлюпком бездонье неоглядного болота. А Федя все кружил да кружил, жадно осматриваясь. И так докружился он в этот красный вечер до тех пор, пока не накрыла его мина. Гигантский фонтан грязи взвился над Федей. Огненная боль врезалась в живот, и от боли захолонуло, остановилось сердце. Чирков упал, заерзал по мокрой земле, судорожно подтягивая колени к подбородку, и потерял сознание…
Однако федина душа не хотела уходить из страдающего тела. Чирков лежал на болоте до ночи. А ночью на него набрели, выходя к реке, свои. «Своими» оказались Карбышев, Наркевич и солдат — трое. К реке просачивались группами по нескольку человек. Такая-то группа и обнаружила Федю в кустах. Солдат взвалил раненого на спину и потащил. Никогда не был собой крупен или телом тяжел Чирков. Но люди в отряде совсем истощились силами, и даже легкий федин вес гнул солдата к земле.
— Стой! — приказал Карбышев, снимая с себя ремни и подлаживая их Феде подмышки, — понесем в четыре руки!
— Товарищ генерал, — тихо сказал раненый, — оставьте меня. Мне — умирать, а вам зачем пропадать?
— А я пропадать и не собираюсь, — усмехнулся Карбышев, — вы — солдат, я — тоже. Солдаты в бою друг друга не оставляют. Значит, спорить не о чем, друг Чирков.
И, взвалив Федю на спину, зашагал, одышливо переводя дух и встряхивая от времени до времени головой, чтобы сбросить со лба частые градины неудержимо набегавшего пота…
* * *
К Днепру вышли третьего августа, под утро, километрах в пятнадцати выше Могилева и остановились в тревожном недоумении перед последней переправой. Днепр не широк — метров сто двадцать, не больше, — но быстр в течении и суетлив в переливах. С берегов заглядывают в него высокие прямые сосны, и тишина берегов загадочна и страшна. Куда ни глянь, пусто. От этой странной пустоты холод перекатывается через сердце. Шестьдесят храбрецов стояли перед рекой, к которой они так долго и упорно стремились, не зная ни того, кто их встретит, ни того, что их ждет за ней. «Обстановка» была до крайности неясна…
Карбышев приказал вязать плоты — для раненых. Три бойца с офицером пустились вплавь через Днепр — разведать левую сторону. Песок хрустел под ногами людей, желтый, крупный, сыпкий, как хлеб в амбаре. Из дюн торчала суховатая травка. Чем ближе к лесу, тем она гуще, тем зеленей и ярче ее игольчатые стрелки. Солнце стоит над рекой, но близ леса прохладно. Из-под сосен тянет запахом сырости, парными ароматами живой древесной гнили. Лес — как погреб, открытый не сверху, а сбоку. Если бы он не был уже пройден, в него хотелось бы войти, чтобы узнать, что он в себе заключает. Но он пройден без препятствий, потому что пуст. «Что хорошо, то хорошо», — подумал Карбышев. И в тот же момент ясно различил между двумя ближайшими соснами на опушке гитлеровского солдата с автоматом в руках.
— К бою! — крикнул Карбышев.
Автомат застучал, будто градом забило по железной крыше. Бойцы, бросив вязку плотов, залегли за песчаными холмиками. Откуда гитлеровцы? Вместо ответа затакали пулеметы. С грохотом разорвалась мина, другая… Из леса десятками выбегали неприятельские солдаты. Их было не меньше батальона. Карбышев не ложился — что за смысл? Он уже столько раз видел эту самую смерть — многодельную хлопотунью, скорую и старательную, усердно справлявшую сейчас вокруг него свое древнее, как мир, дело. Вот упал Наркевич, раскинув по золотому песку свои седые волосы. Кровь текла у него из уха. Карбышев наклонился.
— Глеб…
Наркевич что-то говорил. Карбышев прислушался.
— Прощайте, мои милые, — говорил Наркевич, — прощайте, мои белесоватые!
Да, это — она… Смерть. Карбышеву показалось, что он заметил фашиста, убившего Наркевича, — коротконогий, плечистый. Из нескольких миллионов фашистов, вторгшихся в СССР, именно этот был тем, которому предстояло убить Наркевича. От этой нелепой мысли в голове Карбышева зажглось такое отчаяние, а в груди — такой гнев, что он разрядил револьвер, почти не целясь, и все-таки опрокинул коротконогого. Но тут же случилось и другое: где-то совсем близко разорвался снаряд. Вместе с грохотом разрыва огромные белые лампы начали вспыхивать в воздухе. «Ранен? Контужен?..» Между тем неизвестно откуда взявшийся автобус взревел, и малиновая грудь его жарко дохнула в лицо Карбышева. «Контужен?» Он быстро свел носки и еще быстрее раздвинул их, чтобы оттолкнуться от приподнятого края колеи и выпрыгнуть из-под автобуса. «Как? И это — все?» — с изумлением думал он, отталкиваясь, скользя и срываясь под радиатор. Где же чемодан? Спасательный круг, чемодан — все равно… Карбышев уже плыл через Днепр. Громкий голос сказал рядом: «Ну, и глыбь!». Дмитрий Михайлович открыл глаза, чтобы взглянуть на того, кто сказал, но увидел не его, а нескольких гитлеровцев, что-то с ним делавших, и среди них того плечистого, который убил Наркевича и которого он только что убил сам…
Глава сорок пятая
Брест оборонялся двадцать восемь дней. Конец обороны осажденной крепости почти всегда совпадает с ее «капитуляцией», с ее «падением». Но применительно к Бресту невозможно говорить ни о чем подобном. Оборона этой крепости прекратилась потому, что некому было больше защищать ее. Брест не «капитулировал» и не «пал», — он истек кровью. Когда гитлеровцы вошли в цитадель, она еще не была мертвой. Ее стены продолжали жить, — стреляли, так как не все, далеко еще не все очаги сопротивления к этому времени потухли. Безымянный солдат нацарапал на внутренней стене каземата в северо-западном углу цитадели: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» И поставил дату: двадцатое июля. Итак, лишь двадцатого гитлеровцы окончательно осилили Брест, — овладели его трупом. Есть в истории военных подвигов золотая полоса славы, которой озаряется народ, мужественно отстаивающий право своей родины на честь и свободу. Была геройская оборона Смоленска (1610-1611 годы); на весь свет прогремел Севастополь (1854-1855 годы). В грозную эпоху последней великой войны блеском такого же точно подвига увенчался Брест-Литовск.
Каждый из двадцати восьми дней бугской страды тяжко ударил по слабенькой полководческой репутации генерала фон Дрейлинга. И репутация не выдержала этих ударов, развалилась. Дрейлинга отрешили от командования дивизией и вызвали в Берлин. Он ехал туда в убийственно-скверном настроении. Он глядел из окна вагона на мелькавшие мимо старинные восточно-германские городки и не замечал их. Да и были они удивительно, до смешного похожи друг на друга: узкие высокие здания с крутыми, красными крышами; длинный белый Дом[68] с башней без окон; летнее солнце, ярко плещущееся на медных шпицах и бронзовых петухах средневековых колоколен… Отряды подростков из молодежного союза маршировали у вокзалов, — раз, два, три! Фашистская песня о Хорсте Весселе неотрывно преследовала Дрейлинга. Под ее звуки фон Дрейлинг прибыл в Берлин и вышел на перрон, с обеих сторон заставленный серыми голландскими вагонами-ледниками. От страха за будущее и сам он был в эту минуту так же сер и мертвенно холоден, как любой из этих вагонов.
* * *
Потянулись странные дни трусливых ожиданий и тревожной неопределенности. Тотчас по приезде фон Дрейлинг побывал во всех канцеляриях и постучался в двери всех штабных кабинетов, доступных для людей его сравнительно невысокого ранга. Но из этого ровно ничего не вышло. Он не слышал прямых обвинений в брестской неудаче; но вместе с тем ничего не узнал ни о действительной причине своего отозвания из армии, ни о том, что ему предстоит делать дальше. С ним почти не разговаривали, перебрасывая его, как мячик, с одной штабной лестницы на другую. Самое страшное в жизни — неизвестность. Фон Дрейлинг очень болезненно испытывал это на себе. Как-то, выйдя из метро на Бель-Алльянс-плац, он взглянул на чистое, ясное небо, и горькие слезы обиды градом полились из его глаз. «Все, что угодно, — думал он, — арест, суд, разжалование, — все, что угодно, но не эта пытка молчания…» В ранние дни юности он любил помечтать о Германии — о родине своих предков. Она представлялась ему не иначе, как с кайзером посреди блестящего собрания горностаевых мантий, доломанов с бранденбурами, касок с плюмажем и расшитых мундиров. Но в этой Германии, которая приютила его теперь, не было решительно ничего общего с благородно-рыцарственными картинами полудетских грез — подлая акробатика на головах и спинах честных тружеников и порядочных людей. К отчаянию фон Дрейлинга начинала примешиваться злоба, а это всегда поднимает дух. Он огляделся и, закурив сигарету, направился через площадь к ближайшему кино.
Дрейлингу очень хотелось в этот вечер махнуть на все свои несчастья не только рукой, но, может быть, даже и ногой. Когда на экране закрутилась перед ним визгливая оперетка «Zehn Madchen und Kein Mann»[69] и по нежным щечкам белокурой актрисы покатились веселые глицериновые слезы, он ощутил в своем обрюзгшем, каплуньем теле прилив давно иссякшей, чисто мужской силы и обрадовался чрезвычайно. Он представил себе фешенебельный, чуточку старомодный номер в отеле «Эспланад» на Потсдамской площади, где в угрюмом одиночестве и мучительном беспокойстве провел две последние недели своей жизни, но представил себе этот номер не пустым и молчаливым, как обычно, а полным звонкого женского хохота, и случайную гостью в голубом бюстгальтере, и себя, помолодевшим на двадцать лет. Эти представления были так живы и соблазнительны, что Дрейлинг задрожал от нетерпения. Да, он живет в прекрасной гостинице, построенной еще перед первой мировой войной и очень, очень удобной для… Гостья? Да, сегодня у него будет гостья. Он сразу вспомнил все места, где случалось ему вчера и третьего дня встречать на улицах хорошеньких женщин, откровенно искавших именно таких приключений, какие были нужны ему сейчас. Стройная блондинка на Унтер-ден-Линден, у Бранденбургских ворот… И та, другая, с синими жилками на висках, в штадтбане[70] между Шарлоттенбургом и Силезским вокзалом… И еще третья с темным пушком на верхней губе возле Кенигштадтского пивоваренного завода… Все они стреляли в Дрейлинга своими смелыми глазами: ведь для такого разговора и не надо слов. Как ни плохо его положение, но для них он — «незанятый» генерал, то есть подлинная находка. А сколько прелестных девчонок постоянно шатается по городским окраинам — на Шенгаузерской аллее, на Фербеллиновской улице…
Дрейлинг выскочил из кино с прыткостью прапорщика. Он мчался на поиски «гостьи», не желая ни о чем больше думать, кроме наслаждений сегодняшнего вечера, и удивляясь, как можно было в течение двух недель не вспомнить о легкой доступности такого недорогого удовольствия. Столько вечеров пропали даром, — пфуй, как глупо! Он приостановился, чтобы вынуть из кармана дрожащими пальцами сигаретку, поднести спичку к воспаленному лицу и тотчас бежать дальше. Но какой-то человек неожиданно вырос перед ним и загородил собой путь. Высокая фуражка позволяла видеть, как странно скошен назад лоб этого человека. Крепкие, тяжелые челюсти выступали под ушами. Темные глазки зорко выглядывали из-под лысых бровей. Нос человека был крив, словно перебит посередине. Неизвестный был в форме особого отдела службы безопасности. В петлице воротника — четыре серебряные звездочки. Дрейлинг вздрогнул, но уже не от сладких предвкушений…
— Хайль Гитлер! — сказал кривоносый штурмбанфюрер. — Здорово, господин «лакштифель»![71] Почему вы околачиваетесь в Берлине, когда все строевые генералы колотят русских? Что случилось?
— «Пруссак!» — воскликнул Дрейлинг, с изумлением узнавая в кривоносом старого диверсанта и тут же испуганно поправляясь: — Господин Эйнеке! О!..
Эйнеке улыбнулся и так сморщил лоб, что кожа на его голове, и волосы, и фуражка — все вместе задвигалось вперед и назад.
— «Пруссак»? Я уж и забыл… Хорошая кличка! Если в моей груди бьется верное старопрусское сердце, то именно так и надо мне называться: пруссак.
Дрейлингу кто-то говорил, что Эйнеке занимает чрезвычайно «серьезную» должность в берлинской контрразведке. Но так как большевистская Россия — одно, а здесь… совсем другое, то у Дрейлинга не было совершенно никакого желания искать встреч с человеком, которому он был обязан сперва идеей о бегстве в Германию, а затем — и самим бегством. Как ни туго приходилось Дрейлингу в Германии, он никогда не помышлял о поисках поддержки у Эйнеке. За последние две недели он даже и не вспомнил о нем ни разу. Но теперь сам Эйнеке стоял перед ним в натуральнейшем виде и говорил:
— Слушайте, старый приятель! Где вы живете? Отель «Эспланад»? Отлично. Если вы никого не ждете сегодня, я буду вашим гостем. Выпьем коньяку и потолкуем. Никого не ждете?
— Нет, — пробормотал Дрейлинг, — я очень рад…
— По правде сказать — незаметно. Вот что: если придет девчонка, я спрячусь в ванной комнате, только и всего…
Дрейлинг остолбенел перед натиском такой прозорливости. Впрочем, это было всегда свойственно Эйнеке, — видеть людей и обстоятельства насквозь.
— Уверяю вас, — покорно сказал Дрейлинг, — что я чрезвычайно рад принять вас как гостя. Уверяю…
— Тем лучше… Да и может ли быть иначе, когда моя скромная личность имеет счастье пользоваться особым вниманием и доверием самого гаулейтера Берлина, имперского комиссара обороны и министра пропаганды, доктора Иозефа Геббельса? А? Еще бы вам не радоваться такому гостю, как я… Идем!
Он щелкнул языком и быстро зашевелил кожей на голове.
* * *
Встреча с Эйнеке и вечер, проведенный с ним в отеле «Эспланад», решили судьбу фон Дрейлинга. Как решили? Невероятнейшим образом. Жестокость, сухость, грубость души Эйнеке были давно и хорошо известны Дрейлингу. Себя он считал совсем не таким, и в недостатке именно этих свойств видел главную причину своих неудач в Германии. Да, это — не прежняя Россия, где телячье прекраснодушие ценилось на вес золота и оплачивалось чинами, орденами и высокими окладами. Но ведь только такие неприятные люди, как Эйнеке, — черствые и расчетливые, — способны правильно обсудить положение и трезво посоветовать. Это — по-настоящему деловые люди. Словом, Дрейлинг не выдержал и рассказал гостю со всей откровенностью историю своего отозвания из армии и бессмысленного прозябания в Берлине.
В это время германский генеральный штаб уже очень хорошо знал, что блицкриг, победоносная развязка которого была запланирована на середину июля, провалился. Сомневаться в его крушении после разгрома германских дивизий под Ельней было невозможно. Но еще невозможнее было разговаривать на эту тему. Поэтому, когда Эйнеке вдруг сказал что-то о провале блицкрига, Дрейлинг почувствовал себя особенно гадко под острым взглядом его кошачьих глаз, которые, казалось, должны были бы видеть даже и в темноте. «Зачем он говорит мне это, зачем? И что за черт дернул меня с ним откровенничать…» Между тем Эйнеке лишь подбирался к главному.
— Вот причина, по которой вам больше нечего делать в армии, Дрейлинг… Вы — плохой генерал на фронте. Но вы можете быть превосходным генералом в тылу. Каждый из нас обязан служить фюреру наилучшим из способов, которые нам доступны. Вы слышали что-нибудь о генерал-лейтенанте полиции Вернере фон Альвенслебен?
— Да… Или нет…
— Все равно. О нем рассказывают, что, будучи в молодые годы адъютантом кайзера, он получил от него чин за верное слово: «Gegen Dernokraten helfen nur Soldaten!»[72] Сейчас он генерал-лейтенант полиции, и фюрер видит в нем своего лучшего слугу. Вам надо служить в полиции, Дрейлинг!
Это было столь неожиданно, что Дрейлинг чуть не вывалился из кресла на ковер.
— Я могу вам это устроить, — говорил Эйнеке, — но… я не знаю, что лучше: полиция или войска СС? На днях в Берлин из своего замка на Пюклере, около Котбуса, возвращается граф Бредероде…
— Что?
— Да, тот, который в четырнадцатом году взорвал Брест. Если не ошибаюсь, вы именно тогда служили в Бресте? Видите, как все превосходно складывается… Ха-ха-ха!..
Мысли Дрейлинга прыгали: «Бредероде… Шпион Бредероде… Кольцо на виселицу, которое я заказал тогда солдату-слесарю… Только из-за бегства шпиона оно осталось без… Бог, моя сила!»
— В один из первых дней по возвращении графа, — говорил Эйнеке, — я буду у него с докладом. Можете положиться на меня, старина!
Быстрые кивки и повороты головы, огненные лисьи глаза, бегающие по сторонам… «Зверь, — думал Дрейлинг, с ужасом разглядывая Эйнеке, будто никогда до сих пор его не видел, — зверь…» И Эйнеке думал, рассматривая толстяка, жалко сгорбившегося перед ним в кресле: «Генерал? Нет. Вяленый судак, а не генерал».
* * *
Через несколько дней генерал-майор фон Дрейлинг был вызван на Принц-Альбрехталле, в штаб особого Назначения гестапо. Можно было гадать, чем все это кончится. Дивизия СС «Нордланд»? Дивизия СС «Мертвая голова»? Дивизия СС «Эдельвейс»? Все это было бы возможно, и в конце концов именно об этом думал Эйнеке, затеяв кутерьму. Но ведь Эйнеке понятия не имеет о железном кольце…
Зеленые мундиры гестапо — на лестницах, в коридорах и в комнатах. Дверь в кабинет графа Бредероде открывается. Бредероде бросает папиросу в пепельницу и встает. Это высокий, худой человек с узким, точно из серого известняка наскоро высеченным, асимметричным лицом. Верхняя губа у него длинна до отвращения. На нем — рыцарский орден Железного креста на черно-бело-красной ленточке. Позади — портрет фюрера с открытой головой, в коричневой шинели, которую раздувает ветер. И, конечно, — клок шерсти на лбу. В кабинете — еще несколько лиц. Они стоят кружком в углу: оберштурмбанфюрер СС, он же начальник службы безопасности в городе X; генерал-лейтенант полиции и группенфюрер СС, он же начальник полицейских отрядов оккупации; заместитель начальника гестапо в городе Y; заведующий организацией тыла и мерами безопасности. «Бог моя сила!» Впрочем, все эти лица, откланиваясь один за другим, быстро вышли из кабинета. Бредероде поднял на Дрейлинга глаза, похожие на кусочки лакированной жести, и заговорил на очень правильном верхненемецком наречии, но так, как если бы песок хрустел у него на зубах:
— Мы с вами старые друзья. Было время, когда вы меня чуть не повесили, — помните, да? Но я не доставил вам тогда этого удовольствия. Справедливость требует, чтобы и я теперь не имел удовольствия повесить вас.
Дрейлинг слушал эти слова, почти не понимая их смысла, но всем существом отвечая на то ужасное, что в них заключалось. Лицо его было бело, как потолок, а нос зеленоват.
— Ха-ха-ха! — засмеялся Бредероде, скрипя на зубах песком. — Я готов. Но — при условии. Прошу вас сесть и курить. Не хотите? Как угодно. Условие таково. Одновременно с вами в старом русском Бресте служил капитан Карбышев. Теперь он — генерал-лейтенант советских инженерных войск. Обстоятельства сложились для этого вашего «товарища» нехорошо. Третьего августа, при переходе через Днепр у Могилева, он был сильно контужен и захвачен нами в плен. До сих пор мы держали его в Замостском лагере для военнопленных. Однако дальнейшее пребывание Карбышева в Замостье не имеет смысла. Этот русский ученый представляет для нас значительный интерес. Нам известна его книга о заграждениях, а также идея использования всех взрывных средств перед наступающим противником. Фюрер желает, чтобы он стал нашим, Der hupfende Punkt![73]
Дрейлинг молчал. Бредероде сказал с грубой раздраженностью в тоне и в голосе:
— Обработка Карбышева поручается вам, так как вы происходите из той же самой русской шайки, что и он. Слышите?
Трудно сказать, как это случилось, но только растерянность и страх на миг соскочили с Дрейлинга.
— Позвольте, граф, — твердо проговорил он, с грохотом отодвигаясь от стола вместе с тяжелым креслом, — я чистокровный немец! Мои предки переехали из Вестфалии на остров Эзель в шестнадцатом веке…
— Поздно переехали! — сердито перебил его Бредероде. — Для таких, как вы, верно служивших «эзелю»[74] Николаю второму и сражавшихся за него с германским отечеством, наши требования повышены. И хотя бы ваши предки функционировали, как, например, мои, при Оттоне Великом, для вас все-таки возможны лишь два выхода: либо Карбышев должен быть нашим, либо… пеняйте на себя. Веревка плачет!..
Больше Дрейлинг уже не спорил и даже не поднимал ни глаз, ни головы. С каждой минутой положение становилось яснее. Карбышев переводится из Замостья в Хамельсбургский лагерь для военнопленных. Дрейлинг назначается комендантом этого лагеря.
— Хамельсбург — центр обработки и отбора пленных, — говорил Бредероде, — именно там путем настойчивой и умелой агитации в среду этих людей вносится рознь; все колеблющиеся, нетвердые, малодушные элементы превращаются в материал, пригодный для использования в наших руках. Здесь оттачивается оружие нашей партийной пропаганды, устанавливаются и проверяются методы этой работы. Райхсфюрер СС[75] находит, что теперешний комендант Хамельсбурга полковник Пелит так же мало пригоден для выполнения этих обязанностей, как задница для стрельбы в цель. Гуманизм или слюнтяйство — какая разница? Невозможно допустить, чтобы Карбышев сел на толстую шею этого дурака. Даже самый гладкий кегельбанный шар не заменяет в таких случаях головы. Будем надеяться, на вас. Вы знаете русских — это должно помочь вам…
«Опять — как с Брестом!» — в отчаянии подумал Дрейлинг.
— Впрочем, вам придется иметь дело не только с русскими. Французы, чехи, поляки — все это «эрбфайнды»[76] нашего отечества. Сопротивляющихся — на тот свет. Средства поощрения? Хлеб, масло, яйца и желудевый кофе…
Бредероде поджал тонкие, злые губы. Его рука быстро прошлась по ровным зачесам прямых светлых волос.
— Итак, господин фон Дрейлинг: langsam, aber deutlich[77].
Хамельсбургский лагерь для военнопленных лежал в глубокой долине реки Заале и был со всех сторон окружен бесконечными заборами из колючей проволоки с несметным числом караульных постов. Часовые в длинных шинелях неподвижно торчали у ворот лагеря, когда конвой с автоматами наперевес сдавал Карбышева здешней администрации.
— Здравствуйте, господин генерал, — вежливо приветствовал его по-русски лагерэльтесте[78], — принимаем вас как почетного гостя!
От этой вежливости что-то заскребло у Карбышева под сердцем.
— Вы русский? — спросил он.
— Более или менее, — сказал лагерэльтесте, слюняво улыбаясь и отводя глаза, — но закон есть закон. А потому пожалуйте за мной.
Карбышев шел за ним между окнами бараков, где содержались пленные. Некоторые окна были открыты. Из них смотрели бледные лица, изуродованные тупым любопытством. Вот и плац. Лагерэльтесте остановился. К Карбышеву подошел офицер СС.
— Развяжите ваш мешок.
Из окон бараков, окружавших плац, продолжали смотреть бледные, любопытные лица. «А ведь и здесь, вероятно, есть такие, которые меня знают, — подумал Карбышев, — одни — лично, другие — по книгам».
— Развязывайте…
— Не буду, — коротко сказал Карбышев.
— Что? — изумился офицер. — Почему не будете?
— Это нужно не мне, а вам. Развязывайте сами.
Люди в окнах зашевелились, их головы закивали, тупое выражение исчезло с лиц, и глухая волна оживленного говора вылилась из бараков на плац. Офицер выругался сквозь зубы. Ефрейтор бросился к мешку, раскрыл его и высыпал на землю содержимое. Это называлось: обыск. Затем тот же ефрейтор кисточкой нанес на левый борт полосатой куртки, в которую был одет Карбышев, его здешний, хамельсбургский, номер. А под номером навесил красный «Winkel»[79] вершиной вниз.
— В карантин! — приказал офицер.
Голый человечек с шарфом на шее и в резиновых галошах, чрезвычайно похожий на скелет, туго обтянутый мешковиной, принес и поставил перед Карбышевым жестяной поднос с кружкой черного кофе, куриным яйцом и двумя объемистыми ломтями серого хлеба под настоящим сливочным маслом.
— Что это?
— Завтрак генералу, — ответил карантинный уборщик по-немецки.
Как и все, недавно перенесшие сыпной тиф, Карбышев постоянно хотел есть. При виде завтрака что-то завозилось, громко перекатываясь, в его поджаром животе, до боли сладко засосало под ложечкой, наполнило рот слюной и запрыгало в тумане перед глазами. Наступил момент жестокого соблазна. Странная роскошь угощения — куриное яйцо! — наводила на тревожные, горькие мысли. Почему? Дневная порция хлеба в лагерях, — Карбышев хорошо знал это, — буханка на шестерых. Хлеб — на треть из опилок. Маргарин и масло — не одно и то же. Откуда же такая благодать на этом жестяном блюдце?
— Генералу, — повторил голый.
Нет, конечно, дело не в этом. Генералы голодают в лагерях совершенно так же, как и солдаты.
— Я не буду завтракать, — сказал Карбышев уборщику.
— О! — удивился скелет, — я понимаю: вы хотите кушать не иначе, как все. А я бы… я бы все это съел, съел, съел!
Он по-волчьи стукнул зубами и коротко засмеялся. Живая, острая дрожь свирепого голода проскочила по его голой коже. И Карбышев ощутил точно такую же дрожь в себе. Да, они оба были голодны до судорог в желудке. И оба не решались прикоснуться к этой еде.
— Унесите, — сказал Карбышев.
Голый схватил блюдечко и понес. Однако с полдороги вернулся.
— Я — уголовный, — тихо проговорил он, — я — убийца. Но, кроме своего несчастья, я способен понимать все. Слушайте: наступление на Ленинград сорвалось под самым городом. Unglaublich, aber doch[80]. Извините!
И, шлепая галошами, он кинулся вон из комнаты, в которую уже входил главный врач лагерного госпиталя со значком национал-социалистской партии на халате.
* * *
Карантин представлял собой один из бараков той части Хамельсбургского лагеря, которая была построена военнопленными во время первой мировой войны. К карантину примыкали госпитальные бараки и кладбище. Территория «ревира»[81] была опоясана шестью рядами проволоки, — крепость в крепости. Кругом — невысокие холмы и довольно густые перелески; за горизонтом — река. Линия Зигфрида, о которой так много и основательно писал когда-то в своих статьях Карбышев, подходила почти к самому Хамельсбургу. Лагерь состоял из казарм — частью кирпичных, двухэтажных, а частью деревянных, в один этаж. Жилые помещения могли быть здесь всякими — просторными или тесными, теплыми или холодными; но проволока, со всех сторон оплетавшая лагерь, могла быть только одной — непреодолимой, и действительно была такой.
Туман растаял в раннем утреннем заморозке. Сонная улыбка солнца медленно катилась по Хамельсбургу, — по кровлям и улицам, по щебню, распластанному на местах недавних построек, и по черным каркасам недостроенных казарм. Дверь маленькой комнатки, отведенной Карбышеву в карантинном помещении, отворилась, и комендант лагеря генерал фон Дрейлинг переступил порог. Карбышев сразу узнал своего старого знакомого. А между тем теперешний Дрейлинг очень мало походил на прежнего: бесследно исчезла куда-то его элегантная поворотливость, а здоровая ветчинная свежесть превратилась в обыкновенное свинское ожирение.
— Дмитрий Михайлович! — с искусственным оживлением заговорил он с порога, — Дмитрий Михайлович! Боже мой, что происходит…
Он шел вперед с протянутой рукой и на ходу произносил те самые слова, которыми лагерэльтесте встретил Карбышева у ворот.
— Принимаем вас как почетного гостя!
Было совершенно ясно, что это значит. Только тупоголовый Дрейлинг мог не понимать. За ним несли два горячих, вкусно дымившихся завтрака и блюдо с поджаренным хлебом «arme Ritter»[82].
…Погружаясь в воспоминания, как в теплую воду, Дрейлинг вызывал в себе приливы чистых и бесстрастных настроений. Это было для него потребностью сердца. Горизонты жизни сближались, судьбы отдельных людей вдруг становились чем-то значительным, от этого возникала томная, сладко волнующая грусть, и тогда он начинал ощущать себя истинно хорошим человеком. Для встречи с Карбышевым он постарался привести себя именно в такое состояние и, приступая к разговору, действовал не только по приказанию графа Бредероде, но еще и по хотению собственной души, которой было приятно слегка расчувствоваться. От воспоминаний Дрейлинг довольно быстро перешел к философии.
— Казалось бы, все хорошо, — говорил он Карбышеву, — и вдруг возникает нелепый вопрос: а имею ли я нравственное право и т. д.? Скверный вопрос о «нравственном праве» — это и есть то, что своей интеллигентской болезненностью страшно мешает жить и работать. Это ядовитая спирохета, подрывающая естественную силу мысли и чувства. Это русская черта, которая, вероятно, вам знакома, Дмитрий Михайлович, нисколько не меньше, чем мне. Не правда ли? Но с этим надо бороться, бороться…
— Зачем? — спросил Карбышев. — Зачем бороться? Моральное чувство может иногда мешать, но гораздо чаще оно помогает в работе. Все дело в том, о какой работе речь…
— Да, да, — с тихим разочарованием в голосе сказал Дрейлинг, — здесь мы с вами не разойдемся. Да, конечно, основой жизни должно быть уважение к личности, к труду и уму людей. И вы, и я — мы старые русские офицеры, вполне порядочные люди и хорошо знаем это. Но как быть, когда личное приходит в конфликт с… не личным? Вот тут…
— Вы — комендант, а я — пленник? Пусть это вас не беспокоит…
— О, нет… Такому пленнику, как вы, необходим именно такой комендант, как я. Надеюсь, что между нами не будет недоразумений. Я говорю о гораздо больших вещах — о войне, о том, что история народов превращается в борьбу рас…
— Чепуха, — резко сказал Карбышев.
— Может быть, — полусогласился Дрейлинг, — может быть… Я ничего не утверждаю. Я не политик, я просто военный человек. Потому только я и говорю о таких фактах войны, как, например, недавнее форсирование Днепра германскими силами. Волшебная быстрота наступления…
— А почему вы не наступаете вместе с германскими силами на Россию, а сидите комендантом в этой мышеловке? — внезапно спросил Карбышев.
Но Дрейлинга не смутил даже и такой неожиданный и дерзкий вопрос.
— Очень просто… Я не стремлюсь к лаврам в этой войне, так как не перестаю чувствовать себя русским, — сказал он и подумал: «Ловко!..»
Однако чтобы Карбышев не усомнился в искренности сказанного, надо было поступить, как делают обычно люди, нечаянно сказавшие правду, — то есть испугаться и начать заметать след. Дрейлинг встал, подошел к двери, прислушался и вернулся.
— И еще одна причина, — договорил он, — германские лагеря для военнопленных — ужасная вещь. Если люди умирают здесь недостаточно быстро, их убивают. Самый крепкий человек выдерживает полгода. Коммунисты — первые кандидаты. Такой человек, как я, — счастье для лагеря. Лавры победителя меня не прельщают, но благодарную память множества моих несчастных соотечественников я очень хотел бы заслужить. Вот мой скромный ответ на ваш недостаточно скромный вопрос, Дмитрий Михайлович. Социалисты гораздо чаще становятся обывателями, чем обыватели — социалистами. Слава богу, что я — ни то и ни другое. Неужели вам не странно, что вы коммунист?
— Мне странно, что можно об этом спрашивать. Я — коммунист и останусь им всегда, при всех обстоятельствах.
До сих пор Дрейлингу не было почти никакой надобности притворяться: так удачно он настроил себя для этого разговора на тон доброжелательности. Но реплики Карбышева все грубей и грубей вторгались в мир его души. А самая последняя просто-таки взбесила. И в разговоре наступил неизбежный и необходимый перелом.
— Десять минут назад, — сказал Дрейлинг, — я выразил надежду на то, что между нами не будет недоразумений. И, конечно, их не будет, если вы не станете их создавать.
— А что вы называете недоразумениями?
— Ваше имя очень популярно между пленными…
— Естественно… Кое-кто меня знает по учебникам.
— Не только. Сцена на плацу, когда вы отказались развязать свой мешок, произвела на пленных самое нежелательное впечатление. По лагерю заговорили: вот как должен вести себя советский человек в плену! Согласитесь…
— Согласен: именно так и должен вести себя в плену советский человек.
Дрейлинг замотал головой. По мере того, как им овладевала злость, его медлительные, неуклюжие и глупые мысли все дальше отходили от благоразумия.
— Вы не хотите пользоваться преимуществами, которыми я пытаюсь облегчить для вас лагерный режим, — не завтракаете, не обедаете… Вот и сейчас…
Дрейлвнг положил в рот ломтик поджаренного хлеба и вкусно захрустел им, слегка подщелкивая вставными зубами.
— Почему вы так делаете? Зачем? Разве вы не видите, что Гитлеру все удается. Германские армии под Москвой и Ленинградом. Entre nous soi dit[83], — уже назначен день триумфального въезда Гитлера в Москву. Это так же верно, как снег зимой. Русскими оставлены Смоленск, Киев, Одесса, Харьков. Еще один хороший натиск на Москву — и Советской России нет… Все полетит прахом…
Карбышев вскочил со своей узенькой карантинной койки, маленький, — особенно маленький в дурацкой полосатой одежде, — изжелта-бледный, с гневно горящими черными глазами.
— Не смейте, Дрейлинг! Довольно фашистской болтовни!
И комендант побледнел. Его рука сунулась к карману, где лежал револьвер. Но быстрая память опередила руку. Ведь стоявший перед Дрейлингом безумец был нужен Гитлеру не мертвым, а живым. Брест удалось взять только мертвым, а этого необходимо взять живым, только живым. Спрячьте самолюбие, господин фон Дрейлинг! Уже много лет, как вам приходится этим заниматься. С тех пор как жена маленького сумасшедшего человечка наградила вас оплеухой, когда вы рылись на его письменном столе, и до сегодняшнего дня — пощечина за пощечиной. Трудно привыкнуть? Надо. Если нравственное чувство мешает работе, а не работать нельзя, то надо привыкать… да!
— Вот мы и повздорили, Дмитрий Михайлович, — тяжело дыша, сказал комендант. — Но видит бог, я не хотел. Я лишь изложил вам взгляд… не мой… Нет, нет, не мой! Это общепринятый в Германии взгляд на будущее. Однако я допускаю и далее не сомневаюсь, что он не предусматривает всех возможностей. Мало ли что может еще быть? Русский народ умеет защищаться…
На эту последнюю удочку Карбышев должен был попасться. И действительно он снова сел на койку и быстро заговорил, поблескивая глазами:
— Вы родились, выросли, служили в России. Неужели вы не знаете характера нашего народа, — медленно запрягать, но скоро ездить? Это еще Бисмарком замечено и сформулировано. Ваш метод войны — «тактика ужаса» — безостановочное продвижение танковых клиньев, за которыми следуют эшелоны пехотных соединений. Так? Но стоит только нам понять и на практике убедиться, что глубокое вклинивание в наше расположение танковых групп вовсе не есть окружение, а всего лишь его внешнее подобие, — ваша «тактика ужаса» рухнет. Фашисты изобрели эту авантюрную и беспочвенную тактику, но способность считаться с социально-политическими основами народного патриотизма они безвозвратно утеряли. В этом их гибель…
— Однако опыт западноевропейских кампаний…
— Он односторонен и ограничен. Теория военного искусства еще не разработала проблем начального периода войны. Способы действий войск прикрытия, особенности стратегического сосредоточения и развертывания, когда нападение произведено внезапно, — все это такие вопросы, для которых до сих пар не было никакого решения. Они решаются только теперь…
— Как же они решаются? — с любопытством спросил Дрейлинг.
— А вот как… По мере того как сопротивление советского фронта растет, ваши временные преимущества сходят на нет. Ведь вы вложили в первый удар все свои силы. И вы не можете его повторить… Верно?.. Война уже должна быть кончена вами, а нами она еще только начинается. Помните Кутузова? Да, да… Решение? Такое: мы сперва остановим фашистские орды, а потом разгромим их…
Несколько минут и гость и хозяин молчали. Дрейлинг собирался с мыслями. Повидимому, следовало исключить из этого разговор военную тему, — черт с ней! Но если ни политическая, ни филантропическая, ни военная темы не годятся, что же остается? Дрейлингу показалось, что он, наконец, нашел гвоздь.
— Вы видите, Дмитрий Михайлович, — сказал он, — что я не спорю. Для такого спора, как этот, у меня не хватает ни вашей эрудиции, ни собственной убежденности. Вы меня знаете, я маленький корабль и не пригоден для больших плаваний. Но вот чего я не понимаю! Мы с вами оба — старые русские офицеры и служили одному государю — нашему природному, истинному государю. С той поры, как в России нет государя, кому должны мы служить?
— Я служу своему народу, — быстро сказал Карбышев.
— Народ — пфуй! Вы служите большевикам. И я не понимаю…
— Я вам объясню. Никто не уходит дальше того, что не знает, куда он идет. Космополит не может быть честным человеком. Но и…
— Что?
— Если я скажу, что все фашисты — дураки и негодяи, то вы будете со мной спорить. Но согласитесь же, что никто не может быть таким дураком и негодяем, как фашист.
Карбышев опять вскочил с койки. И глаза его снова сверкали не моргая.
— Вы губите и немецкий народ и другие народы…
— Чем?
— Тем, что проповедуете распри, насаждаете человеконенавистничество, уничтожаете тысячи себе подобных… Я видел в Замостье… Я знаю… Тем, что…
Дрейлинг схватился за карман с револьвером.
— Молчать!
— Вы — враги общечеловеческой, а следовательно, и немецкой культуры…
— Молчать, или…
Да, разговор этот положительно не удался. Кончен разговор!..
Глава сорок шестая
Между солнцем и окном качались сосны, и в комнате становилось то светло, то сумрачно. Это непрерывное мельканье красноватого и голубого оттенков странно действовало на глаза: хотелось закрыть их, чтобы ничем неотвлекаемая мысль могла свободно плавать в незримом море ясной свежести. Но свободна была только мысль. Сам же Карбышев находился в лагерном «ревире», куда его перевели из карантина вскоре после скандального столкновения с комендантом. «Ревир» был переполнен больными. Туберкулез и дизентерия — бичи пленных. Из тоски и отчаяния возникает туберкулез. А желудки и кишечники расстраиваются от вареной брюквы, лисьего мяса и гнилой перловой крупы. Молодцы чуть ли не двухметрового роста свертываются в два месяца. Счастье Карбышева в том, что он худ, жилист, мало ест и чрезвычайно нетребователен. Что-то в нем есть такое, от чего даже здесь, в аду «ревира», под полосатой арестантской курткой, он все-таки не выглядел в первые дни арестантом. Но первые дни сменились вторыми, третьими… Человеческое сердце умеет бороться с туберкулезом, с дизентерией, с тифом, а с тоской и унынием оно бороться не может. Жизнерадостный, бодрый, физически крепкий, Карбышев превращался в жертву своей тоски. Сердце его начинало сдавать, сбиваясь с хода, — тоскливая боль вползала под левое плечо, пульс слабел, температура падала. Сегодня утром термометр показывал 34,4. Еще несколько десятых вниз — и — конец. Существовали средства; только в лагерной аптеке их не было, — дорогие средства, не для пленных. Когда два врача — поляк и чех, старательно поддерживавшие Карбышева, вздумали было адресоваться за помощью через госпитальную администрацию к коменданту, больной так взволновался, протестуя, что пришлось от этой мысли тут же отказаться. Оба врача были молодыми людьми и, как большинство своих соотечественников, попали в концентрационный лагерь из-за пустяков. Один кого-то неудачно спрятал. Другой что-то сморозил невпопад. Подобно многим другим врачам в «ревире» они были несомненными антифашистами и почти открыто сочувствовали советским военнопленным…
Но никто бы не сказал этого о лекпоме, работавшем в канцелярии «ревира». Это был пожилой, угрюмый немец, говоривший только на своем языке. Ему довольно часто случалось заходить в барак, где помещался Карбышев. И ни разу ни с кем из больных он не обмолвился хотя бы полусловом; даже и не взглянул ни на кого. Скучная фигура! Карбышеву мерещилась в этом человеке какая-то загадка. Люди, желающие конспирировать, принимают именно такой загробный вид. Впрочем, могло и не быть никакой конспирации. Разнообразие человеческих характеров бесконечно…
Однажды Карбышев лежал на своей койке у окна, закрыв глаза и следя сквозь опущенные веки за непрерывной сменой оттенков света. И «ревир», и бледное, жидкое солнце, и сосны, качавшиеся за окном, — все это очень походило на глубокий, глубокий, холодный и глухой подвал, ударяясь о стены которого, ломает свои крылья живая мысль. Тоска и уныние окончательно овладели Карбышевым. Вдруг чья-то быстрая рука дотронулась до его пальцев.
Он с трудом и не сразу приоткрыл глаза. Однако, разглядев возле своей койки загадочного лекпома, почувствовал, как удивлением пересиливается больная вялость, и приподнялся на локте. Лекпом протягивал пузырек с темноватой жидкостью и шептал по-русски, смешно и трогательно коверкая слова:
— Пожалюста!
— От кого? — спросил ошеломленный Карбышев.
— Свободни люди… Из города… Надо для сердца…
«Свободные люди?» Кто же это может в городе думать обо мне? И с какой стати — думать? А ведь лекарство стоит дорого… Лагерь платил писарям, поварам и лекпомам по пяти кригсгефангенмарок[84] в месяц. Неужели — он? Купил и разорился?»
— Благодарю вас, — сказал Карбышев, внимательно смотря в серьезное, неподвижное, как маска, лицо лекпома, — но я не могу взять.
— Почему? Вы думает… Но это не я купил.
— А кто же? Кто?
Маска на миг ожила: Тепло зажглось в серых глазах; доброе, светлое чувство проступило в морщинках У губ.
— Frau Doktor[85], — сказал лекпом, — она. Досвиданья!
Он положил пузырек на одеяло, повернулся и вышел. Фрау Доктор? Карбышев не успел спросить, что за благодетельная особа эта фрау. А жаль! — «Чарльтовски жаль!» — Молодые врачи — чех и поляк — тоже не имели понятия о фрау Доктор. Лекпом почему-то перестал появляться в бараке. Между тем капли делали свое дело: температура Карбышева поднималась, постепенно подбираясь к норме, пульс креп и наполнялся, самочувствие улучшалось изо дня в день. Этакие прекрасные капли… Но только ли в них секрет? История капель заключала в себе нечто поистине странное. И почему-то это странное действовало на Карбышева как радость. Тоска и уныние, больно сжимавшие до сих пор его сердце, вдруг исчезли. И сердце забилось, оживленное непонятным предощущением счастья. Да, капли — отличная вещь. Но то, что существует в Хамельсбурге фрау Доктор, думающая о советских военнопленных и протягивающая им в гибельную минуту руку дружеской помощи, — это неизмеримо лучше, важнее, нужнее, дороже всяких капель. Обычное состояние жизнерадостности, бодрости, легкости и физической силы быстро возвращалось к Карбышеву. Ему уже начинало казаться, что чудо выздоровления могло бы совершиться и без капель, коль скоро есть на свете чудодейственная фрау Доктор. Эта необыкновенная женщина представлялась ему красивой, полной, средних лет, с очень твердым характером и, может быть, в очках…
Через несколько дней стало известно, что лекпома больше нет в канцелярии «ревира», — его убрали.
* * *
Дрейлинг был прав: сцена на плацу, когда Карбышев отказался исполнить требование лагерного офицера, произвела на заключенных сильное впечатление, и, действительно, весь лагерь после этого заговорил: «Вот как должен вести себя в плену настоящий советский человек!» Но тотчас же после этой сцены Карбышев исчез: сначала выдержка в карантине, потом «ревир». Бюро подпольной организации не сомневалось, что на него ведется охота со стороны лагерной администрации. Средством подобных воздействий служили обычно самые разнообразные провокации. Следить за провокациями и обезвреживать их бюро не могло: «ревир» был для него недоступен. А кто мог поручиться, что, предоставленный самому себе, старый больной генерал на ослабеет духом, не поддастся, не поплывет по течению? Сцена при обыске на плацу ясно показывала, как много значила твердость Карбышева для укрепления в пленных надлежащего настроения и какой непоправимый ущерб этому настроению нанесла бы его слабость. Но как проникнуть в «ревир», как установить прямые отношения с Карбышевым, поддержать и охранить его бодрость? Повидимому, и лагерная администрация не хуже бюро понимала, какую роль способно сыграть популярное имя Карбышева здесь, в Хамельсбурге, — в центре работы по отбору пленных и проверке методов фашистской пропаганды. Потому-то и вцепилась она в старика и держит его в строжайшей изоляции от лагерного населения. Как переловчить администрацию?..
Бюро еще ломало голову над этим вопросом, а пленные, возвращавшиеся из «ревира» в общие бараки, уже рассказывали о Карбышеве удивительные вещи. Да, конечно, Карбышеву тяжелее других. Трудно по годам, да и по тому еще, что наседают на него гитлеровцы. Но старик не сдает. Наоборот. Голова его ясна. Мысль в постоянной работе. Больные жадно прислушиваются к его громким и смелым речам. Карбышев рассуждает вслух. Его главная идея: наш народ непобедим. Он приводит на память, разъясняет исторические факты; сопоставляет, связывает, устанавливает аналогии; и доводы из времен польской и французской интервенции, из эпохи гражданской войны и борьбы с Антантой так и подбираются один к другому, так и срастаются в общее: «Народ непобедим!» Лживая пропаганда фашистских газет не сходит в «ревире» со скамьи подсудимых. Блиц-авантюра… Фашисты идут на Москву без резервов… На все — расчет и доказательство. Оборота нашей армии приобретает все более и более активный характер. Советские войска развертываются на важнейших направлениях, не в одном, а в нескольких эшелонах (глубина оперативного построения!); тыл укрепляется многими оборонительными рубежами; позиции защищаются с тем самым упорством, которое прославило русского солдата во множестве битв и осад; прорывы локализуются на соседних участках; контрудары вынуждают врага разжижать свои силы, ослабляют его штурмовые группировки, грозят его флангам. Фашисты рвутся к Москве. Но именно здесь-то они и подвергаются сильнейшим контрударам. Так постепенно создается все необходимое для разгрома врага на решающем направлении его действий. Инициатива перешла в наши руки. Месяц декабрь — переломный момент в ходе славной войны нашего народа с фашизмом. Пусть Гитлер именует утрату своими армиями инициативы «открытием временной позиционной войны». Только глупцы не понимают, в чем дело. Гитлер уже разбит. Ему до зарезу необходимо привести в порядок свои потрепанные войска, пополнить их людьми и техникой. Пусть он называет это подготовкой к «решающему весеннему наступлению». Мы все-таки знаем, что судьба войны решена…
Карбышев говорил это больным в «ревире» и думал: «Когда нельзя делать, надо видеть, слышать и говорить. Это и есть — жить». «Ревир» превращался в лагерный центр военно-политической агитации. Еще за много, много лет до своего вступления в партию Карбышев знал, как велика ее организующая и направляющая сила. Уже тогда он на каждом шагу убеждался в том, что важнейший способ преодоления трудностей — хорошо поставленная политическая работа, ибо идея готовит действие и торжествует успехами действия. Главное — в сочетании воли организатора с размахом, партийного подхода с безошибочной оценкой обстановки и людей. Вступив в партию, Карбышев продолжал укрепляться в этих принципах и всячески старался применять их на практике. Но только теперь, в «ревире» Хамельсбургского лагеря, предстала перед ним в наиболее отчетливом виде замечательная картина преображения людей. Они приходили в «ревир» изможденными, отчаявшимися, ко всему безразличными полупокойниками. А уходили — бодрыми, полными надежд и готовности действовать борцами. И преображало их горячее, смелое, уверенное слово партийного агитатора.
Администрация превосходно, понимала, что совершается в «ревире». Поэтому отношение ее к Карбышеву ухудшалось с каждым днем. Уже давным-давно прекратились инсценировки с горячими завтраками, беседы с главным врачом и его заманчивые рассказы о скором освобождении. Карбышев думал: «Так и должно быть. Чем они со мной лучше, тем для меня хуже. И — наоборот…» Поведение Карбышева бесило тюремщиков. По мере того как приемы их деланного благодушия разбивались о его непримиримость, все резче проявлялись в отношении к Карбышеву злость и вражда. И как бы в соответствии с этим раздвигались просторы его внутренней свободы, и голос агитатора звучал громче и сильнее. «Все исходит от общего, — думал Карбышев, — и в общем исчезает. Сейчас это общее — война. Только в войне может сейчас человек проявить самое ценное, что в нем есть. Но ведь лагерь — та же война…» И он не просто боролся со своими тюремщиками. Он воевал с фашизмом.
Как-то в «ревир» зашел помощник Дрейлинга, хромой полковник СС Заммель.
— Скажите, генерал, — обратился он к Карбышеву, — будет Красная Армия продолжать свое сопротивление после падения Москвы?
Карбышев встрепенулся.
— Неприятель не войдет в Москву. Он будет разбит под Москвой.
Хромой полковник показал длинные желтые зубы.
— Должен огорчить вас, генерал: свидетелем этого вы, во всяком случае, не будете.
— Возможно…
По темному лицу Карбышева проскользнул быстрый смешок — не улыбка, а скупой и острый отблеск внутреннего огня.
— Я не буду свидетелем. Но вы, полковник, будете непременно!
Искусственная нога Заммеля спружинила, и, странно подпрыгнув, он зашагал в соседнюю палату…
Выздоровевшие разносили по лагерю речи Карбышева. Заболевшие приносили в «ревир» последние известия, подхваченные с родины секретным радиоприемником. «Разгром немцев под Москвой… Наши войска перешли в первое контрнаступление, сокрушили войска захватчиков и схоронили лживый миф об их непобедимости».
— Товарльищи! — радостно говорил Карбышев в канун нового, сорок второго, года, — случилось то самое, что неминуемо должно было случиться. Желание победить — дополнительный ресурс победы. В любой стратегической и тактической задаче это — важнейшее из условий решения. Первое доказательство — гражданская война. Второе — разгром фашистов под Москвой. Их офицеры уже прижимали к глазам бинокли, разглядывая завтрашнюю добычу. Но одно «сегодня» сменялось другим, а «завтра» все не приходило. И так — до разгрома…
Скрипя пружинящей ногой, в палату вошел полковник Заммель.
— Поздравляю вас, генерал.
— Благодарю, полковник.
— Вам известно, с чем я вас поздравляю?
— Нет.
— Ну-н?..
Карбышев молчал.
— Итак, вы этого не знаете?
— Нет.
— Я поздравляю вас с выздоровлением. Вы оставляете «ревир» и переводитесь в барак.
* * *
К тому времени, когда Карбышев очутился в бараке, его лагерная репутация стояла на очень большой высоте. Можно было без преувеличения сказать, что мнение Карбышева насчет того, как себя вести и как поступать в тех или иных условиях, почти для всех хамельсбургских узников равнялось прямому указанию. В загадочной связи с его ролью среди заключенных находились действия каких-то неизвестных лиц на воле. Один из военнопленных советских солдат, работавших в городе, доставил Дмитрию Михайловичу пузырек с целительными сердечными каплями и бутылочку с элексиром для желудка. «От кого?» — «От немцев». — «Что за немцы?» — «Не сказались. Только передать велели». — «Да вы бы спросили: кто такие?» — «Я и спрашивал». — «А они?» — «От докторши, говорят…» Фрау Доктор?! Опять… Но на этот раз фрау Доктор представлялась Карбышеву совсем иначе, чем раньше: высокая, худая, очень серьезная, с прямыми, как солома, светлыми волосами, а очки роговые. В таком виде она меньше походила на случайную фантасмагорию и больше — на устойчивую реальность. Только разгадка была попрежнему далека…
Наступление Нового года ознаменовалось приказом: всех пленных, не считаясь с возрастом и званием, гнать на работу в промышленность. Приказ взволновал население лагеря. Ночью члены бюро подпольной организации собрались кучкой в бараке, чтобы обсудить положение.
— По английской пословице, — шутил Карбышев, — птицы с одинаковыми перьями слетаются вместе.
Разговор завихрился было, как искры и дым из пароходной трубы. Но методическая мысль Карбышева быстро подвела его к самым существенным вопросам. Новогодний приказ требовал контрмер. Карбышев предлагал их одну за другой. Стройная, ясная, последовательная система борьбы отчеканивалась в его словах.
— Мы не можем не выполнить приказа, — пленные пойдут на фабрики, заводы, железные дороги и будут работать. Но надо, чтобы они работали не так, как хочется фашистскому начальству. Надо, чтобы их работа не помогала выполнению гитлеровских планов, а наоборот, срывала их. Направить их на путь саботажа — прямая задача подпольной лагерной организации. И для этого в каждом бараке необходим дельный организатор. Нас душат пропагандой. Нужна контрпропаганда. Надо, чтобы все понимали: что хорошо для «них», то плохо для нас. Чем поддерживать дух? Перспективой свободы. А отсюда еще одна задача — устройство побегов. Нельзя допускать колебаний в настроениях пленных. А для этого надо бороться с подачками, наказывать тех, кто их принимает. Принять подачку — обязаться перед тем, кто дает… Для борьбы нужны суды чести, практика бойкота… Никаких разговоров, полное выключение из товарищеского оборота. Бойкот — страшная вещь… Взрослые плачут, как дети. Мягкость — долой. Одно дело — запах трупа. Другое — вонь живого, но нечистоплотного человека. Это как на сортировке овощей…
И тут все сразу вспомнили о завскладом Линтвареве.
— А что с этаким типом делать? — заговорил член бюро с густыми и кустистыми бровями, которые у иного человека сошли бы и за усы, — самый дрянной человечишка…
Месяц назад было постановлено: желающие вытачивать портсигары и плести из соломки шкатулки и корзиночки могут заниматься этим безобидным делом сколько душе угодно, — подобные рукомесла были очень распространены в лагере, — но сдавать свои произведения администрации не должны. За шкатулку администрация платила буханку хлеба, а на волю продавала ее за несколько десятков марок, и хамельсбургские дамы обильно украшали свои туалетные столики лагерной продукцией. Во всех этих комбинациях было нечто неблаговидное, нехорошее, обидное для чести и унизительное для советского самосознания. Постановление было вынесено, а Линтварев взял да и продал шкатулку — большую, удивительно красиво и тонко отработанную (он был большим мастером на этакие поделки) — за две буханки.
— Я ему говорю, — рассказывал член бюро с густыми бровями: «Эх ты, прокисшая капуста!» — А он: «Не могу я один суп из крапивы жрать, — не могу! Старики легче голод переносят, а молодые лейтенанты тают…» — «Да ведь ты не лейтенант». «Все равно, молодой я, молодой, — пойми…»
— Понять нетрудно, — возмущались члены бюро, — самый колеблющийся тип.
— Суд чести надо…
— А ваше мнение, товарищ генерал-лейтенант?
— Бойкот! — решительно сказал Карбышев.
Так и постановили: объявить Линтвареву бойкот.
* * *
Зима была жесткая, с визгливым, обжигающим ветром и ледяными зорями. Пленные в Хамельсбургском лагере замерзали. Два кусочка хлеба с холодной картошкой на завтрак и брюква на обед не грели. Именно после завтрака и обеда на многих нападала такая свирепая дрожь, что зубы их отстукивали марш за маршем. Молодежь охотно ходила на лесозаготовка и возвращалась домой с охапками дров за плечами, Из стариков Карбышев чувствовал себя всех бодрей. С утра пять раз быстро обходил барак, проделывал гимнастику по Мюллеру, мало ел, мало спал, подолгу лежал не двигаясь. О нем говорили: «Посмотришь на Дмитрия Михайловича — и жить хочется и бороться..?
Но первого декабря Карбышев не ходил по бараку, Не занимался гимнастикой, не ел и не спал. Он весь день пролежал на койке с открытыми глазами. Первое декабря… Карбышев старался представить себе, что сегодня делается в Москве, на Смоленском бульваре, там, дома, без него. Сегодня день рождения дочери Тани. Сегодня ей — пятнадцать лет… Пятнадцать… И в этот день между ним и дочерью…
О, сколько их, железных километров, Ложится через эту даль По следу волчьих стай, По свисту вьюжных ветров, По блеску пламени и льда! Как далеко! Как далеко! И все же Здесь, в этой сумрачной дыре, Зачеркнуто, — на что это похоже? Сто с лишним дней в календаре!Откуда вдруг проснулись в памяти эти давным-давно забытые стихи? Откуда они? Из «Чтеца-декламатора»? Нет, нет… Может быть, елочкинское сочинение? Едва ли. Велички? «Не знаю, — думал Карбышев, — да и не все ли равно… Что же сегодня там, в Москве, с моими милыми? Что с ними?» И слезы, неслышно выбежав из открытых глаз, останавливались и холодели на бледном неподвижном лице…
Кроме холода, пленных донимал помощник коменданта полковник Заммель. Он появился в Хамельсбурге сравнительно недавно из Молодеченского лагеря, где занимал такую же должность. Вместе с ним переехала из Молодечна тамошняя атмосфера мелких придирок, наглой ругани, обысков и бесконечных проверок. При Заммеле состояли два эсэсовца, унтер-офицеры. Один — болтливый толстяк. Сперва он усиленно рекомендовал себя старым социал-демократом со станции Виллинген, а потом нашел нужным изменить редакцию и превратился в старого коммуниста из города Нейштадт. Второй унтер-офицер был самый настоящий «шпицбуб»: глуп, исполнителен и «беспощадно суров.
Однако и он тоже прикидывался коммунистом. Хотя ни первому, ни второму никто не верил ни в едином слове, но оба они с тупым упорством подбивали пленных на побег в Швейцарию, расписывая наилучшие маршруты через Шварцвальд и даже обещая адреса…
…Зима перевалила за январь. Небо то сдвигало, то раздвигало клочкастые вихры тумана. Белые волны ползли по земле, клубясь в кустах и ватой обвисая на деревьях, — начиналась весна. Люди выглядели в тумане крупней, чем были, а может быть, и в самом деле становились больше — росли от несчастий. Лагерная одежда вбирала влагу из воздуха с жадностью губки. К вечеру, когда туман разрывало ветром в лохмотья, одежда пристывала и делалась твердой, как арбузная корка. Заключенные заболевали и умирали сотнями. Так продолжалось до марта, когда вдруг потеплело, деревья зазеленели и в полях загорелся желтый цвет ромашки.
Вопрос о побеге из лагеря существовал не только в воображении эсэсовцев. Когда заммелевские провокаторы начинали болтать на эту тему, их старались не слушать, — отвертывались от них, отходили в сторону. Но когда об этом заговаривал Карбышев, молодежь превращалась в слух. Мысли Карбышева были просты, ясны и в высшей степени увлекательны.
— Сражаться за фашизм — значит вместе с ним совершать преступления. Сложить руки и ждать, чем кончится, — значит помогать фашизму. Что же остается? Борьба. Вот наши принципы: во-первых, не работать на гитлеровцев и, во-вторых, при первой возможности бежать. Мне за шестьдесят, но и я рискнул бы. Вам же, молодым людям, стыдно не думать о побеге…
И хамельсбургская молодежь мечтала, строила планы, прятала сухари и маргарин. Ждали весны. Наконец она пришла. Но тут стало известно, что Швейцария возвращает беглецов в Германию. Из восточных концентрационных лагерей можно было подаваться в сторону Польши, к Августовским лесам, в партизанское царство. А для хамельсбургских пленников существовало одно-единственное направление — чешская граница. И туда, к этой границе, с первых дней весны были обращены все помыслы узников…
Пленных выстроили на Appel-Platz[86], и здесь они стояли с утра до обеда. Значит, были предатели. Кто они? Где они? Повальный обыск, неожиданно произведенный ночью по баракам, раскрыл всю картину подготовки к побегу в Чехию. Отыскались припрятанные продукты, топографические наброски, обнаружилось горло подкопа, прикрытое железным листом перед печкой в шестнадцатом бараке, и дощатый водоотвод из мокрого земляного колодца. И вот на плацу — перекличка за перекличкой. Старшины рабочих команд бегают со списками в руках. В дурацкой суматохе проходят часы. Наконец появляется полковник Заммель. Скрипя своей пружинкой и пощелкивая о сапог резиновым хлыстом со стальным прутиком внутри, он проходит раз двадцать по фронту, приговаривая:
— Мне противно видеть эти лица. Для меня оскорбительно смотреть на них…
Раздается громкая команда, все замирает, и по плацу, направляясь прямо к пленным, вышагивает набитая ватой молодецкая фигура коменданта. Генерал фон Дрейлинг останавливается, одышливый и грузный, но подтянутый по всей форме. Глаза его белы от бешенства; на углах губ — пузырьки пены. Он дрожит от ярости и кричит по-русски:
— М-мерзавцы! Я прикажу немецким солдатам бить вас кулаками, прикладами, ногами — чем попало и по чему попало. Вы так подло виноваты, что не заслуживаете ни малейшего снисхождения. Вы не военнопленные, а… большевики. Вы свиньи, свиньи, свиньи…
Он задохнулся и с трудом перевел дух.
— Что было бы, если бы кому-нибудь из вас удалось бежать? Я не хочу об этом думать. Но не убежит ни один! Ни один! Таких, как вы, я бил раньше по зубам. Вы все…
— Дрейлинг! — прозвучал спокойный голос Карбышева. — Зачем вы врете? «Таких» вы никогда не били…
Комендант сделал непроизвольное движение, какое делает слепой человек, с хода наткнувшись на препятствие, — отпрянул и метнулся в сторону. Багровое лицо его зажглось огнем стыда.
— Взять его! — прокричал он. — В карцер!..
Через сутки две партии военнопленных, имевших отношение к делу о неудавшемся побеге, были выведены из лагеря Хамельсбург на станцию того же названия, километрах в четырех от города, посажены в товарный поезд и отправлены в Дахау.
* * *
История с предупрежденным побегом резко изменила лагерный режим в Хамельсбурге. Репрессии опрокинулись на заключенных, придавили их, сковали железной системой принуждений. Заключенных перевели из больших в маленькие комнаты. Где прежде размещалось два-три человека, там теперь ютилось пять-шесть. Отобрали одеяла. Неимоверно участились общие проверки. Они происходили теперь не реже трех раз в сутки и сопровождались бессмысленно-утомительными церемониями, вроде предъявления каждым заключенным своего номера и записывания его в особую книгу. На проверке производился еще и устный пересчет, не один раз, а по крайней мере четыре или пять. Кроме того, дважды или трижды в неделю делались повальные обыски. Пленных выводили на плац, выстраивали в две шеренги и обыскивали. Одновременно такая же работа шла и в бараке — искали в подушках, матрацах, в стенах и под полом. Все это тянулось часами. Наконец: «Nach Block!»[87]. Отобрали подушки. Заключенные стали спать, положив под голову сабо[88]. Режим с каждым днем делался все тяжелее и тяжелее. Но общая масса пленных держалась стойко. Не сомневались, что рано или поздно безобразие кончится. Отлично знали также и то, чем оно кончится. Передавали друг другу слова Карбышева о неудавшемся побеге:
— Собственно, что замышлялось? Хотели выскочить из вагона железнодорожного поезда, который полным ходом мчался под откос. Это и был побег.
* * *
Линтварев был похож на охотничью собаку, потерявшую след: растерян, жалок и без толку тыкался туда и сюда. Бойкот, объявленный ему судом чести, действовал на него странно. С одной стороны, Линтварев жестоко терзался позорной исключительностью своего положения; спросишь — не ответят; протянешь руку — отвернутся. С другой, чрезвычайно болезненно ощущал, как прямое следствие бойкота, свою совершенную беспомощность в борьбе за жизнь. Бороться за жизнь в этом проклятом лагере можно было только дружно, проталкивая подходящего человечка в повара, или по товарищески пристраиваясь к кухонному котлу. Борьба за повара, борьба за кухню — это и есть борьба за жизнь, ибо непрерывно снижавшийся паек был явным образом рассчитан на физическое уничтожение пленных. Перспектива одинокого угасания ужасала Линтварева. Была еще и третья сторона в этом печальном деле: Линтварева окружало множество соблазнов. Полковник Заммель объявил о формировании из советских военнопленных каких-то «отрядов» и о возможности для желающих вступить в какую-то «трудовую партию». Линтварев понимал, в чем настоящий смысл этих мероприятий, и не делал в желательном для Заммеля направлении никаких шагов. Но вместе с тем он ясно видел, как люди, записавшиеся в «отряды» или вступавшие в «партию», сразу начинали получать пищу из особого, улучшенного, котла, обмениваться приветствиями с эсэсовскими офицерами и курить не только обычные папиросы стандартных сортов «Стамбул» и «Юнона», но и сигареты с золотым пояском. Стоило этим людям немножечко сойти с прямого пути, как тут же разрешался для них кризис страдальческого существования в лагере. Буря тревожных колебаний свирепствовала в душе Линтварева. Он хотел быть честным. Но не хотел умирать с голода. Бойкот чем-то удерживал его от гибельных решений, — вероятно, надеждой на возвращение к товарищескому общению; чем-то толкал на окончательный разрыв с прошлым, — отчаянием, обидой, ночными слезами втихомолку. В конце концов Линтварев пришел к выводу: ни в «отряды», ни в «партию» он, конечно, не пойдет; но если возникнет какая-нибудь другая «приличная» возможность улучшить жизнь, тогда… тогда он посмотрит. Такая возможность возникла.
* * *
Летом в лагерь приехал майор СС с академическим значком на серо-зеленом кителе и сразу повел с пленными разговоры об организации в лагере «комиссии по составлению истории операций Красной Армии в текущей войне». Одним из первых был вызван майором СС для беседы Линтварев.
— Я прошу вас иметь в виду, — говорил майор, — цель составления «истории» чисто научная. Никакой другой цели нет. Вы можете писать свою часть этого коллективного произведения в том именно плане, который с авторской точки зрения представляется вам наиболее желательным. В этом смысле вы можете чувствовать себя совершенно свободно…
Высказавшись таким образом, он внимательно оглядел бледную физиономию и худую фигуру пленного. И на розовом, веснушчатом лице его возникло движение тайной мысли.
— Я уполномочен также поставить вас в известность, — добавил он, — что авторы задуманного нами сочинения будут получать усиленный паек. Им будут предоставлены отдельные комнаты для работы и спокойного проживания. Наконец, им будет выплачиваться литературный гонорар…
Майор СС мягко и приятно, улыбнулся.
— Не стану уверять, что на этом гонораре может быть построен вполне самостоятельный бюджет, но… Вы любите пиво?
— Люблю, — отвечал Линтварев, глотая неудержимо набегавшую в рот слюну.
— Еще бы! И я люблю! — очень. Кто же не любит пива? Смешно. Так вот, я беру на себя заботу о том, чтобы в счет гонорара каждый автор получал две кружки пива в неделю. Что вы скажете?
Повидимому, майор СС отлично знал, что делал, когда приберегал «пивной» аргумент к концу разговора, так как решительно не допускал возможности, чтобы стоявший перед ним бледный и худой человек в полосатой одежде, с тревожно бегавшими смущенными глазами, мог не поддаться сокрушительной силе ultimae rationis[89]: пиво.
* * *
Пальцы генерала Дрейлинга судорожно перебирали крашеные волоски на блестящей лысине и быстрыми, нервными движениями выдергивали один волосок за другим. Генерал был в полном смятении. Перед ним лежало письмо графа Бредероде. Вот это письмо:
«Главная квартира инженерной службы снова обратилась ко мне по поводу находящегося в вашем лагере пленного Карбышева, профессора, генерал-лейтенанта инженерных войск. Я был вынужден задержать решение вопроса, так как рассчитывал на то, что вы выполните мои инструкции в отношении названного пленного, сумеете найти с ним общий язык и убедить его в том, что, если он правильно оценит сложившуюся для него ситуацию и пойдет навстречу нашим желаниям, его ждет хорошее будущее. Однако майор Пельтцер, посланный мною к вам для инспектирования, в своем докладе констатировал общее неудовлетворительное выполнение всех планов, касающихся лагеря Хамельсбург. Пленные в вашем лагере заражены большевистским духом. Что касается вышеупомянутого Карбышева, то майор Пельтцер доложил мне, что со времени пребывания этого пленного в лагере № С-212 он не перестроился в желательном для нас духе, попрежнему непримирим, и отношения с ним сложились Так неудачно, что в настоящее время он заключен вами в одиночную камеру. Всякое отсутствие снисходительности, необходимое в обращении с пленными вообще, в данном конкретном случае кажется мне непродуманным».
Теперь уже Дрейлинг не сомневался, что дело кончится скандалом. Но кто виноват? Неужели он, Дрейлинг? Да, конечно. Он знал, что представляет собой Карбышев. Он не должен был браться за решение заведомо неразрешимой задачи. Это — главная, основная ошибка. Отсюда — все остальное. Нельзя, например, было не посадить Карбышева в карцер после его возмутительной выходки на Appel-Platz. Но вместе с тем эта мера явным образом знаменует собой провал предписанного свыше плана. Что же остается? Только одно. Майор Пельтцер — личный адъютант графа Бредероде. Майор Пельтцер — сволочь, привыкшая таскать чужими руками каштаны из огня. Необходимо, чтобы этот огонь подпалил собственные лапки майора Пельтцера. Дрейлинг вскочил из-за письменного стола, быстро опрокинул в рот рюмку кюммеля и зажмурился. Ему вдруг начало казаться, что он не дурак. Да, прежде всего — освободить Карбышева из одиночки!
* * *
Машина вертелась. Усиленно действовали механизмы отбора и обработки, — отряды «НОА», «трудовая» партия… Почти все барачные старосты и повара на кухне уже были членами этой «партии». Сам майор Пельтцер прочитал для желающих лекцию о германских сельскохозяйственных законах; тема — «Единый неделимый германский дом». В соответствии со всем этим задачи подпольной организации все усложнялись и усложнялись. Надо было сорвать вербовку в НОА и, разгромив «трудовую» партию, спутать расчеты гестапо. Для этого требовались большая предприимчивость, смелость и, главное, твердый взгляд на дело. Но на «историческую комиссию», созданием которой по преимуществу занимался майор Пельтцер, твердый взгляд установился не сразу. Многим эта затея казалась безобидной. Спорили и ничего не могли доказать друг другу. Только с возвращением Карбышева из одиночки все сделалось ясным.
— Загадано умно, — говорил Карбышев, — но за разгадкой далеко ходить не стоит. Если «им» надо, чтобы мы писали «историю», то тем самым нам надо, чтобы она не писалась. Того, чего хочет враг, мы хотеть не вправе. Это — закон советской чести. Хоть оружие и выбито из наших рук, но совесть — при нас, и мы ее отдать не можем. «Пишите историю…» — «Зачем?» Представим себе на минуту, что кто-нибудь из нас, ну хоть, например, такой неустойчивый человек, как Линтварев, поддастся на уговоры и вообразит себя летописцем Нестором. Выдадут Линтвареву чернила, бумагу, и перо его забегает, заскачет. Добру и злу внимая равнодушно, знай себе строчит и строчит Линтварев, выкладывает правду-матушку. Какие части действовали… Как развивались события… Товарищи! Да ведь это именно то, чего ждут от нас в гестапо… Линтваревская «история» раскроет предвоенную обстановку в нашей стране, развернет картину организации и руководства, образования и воспитания, снабжения и общей структуры наших военных сил. Линтварев объективен… А германскому генеральному штабу только того и надо. И Геббельс — тут как тут. Линтварев и не оглянется, как его имя зазвучит на всех языках. И в каждой из рот агитпропаганды станет Линтварев своим человеком…
Карбышев не знал о том, что Линтварев уже беседовал с майором Пельтцером и что беседа их закончилась вполне удовлетворительно с точки зрения обоих. Знай он об этом, пришлось бы ему и о Линтвареве говорить совсем иначе. И трудно сказать, что бы из всего этого получилось. Но по неожиданности вышло как нельзя лучше…
Карбышев столкнулся с Линтваревым на прогулке. У завскладом было странное лицо — бледное и неровное, как рисовая каша на тарелке. Вероятно, он искал этой встречи, потому что, увидев Карбышева, стремительно к нему кинулся и тотчас заговорил:
— Товарищ ген… Товарищ…
Он говорил и всхлипывал. Получалось что-то вроде того, как если бы при игре на скрипке вдруг начали лопаться струны. Линтварев плакал, а Карбышеву казалось, будто у него из глаз текут слюни. «Слизняк…»
— Вы знаете, что я не могу с вами разговаривать, — сказал он и хотел отвернуться.
Но Линтварев схватил его за рукав куртки.
— Товарищ ген… Будьте справедливы…
— Справедливо то, что полезно не одному, а всем. — Я знаю… Знаю… Но…
Карбышеву пришло в голову: «Бывает эгоизм от счастья, — сквернейшая черта… Но ведь и от избытка несчастий тоже рождается эгоизм. Не добровольный, а вынужденный; не сознательный, а инстинктивный… Как к нему относиться?» Он остановился и сказал:
— Что вам надо?
На бледном лице Линтварева зажегся румянец. Глаза его затянуло слезой. Он приложил руки к груди, как дети, когда они не просят, а требуют, доведенные жесткой вежливостью взрослых до отчаяния.
— Товарищ ген… Я вчера слышал, как вы говорили… Позор для советского человека, когда война еще не кончена, а он… Я не боюсь… Я пойду и заявлю, что… К чертовой матери!
Карбышев начинал понимать.
— Продались за чечевичную похлебку? Взялись писать «историю»?
— Да, товарищ ген… Но я пойду к Пельтцеру и… наотрез! К черту!..
Карбышев подумал с минуту и протянул Линтвареву руку. Тот схватил ее все с той же детской, требовательной жадностью.
— Идите… Сейчас же идите… Заявляйте, отказывайтесь. Поймите: думать, что мы побеждены, так же глупо, как глупо фашистам считать себя победителями. Идите! Только тот и смел по-настоящему, кто делает, несмотря на страх. А чтоб не бояться, — знаете, что?
— Что? — спросил Линтварев с радостной надеждой в голосе и глазах.
— Скажите этому мерзавцу, что я запретил вам писать «историю», — вот и все!
В своих первых донесениях, отправленных из Хамельсбургского лагеря графу Бредероде, майор Пельтцер решительно обвинял генерала Дрейлинга в неспособности сломить настроение пленных и «обработать» Карбышева. Этими донесениями был вызван суровый выговор шефа коменданту лагеря. Поступая таким образом, майор Пельтцер отнюдь не кривил душой. Он был совершенно уверен в неспособности Дрейлинга к порученному ему делу. И не менее добросовестно верил в свою собственную способность. Но пребывание Пельтцера в Хамельсбурге сложилось из одних разочарований. Провал «исторической комиссии» поставил его лицом к лицу с вопросом: а что, если Дрейлинг прав? Что, если для воздействия на Карбышева требуется применение методов, невозможных в лагерной обстановке? Не следует ли в таком случае освободить лагерь от вредного влияния этого человека, с одной стороны, а с другой — заняться им самим вплотную на Принц-Альбрехталле в Берлине? Когда Дрейлинг пытался внушить Пельтцеру эту идею вскоре после его прибытия в Хамельсбург, майор слушать не хотел. А теперь начал колебаться. Наконец, произошло нечто такое, что он даже и колебаться перестал.
Дрейлинг сообщил майору, что Карбышев позволяет себе распространять среди пленных возмутительные мысли по поводу летнего наступления германских войск в России. «В 1941 году, — разглагольствует Карбышев, — гитлеровцы, пользуясь внезапностью нападения, прошли вперед на громадное расстояние по всей ширине фронта. А в нынешнем году, когда их натиск натыкается на организованное сопротивление, они двигаются вперед не на широком фронте, а лишь там, где собраны их кулаки, и быстрота их продвижения уменьшилась в пять раз. Что же будет дальше? Сперва наступит равновесие. А потом гитлеровцы покатятся назад…» Хотя Дрейлинг и старался, передавая эти слова Карбышева, возмущаться и кипеть от негодования, но недавно начавшиеся в Сталинграде уличные бои наводили его на тоскливые мысли. И, положа руку на сердце, он, может быть, и не стал бы с Карбышевым спорить. Зато Пельтцер возмущался и негодовал не притворно, а всерьез. Фантазия его еще работала в прежнем направлении. И ему хотелось научить глупого Дрейлинга уму-разуму.
— О, Карбышев — сильный враг! — сказал майор. — Я вполне разделяю мнение вашего превосходительства. Это отнюдь не жалкий Kannegiesser[90] — Линтварев, который то показывает, то прячет свой облезлый хвост. Карбышев — большевик с очень умной политической головой. Но будем держаться старого испытанного принципа: haust du meinen luden, hau ich deinen luden. Meine Mitter erlauben mir das…[91]
Новое изобретение майора Пельтцера заключалось в проведении цикла лекций для военнопленных о победах германской армии на восточном фронте. Фюрер только что произнес свою «историческую» фразу: «Враг повержен во прах и никогда больше не поднимется». Надо исходить из этого непререкаемого указания для того, чтобы противопоставить вредительской болтовне Карбышева агитацию самого высокого качества. Только такими смелыми, перспективными приемами и можно выбить из рук советского генерала его самодельную аргументацию. Растолковывая Дрейлингу свою мысль, Пельтцер положительно захлебывался от восторга.
— Мы — нордическая раса… Мы входим в Россию как победители и несем с собой право нашей победы… Москва? Дело не в Москве… Наполеон указал нам путь… Дело в том, чтобы захватить хлеб и нефть… И мы…
Дрейлинг приказал объявить по всем баракам лагеря о первой лекции майора Пельтцера. Из просторной комнаты комендантской канцелярии выволокли мебель и расставили от стены к стене длинные ряды деревянных скамеек. К назначенному часу зал был ярко освещен. На скамьях сидели члены «трудовой» партии, повара, писари, лекпомы и старосты рабочих команд. В первом ряду высилась монументальная фигура генерала Дрейлинга. За ним — полковник Заммель и офицеры СС. Но где же те слушатели, для которых была задумана вся эта инсценировка? Где жертвы неумолимой карбышевской логики, гибельному Действию которой надлежало поставить конец? Их-то именно и не было. Адъютант подошел к Дрейлингу журавлиным шагом и доложил вполголоса:
— Они не идут.
— Почему? — вздрогнул Дрейлинг.
— Они слушают лекцию Карбышева…
Нижняя челюсть несчастного коменданта слегка отвисла, как это бывает при шоках.
— Гнать их сюда толчками, — прокричал он.
Но тут же опомнился и махнул рукой. Пельтцер уже читал свою лекцию, начав из осторожности издалека:
— Германская военная доктрина создана Мольтке, графом Шлиффеном, Бернгарди и фон дер Гольцем. Она проникнута резко наступательным духом. Незадолго до 1914 года большое влияние в Германии приобрел генерал Шлихтинг. Он разрабатывал тактику встречных боев. Его основная идея заключалась в предупреждении замыслов и действий противника посредством подавления его инициативы, сковывания его воли безудержной активностью. Что касается графа Шлиффена, он был убежденным сторонником охвата противника с флангов и его окружения…
Майор Пельтцер очень хорошо чувствовал, что по высоте своего теоретического уровня его лекция ничем не уступает множеству лекций, когда-то слышанных им в Берлинской военной академии. Но те лекции читались в переполненных аудиториях. А эта…
…И Карбышев читал лекцию — по астрономии. Кажется, еще никогда за всю свою многолетнюю профессорскую деятельность ни к одной лекции он не готовился с таким усердием, как к этой. Все, прочитанное и усвоенное им по части астрономических сведений, начиная с популярных книжек Фламмариона, Араго и Гершеля и кончая учеными трактатами Ньютона и Лапласа, трудно и медленно воскресало в его голове.
Под рукой не было ровно никаких пособий. Действовала память — одна лишь память — и так действовала, что сам Карбышев удивлялся ее необыкновенной живости и силе. Нет, он не жалел своей головы. И всего себя, целиком, он тоже не пожалел бы для того, чтобы сорвать подлейшую затею Пельтцера. Чтобы сорвать, годилось все: солнечная система, взаимосвязь планет, расстояния между ними. Карбышев говорил:
— Невооруженный глаз видит на небе более пяти тысяч звезд. В телескоп видно до 1 200 000 000 звезд. Каждая из них есть солнце и, вероятно, окружена своими планетами. Наша солнечная система несется к созвездию Геркулеса со скоростью трех-семи миль в секунду. Мы приближаемся к звезде Вега со скоростью одиннадцати миль в секунду. Земля — одна из небольших планет солнечной системы. Вся звездная куча, в которой движется земля, есть одна из бесчисленных систем. Размеры нашей системы ничтожны, — они выражаются только в миллионах миль. Диаметр и масса солнца превосходят диаметр и массу всех вместе взятых планет нашей системы. По теории Канта — Лапласа, солнце некогда представляло собой вращающуюся массу газов, — первобытный космический туман. Когда жар этой массы стал остывать, она сократилась до объема солнца. Внешние слои охлаждались и сокращались быстрее, отрываясь от главной массы кольцами. Эти кольца разрывались, образуя планеты…
Лекция имела головокружительный успех. Никогда ни одна из лекций Карбышева не имела такого успеха. Но поздно вечером в барак, громко стуча деревянными подошвами, вбежал посыльный из комендантской канцелярии. За ним — ефрейтор СС, толстяк из Нейштадта. Карбышева требовал к себе майор Пельтцер…
Разговор был короток.
— Почему вы смеете мне мешать? — раздраженно спрашивал майор, быстро ходя по кабинету, закуривая, бросая в пепельницу (львиная голова саксонского фарфора) и снова закуривая одну папиросу за другой. — Кто вам позволил читать лекции по астрономии?
— Я вижу, что вас волнует главным образом тема, — улыбнулся Карбышев, — но не все ли равно — история, коллекционирование кактусов, астрономия или вегетарианство. Ведь это — лагерь. Следовательно, астрономия и вегетарианство…
— Довольно, — запальчиво крикнул майор Пельтцер, — меня бесит ваше поведение. Вы мне мешаете. Почему на мою первую лекцию никто не явился? Почему?
— Это не секрет, — спокойно и твердо сказал Карбышев, — ваши лекции порочат честь нашей армии, они направлены против нашей Родины. Я говорю вам заранее: советские пленные присутствовать на ваших лекциях не будут.
Можно было думать, что тут-то и лопнет терпение майора Пельтцера, тут-то и взорвется он, как бочонок с прокисшим пивом. Но ничего подобного не случилось. Наоборот, майор вдруг перестал сердиться, странным, удивительным образом остыл и, как бы осадив себя на полном разбеге посреди кабинета, произнес сквозь плотно сжатые зубы:
— Хорошо! Я больше не имею с вами дела. Но жалеть будете вы, а не я. Отправляйтесь!
* * *
«Карбышевский» блок сделался самым неблагонадежным блоком лагеря. Естественно, что против него принимались крайне суровые меры. До сих пор по ночам в бараке слышался непрерывный стук. Пленные сплошным потоком выходили за надобностью, пощелкивая деревянными колодками по асфальтированным проходам между койками. Теперь это кончилось. Выходить из барака было категорически запрещено. Но в ту ночь, когда члены подпольного бюро предпринимали свой последний демарш, Линтварев все-таки сумел доставить им в блок бумагу и чернила. Принадлежности эти были «изъяты» Линтваревым у «историков» во время их пребывания на проверке. «Историки» заметили пропажу, но жаловаться боялись. А бумага и чернила были в высшей степени необходимы «карбышевскому» блоку. Майор Пельтцер собирался покинуть Хамельсбургский лагерь, и Карбышев считал, что к отъезду берлинского гостя надо приурочить коллективный протест против вопиющих уродств здешнего режима. Члены бюро не спорили. Только один, небольшого роста, по-солдатски коренастый, с жестким взглядом и жесткими седыми усами необыкновенной гущины, вдруг усомнился:
— Да ведь ничего не выйдет. Еще хуже станет…
— Согласен, — вспыхнул Карбышев, — согласен, что в этом печальном деле не будет свидетелей. Все будут жертвами. Но ведь так только мы и можем доказать правоту своей советской совести…
— Спорить нельзя, — тяжело вздохнув, сказал коренастый.
Бледный серп месяца уже прокладывал себе дорогу сквозь облака, когда члены бюро собрались в одной из камер блока и приступили к составлению протеста. Вероятно, ни один коллективно созданный документ не рождался так быстро и не требовал так мало усилий, как этот протест. Все было ясно: с чего начинать и чем кончать, и какие нужны слова, и каких слов не нужно. Крупные строчки ложились на бумагу под твердой рукой Карбышева без помарок, без исправлений. Заключенные настаивали на прекращении издевательств — прежде всего. Под издевательствами разумелись постоянные обыски и проверки, и дурацкие ученья с перебежками и переползанием, и наглая брань офицеров СС, и хамство ефрейторов, и засылка шпионов, и еще многое, многое другое. Дальше приводились факты внезапного исчезновения пленных и поднимался зловещий вопрос о расстрелах под сурдинку, которые, все учащаясь, превратились, наконец, в самое обычное дело. Говорилось о безобразной постановке лечения больных в «ревире» и о вечном отсутствии медикаментов; о голодном пайке, явно рассчитанном на физическое уничтожение пленных; о грубейшем нарушении Женевской конвенции посылкой пленных на работу… Завершался протест требованием о вызове в лагерь представителей Международного Красного креста.
— Переарестуют нас, — заметил коренастый член бюро, подписывая бумагу.
— Возможно, — сказал Карбышев, — но арест — сомнительная штука. Иногда он повергает человека в горе и бессилие. А иногда, наоборот, заряжает отвагой и силой для борьбы. Я не боюсь ареста!
* * *
Стояли сырые и холодные дни второй хамельсбургской осени. Тревожный ветер гулял по лагерю, разнося радостные слухи о начавшемся под Сталинградом наступлении. Майор Пельтцер покидал лагерь, увозя с собой горячее убеждение в совершенной бесполезности производящихся здесь экспериментов. Генерал Дрейлинг был прав, как бог. Кроме убеждения, майор увозил также обстоятельный письменный доклад графу Бредероде. Он надеялся самым положительным образом воздействовать на своего сурового начальника при личных объяснениях. Генерал Дрейлинг мог считать себя гарантированным от неприятностей. Его лагерь потеряет свои особенности и превратится в такую же простую истребиловку, как концентрационные лагеря в Дахау или в Бухенвальде. А главный виновник всех этих неизбежных пертурбаций, конечно, не ускользнет от ответственности за свои преступления. Уж об этом-то майор Пельтцер, наверно, позаботится…
«Haftling»[92] Карбышев был арестован в январе сорок третьего года и тогда же вывезен из Хамельсбурга. Вслед за ним и всех прочих советских пленных группами по пятьдесят человек стали отправлять в разные стороны, — кого в Нюрнберг, кого дальше, а кого и так далеко, что вернуться назад они уже никогда не смогли бы. В Хамельсбург прибывали сербы…
Глава сорок седьмая
Шторы в вагоне были спущены. Нестерпимо ярко горели под потолком сильные электрические лампы. Наручники тяготили глупой тяжестью, постоянно возвращая мысль к бедствиям рабства. Но перед самым Берлином все изменилось. Лампы потухли. Молоденький лейтенант СС, весь пропитанный сладким запахом папирос «Виргиния», снял с Карбышева наручники.
— Что случилось?
Лейтенант вежливо ответил:
— Если я не ошибаюсь, господин генерал, предстоит обмен.
— Какой обмен?
— Ведутся переговоры об обмене пленными. Вы будете обменены на одного очень крупного германского генерала.
«Недурно, — подумал Карбышев, — только хорошо бы разнюхать, в чем именно фокус…»
…Машина с высоким кузовом несла Карбышева по прямым берлинским улицам навстречу бесчисленным легковым авто, грузовикам с прицепами, юрким велосипедам и звенящим трамвайным поездам. Мелькали красно-желто-зеленые вагоны городской железной дороги. За спиной Карбышева сидели два вооруженных гестаповца. Город, таинственный и грозящий, все глубже раскрывался перед Дмитрием Михайловичем своим живым, взволнованным нутром…
Вращающиеся двери гостиницы плавно крутились, впуская и выпуская. Их стекла ослепительно сверкали при каждом глотке. Так проглотили они и Карбышева.
Отель был из самых больших и удобных в Берлине. Директор, почтенный седой старичок с орденом, встретил нового постояльца, кланяясь. Гестаповцу остались в вестибюле, затерявшись между колоннами. Но, поднимаясь по лестнице, Карбышев все-таки заметил, как к ним подошел молодой полицай-офицер в зеленой фуражке. Естественно. Но прочее выглядело сверхестественным. Номер в бельэтаже состоял из спальни, кабинета и гостиной.
— Это очень удачно, — сказал, кланяясь, старичок с орденом, — сегодня утром отсюда выехал господин директор «И. Г. Фарбениндустри». Таким образом, для господина русского генерала освободилось прекрасное помещение. Меню… Не угодно ли? Фриштик… Миттагэссен… абендэссен…[93]
Старичок вышел, продолжая кланяться. На письменном столе лежал свежий номер «Берлинер иллюстрирте нахтаусгабе». Радиостанция Геббельса, надрываясь, кричала из решетчатого ящичка о скорой победе. Мысли вместе с пульсом ударяли в виски Карбышева. И в то же время он как будто спал. Это было странное состояние, неловкое от какой-то неполноты: хотелось думать, но по-настоящему не думалось, так как мысли бились в висках, никуда не выходя из головы. Собственно, была лишь одна мысль, старая-престарая: чем лучше, тем хуже. Единственное спасение человека, попавшего в положение Карбышева, — внутренняя собранность, — то, что дается одной лишь цельностью мировоззрения. Карбышев спрашивал себя: «Кто я?» И отвечал: «Чем они со мной лучше, тем я с ними хуже… Вот — кто я!» Да, конечно, людям маленькой жизни нужна правота; а людям большой — правда. «Вот кто я!»
* * *
Кельнер вручил Карбышеву визитную карточку: «Гейнц Раубенгеймер, профессор, лауреат Нобелевской премии». Около двух десятков лет прошло с тех пор, как в немецкой фортификационной литературе впервые появилось это имя, сразу завоевав известность и пристальное внимание к себе. Статьи и книги Раубенгеймера всегда очень интересовали Карбышева. Правда, все, что выходило из-под пера этого ученого, несколько отдавало затхлостью и давило, как мертвый шаблон. На свежесть и оригинальность работы Раубенгеймера не претендовали. Но глубокая эрудированность автора придавала им несомненную значительность. Так именно казалось Карбышеву, когда он следил за выступлениями Раубенгеймера в специальной литературе.
В комнату вошел высокий немолодой человек с лисьей мордочкой, в очень хорошо сшитом коричневом пиджаке. Он с такой осторожностью передвигал ноги, как будто пол под ним прыгал, и улыбался, показывая при этом не только зубы, но и десны. Карбышев ожидал увидеть старого прусского бурша, из тех, что в студенческие времена уродовали друг другу физиономии тупыми шлегерами; однако лауреат Нобелевской премии был вовсе не таков: настоящий тип ученого, не без хитрецы, но и без всяких признаков наглости. Он наносил визит, — коллега — коллеге, — и делал это с соблюдением всех правил общепринятой с давних времен вежливости. Карбышев понимал по-немецки, но говорить не мог. Да если бы и мог, то не стал бы. И, словно догадываясь об этом, гость прежде всего осведомился, удобно ли Дмитрию Михайловичу вести беседу на французском языке. Беседа оказалась короткой: Раубенгеймер просидел минут пятнадцать, не больше, то есть ровно столько, сколько должен продолжаться «визит знакомства». Карбышеву был интересен этот человек, но он старался держать себя в собранном состоянии, ежесекундно ожидая подвоха, и потому говорил мало, — почти ничего не говорил. Однако никакого подвоха не последовало. О войне гость упомянул всего лишь один раз, высказавшись несколько парадоксально:
— Может быть, Мартин Лютер и прав: «Если война сберегает жену, детей, двор, имущество, честь, если она сохраняет и отстаивает мир, то она — славное дело». А может быть, и Лютер не прав, так как не сводится же все на свете к одному лишь гусю с яблоками…
В остальных своих частях разговор состоял почти исключительно из комплиментов по адресу «знаменитого русского военного инженера», имя которого стоит так близко к имени графа Тотлебена, и из решительных стараний Карбышева отвести от себя чрезмерные похвалы. Поднимаясь с кресла перед тем, как уйти, гость снова обнаружил вместе с деснами свою незаурядную предупредительность:
— Чтобы сделать нашу следующую встречу наиболее удобной, я позволю себе прислать завтра за вами мою личную машину, генерал, — сказал он, улыбаясь.
* * *
И назавтра все было весьма прилично. Карбышеву доложили:
— Машина ждет, господин генерал.
Он спустился в вестибюль. Здесь к нему подошел тот самый молодой человек, которого он видел вчера в зеленой фуражке полицай-лейтенанта. Сегодня он был в мягкой фетровой шляпе. Естественно. Карбышев — пленник. Они вместе сели в прекрасный «Мерседес-Бенц» со звездой на капоте, и город понесся назад в стремительном разлете. На одной из уединенных, окраинных улиц машина остановилась перед очень большим серым домом.
— Здесь живет господин Раубенгеймер?
— Нет. Он здесь работает, господин генерал.
Это было первое, что несколько удивило сегодня Карбышева и заставило его потуже затянуть внутри себя какой-то важный узелок. Он вступил в кабинет Раубенгеймера, готовый встретить все, что угодно, но только не то, что увидел. Увлекаемый своей необыкновенной, табетической походкой вперед и вперед по мягкому дорогому ковру, к нему быстро подвигался лауреат Нобелевской премии, сверкая отвратительной улыбкой на лисьем лице и позвякивая густо навешанными на эсэсовский мундир орденами — железными крестами первых двух классов и еще золотым германским. Карбышев не верил глазам. Раубенгеймер — эсэсовец?
— Я только что вернулся от премьер-министра Пруссии и главного лесничего господина Германа Геринга, — сказал Раубенгеймер, — и потому выгляжу попугаем. Очень прошу меня извинить и не подозревать в недостатке уважения к вам, господин генерал. А мундир… Я — на работе. Что же делать? Я — глава большого военно-инженерного учреждения. Что делать?
Все шире открывая синие десны и все громче звеня крестами, Раубенгеймер любезничал:
— Wunschen Sie rauchen?[94] Простите, я забыл, что вы и не курите и не говорите по-немецки. Я хотел вам сообщить, что сегодня, когда я был у премьер-министра Пруссии и главного лесничего, мы много говорили о вас. Вы очень популярны в Германии вообще и в наших высоких кругах особенно. Герман Геринг очень интересовался вами. Но я почти ничего не мог ему сказать, так как его вопросы относились главным образом к вашей политической биографии. А я, по правде, даже не знаю, принадлежите вы к партии коммунистов или нет. Меня это совершенно не касается. Мы, деловые люди…
— Что же вас касается? — сквозь зубы спросил Карбышев.
Сражение началось, и он принимал бой.
— Я знаю вас как ученого, — сказал, продолжая улыбаться, Раубенгеймер, — я читал вашу книгу о разрушениях и заграждениях, — эту в высшей степени авторитетную работу. Читал много ваших статей. Мне известно…
Он развернул пухлый досье, лежавший на столе, и быстро перелистал его.
— Мне известно еще следующее: профессор, доктор военных наук, генерал-лейтенант, родился в Омске, шестидесяти трех лет… Все.
— Непременно добавьте: коммунист.
— Стоит ли? Я отлично представляю себе, что ваше высокое положение в советских войсках обязывало вас к вступлению в партию — точь-в-точь, как это произошло и со мной. Но мне кажется, из этого вовсе не следует, чтобы вы считали для себя партийную программу коммунизма символом вашей политической веры. Я, например, оставляю за собой…
— Мне нет никакого дела до того, как поступаете вы…
Карбышев внимательно посмотрел на скверные зубы и синие десны Раубенгеймера и договорил:
— А мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. И от того, какое общественное положение я занимаю в настоящее время, моя идеология ни в какой мере не зависит. Я принял на себя долг коммуниста, благодаря партию за честь и доверие. И при всяких условиях — решительно при всяких — сохраню свою честь и партийного доверия не обману.
— Пфуй, как мне жаль, что я затронул этот дискретный и, собственно, малоинтересный вопрос. Мы — приблизительно одних лет, но вы, как я вижу, много моложе меня, — задорны и способны волноваться из-за пустяков. Bleiben Sie ruhig! Bleiben Sie ruhig![95]
Он налил воды в стакан.
— Я отнюдь не хочу говорить с вами о политике. Моя тема — товарищество и помощь. Я уважаю ваши знания и ваше ученое имя. Мне больно видеть вас, генерал, в этом состоянии вынужденной бездеятельности. Для человека, привыкшего работать в науке, насильственное выключение из области умственных интересов — страшнее всякой каторги. Можете поверить, что я немало потрудился для того, чтобы вы оказались в Берлине. Да, да, это моих рук дело. И разве не естественно, что мне хотелось увидеться с вами и вывести вас из небытия? В Германии привыкли ценить людей высокого интеллекта. Таким людям у нас обеспечен почет.
Раубенгеймер помолчал. Карбышев разглядывал потолок.
— Я уполномочен моим командованием, — осторожно выговорил, наконец, лауреат Нобелевской премии, — предложить вам условия, на которых вы могли бы работать совершенно так же, как работали всю вашу жизнь.
— Например?
— Пожалуйста. Вы освобождаетесь из лагеря. Вы живете в Берлине как частный человек, но жалованье получаете по чину. Вы…
— Чем я заслужу эти блага? — с любопытством спросил Карбышев.
— Пожалуйста. Вы будете вести вашу обычную научную работу. Посещать библиотеку генерального штаба, проводить мероприятия научно-испытательного характера, можете организовать конструкторское бюро и лабораторию, руководить своими помощниками, выезжать для проверки ваших расчетов в полевых условиях на любой фронт, — кроме восточного, конечно, — и заниматься всякого рода научными обобщениями, совершенно самостоятельно выбирая для них темы…
— Блестящие условия!
— Не правда ли? Это — очень великодушное предложение со стороны германского командования. Его нельзя не оценить по достоинству. И я горд, дорогой генерал, тем, что именно мне поручено передать его вам.
— Я способен оценить это предложение по достоинству, — сказал Карбышев, — но у меня есть вопросы.
— Прошу вас, — спрашивайте.
— Что вы будете делать с моими работами?
— Мы будем их… смотреть.
— Для чего?
— Для того, чтобы использовать.
— Но я не могу и не хочу быть вам полезным. Ведь я присягал на верность моей Родине.
— Да, это так… Однако вы никому не обещали выбросить за окошко свою ученую квалификацию.
— Не заботьтесь об этом. Я обещал не изменять. И скорее умру, чем…
Раубенгеймер вдруг перестал улыбаться.
— Не торопитесь с отказом, генерал, — сердито сказал он, — прежде хорошенько подумайте. У вас будет для этого несколько дней. И знайте: от вашего решения зависит все, что произойдет с вами дальше.
Неужели дело в том, что война вступила в новый период, вопросы обороны Германии начинают обостряться, и отсюда — этот нажим? Карбышев встал. И Раубенгеймер поднялся. Они стояли друг против друга и молчали. Карбышев думал: «А ведь этот медный фашистский лоб самым искренним образом не понимает, почему его предложение — позор для меня. И попробуйте-ка ему втолковать, что голод, пытки, смерть — ничто перед бесчестьем…» Говорить стало не о чем.
— Прощайте, господин Раубенгеймер, — сказал Карбышев и повернулся к двери.
* * *
Второго февраля завершилась ликвидация фашистских войск в Сталинграде: фельдмаршал Паулюс, шестнадцать генералов и множество солдат сложили оружие и сдались в плен. Звонкие крики газетчиков примолкли. Испуганный шепот расползся по всем углам холодного, строго разбитого на правильные квадраты города. Третьего февраля был объявлен трехдневный траур, и в звуках печальной музыки потонул Берлин. Флаги приспущены, физиономии унылы. Не только на улицах и в домах, но даже и на вокзалах рейхсбана[96], на веселеньких платформах форортбана[97], в вагонах рингбана[98], — везде сделалось тихо, тихо.
В один из этих трех дней Карбышева доставили из гостиницы на Принц-Альбрехталле, в то самое страшное место, где плело свою преступную паутину центральное управление гестапо и имел резиденцию главный шеф германской тайной полиции Генрих Гиммлер. На площадке четвертого этажа Карбышева сухо приветствовал майор Пельтцер.
— Следуйте за мной!
Еще несколько шагов по коридору; открывается одна дверь, потом — другая; и вот Карбышев в просторном кабинете перед высоким, худым человеком в черном эсэсовском мундире с грубым, точно у фигуры со старинного рыцарского надгробия, лицом и длинной, как соска, верхней губой. Глаза этого человека жгуче блестят; взгляд — зоркий, нагло проникающий в душу. «Параноик»…
— So![99] — говорит граф Бредероде. — В Бресте вы были моложе. Ха-ха-ха! Курите. Это хорошие английские сигареты «North State B1…» Что? Не курите?
Вы правы. Но правы далеко не во всем, генерал. У вас психология мелкого шпицбюргера, — вам не нужно больше того, что вы имеете. А что вы имеете? Известно, что в России Сибирь начинается от Вислы. Русские — люди без души. Нет, мы — из другого теста. Победоносная душа нашего народа одинаково сильна как в поражениях, так и в победах.
— Может быть, в поражениях еще сильнее?
Глаза Бредероде блеснули.
— Да, именно так. Наш народ видит в поражении шаг к победе. Вам этого не понять. Вы, русские, — примитивные люди. Вы упорны, как… Я говорю вам прямо: человек ваших лет выйти из лагеря живым не может. Он непременно умрет там. Недавно вам было сделано превосходное предложение, за которое вы должны были бы ухватиться. А вы… Чего вы хотите? Чего вы не хотите?
— Я не хочу иметь дело с шантажистами, вроде господина Раубенгеймера.
— Как вы смеете говорить подобные вещи? В Хамельсбурге вы издевались над моим адъютантом Пельтцером, над почтенным генералом Дрейлингом. А здесь оскорбляете «старого борца»[100] Раубенгеймера. Пытаясь устроить вашу судьбу, он приехал к вам…
— Он приехал ко мне как ученый инженер, как профессор. Но это — шантаж, потому что на деле он такой же… эсэсовец, как вы…
— Мундир? Глупо, генерал, глупо. Что такое мундир? Тряпка, как и всякая другая. Было время, когда я видел кайзера Вильгельма II в красном бархатном плаще ордена Черного орла. А чем это кончилось? Судить о людях по мундиру, который они носят, — чепуха.
— Не всегда.
— Ну-н?
— Мундир СС отличается от всех прочих тряпок необыкновенным свойством. Разум людей, которые его надевают, вывихнут на сторону, а сердце обросло щетиной…
Карбышев взглянул в глаза Бредероде и замолчал. Глаза эти были холодны, как зимнее небо, и полны тяжелой, непримиримой, жестокой ненависти.
— От вас не требуется ничего, кроме лойяльного отношения к фюреру и его власти. Вы же не хотите быть лойяльным.
— Не хочу.
— Тогда…
Два офицера СС впихнули Карбышева в лифт. Кабина стремительно опустилась с четвертого этажа в подвал. Дверь ее открылась. Несколько пинков в шею и спину живо продвинули Карбышева по коридору. Опять — открытая дверь. За ней почти пустая, кругом зацементированная, одиночная камера с ослепительно яркой лампой под потолком. Дверь захлопнулась. Карбышев протянул руку к графину с водой. Ему показалось, что вода мутновата. Но он очень хотел пить и налил в кружку. Напрасно. Едва его губы коснулись жидкости, как сейчас же и отдернулись: вода имела вкус раствора из-под соленых огурцов…
* * *
Через несколько суток пребывания в берлинской тюрьме гестапо жажда, терзавшая Карбышева, сделалась нестерпимой. Две или три ночи он не спал совсем, — отчасти от жажды, отчасти из-за постоянного, ни на миг не притухавшего яркого света, от которого болели и гноились глаза. Пытка? Настоящая. Карбышев объявил голодовку, перестал есть. Он неподвижно лежал на койке, закрыв глаза руками, и думал. О чем только не передумал он за эти четыре дня! На пятый — притушили свет и принесли хорошей, чистой и свежей воды. Он стал понемножку есть, следя за тем, как прозрачная легкость, до краев заполнившая его тело во время голодовки, постепенно вытеснялась из него пищей. А это была удивительная, чудесная легкость: Карбышев лежал на койке и вместе с тем ходил по облакам, — per aspera ad astra[101]. Это было странное состояние, похожее и на сон и на обморок, но еще больше — решительно ни на что не похожее.
Когда оно мало-помалу исчезло, в камеру вошел человек с низким, звериным лбом и перешибленным носом. Он поставил свой портфель на пол у двери, аккуратно прислонив его к стенке, и сказал, пристально вглядываясь в изможденное, землистое лицо Карбышева, как бы обскабливая его глазами:
— Позвольте представиться, господин генерал: советник по особо важным делам политической юстиции Эйнеке. Чтобы сразу же исключить всякую возможность возникновения разговоров о шантаже, ставлю вас в известность, что я — старый член национал-социалистской партии и глубоко убежден в том, что СС есть моральная опора армии, гарантирующая ей безопасность со стороны тыла.
— Что вам нужно? — спросил Карбышев.
— Получите и распишитесь в получении.
— Что вы мне принесли?
— Тысячу марок.
— Что за марки?
— Это — отобранные у вас деньги.
— Когда они были отобраны?
— Когда вас брали в плен.
— Не помню.
— Естественно. Вы были без сознания. Теперь эти деньги возвращаются вам.
— Они мне не нужны.
— Вы ошибаетесь. Деньги не могут быть лишними. Получите и распишитесь…
Советник по особо важным делам развернул ведомость.
— Вот здесь.
Карбышев увидел свою фамилию. Шкура на голове Эйнеке быстро задвигалась взад и вперед.
— Пусть вас не смущает название этой ведомости. Денежные операции требуют тщательного оформления в документах. В конце концов, не все ли равно? Вы распишитесь в ведомости о выплате жалованья пленным офицерам «НОА», но… ведь никому же и в голову не придет считать вас состоящим на германской службе: Я знаю, какие великолепные предложения вам делались. Однако пренебрежение, с которым вы их отвергли, еще великолепней. Так что…
— Вон, негодяй! — крикнул Карбышев, вдруг все поняв и почти задыхаясь от ярости. — Вон, падаль!
— Потише, приятель, — грозно сказал Эйнеке, кладя руку на револьвер, — я и не собираюсь тебя принуждать. Не хочешь? Черт с тобой!
Он поднял с пола свой портфель, сунул в него ведомость и, покрутив кулаком перед самым лицом Карбышева, быстро вышел из камеры.
Карбышев долго сидел на своей койке в неподвижной позе бесконечно усталого человека. Его маленькая, сжавшаяся в комок фигура казалась в эти минуты живым олицетворением бессилия. Всякий, взглянув на него, так бы именно и подумал. А между тем никогда еще, с самого начала своих невзгод в плену, Карбышев не был так далек от «скисания», как теперь. Раньше он говорил: «Чем лучше, тем хуже». Теперь же мог сказать: «Чем хуже, тем лучше». Полоса физических и моральных страданий, которую развернули перед ним берлинские гестаповцы, не пугала его нисколько. Как началась эта полоса, так и кончится, — когда-нибудь. Но спотыкаться, оступаться, сходить с этой полосы Карбышев не собирался, как не собирался, впрочем, и падать под ударами. Надо было отбиваться и идти к концу. Надо было верить в свою испытанную двужильность…
И Карбышев ничуть не сомневался в своих силах. Настолько не сомневался, что, разделавшись с Эйнеке, в тот же день объявил вторую голодовку и голодал целую неделю.
* * *
В лагере под Берлином, куда вывезли Карбышева «на поправку», все было более или менее по-хорошему. Кормили, правда, скверно и вкусным словом «Thee»[102] называли густой настой из какой-то вываренной травы. Но не издевались, не шантажировали, не мучили репрессиями. Карбышев очень быстро пришел здесь в себя, стал попрежнему подвижен и бодр; взгляд его умных, горячих глаз оживился, и по губам заскользила легкая, беглая полуулыбка. В лагере о нем говорили: «Der Russe ist nicht dumm!»[103] Чаще всего ему приходилось иметь дело с молоденьким, вежливым лейтенантом — тем самым, который снял с него наручники в поезде перед Берлином. Этот лейтенант продолжал источать сладкий запах папирос «Виргиния», но носил теперь не эсэсовскую форму, а какую-то совсем другую, чуть ли не дивизии противовоздушной обороны «Шайнверфф», со знаком прожектора на рукаве. Однажды он сказал Карбышеву:
— А я не ошибался, когда, если помните, говорил, что вы назначены для обмена, господин генерал.
— Думаю, что ошибались.
— Нет. Вы скоро убедитесь в этом.
С каждым днем режим в подгородном лагере смягчался. Пленные открыто читали «Фелькишер беобахтер». Карбышев видел в чьих-то руках «Ангрифф». Объяснение напрашивалось. Конечно, дело было не в том, что какой-то Бредероде морально переродился или Эйнеке перестал быть животным, а в тех событиях, которые совершались на «русском» фронте. Наголову разбитые гитлеровцы отскочили от Сталинграда. Это значит, что фашистский тигр тяжко ранен и видит перед собой конец. Режим не просто смягчается, а трещит, так как ломается ход войны. Отсюда — многое. С одной стороны, официальная болтовня о «решающем весеннем наступлении»; с другой — трусливый шепот тюремщиков: «Россия — страна большая, разве можно с ней справиться…» Характер и исход войны определяются политикой классовой борьбы воюющих сторон, — в этом суть. Фашистский тигр смертельно ранен и должен погибнуть. Предчувствие конца было особенно ясно видно на смущенных лицах лагерных офицеров, когда советские войска пошли в наступление на Харьков. Двадцать второго февраля, — четверть века Красной Армии, — лейтенант с прожектором на рукаве, многозначительно улыбаясь, сказал Карбышеву:
— Поздравляю, господин генерал.
— С чем?
— Сегодня мне приказано сопровождать вас в Берлин. Очевидно, вопрос об обмене решен.
* * *
На Курфюрстенштрассе стоял красивый особняк. Ионические колонны подпирали портик с отполированными до блеска входными дверями. Лестница вела наверх, сверкая чистотой, и медные шары на поворотах ее перил горели, как маленькие круглые солнца. Большой, темносерый, наглухо завешенный лимузин подвез Карбышева к этому прекрасному дому…
…В отличие от многих других должностных кабинетов, которые Карбышев успел посетить в Берлине за последние три месяца и которые, как правило, не поражали пышностью, этот был роскошен. В ровном свете лампы, спокойном и ласковом, дубовая мебель, ковры и гобелены казались загадочной фантасмагорией. Карбышев смотрел на хозяина кабинета и почему-то никак не мог понять, какой он: большой или маленький, старый или молодой? Точно экраном затуманенной мысли был отгорожен от него этот человек в коричневой куртке нациста с серыми петлицами под золотыми нашивками и множеством звездочек. На рукаве — повязка со значком «Дубовый лист». Да и не одна куртка коричневая, — весь этот человек того же цвета, — и револьверная кобура, и бриджи, и сапоги. Карбышев все еще не видит его как следует, но уже отдает себе отчет в том, что это очень жирный, злой и веселый человек. Жмуря глаза, как кот, чтобы лучше видеть добычу, он легко подвигает к Карбышеву глубокое, удобное кресло.
— Садитесь, генерал. Располагайтесь, прошу вас.
Он говорит по-русски совершенно свободно, почти без всякого акцента. Вот — передвижной чайный столик. На нем — две рюмочки ликера, сыр и сигары «Ортолан». Речь хозяина разливается, как река между широких берегов. Он старается говорить как можно небрежнее, безыскусственнее, придавая вместе с этим своему лицу выражение игривой беспечности.
— Да какой же вы советский генерал? Вы для меня просто милый человек. Немец, который любит вальс и пиво, не любит натянутости. Я — именно такой. Кроме того, я восемь лет прожил в России. Скажу вам по секрету: я был тогда коммунистом. Да, да… Потом разошелся с общей линией и уверовал в национал-социализм. Бывший коммунист — начальник германской контрразведки, ха! Но это не странность и не парадокс. У нас к таким вещам относятся очень толерантно…[104]
Карбышев вспомнил насильно распространявшиеся между пленными в Хамельбургском лагере толстые антисоветские книги К. Альбрехта.
— Действительно, — говорил Альбрехт, — разве и вы и я, разве мы оба не социалисты? Вы — убежденный коммунист…
— Да, я убежденный коммунист.
— Что же вы находите хорошего в том, чтобы быть коммунистом? Что дал коммунизм вашей стране? Почему в этой несчастной, братоубийственной войне, закончить которую скорейшим миром есть первый долг каждого из нас, вы так тесно связываете свою судьбу с судьбой коммунизма? Почему, наконец, вы так уверены в победе России? Разве в Семилетнюю войну русские не были в Берлине? Но немцы выгнали их из Пруссии домой…
— Вы не знаете истории вашей родины, господин Альбрехт.
— «Господин Альбрехт»? Зачем это? Прошу вас, — зовите меня по-русски: Карл Карлович… И ответьте мне, пожалуйста, просто и искренне на мои недоуменные вопросы. Не будем спорить насчет Семилетней войны. Будем говорить о сегодняшнем, о завтрашнем дне. И вы, в самом деле, полагаете, что за вами право победы в этой войне?
— Несомненно.
— Почему?
— Потому что социалистическое общество, построенное в нашей стране, есть высшее достижение мировой истории. И естественно, что нет войны справедливей, чем та, которая ведется во имя защиты страны социализма.
Радужное сияние добродушного смеха, которым озарялось до сих пор круглое лицо Альбрехта, вдруг исчезло. Альбрехт побагровел — из-за ушей, из-под скул кирпичные пятна так и поползли на его жирные щеки и потный лоб. Ему стало душно — он быстро оттянул рукой тугой и жесткий воротник своей куртки.
— Вы хотите взять Германию голодом, — прохрипел он, — но если вы считаете это справедливым, то мы находим, что еще справедливее, когда ваши пленные голодают в наших лагерях. Мне жаль вас, генерал. Придет такое время, когда вы скажете: Карл Карлович, я к вашим услугам. Но будет поздно.
— Такое время не придет.
— Придет. Откажитесь-ка лучше от ваших идиотских взглядов. Тогда мы гарантируем вам жизнь и положение генерала. Иначе вы сдохнете, клянусь!
— Возможно. Но советские генералы совестью не торгуют. Придется умереть, — умру как солдат. Я — коммунист.
Альбрехт так брякнул по столу своим свинцовым кулачищем, что звон пошел по его роскошному кабинету.
— Довольно! Вы — непримиримый враг национал-социалистского государства. Таким, как вы, нельзя давать дышать. Их надо давить, давить… Надо их резать, кромсать… Gangrena spontana…[105] Резать, резать…
В кабинет вбежали адъютанты, секретари, стенографы.
— Взять его! — кричал Альбрехт. — Убрать!..
Когда Карбышева увели, он еще некоторое время продолжал кричать. Но постепенно из этих беспорядочных криков ненависти все отчетливее и отчетливее начинало складываться вполне членораздельное приказание:
— Изготовить листовку… Текст: «Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев… перешел на службу Германии. Ваше дело пропало… Сдавайтесь, потому что ваши лучшие люди перешли к нам… Сдавайтесь!» Разбрасывать с самолетов… Тираж…
Альбрехт крупными глотками пил холодную воду. Его зубы мелко стучали о край стакана, и ему казалось, что в этом стуке ясно повторяются недавно произнесенные им в горячке гнева слова: «Gangrena spontana…»
* * *
На песчаной равнине, по обеим сторонам реки Пегниц, лежит древний германский город Нюрнберг, — чистенькие, неровные улицы; дома со шпилями и высокими крышами; на фасаде почти каждого дома — большое окно со скульптурой и цветком; на площадях — фонтаны со статуями; сквозь серый фабричный дым — замок с башнями, стены и зеленые рвы. Старинная слава города — строгая кисть Альбрехта Дюрера и веселые песни сапожника Ганса Закеа. Теперь же Нюрнберг славится тюрьмой гестапо.
Еле-еле светятся в ночном тумане фиолетовые огоньки. У двери такой глухой вид, что открыть ее кажется невозможно. Но вот что-то щелкает, и между двумя многоэтажными домами, которые сходятся наверху, распахиваются ворота. Обнаруживается большой, совершенно пустой двор. Карбышев идет через двор; при нем — двое конвойных. Опять что-то щелкает, и ворота позади закрываются. Маленький подъезд… Маленькая приемная… Люди: на голове — — шлем, на плечах — пиджак, на боку — противогаз, на ногах — высокие военные сапоги и на груди — этим решается все, — нацистский значок. Эти люди быстро подступают к Карбышеву и с профессиональной, фокусной ловкостью обыскивают его. Осматривают личные вещи и составляют опись. Наспех заполняют анкету. Затем Карбышева ведут в камеру. Это — очень небольшая комната. В ней набито двадцать пять заключенных. Откидные кровати пристегнуты к стенам. Постели — на полу. Ночь кончается. Сигнал к подъему. Заключенные вскакивают. Дверь камеры пропускает ведро не то с кофейной бурдой, не то с кипятком на муке, не гуще свиной болтушки…
Вступает в дело ефрейтор СС Теодор Гунст. Как и всегда по утрам, он звероподобен, — придирается, грозит, замахивается. Но бить не смеет. Времена, когда за малейшее отступление от тюремного ритуала — за складку на одеяле, за крохотное пятнышко на котелке, — Гунст бил, увечил, даже убивал заключенных, — эти времена прошли. Гунст орет, разносит за пыль, за плохо сложенные в углу постели, но… режим уже не прежний. Гунст — исполнитель; а режим — сам по себе.
Днем раздается обед: двести граммов хлеба на два раза и суп из кольраби; на второе — две-три небольшие картофелины или каша. Как и в лагерях, в нюрнбергской тюрьме гестапо все рассчитано на физическое воздействие; желудок подвергается воздействию в первую очередь. Гунст свирепствует весь день. Заключенные избегают взгляда его синевато-серых глаз, застывших в холодной глубине упрямого фанатизма и нескрываемой жестокости. Человек с такими глазами может сделать все. Если не делает, — значит, чего-то боится. Подходит вечер. Постепенно на Гунста спускается благодать мира, тишины и хитрых улыбок. Роздали по двадцать граммов колбасы или по куску маргарина, пропитанного керосиновым запахом. Гунст запер дверь в широкий коридор: никто из начальства сюда больше войти не может. Он ставит свою винтовку в угол и открывает двери камер.
— Ein — zwei — drei, ander Stuck Manier![106] — говорит он с рукой у козырька, — пожалуйте гулять, господа русские пленные!
И заключенные выходят из камер на простор двухметрового по ширине коридора и гуляют, превращая его в аллею для шаркающих ног. А Гунст, честно закончивший свой казенный рабочий день, превращается в самого себя, то есть в старого берлинского слесаря, — перестает быть «наци» и снова становится «соци». Он до отказа набивает свою трубку сушеными древесными листьями, которые официально называются трубочным табаком «Победа», и, дружелюбно улыбаясь, поглядывает на гуляющих. Иногда его охватывает шаловливое настроение. Тогда он разыгрывает пантомиму, — прыгает, как бесноватый, хлопает себя обеими руками по заднице, рычит и стонет. Заключенные окружают его и хохочут. Они уже знают, в чем дело: Гунст изображает, как кому-то наложили в Африке или еще что-нибудь подобное.
Но утром Гунст снова свиреп: ругается, орет, замахивается на тех, кому вечером отдавал честь, — исполняет инструкцию со всем усердием и точностью, на которые может быть способен такой человек, как он.
* * *
Инструкция требовала, чтобы Гунст выводил заключенных в коридор также и в утренние часы, но только не для прогулок, не всех сразу, а лишь на то время, пока уборщицы наведут порядок в камерах. Карбышеву была известна история одной из этих уборщиц — молодой голубоглазой женщины, бледной, как смерть, с живыми ноздрями. Ее историю знала вся тюрьма. Она была немка, а муж ее — еврей. Фашисты убили ее мужа. Рассказывая об этом Карбышеву, Марта говорила:
— Они меня так дурачили, так дурачили… Я до того дошла, что совсем было поверила, будто правильно сделали «наци», когда убили моего мужа. Но теперь…
Марта чего-то не договаривала. Однажды, вернувшись из коридора в свою камеру после уборки, Карбышев нашел у себя под подушкой три десятка печеных картофелин, кусочек сливочного масла в пергаменте и щепотку соли в спичечной коробке. Откуда? Карбышев и сам не сумел бы объяснить, почему на следующий день он задал этот вопрос именно Марте.
Молодая женщина понимающе кивнула головой. Ее прозрачные, голубые, цветочные глаза сверкнули, на бледных щеках зажегся румянец, ноздри раздулись, как паруса, и мученическая красота на мгновение сделалась вызывающей.
— От Frau Doktor! — шепнула она и стремглав выскочила из камеры.
С тех пор она не отвечала больше ни на один вопрос Карбышева. А когда он спрашивал о фрау Доктор, смеялась и немедленно убегала. Однако подарки под подушкой не переводились…
* * *
Допросы с заключенных снимались в тюремной канцелярии под ярким до отвращения, мертво-холодным блеском необыкновенно сильных электрических ламп. Обвинение предъявлялось обычно по двум пунктам: 1) антифашистская пропаганда и 2) попытка к бегству из плена. Допрос служил юридической формой для обвинения. А за обвинением — следовала отправка в штрафной концентрационный лагерь.
Когда Карбышева привели на допрос, он очутился в ярко освещенной комнате тюремной канцелярии вдвоем с переводчицей, полной и веселой рижской немкой в широкой и короткой клетчатой юбке. Следователь находился в соседнем помещении, за стеной. Дверь туда была открыта. Карбышев видел машинистку, руки которой так и подскакивали над клавиатурой бесшумной пишущей машинки. Но следователь сидел, вероятно, где-нибудь в углу, — его не было видно, и от этого вопросы, которые он задавал, получали какую-то особую, таинственную значительность.
— Вы не верите в нашу победу и ведете пропаганду в этом духе? — спрашивал он.
— Да, — громко отвечал Карбышев, — не верю в вашу победу и высказываю свои взгляды. Но чего вы от меня хотите? Я — советский генерал, люблю свою Родину и сражался за нее. Я присягал на верную службу Родине. Чего вы от меня хотите?
В конце концов этот допрос был, конечно, всего лишь условным приемом, необходимым для того, чтобы отправить Карбышева на каторгу. Дмитрий Михайлович слышал, как следователь диктовал машинистке акт допроса:
— Разделяет коммунистические взгляды и ведет коммунистическую пропаганду. Призывает пленных к восстанию и бегству.
Карбышева беспокоил не ход и не результат допроса, а совсем другое: он никак не мог отделаться от неприятного чувства, связанного с голосом следователя. Ему казалось, что он знает этот голос, где-то слышал его. Где? Переводчица вышла в соседнюю комнату и вернулась назад с актом. Она улыбалась. Клетки на ее юбке красиво играли в складках.
— Вам надо подписать этот документ.
Карбышев взял бумагу и, не торопясь, стал ее проглядывать. Отвечая на вопросы следователя, он ни слова не сказал о том, что готовил пленных к восстанию или к бегству. Но в акте это значилось. Вероятно, все, что в нем было написано, не имело большого значения, но… подписывать эту филькину грамоту все-таки, пожалуй, не стоило.
— Готово? — спросил следователь из-за стены.
— Нет, он читает, — сказала переводчица, кокетливо улыбаясь Карбышеву.
— Как — читает? Разве он так хорошо знает немецкий язык?
— Да, повидимому…
Следователь стремительно выбежал из своего укрытия, двигая ушами и высокой зеленой фуражкой на голове.
— Какого же черта вы не отвечали мне по-немецки?
— Меня спрашивали по-русски…
Увидев, наконец, следователя и сразу узнав его, — Эйнеке, — Карбышев вдруг испытал странное облегчение, — не потому, конечно, что Эйнеке казался ему чем-нибудь лучше другого следователя, а просто от самого факта: знакомый голос, знакомый негодяй, и не нужно догадываться, с кем имеешь дело.
— Подписывайте! — приказал Эйнеке, упирая в Карбышева свой колючий и злой взгляд.
— Не буду!
— Почему?
— Я не говорил того, что здесь написано.
— Вы не говорили мне, но говорили пленным. Вы говорили, например, так: «Первомайский приказ Сталина подвязал новые крылья советским войскам. Никогда их уверенность в победе не была тверже. Май сорок третьего года — памятный май». Говорили?
— Да.
— Подписывай!
— Не стану.
— Все равно! Подпишешь или нет, участь одна!
Что такое героизм коммуниста? Что такое самопожертвование коммуниста перед лицом долга? Наиболее яркое проявление силы партийного сознания — это и есть его героизм.
— Не подпишу! — твердо сказал Карбышев.
* * *
Поздно ночью радио закричало на всю тюрьму: «Внимание! Внимание! Головные самолеты боевого соединения противника… курс на запад…» А потом завыла сирена, замигали под потолком густо-лиловые лампочки, и люди, с сине-белыми повязками противовоздушной обороны на рукавах, забегали по коридорам. Камеры открылись.
— Fliegeralarm! Raus![107]
Зенитки ухали, воздух гудел, самолеты с ревом резали небо, и, яростно отсвистываясь в пустоту, валились вниз бомбы. Тюремный дом дрожал, стены его двигались, пол под ногами качался, как палуба, камеры продувало воздушной волной, и сверху сыпалась белая пыль. Надзиратели исчезли; Гунст — первым. В коридоре на столике остались от старого «соци» табакерка и номер недочитанной газеты «Цвельф-урблятт». Карбышев взглянул на эти предметы и вздрогнул, вдруг ощутив в себе напор горячего чувства давно неиспытанной радости. Как мало надо, чтобы бедствующий человек стал счастлив! Сейчас для этого достаточно принадлежащей Гунсту дряни. Но здесь еще не конец. Прохвост забыл гораздо более важную вещь, чем древесные листья или бумажный листок. В углу стояло его ружье…
Ружье! Светлый призрак свободы ворвался вместе с ним в полутемный, забитый взволнованными, громко говорившими людьми коридор. Кто бомбит Нюрнберг? Неужели наши? Наши… Ур-ра! Б-бах! Тюрьма подпрыгнула, сразу звякнув всеми своими окнами и хлопнув всеми незапертыми дверьми. Странная дрожь вползла в ее стены и побежала по ним то отдельными волнами, то сплошным приливом. Что-то, рушилось, падало, валилось и куда-то уходило. Казалось, будто все тюремное здание рассыпается на куски…
— Товарльищи, выбивай дверльи!
Железные створки легко распахнулись. Заключенных вымело на двор. И здесь стало ясно, что именно случилось: отбитый взрывом бомбы внутренний угол тюремного здания громоздился в облаке пыли горой щебня и мусора. Свобода?! Но ворота не пускали узников дальше, — механизм, открывающий и закрывающий их по приказу щелкающей кнопки, продолжал неукоснительно действовать. А где находится волшебная кнопка, — этого не знал ни один заключенный. Мало-помалу в черном небе разбегалась тишина. Один за другим потухали парные огни самолетов, унося с собой рев и свист; бомбы уже не падали, — и призрак свободы покидал нюрнбергскую тюрьму. На дворе появились эсэсовцы в серых фуражках с черепом на козырьке, — забегали, завопили:
— По камерам! Марш!
И погнали заключенных внутрь искалеченного здания.
* * *
Через двое суток после августовской бомбежки тюрьма в Нюрнберге опустела. Пленных отправили в каторжный лагерь Флоссенбург. Как и все подобного рода операции, дело происходило очень рано утром. «Каторжников» вывели по коридору к приемной, выстроили и попарно сковали ручными кандалами. Затем — двор, ворота, улица, спуск в туннель, подъем на железнодорожную платформу. Месяц еще плавал в небесной пучине, быстро превращаясь из; красного в зеленоватый, из зеленоватого — в белый-. Серебристые отблески его холодного света падали таинственной игрой теней в синеющую даль. Подкатил поезд. Вагон, в который толкнули Карбышева, не имел купе, — только скамейки. Здесь разместились тридцать два человека с конвоем и еще с двумя людьми в штатском. Именно эти люди приняли пленных из Нюрнберга; они же сдадут их в лагерь.
Глава сорок восьмая
Сапожный ученик Роберт Дрезен был здоровый широкоплечий парень с черненькой бородкой и детским лицом, слегка хромой от рождения на правую ногу. Когда он говорил на своем резком простонародном нижнегерманском наречии, можно было подумать, что Дрезен — завзятый крикун и дебошир. А на: деле это был самый уравновешенный малый на свете. Когда его арестовали в Берлине по обвинению в коммунистической пропаганде (попался на листовках против трудовой повинности), он был совершенно спокоен, будто все так и шло, как надо. Если же выстрелил в полицейского, то никак не от азарта, а чтобы дать товарищу возможность убежать. Если ранил, — к сожалению, не полицейского, а кого-то еще, — та лишь потому, что вовсе не умел стрелять. В следственных органах Дрезен тоже ничуть не волновался, — не размахивал руками и не путался в показаниях. На вопросы об именах не отвечал. А о себе лично и о людях вообще говорил много, охотно, искренне, причем, не обинуясь, называл все вещи их собственными именами. Говорил, что есть люди обезволенные, боящиеся своей тени, запутавшиеся в силках нацистского обмана. Они еще способны иногда почуять гнусность и бесстыдство происходящего, но только для того, чтобы окончательно оцепенеть перед ними в безмолвном изумлении. Они ненавидят фашизм, но силы прокричать о нем правду в них нет. Они хорошо знают, что это — прямая обязанность всякого, кто имеет право сказать о себе: «Мы — рабочий класс». Но они молчат, словно живут вместе с рыбами под водой, так как концлагерь, голод, смерть, — все это неиссякаемые источники страха для среднего человека. Есть такие, что не только молчат, а еще и вывешивают флаги со свастикой, толкутся в перерыве между сменами на заводских собраниях «Трудового фронта», вертятся вокруг «зимней помощи». Дрезен встречал людей, которые, яростно ненавидя Гитлера, фашизм, войну, состояли вместе с тем членами нацистской партии, участвовали в слетах штурмовиков, присутствовали на партийных съездах. А разве нет парней в коричневых куртках гитлерюгенд[108], восклицающих на собраниях: «Жить — помогать фюреру. Жизнь каждого из нас — его собственность», а втихомолку поносящих Гитлера на чем свет стоит. Нет, для Дрезена все это не годится, потому что он хочет быть честным. Сейчас ему двадцать один год. Кто нечестен в этом возрасте, тот непременно будет впоследствии подлецом. А в нацистской Германии для честных людей только один путь — в тюрьму. Дрезен не складывал рук. Он ходил по кино и аккуратно пришпиливал к спинкам кресел антивоенные и другие листовки, а когда попался, сел в тюрьму. Так и должно быть. Его приятель Гейнц Капелле тоже распространял листовки, — бросал их по ночам в раскрытые окна заводских цехов. Его поймали и казнили. Перед казнью он кричал своим товарищам: «Да здравствует Советский Союз! Да здравствует коммунистическая партия!» Так и надо. Именно — так…
Тюрьма, в которой уже два года сидел этот ребенок с бородой, называлась «следственной тюрьмой по уголовным делам». Все, о чем Дрезен говорил на допросах, так поражало следователей своей простотой и ясностью, что они никак не могли ему поверить. Возникала парадоксальная ситуация: чем правдивей держался Дрезен, тем меньше ему верили. В последние месяцы стали подозревать в нем наличие так называемого «тюремного психоза», который иногда поражает людей, вынужденных в течение долгого времени вести мрачно-бесцветное существование в одиночном заключении. Тишина дает свободу мысли и фантазии, но она же сковывает в человеке внешние проявления его воли. Очень возможно, что, если бы Дрезен и решился теперь раскрыть перед следствием настоящую подноготную своей коммунистической деятельности, показания его все-таки были бы чудовищной смесью былей и небылиц. Возникал естественный вопрос: а имеет ли смысл дальнейшее пребывание Дрезена в одиночной камере «следственной» тюрьмы, когда одиночные камеры так необходимы для помещения неизмеримо более важных преступников?
* * *
Сам Дрезен никогда ничего не слыхал о «тюремном психозе». Но, обдумывая свое положение, все чаще приходил к тревожной мысли: «Только бы не ошалеть!»
Баутцен, где находилась «следственная» тюрьма, был небольшой городок на железной дороге из Дрездена в Герлиц. Тюрьма была расположена на Габельсбергерштрассе, — старая, прочная могила для заживо погребенных. Камера, в которой сидел Дрезен, представляла собой небольшую продолговатую комнату. Слева — кровать. Справа — стол и умывальник. В углу, у двери, — кадка. В стене — крохотное оконце. «Только бы не ошалеть!» И все же, когда Дрезену стало известно, что ему предстоит оставить эту камеру и эту тюрьму для того, чтобы быть отправленным в какое-то другое место — в лагерь, он ощутил холодок под сердцем. За два года можно свыкнуться с любым безобразием. И он стал ждать своего переселения, — без нетерпения, но и не без любопытства. Прошла неделя…
* * *
Ночью на одиннадцатое августа Дрезен крепко спал, когда дверь его камеры с треском распахнулась и пропустила четверых людей. Один из них был начальником тюрьмы, двое — надзирателями; а четвертый был Дрезену неизвестен. Это был человек в темносинем костюме с жилетом и в белой рубахе. У него было бледное лицо с выразительными, грубоватыми чертами, острый нос и прямой, упрямый взгляд. Он был повыше среднего роста, лыс и широк по всей фигуре. Голова его крепко сидела на могучей шее, какие встречаются чаще всего у портовых грузчиков. Человек этот был совершенно неизвестен Дрезену в том смысле, что Дрезен никогда не встречал его в натуре. Но в то же время он знал, что такой именно человек существует. Откуда? Этот вопрос всколыхнул все существо Дрезена. Чем всколыхнул? Что общего было между Дрезеном и этим человеком? Из одного во» проса возникали другие. Детские глаза Дрезена сверкали в темных кругах на бледном лице. Он жадно рассматривал пришельца.
— Здесь вы будете жить, Тельман, — сказал начальник тюрьмы, — а этого хромого паренька мы сегодня же «изведем из темницы».
Дрезен почти не расслышал последних слов, относившихся собственно к нему, не обратил на них никакого внимания. Зато первые слова начальника тюрьмы поразили его, как невиданное и неслыханное счастье. Тельман… Это — Тельман? Конечно, он. Именно — он, Тельман. И Дрезен тысячу раз видел это лицо на портретах, сохранившихся от прежнего времени во многих бережных руках. Но только Тельман раньше, на свободе, не был таким одутловатым, как теперь, в тюрьме. Дрезен сообразил: «А поешь-ка в течение десяти лет изо дня в день суп из кормовой брюквы…» Тельман! Из Моабита[109] — в ганноверскую тюрьму; из ганноверской — в баутценскую… И вот на Дрезена сваливается ошеломляющее счастье этой встречи…
— Товарищ Тельман!..
Начальник тюрьмы быстро говорил что-то Тельману, несколько раз подряд повторяя полный титул Гиммлера: министр внутренних дел, начальник полиции, шеф войск СС и главнокомандующий запасными частями армии… Наконец, заметив, что Тельман не слушает, замолчал. Новый постоялец обошел камеру, остановился подле Дрезена и положил на его плечо свою крепкую руку.
— Мальчик! Не знаю, кто ты, куда тебя бросят, что еще сделают с тобой Гиммлеры. Но ты знаешь, кто я, и запомнишь мои слова навсегда. Немецкая нация — смелая, гордая, стойкая нация. Я — немец. Я — кровь от крови немецкого рабочего класса. Я — его верный сын. Я говорю тебе, мальчик: политическая совесть требует служения исторической правде. Верь в свое дело! Только эта вера и возвращает жизненную силу людям, погребенным в тюрьме. Только борьба имеет смысл в жизни! И, что бы с тобой ни случилось, мальчик, — смело иди навстречу Октябрю!
Начальник тюрьмы что-то крикнул. Конвойные ухватились за Дрезена и поволокли его к двери. Но он выдирался из их объятий, всем телом порываясь к грузной фигуре великого узника. Наконец, ему удалось высвободить одну руку. Он вскинул ее кверху. Озорная радость сверкнула в его глазах.
— Рот фронт!
И, уже очутившись за порогом камеры, — еще раз:
— Рот фронт!..
* * *
Километрах в пяти или шести от Байрейта, красивого маленького городка, с прямыми широкими улицами, с замком, с бронзовой статуей, глядяшей в синюю глубь Майна, со знаменитым Вагнеровским оперным театром на подгородном холме, высоко в горах, над чешской границей, за тремя кольцами из колючей проволоки и рвом — концентрационный лагерь для пленных, осужденных на каторгу, Флоссенбург. Внутреннее кольцо проволоки, перед рвом, поднято от земли почти на шесть метров и так сильно загнуто своей верхней частью в сторону лагеря, что перелезть через него не сумел бы никакой акробат. Каторжники из нюрнбергской тюрьмы гестапо один за другим входили в барак у ворот и осторожно приближались к столу, за которым сидел седой лагерный писарь в лыжном картузе и старательно заносил в толстую книгу фамилии и личные номера прибывших. Записанные тут же раздевались, всовывали свою одежду в мешок и голышом шли в соседнюю комнату. Там они попадали на весы. С весов — к доктору. От доктора — к парикмахеру. Карбышев с удивлением заметил, что его фамилия каким-то странным образом действует на лагерных должностных лиц. «Шрейбер»[110] в лыжном картузе, делая запись в своей книге, несколько раз успокоительно и обнадеживающе кивнул головой. Доктор, молодой человек с красивым смуглым лицом, подсчитывая пульс, крепко пожал Карбышеву руку. Но всего необыкновеннее получилось с парикмахером, который, едва завидев голого Карбышева, выронил машинку и зашептал, сияя: «Товарищ генерал-лейтенант, вы?» Карбышев смотрел на него во все глаза, с трудом узнавая в этом старом, лысом, худом и безбородом цирюльнике совсем на себя не похожего майора Мирополова. Однако все это было мимолетно: и писарское участие, и докторское уважение, и парикмахерский восторг. Карбышев как бы мчался по конвейеру и прямо от Мирополова попал в душевую. Здесь он и еще несколько каторжников стали под горячий душ. Но, как только они стали, горячий душ превратился в ледяной. Двое выскочили, задыхаясь: «Ах! Ох!» В ту же минуту люди с резиновыми дубинками ворвались в душевую. Их усердие и сноровка были поразительны, а удары дубинок необычайно ловки и сильны. «Ах! Ох!» Все это делалось быстро, очень быстро. И вот люди с дубинками уже повытолкали из душевой покорных и непокорных. У выхода груды штанов, рубашек и сабо. Каторжная одежда — полосатые брюки, полосатые куртки; на груди политических — треугольник вершиной вниз. Он должен помогать шпикам в установлении внутрилагерных связей политических. Мгновенно «украшенный» этим значком, Карбышев очутился в карантине.
«Блок» — деревянный барак посреди большого, вымощенного булыжником двора. В этом бараке — две половины, и в каждой двести пятьдесят человек. Потолка нет — стропила и крыша над головой. Между половинами, прямо против входа — коридорчик с умывальной и дверьми направо и налево. За дверьми — штубе А и штубе В[111], — довольно приглядные помещения с большой печью, кроватью и до блеска натертым полом. В штубе А проживает блокэльтесте[112], в штубе В — писарь и парикмахер. Рядом — тагесциммер[113], — шкафы с посудой и для одежды. Входя в блок, заключенные раздеваются в тагесциммер и прячут свое верхнее платье в нижних ящиках шкафов. В шлафциммер[114] можно попасть только в нижнем белье. Спальни уставлены трехъярусными койками. На двух рядом стоящих койках спят три-четыре каторжника.
— Aufstehen![115]
Люди вскакивают. Пять с половиной утра. Августовский день уже родился, но еще не вылез из пеленок: его окутывает серая дымка. Капает прохладный дождик. По небу разбегаются розовые просветы.
— Schnell! Schnell![116]
Сотни сабо, — завязок нет, — отстукивают по асфальту. Каторжники толпятся возле умывальников. Задача в том, чтобы за одну-две секунды ополоснуть лицо и голову водой и обтереться рубахой.
— Schnell! Schnell!
Действуют резиновые дубинки. Внутри шлафциммер, — ее средняя часть служит столовой, — уже разливается кофейная бурда. Люди уже выбегают на мощеный двор, строятся и равняются. Блокэльтесте пускает руки в ход.
— Шапки долой!
Писарь считает. Громко ударяет колокол.
— Ruhe![117]
Начинается священнодействие переклички. Его совершает офицер СС с сигарой в зубах…
Шеренги ломаются. Для выхода на работу люди перестраиваются по пяти в ряд. Capo[118] окружают колонну. Каторжники идут в каменоломню…
Серо-синие гранитные глыбы похожи на море, внезапно окаменевшее во время бури. Горы камней закрывают траншеи, ведущие вглубь разработок. Пыль вьется до неба. Неистово стучат пневматические молотки. Их эхо отзывается двойным гулом. С лязгом катятся вагонетки. Камни — в вагонетках, под молотками и в объятиях полосатых людей, пытающихся тащить их вручную. Камни — на парных носилках, над которыми клонятся, обливаясь потом, непокрытые бритые головы. Каторга…
Привычка к шуму — это и есть, собственно, тишина. Поэтому ругань оберкапо[119], где бы она ни зазвучала, слышна везде. Капо всех рангов — обязательно немцы и обязательно — уголовники. С сорок первого года это правило неукоснительно соблюдается во всех концентрационных лагерях Германии. Капо свирепствуют до полудня.. В двенадцать резко кричит сирена. Это — получасовой перерыв на обед.
— По командам!
Появляется «коммандофюрер» — офицер СС. Начинается раздача вассер-супа[120] из пятидесятилитровых бидонов. Капо, черпак, брюква, котелок, куски мокрого, тяжелого, свинцом ложащегося на желудок хлеба, — все на ходу, кое-как. Кого-то толкнули под локоть, — суп пролился из котелка. Неудачник робко тянет свою посудину.
— Что? Опять? Не забудь, что ты — в Германии, и потому супа тебе больше не полагается…
Эта сволочь, — капо, — клевещет на Германию, на весь германский народ, и в простоте своей подлой души думает, что германский народ ему за это благодарен. Да что и спрашивать с этих людей? Зеленый треугольник ни на одном из них не болтается даром. Странным исключением выглядит капо Дрезен. Он — тоже «зеленый» и именно, как «зеленый», состоят в должности капо, для «красных» категорически недоступной. Но ведет себя иной раз, как самый настоящий «красный». Почему? Легонько припадая на правую ногу, Дрезен подковылял к Карбышеву. В руках у него — «Фелькише беобахтер» (немцам разрешено читать газеты). Детское лицо довольно улыбается, глаза радостно горят. Он быстро наклоняется к сидящему на гранитном обломе Карбышеву.
— Новости, генерал! Русские взяли обратно Харьков.
Дрезену, конечно, известно лагерное прошлое, приведшее Карбышева на каторгу: его непримиримость и упорная борьба за пленных, его непоколебимый среди них авторитет. Капо очень часто дружат с писарями из лагерной канцелярии. А шрейберы — это главным образом поляки и чехи, имеющие язык, чтобы потолковать по душам с русскими заключенными. Капо Дрезен понимает Карбышева, но Карбышев не понимает капо Дрезена…
— Слушайте, генерал, — говорит капо, совсем близко наклоняясь к сидящему Карбышеву, делая вид, будто поправляет деревянную колодку на хромой ноге, и одновременно протягивая ему клочок печатной бумаги, — вы ничего не знаете об этом?
Листовка напечатана по-русски… «Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев… перешел на службу Германии… Ваше дело пропало… Русские, сдавайтесь, потому что ваши лучшие люди перешли к нам… Сдавайтесь!»
— Разве вы были бы здесь, — говорит Дрезен, — если бы это было правдой? А?
Карбышев застонал. Все удары, которые упали на него в Замостье, в Хамельсбурге, в Берлине, в Нюрнберге, — все было ничто перед ужасом и мерзостью одной этой бумажонки. Он застонал, и бритая голова его больно забилась об острые углы гранитного облома.
— Arbeitskommando![121]
Дрезен ходко ковылял к своей команде. И Карбышев, шатаясь, шел за ним.
* * *
Каторга — тяжкий труд. Но она же еще и сложный свод множества практически полезных сведений. Например: идя на работу, не становись с краю шеренги, чтобы лишний раз не попасться на глаза офицеру СС, такого же правила держись на перекличках; везде и всегда будь незаметен; на работе суетись как можно больше и делай как можно меньше; если удастся, не делай ничего; но глазами работай непрерывно, то есть все время следи за капо и принимай прочие меры предосторожности. И все-таки каторга — труд, тяжкий, подневольный, изнуряющий. Наконец заорала сирена. Шесть часов — конец рабочего дня. Вечер встает на западе в оранжевом кружеве пылающих облаков. Сквозь красный блеск зари полосатые невольники, спотыкаясь, бредут в лагерь на первую вечернюю проверку. Многие еле передвигают ноги. Некоторых ведут под руки. Кого-то несут. Карбышев тащит на плече гранитный камень, предназначенный для обработки в лагере. Что-то горячее клокочет в груди Карбышева, подступает к сердцу. Земля, как ковер, растянутый в пустоте, колышется и уходит из-под ног. Руки делаются мягкими, как веревки. Он останавливается, глубоко вдыхает пыльный воздух, еще раз вдыхает… и вдруг… Камень сорвался с плеча и покатился. Резкий окрик тычком ударил в уши. Карбышев очнулся. Перед ним стоял краснорожий, потный солдат СС с яростно выпученными, бесноватыми глазами. Его высоко вскинутый кверху кулак со свистом резал воздух. Карбышев инстинктивно закрыл руками голову.
— Не смей меня бить, дурак! Я сорок пять лет в армии, мне шестьдесят три года, а ты…
Кулак свистнул. Но еще до того между солдатом и Карбышевым вынырнул капо Дрезен. Глаза его сверкали. Черная бородка тряслась.
— Или не знаешь? — сказал он эсэсовцу сдавленным голосом, — хоть и можно подтягивать лошадь хлыстом, но по-настоящему действует на нее только овес… Ха-ха-ха!
И, подняв с земли камень, понес его, ловко перекидывая с плеча на плечо и почти перестав хромать…
* * *
Карбышев был в ревире. Как случилось, что прямо из каменоломни он попал туда? Неизвестно. По крайней мере, самому Карбышеву это было неизвестно. Ревир лагеря Флоссенбург представлял собой несколько госпитальных бараков, с двумя сотнями двухэтажных коек в каждом. Койки стояли бок о бок, и валялось на них по три-четыре человека. У Карбышева болело сердце, ныли левая половина груди, левое плечо, левая рука, и во всем теле была какая-то странная стеклянность, особый род мучительной физической тоски. Ноги — как бревна. В легких — хрип и свист. Госпитальный режим — голодный: порция супа — на четвертую часть меньше общелагерной; порция хлеба — на половину. И все-таки умереть в ревире труднее, чем в каменоломне. Как это достигается? Карбышев сидит на стуле, — ему трудно стоять, — доктор Мозер его выслушивает. Затем выстукивает. Потом щупает живот, нажимает на ноги в разных местах и, качая головой, смотрит на вмятины, получающиеся в отеке. Доктор — молодой человек. Как и у всех евреев, на его халате нашиты желтый и красный треугольники, образующие звезду.
— Я вам объясню, как вы попали в ревир, — говорит он Карбышеву, ни на минуту не отрываясь от исследования, — это сделала фрау Доктор…
— Фрау Доктор? Сколько раз она уже приходила мне на помощь. Так было в Хамельсбурге. И здесь…
— Естественно, — улыбается доктор Мозер, — надо спасать от гибели наиболее ценных. Самый ценный должен быть спасен во что бы то ни стало. Это — вы. Фрау Доктор может кое-что сделать в этом смысле. Кое-что…
Карбышев ощущает внезапно возникшую в кармане своей полосатой куртки тяжесть. Доктор Мозер что-то положил туда.
— Это — банка мясных консервов. Да, фрау Доктор кое-что может сделать. Но не все… Ложитесь на спину и согните колени. Так… Очень хорошо. У меня был брат, — фрау Доктор хотела, но не смогла его спасти. Вы знаете разницу между рейсхдейч и фольксдейч?[122] Страшная штука, придуманная дьяволом. Слезы бывают так горячи, что и порох от них вспыхнул бы. Но льда, скопившегося на полюсах человеческого существования, не растопить никакими слезами. Повернитесь на бок. Прекрасно… Не больно? Брат был женат на немке. Не может быть, чтобы муж и жена любили друг друга больше, чем он и Марта. Все оборвалось ночью. Приехали, вошли, взяли брата, бросили в машину с затемненными фарами и скрылись в тумане, из которого такие люди, как он, у нас не возвращаются. Это — работа центрального бюро государственной службы безопасности. Понимаете? С тех пор прошло четыре года. Марта — в Нюрнберге…
— Я ее знаю, — тихо сказал Карбышев.
— Я знаю, что вы ее знаете. Фрау Доктор не могла помочь брату. Но и Марта и я изо всех сил помогаем фрау Доктор. И еще многие, кроме нас… Я надавливаю. Больно? Очень? Печень распухла и заходит под ребро. Давлю! Кричите громче! Громче!
В комнату входило какое-то начальство со свитой врачей, фельдшеров и санитаров. Действительно, было очень больно. «Громче! Громче!»
— Ай!
— Холецистит, — сказал доктор Мозер, — вы — очень тяжелый больной…
Прошла неделя, а может быть, и две. Ясным и теплым вечером, какие обычно бывают здесь в конце августа и в начале сентября, Карбышев совершал свою ежедневную нелегальную прогулку в окрестностях ревира. За короткое время, проведенное в госпитале, он уже успел прийти в себя. К нему вернулись бодрость и живость. Из непоколебимой уверенности в скором разгроме гитлеровцев возродился привычный оптимизм; вернулась способность шутить и острить над уродствами плена. Как это уже было в Хамельсбурге, Карбышев и здесь быстро превращался в видимый центр притяжения для всех лагерных больных, еще не растерявших своих тайных чаяний или открытых надежд.
Карбышев начинал второй тур прогулки, когда прямо перед ним вырос пленный с быковатым складом фигуры и радостно улыбавшимся лицом. Пленный появился так неожиданно, что Карбышев осадил шаг.
— Товарищ генерал-лейтенант…
Пленный приложил кулаки к груди.
— Товарищ генерал-лейтенант… Каждый день ловлю вас здесь, да все не… А сегодня… Уж как я рад, как рад!
Стоило взглянуть на сияющую, простодушную физиономию этого человека, чтобы поверить его счастью.
Мирополов выполнял в своем бараке обязанности Blockfriseur'a[123], но привлекался к выполнению парикмахерской работы и в более широких масштабах, как это было, например, при приеме нюрнбергской партий заключенных, в которую входил Карбышев. Бритье каторжных голов играло во Флоссенбурге важную роль. Головы обривались начисто раз в два месяца, и волосы тогда же отправлялись в утиль. Но, по мере того, как голова после этой генеральной операции начинала обрастать, по ней пробривали дорожки — одну и другую, крест-накрест. Дела Мирополову было немало. И получал он за него, наравне со всеми прочими барачными парикмахерами, лишнюю порцию супа ежедневно и пять кригсгефангенмарок в месяц. Повидимому, было в этой привилегии нечто, смущавшее Мирополова. Карбышев смотрел на его желтые, залатанные на коленях штаны и с удивлением слушал:
— Главное, товарищ генерал-лейтенант, — выжить. Лучше жить — лучше есть и пить. А, между прочим, — стыдно… Почему, товарищ генерал-лейтенант, не было этаких издевательств в первую мировую войну?
— Потому, что та война не была классовой. Теперешние издевательства есть форма классовой борьбы. А классовая борьба, как известно, компромиссов не терпит. Ни с той, ни с другой стороны…
Мирополов опустил лысую голову. Всего лишь несколько слов сказано Карбышевым. А вдруг разъяснились и муки бесплодных ожиданий, и бессонница по ночам, и необходимость вечно держать уши торчком, чтобы не прозевать чего-нибудь, грозящего убогому существованию, и самая убогость этого существования с наглухо замурованными выходами в жизнь, и жалкий характер ухищрений, с помощью которых добывается возможность лучше есть и пить. Мысли Мирополова разбегались, как стадо испуганных баранов.
— Иной раз так бы вот взял да и полоснул, — угнетенно прошептал он, дотрагиваясь беспалой рукой до шеи, — чик — и все!
Карбышев решительно возразил:
— Напрасно думаете, что самоубийство — вопрос смерти. Это — вопрос жизни, которая обрывается вместо того, чтобы продолжаться. И поэтому бороться со смертью — значит прежде всего бороться с убийцами.
Опять немного, совсем немного сказал Карбышев. Но и того, что он сказал, было достаточно, чтобы вспрянул и выпрямился надломленный стержень мирополовской души.
— Понимаю, — сказал он, — перед каждым — рукоять. Качай. А что выйдет, — видно будет…
* * *
Действовала какая-то линия, совершенно неизвестная лагерной комендатуре, но очень хорошо известная каторжникам. Эта подпольная линия действовала таким образом, что случаев, подобных тому, когда эсэсовец набросился на Карбышева с кулаками, уже не повторялось. Никогда больше ни одна рука не поднималась на «старого русского генерала». Вскоре по прибытии Карбышева в лагерь значительно изменился порядок содержания заключенных во Флоссенбурге германских коммунистов. До сентября они сидели частью в особом помещении, частью в одиночках, а на работу ходили по двое в шеренге, через два шага один от другого, — изоляция соблюдалась строжайше. Но в сентябре, когда дела на восточном фронте особенно громко затрещали, германских коммунистов выпустили из особого помещения и из одиночек, перевели в общие бараки, по одному на барак, и позволили им общаться как между собой, так и с пленными. И тогда задача спасения Карбышева облегчилась. Германские коммунисты держались дружно и с безотказным упорством помогали своим советским товарищам. Правда, встречались и между ними «шакалы»[124], но в массе они были чистыми, светлыми, крепко преданными высшей правде людьми. Под их особым влиянием находились немцы, которые были когда-то коммунистами, но после тридцать третьего года отреклись от своих старых взглядов. Они были призваны с начала войны в тыловые части армии (на фронт бывших коммунистов не посылали) и несли службу главным образом в концентрационных лагерях. Здесь они тихохонько работали, с тревогой ожидая дальнейших поворотов в своей неверной судьбе. Однако вялый либерализм этих трусов иной раз бывал доступен воздействию слева. Такой-то именно податливостью отличался и главный врач флоссенбургского лагерного госпиталя…
По всем этим причинам Карбышев пробыл в ревире очень долго, — до января сорок четвертого года, — и за это время основательно подправился. Способствовали этому, конечно, и лекарства, и больничный покой; но в гораздо большей степени — известия о ходе военной борьбы, неведомо как добиравшиеся до госпитальных коек. Тройной удар фашистских войск на Псков — Ленинград, на Минск — Смоленск и на Киев — Донбасс окончательно и бесповоротно сорвался. В сентябре был отбит у гитлеровцев Смоленск, в октябре они потеряли Мелитополь и Днепропетровск, в ноябре — Киев и Житомир; наконец, январь ознаменовался непоправимыми поражениями под Ленинградом и Новгородом. Дни падали, как камни, но удары, наносимые их падением, приходились уже не по бритым головам.
По выходе из ревира Карбышев не вернулся в каменоломню. До первых сильных холодов, — во Флоссенбурге бывают и двадцатиградусные морозы, — он занимался внутри лагеря обточкой камня. Трудно сказать, что тяжелее — подрывать ли шурфы и таскать на себе груды гранита, или, сидя на корточках, плавать с утра до ночи в облаках мелкой каменной пыли, фонтанами бьющей из-под долота. Сарай, где производилась работа, не имел дверей. Стужа в мастерской и на дворе была одинакова. Карбышев обтесывал гранитные столбы для дорог, облицовочные и намогильные плиты. Он брал молоток или зубило в распухшие от холода, багрово-синие пальцы и, принимаясь долбить твердую породу, приговаривал с усмешкой:
— Не чуют руки молотка. А все-таки приятно…
— Чем?
— Чем лучше наши дела на фронте, тем больше требуется гитлеровцам намогильных плит. Красная Армия укладывает фашистов в землю, а мы их прикрываем. Ей-богу, хорошо!
Он острил, и невеселый смех его вперемежку с кашлем гулял по сараю, глухо прорываясь сквозь каменные туманы…
…В середине зимы Карбышева перевели из этого дырявого угла в другой такой же, носивший название Schureisserei[125]. Здесь распарывали старую обувь, сортировали каблуки, подошвы, гвозди и естественным образом проводили дни в грязи и вони, между грудами изношенной рвани. Руки Карбышева попрежнему страдали. На левой открылись язвы. Но лучшего вида каторжных работ во Флоссенбурге не существовало. И дело в Schureisserei так и кипело под широкими и пыльными лучами всюду проникающего солнца. Карбышев скоро заметил, что в мастерскую на разрыв поступает вместе со старой дрянной обувью довольно много хорошей, новой, вполне пригодной для носки. Пленные с особым усердием рвали такие сапоги на части. Дрезен, недавно вступивший в «высокую» должность оберкапо всех лагерных сапожников, не мог не знать об этом вредительстве, но делал вид, будто понятия о нем не имеет. Пленные рассказывали, что и соседняя мастерская, принимавшая на разборку и лом старые телефонные аппараты, каждый день уничтожает множество вполне исправных. «Бей в куски, чтобы ничего не оставалось!» Поведение пленных было понятно. Но о тех, кто видел это и не противодействовал, стоило подумать. Тупая ограниченность капо? Не то… Совсем не то!
* * *
Вечером холодного февральского дня Дрезен приковылял в Schureisserei и, заглянув в каморку Карбышева (Дмитрий Михайлович жил теперь в чулане при мастерской), попросил разрешения войти. Присаживаясь на ящик, оберкапо ловко подвернул под себя хромую ногу и сейчас же заговорил:
— Товарищ генерал, мне стыдно, когда я на вас гляжу. С этим надо покончить.
— Кончайте, — с недоумением, но почему-то без всяких опасений сказал Карбышев, старательно дуя на замерзшие руки, чтобы хоть немножко согреть их.
— Ведь я совсем не то, что вы обо мне думаете. Я — не убийца, не грабитель. Я не коммунист, как вы, потому что не успел им стать. Но я твердо знаю: что хорошо для русских, то и нам, немцам, полезно. Счастье моей жизни — дождаться прекрасного дня, когда русские выпустят дух из этой проклятой коричневой гадины. Товарищ Тельман сказал мне: «Мальчик! Только вера в свое дело возвращает жизненную силу людям в тюрьме. Смысл жизни — в борьбе. Что бы ни случилось с тобой, мальчик, — смело иди навстречу Октябрю!» Вот что сказал мне товарищ Тельман. О, как я ненавижу коричневую чуму! Как я люблю Советский Союз и вас, русских, за то, что вы делаете хорошего для людей. Когда меня потащили из камеры, я несколько раз проорал: «Рот фронт!» А мой приятель Гейнц Каппеле, когда его вели умирать, кричал: «Да здравствует коммунистическая партия!» Разве мы не годимся в коммунисты?
Дрезен вдруг схватил холодные руки Карбышева и начал хрипло и часто дышать на них. Его глаза сверкали, как маленькие темные солнца, бледные щеки зажглись, а губы побледнели.
— Почему же вы — капо? — спросил Карбышев.
Дрезен прижался щекой к его руке.
— Ну, конечно… С этого и надо было начать. Просто, очень просто…
И он рассказал со всеми подробностями, как лагерный писарь Прибрам, бывший полковник чешского генерального штаба, работающий в комендантской конторе и делающий много добрых дел, разобравшись в бумагах, воспользовался тем, что Бауцен, откуда Дрезен сюда прибыл, есть тюрьма для уголовных, и внес его в список уголовников. А тогда уже и превратиться в капо оказалось нетрудно. Прибрам — непримиримый антифашист. Это он нашел в бумагах Карбышева фашистскую листовку и сразу же разгадал подлый обман гестаповских провокаторов. Но Прибрам в лагере не единственный из таких. Все те, у которых синие кружочки на груди и на спине[126], — все стараются помочь Карбышеву, как только возможно. По баракам теперь с девяти до двенадцати вечера три обязательные проверки, — надо не давать людям спать. Карбышева удалось устроить в этот чулан, куда не заглядывают никакие «псы»[127]. И, чтобы они не заглядывали, их прикармливают. Карбышев не знает, как эта сволочь ворует порционные: всю соевую колбасу, например, пожирает блоковый персонал. Не только люди с синими кружочками, но и уголовники, не такие, как Дрезен, а настоящие, которым убить человека за лишнюю порцию похлебки все равно, что стакан воды выпить, даже они добровольно идут на лишения, чтобы «старый русский генерал» был сыт и здоров. Раньше Дрезен смотрел на уголовных преступников сверху вниз. Он слишком высоко ценил свою чистоту. Теперь же, когда судьба принудила его войти в их жизнь и душу, он видит, что и среди них есть драгоценные люди. Здесь, в лагере, все лучшие из них предупреждены насчет особого отношения к Карбышеву…
— Кем? — спросил Карбышев, чувствуя, как горячие слезы радости заполняют его грудь и поднимаются к глазам, — кто все это делает?
— Она, — тихо сказал Дрезен, прижимая к груди согревшуюся руку «старого русского генерала», — она… Frau Doktor!
— Кто? Кто?
— Германская компартия…
Глава сорок девятая
Мирополов пришел в жарко натопленную, до блеска начищенную комнатку своего Blockalteste[128], положил перед ним на столик беспалую руку и решительно заявил:
— Отказываюсь. Не могу.
Староста подскочил на табуретке. Это был здоровенный рыжий детина из Киля, портовик, проломивший в пьяной драке голову мужу своей любовницы и всегда вспоминавший об этом происшествии с самым глубоким и искренним сожалением. Барачный староста в лагере — господин положения. Каспар Знотинг жил в свое удовольствие — в тепле, чистоте, сытости — и совершенно не нуждался в том, чтобы делать кому-нибудь пакости. Он был из тех добродушных силачей, которые как бы конфузятся своей силы. Опыт с проломленной головой не прошел даром: огромные ручищи Знотинга, черные, узловатые, похожие на корень старой ветлы, чрезвычайно редко о себе заявляли. Но так как Blockalteste очень любил порядок, то и это иногда все же бывало. Здесь действовал отчасти самый примитивный эгоизм: если за теплую комнату и хорошую жратву приходится платить порядком, — должен быть порядок. Всякое иное отношение к этому вопросу переполняло Знотинга сперва изумлением, а потом гневом. Это именно произошло и сейчас, когда он с величайшим трудом уяснил себе, что Мирополов не хочет быть больше барачным парикмахером. Рядом с беспалой рукой пленного на столик легла коричневая лапа из пяти гигантских отростков. Грозно пошевелив сперва каждым из них в отдельности, а затем всеми вместе, Знотинг прорычал:
— Видел?
Необыкновенный случай этот взрывал все его прочно отстоявшиеся понятия о вещах. Население лагеря делилось на разряды. Наверху — аристократия. Это — лагерные старосты, писаря, повара. Ниже — привилегированная барачная группа: Blockalteste, блоковые писаря, парикмахеры, оберкапо. Еще ниже — окопавшиеся: рядовые капо, музыканты, Stubendinste[129]. Дальше шли «удачники» — те, кого судьба поставила на легкую работу. И, наконец, все остальные, каторжники в прямом смысле слова, погрязшие в безвыходной доле сокрушительного тяжкого труда и ожидающие смерти как избавления. Мирополов стоял на одной из высоких ступенек этой лестницы. Надо было превратиться в идиота, чтобы по собственному желанию прыгнуть вниз.
— Слушай, — сердито сказал Знотинг, — если тебе, черт возьми, мешает брить нехватка пальцев, мы переведем тебя в уборщики. Где щетка и тряпка, там лишний палец не играет роли. А лишняя буханка хлеба, десяток сигарет и jeden Tag[130] по добавочной порции Kartoffelsuppe[131] никогда не могут быть лишними и останутся при тебе. А?
— Нет, — твердо возразил Мирополов, — нечего лакомиться кусочками. Мы — не дети. Единственное наше счастье здесь — в том, чтобы оставаться стойкими.
Знотинг потер пятерней переносицу. Он что-то соображал.
— Да, — медленно проговорил он, — понимаю. Кто тебе это сказал?
— Никто.
— Ты врешь. Это тебе сказал «старый русский генерал». Может быть, со своей точки зрения он и прав. Но ты подумай вот о чем. Срок пребывания в концлагерях для таких, как ты, неизвестен…
— Очень хорошо известен, — живо опроверг Мирополов, — скоро, очень скоро…
— Конец войны? Хм! Я понимаю…
Собственно, Знотинг так же, как и Мирополов, все свои надежды на освобождение из лагеря связывал с концом войны и крушением гитлеровского режима. Других надежд не было. Даже в тех случаях, когда срок выхода на свободу уже бывал установлен охранной полицией и утвержден рейхсфюрером СС, заключенные не имели о нем понятия. Пока режим был крепок, Знотинг старался выслужиться и вылез в старосты. Но теперь, когда режим явственно расшатался, даже и знотинги начинали отодвигаться от него в сторону, ожидая свободы лишь от его крушения.
— Почему Россия оказывается непобедимой? Почему этого раньше не было? А?
— Спроси у нашего генерала, — сказал Мирополов, — спроси… Он тебе все объяснит. Обязательно спроси.
— Да, надо будет, — согласился Знотинг.
* * *
Год великих побед, — тысяча девятьсот сорок третий, — начался под Сталинградом, под Воронежем и на Кубани. Закончился под Нарвой, на берегах Чудского озера, в Белоруссии и на Правобережной Украине. Сорок четвертый год открылся губительными ударами советских войск по фашистским армиям. Мир всякий день с изумлением и восторгом узнавал что-нибудь новое и дивился тому, что было вчера. Уже слепые видели, что Советский Союз, даже и без помощи своих западных союзников, непременно покончит с гитлеровской Германией. Но единственная информация, которая доходила до флоссенбургских каторжников, была геббельсовской брехней. «Передаем сводку военных действий. Ставка фюрера. Верховное командование сообщает…» И дальше следовали такие выверты, в которых вовсе стиралась разница между поражением и победой, все перекашивалось, становилось задом наперед и делалось недоступным пониманию. Заключенные не верили этим сводкам. Однако постоянная ложь угнетала; вечная путаница вторгалась в сознание, как туман, и тысячью нелепостей заволакивала мысль. Мало кто признавался в этом, но многим думалось по поводу того, как шли дела на восточном фронте; не могут же фашистские сводки только врать? Карбышев никогда не давал ходу сомнениям. Способность разбираться в любых нагромождениях хвастливых реляций ни при каких обстоятельствах его не покидала. Ему приносили клочки бумаги и огрызки карандашей — сокровище в лагерном быту. И он вычерчивал схемы и карты восточного фронта, кружочками расставлял войска, стрелками обозначал направления действий и объяснял, объяснял. Его слушатели были голодными, усталыми, изнуренными людьми. И сам он был таким же. Может быть, он чувствовал себя в еще более бедственном положении, чем они, потому что был старше каждого из них. Но никто не знал лучше его, как важны для морального состояния пленников убедительный разбор фашистской сводки, трезвая критика газетной болтовни, правильный анализ оперативной ситуации на фронте. И никто не умел этого делать с таким знанием обстановки, блеском понимания и глубиной проникновения, как он. Старая сноровка лектора приходила на помощь; раскрывалось подлинное соотношение борющихся сил; возможности сторон становились очевидными до полной реальности. В том громадном, что совершалось теперь на восточном фронте, Карбышев прежде всего искал и находил применение великих принципов сталинской стратегии, выковывавшихся на его глазах в славную пору гражданской войны. Вот принцип разгрома противника посредством контрнаступления с широким использованием маневра, — сочетание обороны и натиска, перегруппировки войск по фронту и в глубину, охват, обход, окружение, удары по тылу, — так маневрировал когда-то с постоянным успехом Фрунзе. Вот принцип массирования сил на решающем направлении, — его тоже держался Фрунзе, создавая ударные кулаки. Принципы выросли вместе с масштабами войны, усовершенствовались, развернулись в новую революционную военную науку, о создании которой уже много лет назад мечтал Карбышев. Трудно было разглядеть из флоссенбургской мышеловки, что именно и как происходит на восточном фронте. Однако Карбышеву удавалось разгадывать главное, и оперативную тенденцию развития военных действий он крепко держал в руках. А отсюда недалеко и до предсказаний. Карбышев предсказывал и — не ошибался.
«Русский генерал сказал…»
Это становилось аргументом в спорах, критерием при оценке как общей международной обстановки, так и любой из отдельных политических и стратегических ситуаций. Сказанное Карбышевым подхватывалось и распространялось сперва среди советских пленных, а потом и между чехами, поляками, французами, испанцами и канадцами. И из слов его почти всегда возникала надежда. Карбышев превращался в знамя для всех морально устойчивых элементов лагеря. Непримиримостью старика, генерала, ученого восхищались. Многие из молодых невольно ставили себя рядом с образцом и, как вывод из сравнения, принимали геройские решения…
В феврале к куртке Карбышева пришили черный треугольник — скверный признак. Этот значок надевался на «социально-опасных». Но в остальном положение оставалось прежним, — Карбышев жил и работал в Schureisserei. Фрау Доктор употребляла немалые усилия для его спасения. В посылках норвежского и датского Красного креста время от времени обнаруживались вкусные и питательные вещи для «старого русского генерала». В одной из посылок женевского Красного креста пришли даже неизвестно кем посланные ему очки. Карбышев был очень растроган. Только стекла оказались неподходящими. Куда девать очки? Дмитрий Михайлович сказал Мирополову:
— Возьмите-ка эту штучку…
— Да как же? — удивился майор, — а вы…
— У меня пенсне.
— Да у него машинка испортилась…
— Верно…
Карбышев подумал.
— Все равно. Поздно носить очки. Умру с пенсне. Возьмите! Если случится попасть в Москву, — зайдите ко мне… то есть к ним… туда, на Смоленский бульвар. Отдайте жене. Будет им, бедным, маленькая радость…
Мирополов взял. Несколько секунд оба старика молча смотрели друг на друга. Потом, словно по команде, отвернулись и, судорожно подрагивая головами, тихо, бесслезно заплакали.
* * *
Ликвидация фашистских дивизий, окруженных советскими войсками к северу от Звенигородки, в районе Корсунь-Шевченковского и Шендеровки, в которой когда-то служил Карбышев, изображалась в геббельсовских сообщениях, как частная неудача, не имеющая никакого общего значения. Но Карбышев сразу понял, в чем дело. Он отлично знал места, на которых бесславно пропали пятьдесят тысяч гитлеровцев и, показав операцию в довольно точном чертеже, так убедительно и ясно воспроизвел ход многодневных боев, что слух о погроме фашистов сразу стал достоянием всего лагеря. Вереница пленных тянулась вечером семнадцатого февраля к чуланчику при Schureisserei. Многие несли с собой по печеной картофелине, — радость по природе своей благодарна. Скоро картошкой заполнилось целое ведро. Люди шли не только из соседних бараков, но и из дальних, а это было предприятием весьма рискованным. Путешествия из блока в блок категорически запрещались. Все посещения такого рода были под строгим контролем. Часовые у колючей проволоки прицеливались и щелкали затворами. Потушить метким выстрелом лампу в барачном окне после десяти вечера — удовольствие для часового…
В карбышевском чулане собралось немало народу: сначала пришли Мирополов и Дрезен; потом — Знотинг; за ними появился шрейбер Прибрам в лыжном картузе на седой голове; и, наконец, — маленький итальянец в гетрах и соломенных туфлях вместо башмаков, который все извинялся и бормотал, что очень хочет услышать, что будет говорить straniero[132] — генерал. Чтобы достигнуть Schureisserei, итальянцу и Прибраму надо было одолеть пять рядов проволочных заграждений. Вспомнив свою первую встречу с лагерным шрейбером, Карбышев крепко пожал ему руку и, не теряя времени, заговорил о Корсуньской операции. Белая, две черных, рыжая и лысая головы низко склонились над обрывком бумаги.
Лысая голова первой оторвалась от чертежа.
— Нельзя победить Россию, — сказал Мирополов, — никогда этого не было и не будет.
Карбышев поправил:
— Согласен, что победить Россию нельзя. Но не потому, что ее никто никогда не побеждал, а по другой причине. Народ, борющийся за свою свободу, — непобедим. Когда мой тезка Дмитрий Пожарский отвоевывал для своей родины свободу, он победил. Кутузов в двенадцатом году — тоже. Даже покоренный народ далеко не всегда побежден. Пример — чехи. А война России с Японией не была войной за свободу и кончилась поражением России. Победа обеспечена только тогда, когда цель борьбы — свобода и творческое созидание. Фашистская Германия сражается не за свободу. Поэтому она непременно будет разбита. Иначе, друзья, не может, никак не может быть…
Все слушали, притаив дыхание.
— Не дано Германии победить СССР еще и потому…
Карбышев заговорил о пространстве, о коммуникациях. Но после сказанного это уже не казалось главным.
— Англия, Франция, Польша научили фашистских генералов презрительно недооценивать противника. В этой привычке — могила фашизма, так как СССР — не Англия, не Франция и не шляхетская Польша…
Черные, горячие глаза Карбышева, не мигая, смотрели на слушателей. На узком и худом, как маска из костей, лице дрожала светлая улыбка.
— Сперва мы выгоним фашистские орды со своей земли, а потом и Европу избавим…
Прибрам встал и низко поклонился Карбышеву.
— Счастлива страна, воспитавшая таких граждан, как вы. И армия с такими генералами, как вы, не боится поражений. Культура, создавшая ученых, подобных вам, есть истинная культура. А партия, в рядах которой вы стоите, указывает будущее миру…
Прибрам повторил поклон.
— Я кланяюсь в вашем лице великой державе. Надежда на Советский Союз — моя единственная надежда…
У Карбышева был такой вид, будто он в чем-то оправдывался, — смущенный, немножко даже растерянный.
— Что касается меня, — заговорил он быстро и от быстроты как бы насаживая мысль на мысль, — я делаю здесь много меньше любого фронтового красноармейца. Тот жертвует жизнью, чтобы решить победой судьбу своей родины на века вперед, а я?.. От беспомощности меня гложет тоска, я не знаю покоя. Остается одно — поддерживать веру друзей в будущее, и это, только это я и делаю…
Он приостановился. Озабоченное лицо его снова просветлело, как бывает, когда в душу человека войдет вдруг что-то очень хорошее.
— Гложет тоска… А знаете, как я с ней справляюсь? Иной раз кажется: жить труднее, чем умереть. Тут-то и начинаю я думать о будущем, за которое бьются мой народ и все лучшее, что есть в человечестве. И, стоит мне подумать о будущем, как падают дощатые стены сапожного сарая, рвутся проволочные сети каторги, рушатся застенки гестапо, поднимается вокруг завтрашний мир, широкий, радостный, и шагаю я в этом мире, полный сил и юношеской бодрости, чтобы новым трудом завершить победу. Подумаем о будущем, друзья! Подумаем о коммунизме!
В Schureisserei стало тихо, тихо. Минуты такого торжественного чудного безмолвия знает природа. И приходят они к ней чаще всего перед бурей…
* * *
Серые облака мечутся по небу. Голые деревья болезненно вздрагивают. Маршировка на плацу с зуботычинами и тумаками — средство достижения внешней выправки и усвоения немецких команд. После маршировки — нудная церемония переклички. Затем люди расходятся по баракам за порцией хлеба. В бараках — нетопленые спальни, настежь открытые окна. И такое же точно чувство мертвого холода в душе. Так бывало обычно. Но сегодня люди — в тревоге. Волны живого шепота катятся через лагерь. Что же случилось? Во-первых, арестован лагерный шрейбер Прибрам. Во-вторых, в чулане у Карбышева обнаружили ведро с картошкой и отобрали. А Карбышев на утренней проверке повернулся к выстроенным пленным и, откровенно нарушая дисциплину, громко сказал:
— Благодарю вас, товарищи! Спасибо, друзья!
* * *
Очевидно, запасы полосатой материи для каторжных курток и штанов истощились. Заключенным стали выдавать для носки самую разномастную рвань, но обязательно с широкой красной полосой на спине и такими же лампасами на брюках. К прежним значкам прибавился еще один: «К. L»[133]. Когда заключенные выстраивались теперь по утрам на плацу, — густая белая пелена ложилась за ночь на плац, и от этого, он казался удивительно, до парадности чистым, — они выглядели среди этой снежной белизны отвратительно грязным, уродливо пестрым пятном. Так именно они выглядели и в тот светлый зимний день, когда их вывели из бараков и построили в каре кругом так называемого позорного столба. Давно уже говорили, что этот столб предназначен для подвешивания и пыток. И было похоже на то, что сегодня ему предстоит сыграть свою зловещую роль. Команда сапожников — Дрезен, Карбышев и другие — стояла очень близко к столбу. Дрезен шепнул Карбышеву:
— В обиду не дам! Товарищ Тельман сказал: «Мальчик…»
Офицеры прокричали уставные слова. Строй каторжников замер. По плацу быстро шел комендант лагеря. Это был высокий полковник с подвязанной левой рукой. Козырек его фуражки был низко надвинут на лоб. Высокие сапоги сверкали. Ремни с кортиком и револьвером — тоже. Хлыст торчал подмышкой.
— К столбу! — приказал он кому-то.
Трое конвойных солдат, маршируя, как на вахтпараде, подошли к Карбышеву, окружили его и, выведя из строя, поставили у столба. Полковник смотрел на Карбышева, а Карбышев — на полковника. У коменданта были огненно-холодные глаза, какие бывают у больших хищных рыб. Он молчал, это продолжалось минуту или две, а может быть, даже больше. Карбышев ждал, ждал… Наконец:
— Кто вы?
— Я — генерал-лейтенант советских войск.
— Большевик?
— Да.
Комендант пожевал губами.
— Я знаю вашу Россию: это — подвода и постой.
— Вы понятия не имеете о Советской России.
— Что?
— Да…
— А кто победит — Германия или Россия?
— Советский Союз.
— Что? Что? Как вы смеете? И вообще все, что вы позволяете себе болтать, это… это опаснее пуль!
— Я говорю, что победит Советский Союз. Только он.
— Свинья! Мошенник! Большевик! Забудь, что ты генерал! Ты — государственный преступник… Вот… Получай!
Комендант выхватил здоровой рукой хлыст из подмышки. Глаза его побелели от бешеной злобы. И вдруг звонкий треск оплеухи, быстрый и короткий, словно холст рванули разом по всей ширине, прорезал воздух. Комендант качнулся. Дрезен, как-то особенно глубоко припадая на правую ногу, медленно отступил от него и, плавно хромая, поплелся назад в строй. Впрочем, с полдороги он повернул голову и спросил:
— Ну-н?
Комендант тоже не спешил. Он вынул револьвер и, хорошенько прицелясь, выпустил пулю прямо в затылок оберкапо. Для подобных случаев промахи не существуют. Дрезен перестал плыть, — выстрел швырнул его вперед. Он рухнул лицом вниз, и по белому снегу задымились, разгораясь, красные, как мак, цветы горячей крови чернобородого ребенка. Мирополов и Знотинг с двух сторон заслонили собой щуплую фигуру Карбышева.
Глава пятидесятая
…Становилось все ясней и ясней, что дальше тянуть нельзя. Шестого июня, в четыре часа утра, союзники высадились в Нормандии, — открылся, наконец, второй фронт. И опять даже слепые видели, что открылся этот фронт не для помощи Советскому Союзу, а для спасения того, что еще казалось возможным спасти из арсенала реакции. Чтобы покончить с гитлеровской Германией, Советский Союз не нуждался больше ни в чьей помощи. Могучие удары один за другим падали на фашистские армии.
Сбив на реке Шаре сильную оборону противника, войска маршала Рокоссовского повернули на юго-запад, к Бресту и в обход Бреста. На западном берегу Шары их встретили свежие германские дивизии. Гитлеровское командование энергично подбрасывало сюда все новые и новые части. Но танковый кулак Рокоссовского прорывал рубежи, на скорую руку сооружаемые противником. Советские конница и мотопехота лавиной устремлялись в бреши, охватывая фланги неприятельских расположений. Почти то же совершалось и восточнее Бреста — прорыв обороны, обходы, охваты. Сбрасывая гитлеровцев в болотные топи, по грудь в тине, с пушками на лямках, через лесные завалы и вплавь через реки шли советские войска к Бресту, выдвигаясь конными частями к Западному Бугу. Гитлеровцы увязали в пинских трясинах. Сохранить за собой пути отхода из этих гиблых мест было для них вопросом спасения, и они старались держаться. Но Рокоссовский вывел свои войска на юг и перерезал шоссе Кобрин — Брест, рассекая вместе с тем надвое и фашистскую группировку. Гитлеровцы думали отойти отсюда на Влодаву, но и эта дорога была уже перерезана. Двадцать восьмого июля войска Первого Белорусского фронта штурмом взяли Брест и уничтожили окруженные к западу от него при фашистские дивизии.
Это происходило на фронте. А внутри Германии? Внутри Германии по приказу министра внутренних дел Гиммлера вылавливались и арестовывались все бывшие депутаты рейхстага, которые до сих пор не стали наци. Среди этих людей был Эрнст Лютке, старый деятель революционной профоппозиции, всегда стоявший на левом ее крыле и просидевший с девятьсот тридцать третьего года по тюрьмам в общей сложности ровно десять лет.
* * *
В лагере Бухенвальд было заперто двадцать пять тысяч заключенных. На территории лагеря находилось множество бараков с трехъярусными нарами, большие конюшни, где производились расстрелы, несколько испытательных станций и крематорий.
За ночь похолодало. Ветер угнал тучи далеко на юг. На синем небе ярко вспыхнул было и, не успев разгореться, потух звездный пожар. Мир становился голубым. По лицу и волосам Лютке пробежало живое дыхание рассвета. Ему показалось, что грудь его стала шире: это сделал утренний воздух, прозрачный, как начисто вытертое стекло. Лютке стоял у решетчатого окна своей одиночки и смотрел на мир. Это был худощавый человек с темным лицом и волосами такого странного, почти совершенно белого цвета, что их можно было принять и за седые и просто за очень светлые. Он был в нижнем белье и спортивных туфлях. Всего два дня назад его привезли сюда из Дахау, и он еще не научился спать на новом месте. Но глубокую предутреннюю тишину можно было и здесь слушать так же, как в Дахау. И здесь в ней было нечто громкое, торжественно звучное. Лютке привык к тишине и полюбил ее. А сам он был так молчалив, что, когда начинал говорить, казалось, будто губы его слиплись и ему трудно разжать их. Тюремные надзиратели ненавидели его именно за молчаливость. Им чудилось, будто молчание Лютке жалит, как змея. Но он и не подозревал об этом. Ждать, шептать, надеяться, разочаровываться в течение одиннадцати лет, — от всего этого можно в конце концов устать. А усталость, как известно, у одних людей развязывает язык, у других же, наоборот, связывает. И Лютке молчал просто от страшной усталости.
Уже совсем рассвело, а он все еще стоял у окна, отсчитывая какие-то дни, недели и месяцы в обе стороны от наступавшего утра — и в прошлое и в будущее. Вдруг сирена протяжно и жалобно закричала раз, еще раз и, наконец, в третий, как бы надсаживаясь из последних сил. По лагерному двору забегали люди с черными нашивками на воротниках своих форменных курток, — буквы СС…
Б-бах! Б-бах! В небе ревело, гудело, свистело. Лагерь мгновенно ожил и тоже загудел. Б-бах! Бомбы с грохотом рвались в разных концах города. Б-бах! Это где-то совсем близко. Стекло в окне звякнуло и осыпалось тысячью мельчайших осколков. Что-го треснуло в стене, отозвалось под полом.
— Raus! Raus![134]
Запел замок в двери. Из разъема, между дверью и косяком, выглянула фигура с черными нашивками на воротнике.
— Raus!
Синие клубы дыма тучей поднимались над Бухенвальдом. Туча эта все росла и росла, захватывая половину горизонта вширь и половину неба ввысь. Б-бах! Б-бах! Лютке обернулся к двери и, ужалив тюремщка молчанием, пошел вон из камеры. В этот день, двадцать четвертого августа, союзники жестоко бомбили фабрики в Бухенвальде…
* * *
Такие люди, как Эрнст Лютке, не засиживались подолгу ни в одном из концентрационных лагерей. Удивительно, как часто перебрасывали их из застенка в застенок, и непостижимы причины такой бесполезной оперативности. В Бухенвальде Лютке пробыл всего четыре дня. Затем он уже оказался в Заксенгаузене — сорок километров к северо-западу от Берлина. Заксенгаузен — лагерь изоляции, которая была признана решительно необходимой для известного рода заключенных после июльского покушения на Гитлера. Изолированные в Заксенгаузене время от времени куда-то отправлялись из лагеря. Куда? Этого никто не знал. В неизвестном направлении.
Немедленно по прибытии в лагерь Лютке был отправлен на работу в электротехническую мастерскую по той причине, что в молодости преподавал физику в одной из провинциальных гимназий. В мастерской он пробыл до вечера. Моросил мелкий дождик. Лагерь кутался в туман молочного цвета. Электрические фонари мигали с тревожной неопределенностью. Земля была скользка и мокра. К Заксенгаузену подбирались сырые и душные сумерки. Радио глухо кричало: «Над имперской территорией ни одного вражеского боевого соединения замечено не было…» Итак, в день двадцать восьмого августа шкура гитлеровской империи избежала повреждений. Впрочем, ведь дело не в шкуре. Лютке вспомнил свою мимолетную встречу с Тельманом в Баутцене два года назад. Тельман тогда сказал: «Война с Советским Союзом — величайшая ошибка Гитлера. Германия никогда не победит Советской России, потому что Советская Россия за двадцать пять лет стала сильнее любой другой страны. Сталин свернет шею Гитлеру…» Так сказал тогда Тельман. Лютке — бывалый человек. Еще выступая когда-то на учительских конференциях и впоследствии, как депутат ландтага в Саксен-Веймар-Эйзенахе, он приобрел известность незаурядного политического оратора. Обычной темой его выступлений было: «Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der taglich sie erobern muss!»[135] Свобода и жизнь, конечно, существуют, но только не для Лютке и не для Тельмана. Чем молчаливей был Лютке в тюрьмах, тем громче негодовала в нем душа. В мае пятнадцатого года судьба впервые свела его с Вильгельмом Пиком, — они были одновременно арестованы во время спартаковской демонстрации в Берлине. С тех пор прошло почти тридцать лет. Недавно в Дахау, между долгой отсидкой в Баутцене и короткой в Бухеньальде, — последняя встреча с этим замечательным человеком. В Дахау находился тогда еще и секретарь греческой компартии Захариадис. Пик сказал: «Заметьте, товарищи: немецкая коммунистическая партия, единственная из всех партий Германии, не капитулировала перед нацистским террором…» Лютке думал: «Он прав. Мы — за решеткой. Но разве мы капитулировали? Тельман всегда утверждал, что политического деятеля надо судить не только по тому, чего он достиг, но и по тому, чего он хотел достигнуть. Да ведь, кроме нас, замурованных, есть и свободные. Например, Герберт Чепе…» Лютке с нетерпением ждал, когда рассеется над Заксенгаузеном белый туман. Ему хотелось получше разглядеть этот лагерь, сидя в котором, Герберт Чепе организовал весной сильный подпольный центр. Потом по приказу партии он бежал из лагеря и теперь руководит боевой группой в Берлине… Однако туман не рассеивался. Он все гуще и гуще нависал над лагерем, — давил, душил, мешал видеть. Впрочем, помешать Лютке принять важнейшее новое решение он все-таки не мог. Здесь, в Заксенгаузене, Лютке должен был, наконец, отказаться от молчания и перейти сперва к словам, а затем и к делу.
* * *
Вечером непогожего августовского дня, незадолго до того, как Лютке прибыл в Заксенгаузен, попал в электротехническую мастерскую, выслушал утешительное радиосообщение, вспомнил кое-что из прошлого, взвесил настоящее и принял решения для будущего, — вечером этого самого дня несколько человек из числа бухенвальдских узников долго возились в лагерном крематории, растапливая печь. К ночи печь растопилась, и тогда узники покинули крематорий.
Вскоре после этого к зданию бухенвальдской гекатомбы подкатила маленькая закрытая полицейская машина. Из нее вышли три человека в штатском платье. Один, широкоплечий и полный, медленно двигался впереди; остальные — сзади. Сухие листья громко хрустели под ногами этих людей. Ветер подхватывал листья и относил в сторону. Передний молчал. Движения его были неловки и неуверенны, как это бывает у выздоравливающих после долгой болезни, когда они впервые покидают свою комнату. Но шедшие позади о чем-то переговаривались. Слова их были отрывисты, тусклы и казались странно похожими на листопад поздней осенней поры.
Не прошло и минуты после того, как эти трое, — один впереди, двое сзади, — скрылись за черной дверью крематория. Грянули три револьверных выстрела. За ними еще и четвертый, почему-то особенно громкий. Над трубой взвился такой густой и такой черный дым, что даже на фоне беззвездного ночного неба можно было без труда различить колеблющийся столб его плотного облака. Из крематория вышли уже не трое, а двое. Садясь в машину, один из них сказал:
— Это был вождь коммунистов Тельман. Здорово, а?
Другой ответил:
— Heute rot, morgen tot.[136]
Шофер затормозил машину, едва не. упершись радиатором в лагерный похоронный катафалк: крестьянская фура отчаянно скрипела, и два человека в резиновых фартуках, впряженные вместо лошадей, тащили ее, выбиваясь из сил. Громоздкая и тяжелая кладь наполняла фуру. Это была мертвая кладь. Но то, что торчало между редкими жердями тележного кузова, оживленно болталось в разные стороны. Вглядевшись, эсэсовцы из машины поняли, что болтаются головы, руки и ноги; поняв, они рассмеялись.
— Heute rot, morgen tot!
* * *
Лютке работал в бригаде электротехников, исправляющих лагерные радиоприемники. Дни бежали, и каждый приносил с собой что-нибудь оглушительно новое. «Внимание, внимание! Слушайте о положении в воздухе… Крупное соединение неприятельских истребителей… Повторяю…» Существовала в электротехнической мастерской и такая наладка, чтобы на волне в тридцать один метр ловить передачи на немецком языке из Москвы. Но всего поразительнее было германское радиосообщение, прозвучавшее четырнадцатого сентября вечером: «Во время англо-американского налета на окрестности Веймара двадцать восьмого августа было сброшено много бомб и на концентрационный лагерь Бухенвальд, Среди убитых заключенных оказались, между прочим, бывшие депутаты рейхстага Брейтшейд и Тельман». При последнем слове Лютке так стремительно вскочил с рабочего ящика, на котором сидел, что ящик опрокинулся. Затылок длинного Лютке с размаху ударился о дощатую стену барака. В горле будто лопнуло что-то и горячим клубком упало на сердце. Лютке скрипнул зубами и больно свернул на сторону пальцы. Сустав заныл. И в эту именно минуту разомкнулись молчаливые уста старого коммуниста, чтобы не смыкаться больше до конца…
Лютке не знал и не мог знать о том, что в действительности произошло двадцать восьмого августа в Бухенвальде. Но он превосходно знал тех, кому была на руку смерть Тельмана, и мысль его, опутанная ложью этих людей, рвалась прямо навстречу правде. «Они сами передавали, что двадцать восьмого ни один самолет не появлялся над Германией… Значит, если Тельман погиб при бомбежке Бухенвальда, то это могло быть лишь двадцать четвертого, лишь в тот день, когда неприятельская авиация в первый и единственный раз бомбила Бухенвальд. Так? Так… Однако ведь и это невозможно — двадцать четвертого Тельмана не было в Бухенвальде. Ни двадцать четвертого, ни двадцать восьмого… Привезли вечером двадцать восьмого? Хм… Пусть привезли. А что отсюда следует? Ничего, потому что и в этом случае Тельман не мог быть уничтожен бомбежкой, которой не было. Ложь, ложь, ложь…» Лютке был близок к тому, чтобы понять все. Еще одно, совсем небольшое усилие мысли и… мысль, пораженная громадностью факта, вдруг переставала биться, рваться и складывала крылья в оцепенении горестной тоски. На смену тоске приходили гнев и ярость. «Проклятая фашистская сволочь!» — Еще одно усилие мысли…
Тельмана нет. Но погиб он не во время бомбежки, — его убили до неё. Ложь насчет его смерти — результат несогласованности в работе министерства пропаганды и гестапо. Это окончательно определилось через три дня, когда министерство пропаганды сообщило по радио: «Союзные авиачасти 24 августа сбросили на лагерь (в Бухенвальде) около тысячи фугасных и большое количество зажигательных бомб, устроив настоящую кровавую баню для лагерных заключенных». Вот оно…
— Вы видите, друзья, — кричал Лютке в мастерской, — вы видите… Они подправляют свое вранье. Им ничего не стоит говорить то о двадцать восьмом, то о двадцать четвертом августа… Но Тельмана не было тогда в Бухенвальде. Они громоздят ложь на ложь. А правда лишь в том, что они его убили…
Был свежий день пасмурной осени. Солнце едва проглядывало сквозь холодные, неподвижные тучи. Воздух был крепкий и тихий. Кто-то сказал Лютке:
— Не говори так громко…
Но Лютке кричал:
— Тельман был коммунист, настоящий вождь и борец революции. В голове и сердце он нес великие имена Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, движущую силу истории видел в классовой борьбе и горячо верил в международную солидарность рабочих… То, за что он хотел умереть, было когда-то лишь прекрасным видением будущего. Но теперь это уже больше не видение, а подлинная жизнь. Это — свободный народ, свободная земля, новое государство свободных людей, — Советская Россия. И найдется ли, друзья, среди нас такой, кто раньше был готов умереть за видение, а теперь испугался бы смерти за подлинную жизнь?!
* * *
Бригада Лютке продолжала ремонтировать эсэсовские приемники. Секретный аппарат, стоявший в мастерской, был постоянно настроен на короткие волны для приема иностранных передач. И естественно, что бригада была источником самых свежих известий для заключенных всего лагеря. Сведения распространялись по Заксенгаузену с неимоверной быстротой. Лагерь двигался, ворочался, как медведь в берлоге после долгого зимнего сна. Пробуждение это было и радостно и страшно…
Осень в тот год затянулась. Снег выпадал и сейчас же таял. Дождь изо дня в день поливал захлебнувшуюся землю, и конца его холодным потокам не предвиделось. Они непрерывно струились из-за черных и глухих облаков, которыми было затянуто низко нависшее, понуро белесое небо. Ветер ломал на деревьях сучья и швырял их людям в глаза. О, какая это была ненастная осень! Лагерь в Заксенгаузене свирепо голодал. Прошли времена, когда заключенные получали по вечерам кусок съедобного хлеба с кружком соевой колбасы, по средам — кубик маргарина, а по субботам — одну ложку творога и другую — варенья. Все это кончилось. Вместо супа — соленая муть с картофельной кожурой. Хлебный паек уменьшался из недели в неделю. Да и хлеб был таков, что не лез в горло: отруби и солома… Голод… Голод — во всем. Даже краска, которой пользовались до сих пор, чтобы накладывать полосы на куртки каторжников и на их штаны, вдруг исчезла. В Заксенгаузене действовало новое правило: на спине каторжника вырезывался бубновый туз, а под вырезкой закреплялся цветной лоскут…
И все-таки подпольный центр, когда-то организованный в лагере Гербертом Чепе, потом распавшийся, а теперь снова восстановленный страстной энергией Эрнста Лютке, не сидел сложа руки. В него входили люди, работавшие в эсэсовской столовой. Лучше такой работы и выдумать нельзя. На картофельный суп, на суп с бобами, без мяса и даже без костей, на «витаминную» пищу, вроде брюквы и баланды, здесь и смотреть не хотели. Но счастливчики не забывали своих голодных товарищей. Еще за месяц до Октября они уже усиленно помогали им копить по баракам праздничные запасы продовольствия, главным образом картошки. С устройством в лагере Октябрьского праздника подпольный центр связывал немало расчетов. Ненависть изобретательна и деятельно бесстрашна. Такой была ненависть Лютке к тюремщикам, убившим Тельмана. Они совершили свое преступление в Бухенвальде. А он намеревался отомстить им в Заксенгаузене. В лагере готовился взрыв.
* * *
Ночь бросила на крыши прозрачное кружево снега. Земля была пегая — белый чехол на черной исподине. Небо то сжимало в синий кулак, то длинными бурыми пальцами топырило лохматые тучи. Лютке думал. Лопаты, ломы, топоры и пилы… Проволока электризована, но есть монтеры… Летите прочь, мокрые галки! Буря качает деревья, и деревья кажутся страшными. Прочь спасенья! Жизнь здесь так сурова, что человек может жить только всем своим существом, — жить целиком. Но такая жизнь не противостоит смерти: здесь жизнь и смерть — рядом. Поэтому никто не боится смерти, и никто не цепляется за жизнь. Эрнст Лютке писал на клочке бумаги грязью — сажа, разведенная в воде: «Называться коммунистом нетрудно до тех пор, пока не придет время отдать за это свою кровь. Был ли ты настоящим коммунистом, станет известно лишь тогда, когда пробьет для тебя час испытания. Я — коммунист! Знай, дорогой: я — настоящий коммунист. Я тысячу раз предпочитаю умереть за Советский Союз, чем жить для фашизма. Слушай: лучше топор палача, чем позорная жизнь для…» Лютке писал сыну. Через несколько дней этому письму предстояло вырваться из лагеря вместе с одним из конвойных солдат, предназначенных к отправке на восточный фронт. Солдат проведет час или два в Берлине. Фрау Доктор действовала. «Лучше топор палача, чем позорная жизнь для…»
Рука, тяжелая, как кирпич, упала на худое плечо Лютке. Его белые волосы всплеснулись, точно дым под ветром, острый локоть судорожно уперся в письмо, и глаза сверкнули огнем отчаяния и гнева. Он смотрел назад, на того, кто стоял за ним и держал его за воротник куртки. Мундир светлосерого сукна, черные нашивки — и лицо нюхающего зверя, — готово!
— Ты арестован, — сказал раппортфюрер[137], — попался, негодяй!
И выдернул письмо из-под локтя…
* * *
Гитлеровцы открыли наступление в Арденнах и прорвали фронт союзников. Для довершения катастрофы они хотели ударить по Льежу и, разгромив здесь американцев, выйти к Антверпену; отрезав девятую американскую, вторую британскую, первую канадскую армии и устроив таким образом союзникам новый Дюнкерк, они собирались вывести Англию из войны. Тогда Черчилль попросил у Сталина помощи…
Советские войска стояли на Висле, посреди красивых глубоких долин, где над крышами домиков, разбросанных по лесам, поднимались дрожащие струйки голубоватого дыма. Дороги в этих местах так занесло снегом, что они совсем сравнялись с полями, и только ряды ветел обозначали их направление. Отсюда, с приваршавских и принаревских, что к северу, плацдармов двинулись вперед советские войска. Это было частью могучего наступления от Балтики до Карпат, на фронте в тысячу двести километров. Наступление должно было изломать фашистскую оборону и спасти союзников. И оно, действительно, спасло их…
Хотя после ареста Лютке бригада электротехников и перестала существовать, но Заксенгаузенский лагерь не остался без дополнений к газетным известиям. Уборщики из пленных, рискуя головой, слушали по вечерам в служебных помещениях последние радиопередачи. «Германское верховное командование… Бои на Висле… Разведывательные отряды… Танненберг, Фридланд, Познань…» Гитлеровцы отбивались пехотой и танками. Однако советские войска неудержимо катились на запад от Вислы. Все чаще мелькало: Танненберг, Фридланд, Познань. Советские войска шли к Берлину…
…С конвойными солдатами надо было здороваться, за пять шагов снимая шапку и обнажая каторжную дорожку на темени. Опоздал — в зубы, а то и похуже. Только Шмидт не следил за поклонами пленных. Ему, простому деревенскому парню из Мекленбурга, трижды покалеченному под Можайском, Оршей, Седлецом и теперь ожидавшему новой отправки на фронт, с «Восточной» медалью на рабочей куртке за пролитую кровь, свою и чужую, в рваных солдатских штанах, с брюхом, раздутым от сырого картофельного хлеба, — словом, такому парню, как Иоганнес Шмидт, поклоны пленных были совершенно ни к чему. Он часто вспоминал свои фронтовые страхи не столько перед честным русским огнем, сколько перед подлыми голубыми петлицами тайной полевой полиции и буквами GFP на ее погонах. И воспоминания эти были так живы и отвратительны, что внушать людям такое же скверное чувство к себе, какое сам он раньше испытывал по отношению к полицейским на фронте, Шмидт ни за что не хотел. Но он шел и дальше. Со многими пленными у него были вполне дружественные, прямо-таки товарищеские отношения. И когда Геббельс для утешения германского народа опубликовал в «Райхе» статью о каком-то новом гитлеровском оружии, «при виде которого сердце останавливается в груди», именно он, Иоганнес Шмидт, растягивая гласные на восточно-немецкий манер и подмигивая полуслепым правым глазом, говорил своим приятелям из пленных:
— Donnerwetter Parapluie! Ooch'ne schene Gegend![138]
* * *
Советские армии еще стояли на Висле, когда восточные концентрационные лагери стали сниматься с насиженных мест, грузиться в темные скотские вагоны и улепетывать за Одер. Эвакуирован был также и Ауствиц[139]. В Заксенгаузен привезли из Ауствица три тысячи заключенных: венгров, евреев, румын и поляков. Их разместили в пустых цехах разбомбленного автозавода Хейнкель. И развалины завода превратились в филиал большого Заксенгаузенского лагеря. В этой партии был Карбышев.
Между Флоссенбургской Schureisserei и бараком, в котором очутился теперь Карбышев, — рядом с бомбоубежищем, — лежали два ада. Один — в Майданеке; другой — в Освенциме. Оба ада имели наружный вид приятных польских городков, с каштанами на улицах, с тополями, прямыми, как свечи, с садами у домов и на площадях, с гранитными тротуарами. Но Карбышев не видел городков — ни Майданека, ни Ауствица, — так как безвыходно пребывал в аду. С вечера до утра — бритье, перекличка, нашивка номеров. В одиннадцать — суп из кормовой брюквы, по литру на человека. Уже в Ауствице Карбышев был так изнурен голодом и истерзан болезнями, что почти не мог двигаться. Таким же привезли его и в Заксенгаузен. Маленькая, ссохшаяся, жалко сжатая в плечах и от этого похожая на складной перочинный ножик фигурка Дмитрия Михайловича терялась, пропадала в толпе его барачных товарищей. Иногда это бывало спасительно. Но не всегда. Только Мюнхгаузен умел остаться сухим во время дождя, ловко пробираясь между его струями и каплями. Карбышев не умел. В четыре с половиной утра прибывших из Ауствица подняли с коек и перед отправкой на Аппельплац погнали в умывальню. Окна в умывальне были открыты. Седые туманы предрассветного двадцатиградусного мороза тяжко ворочались и а дворе. Blockalteste заорал:
— Shnell!
Заключенные спешили, но не так, как бы хотелось старосте. Кроме того, ему казалось, что они умываются с недостаточным усердием. Он схватил рубчатый шланг, змеившийся от стены к стене по асфальтовому полу, и, быстро нацелив его медное дуло на «лентяев», повернул ключ. Пронзительный вопль, дружно вырвавшийся из десятка человеческих глоток, прорезал мерзлую тишину раннего утра. Полуголые люди заметались. Но куда бы их ни швырнуло, они везде оставались под ударами ледяной струи. Карбышев не кричал и не метался. Почувствовав, что задыхается, он прислонился к стене…
…Канцелярские работники из пленных не любили секретничать, — наоборот. И к обеду весь филиал лагеря на заводе Хейнкель знал, что в Заксенгаузене — Карбышев. Изумленный шепот разбежался по баракам:
— Генерал Карбышев — каторжник. Здорово!
Но это казалось необычайным и поразительным лишь в самом начале, а поразмыслив, вовсе не трудно было понять, что каторга в фашистской Германии именно для таких, как Карбышев, по преимуществу и существует. Эта простая мысль внушала многим каторжникам прекрасное чувство уважения и к товарищам и к самим себе. Из унижения рождалась гордость, разгибала спины согбенных и заставляла искриться потухшие глаза. Появление в Заксенгаузене седого, желтого, как восковая свечка, заморенного, еле двигающегося старичка многим пленным в лагере очень помогло: одних приподняло, других поставило на ноги, — всех почти подбодрило и оживило.
Но Иоганнес Шмидт не был ни пленным, ни каторжником. Он был молодой немецкий солдат из Мекленбурга, крестьянин, проучившийся шесть лет в школе, года три околачивавшийся в гитлерюгенд[140], затем отбывший трудовую повинность на сельскохозяйственных работах и, наконец, добровольно вступивший в армию (когда спрашивают: кто не хочет идти добровольно в армию? — парни молчат от страха, и тогда их «добровольно» превращают в самых настоящих «фронтовых свиней», — так именно и было со Шмидтом); он трижды ранен и лишь по счастливому случаю о нем не было отдано в приказе: «За фюрера, за германский народ и родину пал в битве под…» По другой счастливой случайности он был отправлен из госпиталя до окончательного выздоровления на службу в лагерь и теперь ждет со дня на день счастливой минуты, когда его снова погонят на фронт. Страх так давно и так беспощадно давил на Шмидта, что он тосковал по бесстрашию, как по солнцу или по луне. Это жадное чувство было так сильно в нем, что он сам предложил Лютке доставить в Берлин к его сыну письмо, и уже не вина Шмидта, что Лютке не дали письмо дописать. Все та же тоска по бесстрашию заставила Шмидта узнать и заучить фамилии многих советских пленных, сидевших в развалинах хейнкелевских заводских цехов, — зачем? Вечером второго или третьего дня после появления Карбышева в лагере, конвоируя пленника из конторы в барак, Шмидт опять уступил порыву тоски по бесстрашию. Это было вечером. Карбышев медленно двигался к бараку. Уже был ясно виден его ярко освещенный вход, и староста, стоявший у порога. Сейчас Карбышев снимет с себя башмаки и войдет под крышу, держа их в руках. Шмидт наклонился к генералу и прошептал:
— Скоро я поеду на фронт, сдамся в плен и сообщу советским властям, где вы находитесь, — да!
Карбышев вздрогнул и оглянулся. За ним вышагивал молодой солдат с полузакрытым правым глазом, с ружьем в руках. Больше ничего. Правда, что-то вздрагивало в углу его рта, у красных свежих губ, чуть-чуть походя на улыбку; но это могло быть и тиком — простым нервным тиком. Карбышев наклонился, чтобы снять башмаки. Что же это такое? Неужели почудилось, послышалось? А если не послышалось? И в Майданеке, и в Ауствице Карбышеву уже приходилось встречаться с подобными вещами. Это — вторая Германия, настоящая внутри гитлеровской; не коммунисты, даже и не партийное подполье, а самые обыкновенные честные люди, сумевшие не запутаться в сетях фашистской пропаганды. Они прячутся от этой пропаганды в себя, так как им некуда больше податься. Их одиночество — счастье в сравнении с тем, что происходит, когда тина геббельсовской лжи окончательно затягивает свои жертвы. Чем дальше, тем яснее понимают они не мыслью, а все тем же упрямым нутром: только военный разгром фашизма даст возможность немецкому народу вольно вздохнуть. За поражение на войне — мир и свобода. Карбышев еще раз обернулся. Блокэльтесте уже не стоял у порога; сомневаться больше не приходилось: Иоганнес Шмидт улыбался, кивая головой.
* * *
На проверках в Заксенгаузене, утром и вечером, выкликали не по фамилиям, а по номерам. Пленные окончательно не считались здесь людьми. И бараки походили на скотский загон. Как животное не знает, что собирается с ним сделать хозяин, так и заксенгаузенские каторжники засыпали с полным неведением о предстоящей им назавтра судьбе. На упершихся в потолок стояках трехъярусные нары-койки; три переводины — ящик, как гроб; в ящике — тюфяк с опилками. В гробу валяются двое; а то и четверо в две смены). Разве есть во всем, этом хоть что-нибудь человеческое?
Карбышев состоял в одной из так называемых «SS-kommandos»[141] и чувствовал себя очень плохо. Тягостное ощущение страшной физической истомленности, когда все тело ищет покоя, а каждая клеточка трепещет в мучительном оживлении, — какое-то предсмертное самоощущение почти ни на минуту его не покидало. Это естественно для каторжника, которому с осени пошел шестьдесят пятый год, — естественно в субъективном смысле. Но объективно получалось иначе. В партии, прибывшей из Ауствица, Карбышев был единственным, громко говорившим о победах и неизбежности скорого конца войны. В нем уже не было прежней телесной бодрости, но постоянная нервная приподнятость все еще придавала огонь его мыслям и пыл речам. Главной заботой Карбышева было сохранение душевного равновесия. Он берег свою острую наблюдательность, так как хотел ясно видеть и передавать другим то, что многим, потерявшим голову, представлялось всего лишь фантасмагорией, расплывшейся в кровавом тумане. Отсюда именно черпал Карбышев свою удивительную твердость. «Главное, — думал он, — попрежнему ничего не бояться. Страх, как щука в пруду, так и глотает все прочие чувства…»
В лагере заговорили о скорой отправке слабых и стариков. Куда? Эсэсовцы, набиравшие партию, шутили:
— На кремацию…
Никто бы не взялся сказать, где подобные шутки становятся простым убийством. Как маятник, колеблющийся между отвращением к жизни и страхом смерти, инвалиды переходили от надежды к отчаянию. Карбышев смотрел на ноги этих людей, обернутые соломенными жгутами и готовые послушно идти куда угодно. Смотрел на их лица с выражением бесконечной покорности, — терпение, терпение, только терпение и ничего больше. Слушал их жалкий шепот:
— Они нас прикончат…
— Если бы они могли нас прикончить, — возражал Карбышев, — они бы давно это сделали.
— Кто же им помешает?
— Мы!
— Мы?!
— Да как же вы не видите, товарищи, что Красная Армия рвется вперед, что шансы наши на жизнь растут, что потеряно далеко не все, так как фашисты никак не успеют всех нас уничтожить…
Карбышев не ошибался. Все так и было, как он говорил. Но было не только это. Чем ближе виделся конец и чем ясней вырисовывались его последствия, тем беспощадней становился фашизм. Была ли его жестокость инстинктивным проявлением страха или сознательным стремлением замести следы, — кто разберет? Но никогда до сих пор раппортфюреры и коммандофюреры не свирепствовали, как теперь, перед концом. В их свирепости было нечто, похожее на прыжки зверя, ухваченного охотничьими кляпцами за хвост, или на последние выходки приговоренного к веревке бандита. Одно старое преступление заслонялось двумя, тремя новыми; гора кровавой грязи росла, с неимоверной быстротой отяжеляя землю. Энергия убийства наполняла воздух, и люди задыхались в ядовитых испарениях трупной гнили. Карбышев тоже вдыхал эту отраву; он не мог не знать, как страшно увеличивается опасность гибели по мере приближения к концу. И если говорил все-таки не о гибели, а о спасении, то потому, что видел за бедствиями нынешнего дня надежду на помощь в решительно и смело протянутой сильной руке…
* * *
Рука Фрау Доктор втолкнула Карбышева в ревир накануне того дня, когда первая партия отобранных «на кремацию» покинула лагерь. Куда их отправили? Неизвестно. Вернутся ли они назад? Никогда.
Вечером, в подвале бомбоубежища на заводе Хейнкель, в полутьме, Карбышев вел разговор с совершенно неизвестным ему немецким коммунистом.
— Это очень плохо, — говорил немец, — партия отобранных — это смертники, потому что в ней много евреев. Вас отправят разряжать неразорвавшиеся мины, вы погибнете…
— Вероятно, — сказал Карбышев.
— Но вы не должны погибнуть. Мы потеряли Лютке. А вас мы спасем…
Утром помощник главного врача, пленный француз Сильвестр, осматривал больных. У француза было круглое красное лицо, голая, как коленка, голова, пушистые, желто-седые усы и мягкий, шишкой, нос. Его большие карие глаза слезились. Он то и дело заслонял их от света сухонькой желтой ручкой и, когда отнимал ручку от глаз, в их мокром блеске явственно чуялось доброе, доброе тепло. Перед французом стоял маленький седой старик, с отекшим лицом и распухшими, как подушка, ногами, всунутыми в грубо выдолбленные деревянные колодки. Сильвестр быстро записывал на бланке Zettel'я[142]: «Резко выраженное общее истощение, голодные отеки тела, авитаминоз, склероз сердца, эмфизема легких, хронический бронхит, чесотка и флегмоны на обеих голенях».
— Ну-н? — спросил, входя в приемную, унтерштурмфюрер СС со значками в петлицах и на правом рукаве.
— Вода в ногах! — громко сказал Сильвестр, подвигая поближе к унтерштурмфюреру Zettel.
— О! — сказал эсэсовец и вышел.
Карбышева уложили в постель.
* * *
О преступлении и о казни Эрнста Лютке лагерь узнал из специального объявления, зачитанного офицерами на Appelplatz перед вечерней перекличкой. В объявлении говорилось, что Лютке был великим преступником: он открыто осуждал фюрера, проклинал его власть, предсказывал гибель третьей империи и желал поражений германской армии. Он был коммунистом, изменником и врагом своего народа. Письмо, которое он писал перед арестом и намеревался отправить в Берлин, неукоснительно свидетельствует о преступлениях этого гнусного человека. Казненный Лютке еще несколько дней не сходил со сцены Аппельплаца. Его длинное, худое, узкое и прямое, как палка, тело с белой головой и багрово-синими щеками медленно повертывалось на веревке под свежеотесанной перекладиной виселицы — день и ночь, день и ночь… Многим приходило на мысль: а с кем же собирался покойник послать в Берлин свое предсмертное письмо? Оно могло идти почтой с железнодорожной станции Ораниенбург. А как бы оно дошло до Ораниенбурга? Кто бы его туда доставил? Вопрос казался неразрешимым до тех пор, пока из лагерной канцелярии не распространился слух о бегстве из лагеря заподозренного в сношениях с Лютке конвойного солдата Иоганнеса Шмидта…
* * *
— Доктор, — говорил Карбышев Сильвестру, возившемуся со шприцем и иглой, — колите меня чем угодно, куда угодно, сколько угодно… Я не хочу умирать!
Он говорил это через месяц после своего поступления в ревир. Весь этот месяц прошел для Карбышева в том, что он спал по шестнадцать, по восемнадцать часов в сутки, без снов и видений, без мыслей и воспоминаний о действительности, как спят младенцы, только что перенесшие тяжкую болезнь. Сон укрепил Карбышева. Флегмоны его зажили; отеки спали с лица и ног. Он превращался в прежнего Карбышева, становился самим собой.
— Я хочу жить, — говорил он доктору Сильвестру, — не могу иначе. Мне надо дождаться… Надо… Уже не долго. Уже и теперь видно, как жестоко просчитались фашистские политики и стратеги. Надеялись создать всеобщую коалицию против Советской России, — не вышло. Думали первыми же ударами развалить советский сирой, а государство наше крепче, нежели когда бы то ни было. Собирались разгромить нашу армию быстро и бесповоротно, а она с каждым днем становится сильней. Сейчас умереть? Это невозможно, доктор…
Сильвестр был философ.
— Старость держится за жизнь, генерал, а смерть — за старость. Мы оба — старики. Но и я не хочу умирать; только по другой причине. Я привык к себе и остаться без себя не хочу. А ведь умереть, это как раз и значит — остаться без себя. Ха-ха-ха!
Что-то было в нем ненастоящее, живое, но к жизни не годное и в жизни не нужное, вроде травинок на камне, или бледных и немощных ростков на лежалой картошке. Такие люди перестают жить задолго до смерти. У него была удивительная способность сводить большое к малому, важное к пустякам, шаржировать, карикатурить, превращать драму в фарс. Он закручивал желтой ручкой свои пушистые разноцветные усы и говорил:
— Война французов с немцами — война вина с пивом. Глупо!
Карбышев возмущался.
— Не могу понять, доктор, откуда в вас эта политическая размягченность. Черльт знает, что такое!
— Это — конституционное белокровие, дорогой генерал. Это — лейкоцитоз.
Сильвестр крутил ус.
— Это — болезнь людей без прошлого, без веры в себя, без целей и без будущего, — таких, как я. Собственно, непонятно, почему я очутился в этом лагере, когда у меня отличная квартира в Париже на rue de Grenelle[143]. Впрочем, и те, которые в июле подбросили в «Вольфшанце»[144] портфель с бомбой, вероятно, удивлялись самим себе не меньше, чем я… Ха-ха-ха!
— Ужасно!
— Что вас приводит в негодование, любезный генерал?
— Наивное волонтерство этих людей, доктор!
— А как же было бы надо?
— Взорвать всю ставку на куски!..
От людей, слушавших в лагере заграничные радиопередачи, доходили в ревир к Карбышеву кое-какие сведения о ходе войны. Как бывало во Флоссенбурге, так и здесь, он расшифровывал официальные военные сводки и делал прогнозы на будущее. Фашизм изнемогал. В Германии все делалось теперь по принципу: пан или пропал, и во всем проступала с величайшей отчетливостью слабость власти. Отчаяния еще не было, но и надежды уже не было никакой. Отсюда — ненависть и упорство, с которыми мстила власть своим врагам. Однако и врагов уже невозможно было сломить никакими преследованиями. Карбышев объяснял Сильвестру и больным:
— Чем хуже обращаются с нами гитлеровцы, тем хуже им, то есть тем лучше нам. Ура, товарищи, ура!
И слабые груди кричали: «Ура!» И глухой этот крик разносился по лагерю, повторяясь, как эхо, во всех его закоулках. Когда Карбышев взялся за агитацию, Лютке уже не висел на Аппельплац — веревка оборвалась. Труп унесли, а место, на котором он лежал, засыпали хлором. От Лютке осталось белое пятно на земле. Только ли это пятно? Нет, — остался еще подпольный центр германской компартии, деятельно готовивший силы к освобождению заключенных из лагеря посредством внутреннего взрыва. Смерть начинала отступать все дальше и дальше. Неужели?
— Скоро фашистам — каюк!
— Вы радуетесь, дорогой генерал, — говорил доктор Сильвестр, — а я боюсь. Я ведь только притворяюсь храбрецом, честное слово!
— Превосходно! — восклицал Карбышев. — Пока человек не потерял способности радоваться и бояться, он — человек. А когда не будет для него ни радости, ни страха — плохо. Тогда он уже не человек!..
…Шеф ревира, немецкий врач с острой мордочкой барсука, ежедневно осматривал больных. Для этого больных выстраивали в две шеренги. Карбышев всегда стоял во второй и еще ни разу не привлекал к себе опасного начальнического внимания. Но при последнем субботнем осмотре шеф остановился прямо против Карбышева и сказал:
— Выписать из ревира.
Доктор Сильвестр бесстрастно принял распоряжение:
— Обязательно.
Вечером он говорил Карбышеву:
— Будем, генерал, прикидываться храбрецами. Я вас оставляю здесь под свою ответственность. Мы — люди без будущего. Будем дорожить настоящим…
Но «настоящее» продолжалось лишь до понедельника. После вечерней похлебки Карбышева вызвали в политический отдел лагеря. Словно ледяная рука протянулась к сердцу Дмитрия Михайловича. Она еще не схватила, не сжала сердца, но ему уже было холодно, как перед смертью. Карбышев стоял у стены. За столом, близ окна, сидел пожилой, гладко выбритый офицер СС. Он сидел совершенно неподвижно и попыхивал сигареткой, не только ничего не говоря, но даже и не глядя на пленного. Его угрюмое молчание начинало волновать Карбышева. Он не сводил глаз с офицера. И поэтому, при одной из глубоких и долгих затяжек, когда лицо эсэсовца осветилось с особой ясностью, он без ошибки поймал на его плотно сжатых губах, у самой сигаретки, быстрый и холодный смешок. Этот смешок сказал Карбышеву все и приготовил его ко всему. Теперь эсэсовец мог бы ничего не говорить хоть и до самого конца. Однако когда на стол перед ним положили пакет с надписью: «В концентрационный лагерь, лично в руки СС штурмбанфюреру N. Маутхаузен», — он нашел зачем-то нужным процедить сквозь зубы:
— Отправляетесь в «неизвестность». Во «тьму и туман».
— Только не грозите мне жизнью, — сказал Карбышев, — а смерть меня вовсе не пугает!..
На наблюдательной вышке — часовой, закутанный в одеяло. Часовой остается в Заксенгаузене. Затем — пустой вокзал в Ораниенбурге, и над крышей вокзала — острый серп месяца, такой острый, что на него боязно смотреть. Товарный вагон, набитый спящими людьми. Поезд мчится на юг. Утром он спускается с гор, делает петли, ныряет в туннели, мчится с птичьей быстротой. Один за другим начинают просыпаться люди, но сонная одурь еще. колом стоит у них в глазах…
Глава пятьдесят первая
На темном небе смутно рисуется высокий очерк гор. Серые сумерки ночи окутывают башню, похожую на маяк, со стеклянными боками. Наверху башни — жестяной флаг флюгера, и на нем — череп с двумя костями. Это — главный наблюдательный пост в концентрационном «лагере уничтожения», близ тирольского городка Маутхаузен. Ночь глубока, но в лагере кипит работа. Скрежещет железо, звенят лопаты, гулко бьют ломы и тарахтят автомобильные моторы. Одни грузовые машины приходят, другие — уходят. Ефрейтор Теодор Гунст также очень занят. Прошли спокойные времена, когда он за ночь без помехи выкуривал две дюжины трубок, туго набитых табаком «Победа», и раз двадцать перечитывал один и тот же номер «Цвельф-ур-блятт». Так было, например, когда Гунст служил в нюрнбергской тюрьме гестапо. Здесь же, в Маутхаузене, — не то. Место другое, да и время, по-видимому, совсем изменилось. Бывало, конечно, и в Нюрнберге, что заключенные вдруг начинали шевелиться, например, под бомбежкой. Но в общем служебная политика Гунста в Нюрнберге была очень простая: днем — заставлять своих подопечных дрожать от страха, а ночью — черт с ними. Теперешняя политика заключалась в том, что сам Гунст днем и ночью дрожал от страха, не имея положительно ни минуть! отдыха. И сейчас он трудился — обходил караульные посты. Ну, и посты! Фольксштурмовцы четвертого призыва, бородатые седые болваны, со старыми итальянскими ружьями и греческими патронами, — ха-ха-ха! Гунст смеялся, но весело ему не было…
…В бараке — двести пятьдесят человек. Люди спят на тощих сенниках. Над спящими — облака пыли. Подъема еще нет, но окна раскрыты. В барак врываются мороз и ветер. Линтварев проснулся, посмотрел направо, налево и — заплакал. Продолжая неслышно плакать, поднялся с койки и зашагал в умывальную. Пришлепав сюда босыми ногами по мокрому цементному полу и дрожа, как собака, он стоял перед умывальником и думал. Мысли лягушками скакали в разных направлениях и возвращались назад. В конце концов все они были привязаны к одной, главной мысли. Как всегда, это была мысль о Карбышеве. Вот — человек, которому Линтварев обязан, как никому другому на свете. Это особенно ясно теперь, когда не нынче-завтра фашистам крышка, — ясно, чем грозила в Хамельсбурге минута слабости пойманным на фашистский крючок и от чего Карбышев спас Линтварева…
Это так. Но, с другой стороны, Линтварев своими глазами видел листовку, где объявлялось о переходе Карбышева к фашистам. Едва ли не в сотый раз Линтварев тревожно и тяжко задумался над вопросом: может ли это быть? Правильно ответить на вопрос значило для него то же, что узнать свою собственную судьбу. Как ни мучительны были страдания, через которые прошел Линтварев, он все-таки не хотел умирать, и ему казалось, что, как ни ужасна жизнь в лагерях, он все-таки выдержит. Это Карбышев научил его в Хамельсбурге без отчаяния смотреть на длинную полосатую куртку. И даже потом, угодив в Besonderskommando[145], Линтварев все еще не сдавал позиций. «Главное — держаться. Уж это наверно: сперва сам собьешься, а там и других начнешь сбивать». Так тянулась тоненькая ниточка его утлого существования до тех пор, пока случай не натолкнул Линтварева на листовку о Карбышеве. Ничто никогда не производило на Линтварева такого потрясающего действия, как эта бумажка. Твердость его сразу дала глубокую трещину. Непременное желание все выдержать, лишь, бы жить, рухнуло, и вера в себя потеряла смысл. Тревожны и тяжки были его мысли о Карбышеве, а он все думал, думал и думал. Все искал людей, от которых можно было бы узнать, где Карбышев и что с ним. Но люди не находились. Линтварев сам не понимал, как случилось, что от судьбы Карбышева оказалась в прямой зависимости его собственная судьба. Не то Линтварев так решил, не то, вернее, — за него решилось: если после всего, что было, Карбышев действительно изменил, — нельзя было больше ни терпеть, ни ждать, ни жить. Этим решением совершенно уничтожался в Линтвареве страх смерти. Но то, что приходило на его место, было страшнее всякого страха. Умереть в лагере уничтожения, в Besonderskommando — пустое дело. Бесконечно труднее умереть, когда для этого необходимо сначала убить в себе самое святое из чувств — благодарность. Думая об этом, Линтварев засыпал, об этом же продолжал думать во сне и просыпался задолго до общего подъема все с теми же мыслями, в слезах от жестокой ночной тоски. А как бы он мог еще захотеть жить, лишь бы… Лишь бы… Из барака донеслось громкое:
— Встать!..
Через блок проходил комендант Маутхаузенского лагеря полковник фон Мюльбе. Он шел, держа перед собой в вытянутой руке револьвер, насупив брови и странно скосив на сторону багровое лицо. Пленные неподвижно стояли возле своих коек. Барак молчал. Это было молчание, которым природа имеет обыкновение встречать грозу; ожидание, за которым следует неожиданность. И хотя полковник фон Мюльбе получил воспитание в закрытой Лихтерфельдской школе, а потом долго служил в привилегированном Потсдамском полку, но и он слыша эту тишину, ждал страшного, боялся неожиданного и после бессонной ночи шел с револьвером в руке через блок к господину Фогелю за советом.
* * *
Что же за птица господин Фогель, к которому идет советоваться комендант? Может быть, это штурмбанфюрер СС? Или доверенное лицо из Берлина? Ни то, ни другое. Господин Фогель — австрийский антифашист, строго придерживающийся американской ориентации, — вот и все. Он заключен германскими властями в лагерь уничтожения как враг режима. Итак, полковник фон Мюльбе идет за советом к врагу, подлежащему уничтожению.
Господин Фогель обитает не в бараке, а в одном из бетонных мешков большого серого корпуса. Каждый мешок — одиночная камера размером два на три метра. Мебели в этих мешках нет, — бетон и камень. На задних стенах, против дверей, ввинчены кольца с цепями, ручными и ножными. Длина цепей такова, что скованный ими человек может стоять или висеть, а сидеть или лежать уже не может. Здесь фашистский режим борется со своими врагами и, как правило, всегда одерживает над ними верх. Господин Фогель заключен именно в такой камере. Только цепей в ней нет, а мебель имеется: посередине — стол; у боковой стены — гобеленовый диванчик с безукоризненно чистым постельным бельем.
Когда полковник фон Мюльбе вошел в камеру, ее обитатель еще нежился под одеялом; на столе благоухали остатки вчерашнего ужина: шницель по-венски, и мутно поблескивала пустая бутылка из-под вина. Таким образом, господин Фогель принимал своего раннего гостя в постели, — точь-в-точь как это делала когда-то французская королева Мария-Антуанетта. Необыкновенному преступнику еще не стукнуло пятидесяти. Он был рыжеват и мало импозантен. Но если у полковника фон Мюльбе выражение лица отличалось вялостью, а само лицо походило на картонную маску, то господин Фогель, наоборот, поражал живостью своей физиономии. Да, конечно, как ни уютно обставлено его маутхаузеновское заключение, а широкая, веселая Вена, большая квартира на набережной Франца-Иосифа и дача в Гитцинге — лучше. Господин Фогель ухитряется и здесь, в лагере, выпивать по бутылке хорошего вина за обедом и ужином; но вино лишь подхлестывает в нем энергию, которой некуда девать. А между тем господин Фогель любит трудиться, — каждодневно присутствовать на двух-трех больших приемах и произносить две-три речи в разных концах Австрии. Он бывает изумительно работоспособен навеселе; и, подвыпив, становится словоохотлив, как никто. Политические противники ославили его алкоголиком; демократические газеты печатают карикатуры, на которых он обнимается с бутылкой водки; какие-то негодяи болтают, будто он давно бы валялся под забором, не будь у него умной и сердитой жены. Все это — глупости. Господин Фогель — способнейший из австрийских политических деятелей; он на редкость неутомим и как бы самой природой предназначен к тому, чтобы ладить с социалистами. Найдите-ка еще такого! Собутыльники из «Картель-Фербанд»[146] изображают его сейчас христианским великомучеником, расчищая дорогу к будущему. И в Берлине его берегут, ибо отлично понимают, что он — самый настоящий фашист, но только американского толка. И выходит, что господин Фогель одинаково близок и дорог как известной части своих соотечественников, так и американцам, и гитлеровцам. Выгода такого положения столь очевидна, что за нее стоит отдать несколько месяцев жизни в комфортабельной маутхаузенской одиночке. По всем этим причинам нет никаких оснований удивляться, что полковник фон Мюльбе, учившийся в Лихтерфельдской кадетской школе, служивший в Потсдамском полку и всю жизнь при слове «политика» хватавшийся за револьвер, нуждался в общении с прожженным политиканом Фогелем не меньше, чем лошадь в вожжах. Мюльбе вошел в камеру и сказал:
— Здравствуйте, любезный господин Фогель. Извините, что я так рано вас беспокою. Но дело не терпит отлагательства.
Розовость густо проступила на щеках Фогеля и сейчас же пропала. Как ни был он уверен в своей полной безопасности, но внезапное появление угрюмой рожи полковника подействовало на него скверно: на момент он остолбенел. Однако быстро сломил страх. А когда сломил, захохотал, ловко прикрывая искусственной веселостью жестокий перепуг. Способность смеяться от страха — очень удобная способность.
— Что случилось, господин полковник?
— Ради бога, лежите, вам вовсе не надо вылезать из-под одеяла, — сказал Мюльбе, — вы можете простудиться. А я сяду здесь, и мы поговорим.
Он подвинул стул и уселся, положив ногу на ногу таким образом, что острая коленка верхней ноги оказалась почти на одном уровне с глазами.
— Вы спрашиваете, что случилось? Гм! Тринадцатого русские заняли Будапешт. Феноменально!
Полушутливый полуспор был именно тем разговорным приемом, который до сих пор по преимуществу удавался словоохотливому господину Фогелю в беседах с тугоречивым полковником.
— Феноменально?
— Да.
— Aber sagen Sienir bitte, was ist ein Phanomen?[147] Полковник поперхнулся. В Лихтерфельдской кадетской школе кое-чему учили, но не объясняли ровно ничего. И, прекрасно зная, что такое феномен, он сейчас положительно не знал, что ответить на вопрос хитроумного узника. Господин Фогель весело пришел на помощь.
— Sagen Sie: die Kuh ist es ein Phanomen?
— Nein.
— Der Apfelbaum ist es ein Phaaomen?
— Nein.
— Aber wenn die Kuh steht auf dem Apfelbaum, ist es…
— Ja[148], — тотчас произнес полковник.
— Очень просто! Русские взяли Будапешт… Такая же феноменальная чепуха, как корова на дереве. Ха-ха-ха!
Но Мюльбе не смеялся.
— Видите ли, я не могу сегодня шутить. Фюрер сказал: «Сколько бы ни длилась война, последним батальоном на поле битвы будет немецкий батальон». Следовательно…
Нет сомнения, Мюльбе думал, что стоит Германии быть разбитой в этой войне, как тут же и наступит светопредставление.
— Маутхаузен забит французами, чехами, австрийцами и венграми, — продолжал полковник, все медленнее передвигая губы, — между тем восточные и центральные лагери эвакуируются именно сюда, к нам, — в Маутхаузен и Эбензее. Я очень боюсь, господин Фогель, что в конце концов наступит момент, когда…
— Он не наступит, господин полковник, — страшно весело возразил Фогель, — поверьте мне, этот момент никогда не наступит. Вы будете и дальше воевать с русскими. Но только не один на один.
— А как же?
— Вы, мы, американцы, — все рядом.
— О!.. — сказал Мюльбе.
Настроение, с которым комендант уходил от господина Фогеля, было почти хорошим. О, как хотелось этому старому колпаку видеть будущее именно таким, как рисовал его всезнающий австрияк. Война не проиграна… Она еще только начинается, — настоящая война… Маутхаузен — автоклав, готовый ежеминутно взорваться. С востока и севера катятся на Маутхаузен лавины русских пленных. Это — тот самый огонь, которого не хватает для взрыва. Надо гасить огонь… Тушить… Заливать его ледяной водой… И концы в воду!
* * *
На вокзале — черная доска с надписью «Маутхаузен». От вокзала до лагеря — пять километров. Дорога — лесом, в гору, в гору, — булыжная дорога между редеющими елями. Снег завалил горы и равнины, осыпал серебряным инеем длинные иглы хвои. Кое-где — островерхие домики. Вдали — коричневая полоса Дуная. Постепенно подъем теряет крутость. Дорога повертывает к шлагбауму. За ним — темная груда строений: толстые крепостные стены, башни, наблюдательные вышки и на них солдаты с автоматами на коленях, труба крематория с черным дымом и всплесками огня над высоким горлом, огромные ворота со свастикой на арке и безобразным бронзовым орлом. Карбышев смотрел на все это и думал: «Честным людям, прямым антифашистам выхода отсюда нет и не может быть!» Маутхаузен… Последняя точка на длинном пути страданий: Замостье, Хамельсбург, нюрнбергская тюрьма, Флоссенбург, Майданек, Ауствиц, Заксенгаузен, Маутхаузен. «Из этого лагеря могут выходить на волю только прохвосты!» — За воротами — большая, гладко вымощенная площадь, ярко освещенная аллея и бараки по сторонам…
Партию остановили на площади для проверки номеров и вещей.
— Mutzen ab![149]
Вокруг замелькали коричневые куртки.
— Ausziehen![150]
Ведут в баню. Карбышев вспоминал: в хамельсбургской бане брили бритвами; в нюрнбергской бритв уже не было, — стригли трехнолевой машинкой. Здесь не оказалось и машинок. Зато было не трудно уловить, что именно в бане уже производились отбор и классификация. Только признаки были непонятны. Одних беспрерывно окатывали из шлангов ледяной водой.
На других градом падали удары резиновых дубинок. Третьих выталкивали в предбанник и велели им одеваться. В партии Карбышева было несколько сот человек. Половина из них уже несколько раз выбегала голышом на мороз, попадала под резину, снова возвращалась в баню, грелась и бежала опять куда глаза глядят, провожаемая резиной. Одни падали и не поднимались. Другие падали и поднимались. Третьи не падали. У всех были багрово-синие, исполосованные, прохлестанные до крови тела. Карбышев держался… Стемнело. У месяца был такой вид, как будто он только что вылез из мыльной пены. Так по крайней мере казалось Карбышеву. Удивительно, что ему могло что-нибудь казаться, потому что операция с обливанием и избиением пленных все еще продолжалась. Но Карбышев не потерял способности ни видеть, — ему хорошо приметилось, например, как гирлянды ярких электрических лампочек плавают в воздухе, подбрасываемые ветром, — ни думать: «Может быть, для хорошей жизни и достаточно так называемых высоких чувств. Но для хорошей смерти этого мало. Еще кое-что требуется… Еще». Было очень холодно — градусов двенадцать мороза, не меньше. Карбышев видел, замечал, думал. Однако главное проходило мимо его сознания. Это главное заключалось в том, что группа пленных, человек пятьдесят, — и он в их числе, — все ближе и ближе прижималась под ударами резиновых дубинок и водяных струй к стене у крепостных ворот. Это — главное? Почему?..
…Окна в бараках были закрашены синей краской. Но кое-где краска слезла, и в этих местах образовались просветы, сквозь которые можно было днем и ночью видеть все, что происходило на плаце. Заключенные очень редко пользовались этой строго запрещенной возможностью. Мешали запуганность, природная терпеливость, инстинкт локтя и равнения по соседям, черствое машиноподобие тела и души, усердно прививаемые лагерным режимом. В последнее время режим ожесточился до неимоверности. Естественно, когда гунсты исполняют из страха совершенно точно то, что им приказано исполнить. Но поистине страшно, когда они начинают сами приказывать от ужаса, которым захвачены, и от безысходности, которая преграждает им путь.
Линтварев приник к окну. Никакая сила не могла бы оторвать его от прозрачного пятна на стекле. Под бледным светом качающихся электролампочек он ясно видел толпившуюся у стены близ лагерных ворот группу осужденных на смерть. Несколько минут назад каждый из этих людей еще имел собственный вид и свою фигуру, — был высок, худ, плечист или приземист. И тогда Линтварев различил среди них маленькую фигурку человека, о котором он так много и мучительно думал, — Карбышева. Это был Карбышев, подлинный, еще живой, но уже взысканный неотвратимостью смерти, ибо всем маутхаузенским старожилам было прекрасно известно, что публичная казнь постигает осужденных именно здесь, у лагерной стены, близ ворот. Карбышева казнят. Все становится на свое место — и листовка, и взгляд Линтварева на свою судьбу. Вдруг воскресает у Линтварева потерянное желание все выдержать, лишь бы жить, и к вере в себя возвращается смысл. Карбышев не изменил — значит, есть святое в жизни, значит можно и терпеть, и ждать… Еще несколько минут назад Линтварев довольно ясно различал фигуры осужденных на смерть. Однако это становилось все трудней. Их фигуры странно меняли линии своих очертаний, как бы опухляясь, обрастая чем-то; они неправдоподобно расширялись в объеме и при этом теряли отчетливость своих форм. Линтварев с мучительной тревогой наблюдал эту фантастическую картину, встававшую в бледном свете холодного огня, под ледяными брызгами перекрещивающихся струй. Он не понимал, что происходит. Вдруг волосы шевельнулись на его полуобстриженной голове, — он понял. Люди у стены обледеневали, покрываясь все утолщающейся и утолщающейся прозрачно-голубой корой.
— А-а-а-а! — в ужасе крикнул Линтварев.
Ои смотрел, смотрел, но эсэсовца, стоявшего неподалеку от окна и давно уже грозившего ему кулаком, не видел.
А это был Гунст.
— А-а-а-а!
Гунст, как собака, щелкнул зубами и вскинул автомат. Из синего стекла барачного окна со звоном брызнул фонтан осколков. Линтварев рухнул на спину.
На плац вывели тех, кому казнь назначалась на завтра, а сегодняшняя должна была служить нравоучением. Судя по восклицаниям, которые вырывались из толпы поучающихся, среди них было много французов.
— Се je ne sais quoi…[151]
Были также англичане.
— Goddem! My he art gocs pitt-a-patt![152]
Майор канадской армии Седдон де Сент-Клер слышал все эти возгласы. Но они пробегали мимо его сознания, не прикасаясь к мысли. Зато горячая и быстрая речь маленького старика, обращенная к русским товарищам, при всей своей непонятности, действовала на майора, как магнит. «Советский Союз»… «Советский Союз»… Эти слова де Сент-Клер понимал. О, как хорошо он понимал их! Карбышев говорил, задыхаясь, — не столько говорил, сколько хрипел.
— Германия… Нет, Германия — не нацисты, а немцы — не фашизм…
Ему хотелось сказать, что Германия нацистских дармоедов, грабителей, убийц и гестаповцев вовсе не то же самое, что Германия честного, простого, трудолюбивого народа. Уже и сейчас между той и другой Германией пропасть. Но народ германский везде и всегда один. И он знает, за кем, куда идти, и здесь — конец фашизма… Очень, очень хотелось сказать, потому что никогда еще все это не было так понятно и ясно, как сейчас. Но сказать было трудно, — невозможно. Карбышева бил жестокий озноб. Жернова холода ворочались в его груди. Язык еле двигался. И последнее, что ему удалось выговорить, было одновременно и похоже и не похоже на то, о чем он думал.
Канадский майор де Сент-Клер вдруг увидел пристальный взгляд немигающих, черных глаз, прямо устремленный на него и его товарищей. Хриплые слова долетели до майора:
— Courage, camarades! Songez a votre patrie… et la vaillance ne vous alandonnera jamais![153]
Карбышев вскинул голову кверху.
— Всего лишь одна звезда на небе. Но зато как ярка!
Майору Седдон де Сент-Клер показалось, что он и это понял. Он схватил руку Карбышева. Странно: потоки воды прекратились. Солдат в пилотке заводской охраны стоял, опустив шланг носом в землю. Шланг судорожно вздрагивал. Вода лилась под ноги. Может быть, и солдат что-нибудь понял? Карбышев попытался ответить на рукопожатие канадца. Но не успел. Храпя, как бульдог, Гунст оттолкнул солдата в пилотке и поднял шланг. Ледяной удар опрокинул Карбышева. Цепляясь за стену, он хотел приподняться и не смог. Его сердце билось и прыгало в бездонной пустоте. Руки повисали, как сплетенные из соломы жгуты. Мысль проваливалась в ничто. Он жил, не думая о смерти, и теперь, умирая, думал тоже не о ней. Да и что такое смерть впереди, когда столько жизни за плечами? И такая большая, такая нужная, смелая, чистая жизнь… Жизнь! Жизнь!
Глава пятьдесят вторая
Уже сумерки спускались на Москву, и дальним мерцанием быстрых зарниц озарялся вечерний город, когда майор Мирополов позвонил у квартиры Карбышевых на Смоленском бульваре. Это было в середине августа тысяча девятьсот сорок шестого года, через несколько дней после того, как газеты опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР о посмертном присвоении Карбышеву звания Героя Советского Союза. Три обстоятельства привели Мирополова на Смоленский бульвар. Во-первых, он считал своим долгом рассказать все, что знал о жизни Дмитрия Михайловича от начала войны до ареста во Флоссенбурге. Во-вторых, ощущал горячую потребность слиться с близкими к покойному другу людьми в общем чувстве гордости его подвигом. И, наконец, в-третьих, Мирополов полагал необходимым «предъявить» семье Карбышева его очки.
Старательно обтирая пот с лысины и перебирая пальцами еще не совсем отросшую седую бороду, Мирополов прихлебывал чай и говорил:
— Человек форсировал Днепр, — герой. Но герой после смерти — это, знаете, другое, это — много посильней!
И он снова и снова принимался читать Указ Президиума Верховного Совета:
«За исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в Великой Отечественной войне, присвоить посмертно звание Героя Советского Союза генерал-лейтенанту инженерных войск Карбышеву Дмитрию Михайловичу». Снова и снова брался за письмо белорусского учителя из села Низок и за перевод предсмертного показания канадского майора Седдон де Сент-Клер. И все вертел в руках да разглядывал достопамятные очки…
…Мирополов был уже не первым рассказчиком из числа тех, кто появлялся иногда на Смоленском бульваре «с того света». Все они говорили о том, что видели, а видели одно и то же. В общем сходилось; в частностях так расходилось, что и не свяжешь, словно у всех этих людей были совсем разные глаза. Лидия Васильевна слушала и думала: «Ни одно человеческое сердце не смогло бы вынести столько счастья, сколько приходится иногда выносить ему горя». А время шло да шло, и все меньше да меньше казалось ей нужным устанавливать во всей точности и со всевозможной бесспорностью, как именно было то или произошло это, когда так ясно делалось все главное в жизни и смерти Дики…
* * *
Двадцать восьмого февраля сорок восьмого года должно было состояться в Маутхаузене открытие памятника на месте гибели генерала Карбышева…
Елена Карбышева сидела у окна. Февральская луна последней четверти ярко светила с безоблачного неба. Блеск ночи врывался сквозь стекла в комнату. Каждая пуговка на сорочке отчетливо виднелась. Ветер подвывал на лестнице, — метался, бился, словно борясь с таинственной властью. Иногда с улицы доносилось что-то глухое, неразборчивое. И от всех этих звуков, отчасти ненужных, а отчасти необходимых, странной, «звуковой» болью наполнялась голова.
Нет бессонницы мучительнее той, которая возникает от «мыслей». И не потому возникает, что мыслей много, а потому, что они одни и те же. Из их постоянства рождается напряжение, мешающее спать. А не спать — значит думать. Елена Карбышева думала об отце и о себе — о двух коммунистах, о двух советских военных инженерах, о двух поколениях одной семьи, одного настоящего советского рода, — и старалась как можно шире, полнее, значительнее и существеннее понять смысл того, что должно завтра произойти в далеком Тироле, на горном плато, в крепости Маутхаузен…
* * *
По верхним долинам — линия снегов, и черные сосны — на склонах гор, то есть все — совершенно так же, как и три года назад. Так же тяжеловесны две огромные четырехугольные башни. Посредине — ворота. Стены — гигантский-Гранитный квадрат. Под ярким солнцем лагерь бел и светел. Где-то играет музыка. Даже красиво и, главное, — чисто, чисто… В этом есть много общего с гитлеровской Германией: люди жили, чтобы прятать за спиной смерть.
Лагерь передан советскими властями Австрии. Условие при этом поставлено одно, единственное: ничто здесь не должно быть изменено или перестроено. Не только мемориальная доска, с которой упадет сегодня занавес, но и весь лагерь целиком должен стать памятником. К траурному митингу в Маутхаузен съехалось много австрийских коммунистов и общественных деятелей. Среди них были, конечно, и «коцетники»[154]. Господин Фогель исполнял роль хозяина.
К этому времени господин Фогель, превзошел все ожидания своих друзей, как такое лицо, через которое по преимуществу обеспечивалось широкое влияние католической церкви на политику австрийского правительства. «Партия денежного мешка» была поставлена у власти Ватиканом. Но ядро этой партии — «Картель-Фербанд». А в списках одной из секций «Картель-Фербанд», рядом с кричащей фамилией почетного члена фашиста Зейсс Инкварта, значилось и правительственное имя господина Фогеля.
«Коцетник» Фогель показывал гостям Маутхаузен. Вот долина Дуная — необозримая ширина, простор, упирающийся в белые громады Альпийских хребтов. Вот гребни лесистых холмов, и между ними — дорога в каменоломню. Что это за светлые домики с занавесками? Это — бывший эсэсовский городок.
— Какая красивая страна, — говорили гости, — но передать эту красоту словами невозможно. Это все равно, что пробовать рассказать музыку…
А вот и самый лагерь. В низком кирпичном здании на площади помещалась контора. Тут же госпиталь и «цех уничтожения». Это — подвалы с газовыми камерами и карцерами. Что такое карцер? Каменная комната со стальной дверью, яркой электрической лампой и большим, корытообразным столом из красного бетона посредине… Желобок из корыта для стока крови. Вот — бараки, одноэтажные, тесные. Лагерь был переполнен. Барак рассчитан на сорок человек, в нем жило сто, сто двадцать, сто пятьдесят…
— А где помещались вы, господин Фогель? — спросил советский генерал-полковник, тот самый светлолицый генерал с ласковой ямочкой на подбородке, который восемь лет назад деятельно и сочувственно проводил маленькое торжество карбышевского шестидесятилетия, а теперь приехал сюда открывать памятник Карбышеву. — Не в бараке, же?
Вид господина Фогеля, за минуту до того благодушно-улыбающийся и развязно веселый, как у человека, уже успевшего хлебнуть, вдруг омрачился.
— О, — сказал он, — я покажу вам, господин генерал, камеру моих одиноких страданий…
И он повел гостей к серому зданию с бетонными мешками одиночек. Гости вошли в пустой мешок. «Ужасно!»
— Так погибали нравственные и умственные силачи, несчастные жертвы проклятого режима!
Генерал-майор Якимах чувствовал сердце: оно колотилось, как птица в силке. Голос его прервался, когда он спросил:
— Вы не видели, как умер наш Карбышев?
Господин Фогель отрицательно мотнул рыжеватой головой. Его смиренный вид напоминал лошадь, которую привели продавать на базар. Нет, он не видел. Почему?
— Я спал…
Якимах отошел в сторону. «Спи, Фогель, спи!.. Но и в Германии, и в Австрии, и повсюду на свете не спят уже люди. И для мучителей, привыкших безнаказанно терзать и мучить свой народ, приходит конец. Две Германии? Пусть пока две. А народ — один. И он идет не за вами, а за теми, кто ведет его к миру и счастью в новой жизни. Фашизм погиб, — думал Якимах, — но за гибелью его — труд созидания, борьба, борьба, борьба… Не хозяином чужих земель должен стать немецкий народ, а хозяином своей собственной страны. Он очистит свой дом от чумы нацизма и возьмет судьбу Германии в свои руки. Отстоять Германию — борьба. Сохранить мир — тоже. Борьба, борьба, борьба…»
…Под величественные звуки траурного марша и грохот артиллерийских залпов советский генерал-полковник обнажил мемориальную доску. На ней — звезда героя и короткая надпись — русская и немецкая. Над доской — крупные слова: «Вечная память верному сыну советского народа генералу Карбышеву». Спит Дунай в хрустальном гробу глубокой белой долины. Спит за долиной белый Тироль. Спит рыжий Фогель. Но люди, едущие в Маутхаузен, чтобы лучше почувствовать прошлое и уразуметь будущее, не спят. Они стоят перед карбышевской памятной доской. Читают. И голос раздается в тишине:
— Снимем, товарищи, шапки!
Москва
1950-1953.
Примечания
1
Орден Анны IV степени.
(обратно)2
В старой Военно-инженерной академии действовала 12-балльная система учебных оценок.
(обратно)3
Католические монастыри в Польше.
(обратно)4
Водка пополам с водой.
(обратно)5
№ 82 от 10 мая 1914 года. «В. И.» — Ленин.
(обратно)6
Поговорка, заимствованная у французов (Vogue la galerel).
(обратно)7
Комедия кончена! (итал.).
(обратно)8
Насмешливое прозвище старых офицеров-службистов.
(обратно)9
Ироническое прозвище, которым армия наградила офицеров старого русского генерального штаба.
(обратно)10
Река в Южной Маньчжурии, на которой японцы разбили войска Куропаткина в упорном семидневном бою (27 сентября — 3 октября 1904 года).
(обратно)11
Зауер — баварский генерал, теоретик осадной войны.
(обратно)12
Стальные стрелы, изобретенные во Франции для борьбы с немецкими цеппелинами и своеобразно применявшиеся германской авиацией на русском фронте, — «тихая смерть».
(обратно)13
Условность обращения, считавшаяся обязательной для младшего офицера в разговоре со старшим. Но и старший прибегал к ней, когда хотел выказать младшему особую любезность. Называя подполковника, штабс-капитана или подпоручика по их чинам, отбрасывали «под» и «штабс». На время беседы подполковник превращался как бы в полковника, штабс-капитан — в капитана и т. д.
(обратно)14
Хирургия — доказательство слабости медицины (лат.).
(обратно)15
Так назывались на русском фронте снаряды крупнокалиберной неприятельской артиллерии.
(обратно)16
Побывавшие под штрафами.
(обратно)17
Командовавший Восьмой армией, кавалерийский генерал.
(обратно)18
Приспособленные для стрельбы в темноте.
(обратно)19
Следовательно (лат.).
(обратно)20
Издан 1 марта 1917 года Исполнительным комитетом Петроградского совета; ввел в войсках выборные организации, установил их контроль над действиями офицерского состава, уничтожил в армии старую субординацию и передал распоряжение оружием солдатским комитетам.
(обратно)21
Сомнамбулизм — хождение во сне; истерики и эпилептики часто впадают в состояние сомнамбулизма.
(обратно)22
Наследник престола в королевской Франции; олицетворение жеманной самовлюбленности.
(обратно)23
Квартальный (околоточный) надзиратель — мелкая полицейская должность; население ненавидело и презирало «кварташек».
(обратно)24
Так солдаты называли аэроплан.
(обратно)25
Начальник инженеров Восточного фронта.
(обратно)26
Французское выражение: tirer a quatre epingles, — сдерживаться, замыкаться в себе.
(обратно)27
Пожалуйте, сударь! (румынск.).
(обратно)28
Мать-богородица! (польск.).
(обратно)29
«Чапан» — деревенский богач.
(обратно)30
Сравнение — не доказательство (франц. поговорка).
(обратно)31
Начальник военных сообщений.
(обратно)32
Чрезвычайный уполномоченный Совета обороны по снабжению.
(обратно)33
Из Тютчева.
(обратно)34
Слушательница Высших женских Бестужевских курсов.
(обратно)35
Причина — противоречивые и подчас нелепые приказы фронтового командования (№ 182/с, 184/с и др.).
(обратно)36
Характерные для резкого в то время усиления бумажной инфляции и обесценения денежных знаков.
(обратно)37
М. В. Фрунзе. Собр. соч., т. I, M., 1929 г., стр. 185.
(обратно)38
Тяжелая артиллерия особого назначения.
(обратно)39
Дивизионный инженер.
(обратно)40
Журн. «Военная мысль», 1938, № 11, стр. 54; И. Коротков, Разгром Врангеля, М., 1948, стр. 155.
(обратно)41
Политотдел дивизии.
(обратно)42
На закуску, на даровщинку (франц.).
(обратно)43
Знаменитый фокусник XVIII века.
(обратно)44
А не тактическое.
(обратно)45
Секретарь Уральского обкома партии, погиб под Златоустом.
(обратно)46
Главное управление топливной промышленности.
(обратно)47
Неведомая земля (лат.).
(обратно)48
Управление начальника инженеров.
(обратно)49
Высшие академические курсы в Москве.
(обратно)50
Той-терьер — мелкая порода комнатных собак.
(обратно)51
Крупные советские фортификаторы.
(обратно)52
Красные командиры — термин того времени.
(обратно)53
Главное военно-инженерное управление.
(обратно)54
Французский философ эпохи Возрождения.
(обратно)55
Хоть и неправда, да ладно (итальянская пословица).
(обратно)56
Революционный вождь риффского племени в Марокко; начальник риффов в их борьбе (1925) с испанским и французским империализмом.
(обратно)57
Концерты П. Робсона и М. Андерсен состоялись в Москве зимой 1934/35 г.
(обратно)58
Замок в Италии, — место величайшего унижения императора Генриха IV перед папой Григорием VII (1077 год). В переносном смысле — сдача всех позиций, полная капитуляция.
(обратно)59
Из речи У. Черчилля в палате общин (октябрь 1938 г.).
(обратно)60
«Дежурные, на линию!» — Возглас подхватывается и переходит из одного подразделения в другое. Похоже на утреннюю перекличку петухов.
(обратно)61
Семикилометровая железнодорожная линия.
(обратно)62
«Известия» от 27 августа 1939 г.
(обратно)63
«История дипломатии», М-Л., 1945, т. III, стр. 687.
(обратно)64
УНС — Управление начальника строительства.
(обратно)65
Железо и кровь! (нем.).
(обратно)66
Спокойствие (санскритск.).
(обратно)67
Отец народа (нем.).
(обратно)68
Собор.
(обратно)69
«Десять девушек и ни одного мужчины» (нем.).
(обратно)70
Городская электрифицированная железная дорога.
(обратно)71
«Лакированный сапог» (нем.) — прозвище немецких офицеров.
(обратно)72
Против демократов помогают только солдаты! (нем.).
(обратно)73
Злоба дня! (нем.).
(обратно)74
Der Esel — осел (нем.).
(обратно)75
Г. Гиммлер.
(обратно)76
«Наследственные враги Германии».
(обратно)77
Осторожно, но верно (нем.).
(обратно)78
Лагерный старшина (нем.).
(обратно)79
Треугольник; красный — на политических заключенных; зеленый — на уголовных; черный — на бандитах; вершиной кверху — на дезертирах.
(обратно)80
Невероятно, но факт (нем.).
(обратно)81
Госпиталь.
(обратно)82
«Бедный рыцарь» (нем.).
(обратно)83
Между нами говоря (франц.).
(обратно)84
В Германии было три вида денег:
а) рейхсмарки — общегосударственные;
б) марки для оккупированных областей;
в) «кригсгефангенмаркн» — для внутреннего обращения в лагерях военнопленных.
(обратно)85
Госпожа Доктор (нем.).
(обратно)86
Место переклички (нем.).
(обратно)87
В барак! (нем.).
(обратно)88
Деревянные башмаки.
(обратно)89
Последнего довода (лат.).
(обратно)90
«Пивной политикан» (нем.).
(обратно)91
Ты бьешь моего еврея, а я бью твоего (нем. поговорка). У меня есть для этого возможности (нем.).
(обратно)92
Заключенный (нем.).
(обратно)93
Завтрак... Обед... ужин (нем.).
(обратно)94
Желаете курить? (нем.).
(обратно)95
Успокойтесь! Успокойтесь! (нем.).
(обратно)96
Железные дороги дальнего сообщения (нем.).
(обратно)97
Пригородные железные дороги (нем.).
(обратно)98
Кольцевая железная дорога (нем.).
(обратно)99
Так! (нем.).
(обратно)100
Старого члена нац.-соц. партии.
(обратно)101
Через препятствия к звездам (лат. поговорка).
(обратно)102
Чай (нем.).
(обратно)103
Русский не дурак! (нем.).
(обратно)104
Терпимо.
(обратно)105
Самопроизвольно возникающая гангрена (лат.) — болезнь, с неизбежностью ведущая к ампутации пораженного органа.
(обратно)106
Раз — два — три, — совсем другая штука!
(обратно)107
Воздушная тревога! Выходи! (нем.).
(обратно)108
Гитлеровский союз молодежи.
(обратно)109
Тюрьма в Берлине.
(обратно)110
Писарь (нем.).
(обратно)111
Помещение А и помещение В.
(обратно)112
Барачный староста.
(обратно)113
Дневная комната.
(обратно)114
Спальня.
(обратно)115
Вставать! (нем.).
(обратно)116
Быстро! Быстро! (нем.).
(обратно)117
Тихо! (нем.).
(обратно)118
Старший рабочей команды.
(обратно)119
Главный капо.
(обратно)120
Водяной суп.
(обратно)121
По командам! (нем.).
(обратно)122
Немец по подданству и немец по крова.
(обратно)123
Барачного парикмахера (нем.).
(обратно)124
Морально надломившиеся жертвы долголетних страданий без суда и срока; смысл и цель существования — пожевать, курнуть...
(обратно)125
Сапожная мастерская (нем.).
(обратно)126
Немецкие коммунисты.
(обратно)127
Эсэсовцы.
(обратно)128
Барачный староста (нем.).
(обратно)129
Уборщики (нем.).
(обратно)130
Каждый день (нем.).
(обратно)131
Картофельный суп (нем.).
(обратно)132
Иностранец (итал.).
(обратно)133
«К. Л.» — концентрационный лагерь.
(обратно)134
Выходи! Выходи! (нем.).
(обратно)135
«Свобода и жизнь даются лишь тем, кто каждый день берет их с боя» (нем.).
(обратно)136
Сегодня красен (жив — здоров), завтра — мертв (нем. поговорка).
(обратно)137
Офицер СС по внутреннему наблюдению за лагерем.
(обратно)138
Черт возьми дождевой зонтик! Тоже приятная перспектива! (нем.).
(обратно)139
Освенцим.
(обратно)140
Гитлеровский союз молодежи.
(обратно)141
Команда под непосредственным надзором СС — команда смертников.
(обратно)142
Документ, на основании которого больные поступали в ревир.
(обратно)143
Улица Гренелль (франц.).
(обратно)144
Ставка Гитлера — место покушения на его жизнь 20 июля 1944 года.
(обратно)145
«Особая» команда — для ускорения гибели.
(обратно)146
Полуиезуитская политическая организация в Австрии, послужившая костяком для создания реакционной «народной партии» («партия денежного мешка»).
(обратно)147
В таком случае, скажите, пожалуйста, что же такое феномен?
Корова — феномен?
(обратно)148
— Нет.
— Яблоня — феномен?
— Нет.
— А когда корова стоит на яблоне, это...
— Да! (нем.).
(обратно)149
Шапки долой! (нем.).
(обратно)150
Раздевайся! (нем.).
(обратно)151
Что-то непостижимое... (франц.).
(обратно)152
Проклятье! Мое сердце трепещет! (англ.).
(обратно)153
Бодрей, товарищи! Думайте о своей родине, и мужество вас не покинет! (франц.; из письма майора С. де Сент-Клер).
(обратно)154
Так называют в Австрии лиц, прошедших через гитлеровские концентрационные лагери.
(обратно)


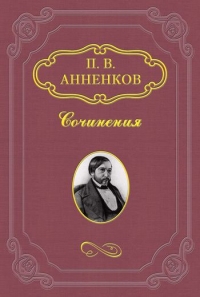

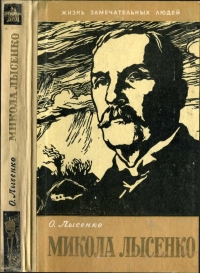
Комментарии к книге «Когда крепости не сдаются», Сергей Николаевич Голубов
Всего 0 комментариев