Евгений Пахомович Мариинский Я дрался на «Аэрокобре»
Друзьям-однополчанам посвящается
Большие потери
Мы с Виктором Королевым первыми подошли к эскадрильному «командному пункту».
— Черт, холодище какой!
Хотя была только середина октября, перед рассветом сильно похолодало, и летчики в легоньких хлопчатобумажных комбинезонах чувствовали себя довольно неуютно.
— Замерз? Терпи, казак, атаманом будешь!
— Костер бы разжечь, что ли, — предложил я. На этом месте — метрах в двадцати пяти сзади стоянки самолетов — мы обычно разводили костер из сухих стеблей кукурузы и подсолнуха и, коротая время, грелись у огня, курили, сидя на банках из-под бензина и технического масла, обменивались новостями, обсуждали события в полку и на фронте, расспрашивали у побывавших в сражениях о боях, о повадках фашистских истребителей, а то и просто «травили баланду». На большом листе жести жарили подсолнух, неубранные плантации которого были рядом. Сюда же подходили покурить и поболтать все свободные от работы техники и механики. В общем, народ толпился, как на КП полка. Так и привилось этому месту название «КП». Только здесь в отличие от настоящего командного пункта серьезные разговоры часто сменялись взрывами хохота над очередной побасенкой, которых не слышно было на КП полка. Там народ стеснялся присутствия командира полка, замполита, начальника штаба и особенно начальника особого отдела (его с началом войны стали называть не особый отдел, а отдел «Смерш» — смерть шпионам). Тут уж лишнего слова не скажешь! — приучены были еще до войны!
— Ну, с костром-то подождем малость. А то «Юнкерс» припрется… Под Прохоровкой частенько в это время наведывались, — вспомнил Королев бои на Курской дуге.
— Так и станут они по какому-то костру бомбить!
— А почему нет? Они же знают, что здесь новый аэродром. Разведчики-то днем прилетали.
Напоминание о возможности бомбежки заставило меня вспомнить о первом вылете на фронте.
— Слушай, Виктор, вот тогда, перед перелетом, мы облетывали район. Думали, встретим фашистов, а никого и не видели. Может, их вообще здесь нет?
После прилета на Степной фронт (позже, с 20 октября 1943 года, он стал называться 2-м Украинским) наш истребительный авиационный корпус влился в состав 5-й воздушной армии. Мы, молодые летчики, с нетерпением ожидали начала боевых действий, вылетов.
Наметился было один вылет для штурмовки фашистских танков, пытающихся ликвидировать наши плацдармы на правом берегу Днепра. Для этого вылета были отработаны имеющие боевой опыт летчики. На их самолетах даже сменили боекомплект 37-мм пушек — убрали фугасные и осколочные снаряды, но вылет не состоялся. Очевидно, вовремя подоспели подразделения штурмовой авиации на «Ил-2».
И вот как-то после обеда командир полка, построив летный состав, объявил, что получено разрешение облетать для ознакомления район боевых действий. Ведущим он назначил своего заместителя, штурмана полка Овчинникова. В это время полк был уже вооружен американскими истребителями «Белл Аэрокобра» с отличной радиостанцией, так что все три эскадрильи (полки к этому времени стали трехэскадрильного состава) и все 30 летчиков на 30 истребителях отлично слышали друг друга.
Еще перед взлетом Овчинников построил летчиков. Объявил порядок взлета и сбора, взаимодействие в бою — ведь летели к линии фронта, и никто не гарантировал от встречи с вражескими самолетами.
— Учти, Женька, мы идем на правом фланге. Значит, самые крайние со стороны немцев. Смотреть в оба нужно, — говорил тогда своему ведомому Королев.
— Ладно, видимость сейчас хорошая… Миллион на миллион.
— Хорошая-то хорошая, только она и для немцев хорошая, им увидеть нашу армаду из 30 самолетов гораздо легче, чем какую-то пару «охотников» или даже одиночного «Мессера». Голова на триста шестьдесят должна вращаться. А то и не заметишь, как «худой» («худой», «шмит», «Мессер», «Мессершмитт» — истребитель «Ме-109») пристроится… Атакует с высоты на большой скорости, рубанет и уйдет на скорости на свою территорию. И наше численное превосходство ничем тут не поможет. У него и скорость, и момент атаки, и выбор цели. А мы сможем что-нибудь предпринять, только если загодя, задолго обнаружим противника.
Опасения Виктора оказались напрасными. Никто к нам не пристраивался. Мы и не видели фашистских самолетов.
Сразу после взлета Овчинников собрал все три эскадрильи в полный парадный строй. Самолеты шли крыло к крылу. Маршрут проложили треугольником — к линии фронта, то есть к Днепру, затем на восток вдоль Днепра, и снова разворот на свой аэродром Карловка. Пока шли по прямой — все было в порядке. Все летчики держались своего места, как привязанные. Овчинников даже сумел показать нам ровное поле, протянувшееся вдоль железной дороги возле большого населенного пункта Козельщина, и сообщил, что здесь будет наш следующий аэродром. А впереди уже давно виднелась широкая полоса Днепра. Настала пора делать левый разворот.
И сразу же выяснилось, что парадный строй хорош только для прохождения над Тушино или над Красной площадью, когда большие группы в парадном строю если и делают развороты (довороты), то только на 2—3 градуса, при этом строй не нарушается. Сейчас же клину из трех десятков истребителей предстояло развернуться влево, более чем на 90 градусов. У правых ведомых сразу же не стало хватать мощности моторов, чтобы сохранять свое место в строю, поэтому правый фланг строя стал оттягиваться назад. Оторвались и несколько одиночных самолетов — это те, у которых моторы оказались послабее. Для их охраны пришлось выделить три пары летчиков, имеющих боевой опыт.
Ведь рядом — за Днепром — находились наши плацдармы. У Мишуриного Рога и знаменитой Переволочной, где когда-то переправлялись остатки разбитой войсками Петра I шведской армии Карла XII, по данным штаба полка, над плацдармами постоянно висели большие группы фашистских бомбардировщиков и истребителей. Однако на этот раз, к счастью, небо и над Днепром, и за ним было чистым. Полет по прямой снова прошел спокойно. Все 30 истребителей постепенно заняли свои места в плотном парадном строю. После нового разворота все повторилось. И к аэродрому Карловка полк подошел не в парадном строю, а бесформенной кучей. Впрочем, роспуск на посадку и сама посадка прошли благополучно. Но после посадки выяснилось, что двух самолетов не хватает. Поздно вечером в полку узнали, что они оторвались от группы и, не зная точного курса на свой аэродром, заблудились и сели на аэродромах соседнего 3-го Украинского фронта, откуда прилетели только на следующий день.
Утром нам объявили о перелете на аэродром Козельщина, осмотренный нами накануне с воздуха. Передислокация диктовалась тем, что истребители должны базироваться поближе к плацдармам. Линия фронта тянулась вдоль Днепра и только юго-восточнее Кременчуга у села Мишурин Рог и у Переволочной переходила за Днепр. Здесь советские войска захватили узкие полоски низменного берега на правобережье. Основной задачей в то время было прикрыть от налетов гитлеровской авиации эти плацдармы и переправы через Днепр.
Перед перелетом нанесли линию фронта, или ЛВС (линию боевого соприкосновения, как официально говорили в штабе полка). На этот раз перелет совершали поэскадрильно, и он прошел благополучно, без всяких препятствий. Остаток дня летному и техническому составу предоставили на обустройство на новом месте.
На аэродроме рыли землянку для командного пункта полка, оборудовали стоянки самолетов.
Следует отметить, что командир полка Бобров, принявший полк перед летними боями, немало сделал для подготовки полка к боям на Курской дуге. Хотя опыт боев в Испании, в которых он участвовал и за которые был награжден орденом Ленина, мало годился для опыта войны. Все же он разработал и научил летчиков приему — «разворот все вдруг» на 180 градусов, когда на развороте летчик не тянется за ведущим в плотном строю, а выполняет разворот так, словно он вообще один в воздухе. Для этого маневра, естественно, пришлось отказаться от парадного строя. Истребители теперь летали с интервалом 100—150 метров и на дистанции 25—50 метров. В результате группа с любым количеством самолетов выполняла разворот за такое же время, как и одиночный самолет. При этом никто не зависал без скорости, не было и отставших. Так же «все вдруг» выполнялся и разворот на 90 градусов, и на любой другой угол. После таких разворотов группа снова сразу оказывалась в прежнем строю «фронт», на прежних интервалах и дистанциях. Это было большое достижение в тактике истребителей. И здорово помогало летчикам в ведении воздушного боя, особенно в начальной его фазе.
Он же учил в бою подходить к вражескому самолету на предельно малую дистанцию, вплотную, и стрелять с самых коротких дистанций, когда возможность промаха исключалась.
На этот раз обстановка не дала возможности готовить к боям новый состав полка. И молодые летчики перенимали опыт от старших, уже побывавших в боях летчиков.
На следующее утро после перелета нас подняли необычно рано. Еще ни один луч света не пробивался сквозь забитые досками и кусками фанеры окна.
— Подъем! — раздался громкий голос дневального за дверью.
Летчики проснулись, но подниматься не торопились. Но вот дверь приоткрылась, в щели показался огонек красноватого пламени, дрожавшего на отмощенной верхней части гильзы 37-миллиметрового снаряда. Эту «катюшу» (так фронтовики прозвали самодельные коптилки из гильз снарядов) вносил в комнату дневальный. Красноватое пламя причудливо освещало его руки, шинель внакидку, подбородок и кончик носа солдата, несшего огонек. Все остальные детали одежды и фигура солдата тонули в темноте. Слабенький огонь не мог, конечно, разогнать мрак в комнате, но все же создавал какое-то светлое пятно.
— Подъем! — повторил дневальный потише. — Автобус уже ждет! Побыстрее, давайте собирайтесь.
Мы быстрее, на ощупь, оделись и через пару минут выскочили на улицу. Там нас встретила темная осенняя ночь. Лишь в разрывах облаков сверкали яркие южные звезды. Возле крыльца стоял, пофыркивая мотором, старый потрепанный на фронтовых дорогах автобус, получивший в честь прославленного Ильфом и Петровым автомобиля прозвище «Антилопа Гну». Говорили, что когда-то он развозил курортников из Симферополя по Южному берегу Крыма и в те времена сверху его прикрывал тент. Сейчас от него остались лишь обрывки ремней. Кто через дверцы, а кто и через низкие борта, мы моментально заполнили «Антилопу», и она покатила по пыльным улицам Козельщины. Зная, что неподалеку расположен действующий женский монастырь, мы и решили устроить побудку монашкам, запели не совсем приличные куплеты, сложенные, по всей видимости, еще в пору Первой мировой войны:
Раз в поезде одном Сидел военный, Обыкно-вен-ный, Купец и франт, По чину своему он был поручик, Но дамских ручек Был генерал. Сидел он с краю, все напевал он… На станции одной весьма серьезно И грациозно вошла мадам. Поручик… и мигом бросился к ее ногам…Мы так и не узнали, разбудили ли хоть одну монашку и проезжали ли вообще мимо монастыря, но исполняли куплеты азартно и во весь голос.
Тем временем «Антилопа» резво пробежала по улицам Козельщины и вскоре остановилась у входа в командный пункт полка. Все ее пассажиры моментально оказались на земле и сгрудились у входа в землянку. Всем не терпелось узнать о причине столь раннего подъема, о том, что им предстоит на сегодня.
Но на командный пункт пригласили только командиров эскадрилий. Остальной летный состав отправили на стоянки принимать самолеты у механиков. Правда, нам в общих чертах объяснили задачу полка. Истребители должны были все светлое время суток прикрывать от налетов вражеских бомбардировщиков наши войска на плацдарме и особенно переправы, по которым эти войска снабжались боеприпасами, продовольствием и пополнением. Конкретное время вылета и задачу должны были донести командиры эскадрилий, оставшиеся на КП полка.
Вот почему мы с Виктором ранним осенним утром оказались на нашем «эскадрильном КП» и живо обсуждали, стоит ли разводить костер и есть ли у немцев самолеты, чтобы его разбомбить.
— Кой черт нет?! — возмутился Виктор — Плацдарм наши захватили, а немцы, думаешь, авиации сюда не подбросили? Просто у них тактика такая. Мы-то все время прикрываем передний край, чтобы ни одна бомба не упала на наземные войска. А фашисты не прикрывают линию фронта. Разве пара «охотников» ходит. Так они ж на большую группу не кинутся, за одиночными самолетами только гоняются… В общем, над передовой они редко бывают. Зато появляются большими группами. И бомберов.и «шмитов» полно приходит. Только не в каждом вылете их встретишь.
К «КП» подходили остальные летчики эскадрильи, и Виктор замолчал.
— Валя, почему нас так рано подняли? — услышал я вопрос, обращенный к Валентину Карлову.
По голосу я узнал Сергея Акиншина. Мы вместе поступали и учились в Центральном аэроклубе СССР им. Чкалова в Тушино, затем попали в Астафьевское летное училище под Москвой. Вместе ждали «покупателей» в запасном полку на Северном аэродроме в Иванове.
А когда «покупатели» прибыли — вместе попали в 27-й истребительный авиаполк и даже поначалу в одну эскадрилью — во вторую. Но за несколько дней в полку многое изменилось. За бой на Курской дуге полку было присвоено звание «Гвардейский», и он стал именоваться 129-м Гвардейским истребительным авиаполком. В тот же день зачитали и Указ Президиума Верховного Совета о присвоении летчику 27-го истребительного авиаполка капитану Николаю Дмитриевичу Гулаеву звания Героя Советского Союза (он был заместителем командира первой авиаэскадрильи Чепиноги).
А тут и еще одно событие. По вечерам, перед наступлением полной темноты, повадились бомбить переправы через Днепр группы «Хейнкелей» и «Юнкерсов». Видимо, немцы знали, что у нас нет летчиков, подготовленных к полетам ночью, и спокойно прилетали в сумерках в одно и то же время.
Тогда командир авиадивизии собрал по полкам из управления всех летчиков, когда-либо летавших ночью. Таких набралось шесть человек, в том числе и командир полка Бобров. И вот незадолго до предполагаемого налета с аэродрома Козельщины поднялась наша шестерка. Оставшимся на аэродроме летчикам и техническому составу на фоне серого сумеречного неба отчетливо было видно, как наша шестерка с набором высоты шла на юг, к переправам, а им навстречу, гораздо выше, шла в плотном строю девятка немецких «Хейнкелей-111». Один из наших истребителей задрал нос и с огромной дистанции открыл огонь в сторону врага. Это не произвело на немцев ни малейшего впечатления.
В том же плотном строю они сбросили бомбы на переправу и спокойно ушли обратно.
Стали возвращаться и наши истребители. Но аэродром для приема самолетов ночью не был подготовлен. Посадочных прожекторов не было. А шесть «Аэрокобр» уже кружили над аэродромом. Тогда начальник штаба полка подполковник Пилипчук приказал выложить из зажженных фонарей «летучая мышь» посадочное «Т» и белыми сигнальными ракетами освещать посадочную полосу. Благодаря этому пять самолетов приземлились благополучно. Но на шестом летчик забыл выпустить шасси и приземлился на фюзеляж. Тем временем первый из приземлившихся подрулил к КП полка и выключил мотор. Из кабины выскочил командир полка Бобров. Он тут же подозвал техника самолета:
— Сбил, сбил, сбил! Рисуй звездочку, рисуй звездочку! — На фронте было принято — каждый сбитый летчиком вражеский самолет отмечался.
Командир первой эскадрильи Чепинога не сдержался и высказал все, что он думает по поводу Боброва и «сбитого» «Хейнкеля». Дело дошло до драки, и на следующий день его и капитана Архипенко, командира эскадрильи соседнего полка, поменяли местами, благо для этого требовалось лишь перерулить самолеты со стоянок — полки базировались на одном аэродроме.
Буквально через несколько дней не вернулся с боевого задания командир второй авиаэскадрильи капитан Шелунцов. Позже узнали, что он садился на вынужденную по невыясненной причине на плацдарме. Потом, проверив мотор, решил взлетать. На взлете «Аэрокобра» перевернулась и сгорела. Сгорел и летчик, но на его останках обнаружили медали «За оборону Москвы» и «За оборону Сталинграда». Такого набора медалей ни у кого из летчиков, летавших на «Аэрокобрах», — их было две дивизии — не было. Так и узнали, что капитан Шелунцов погиб. Командовать второй эскадрильей назначили заместителя командира первой Героя Советского Союза Гулаева. Это вызвало дальнейшую перестановку. Заместителем к Архипенко назначили Виктора Королева. Королев, переходя в первую эскадрилью, взял с собой и меня. А Валентин Карлов с Акиншиным остались во второй эскадрилье. В первой эскадрилье командиром звена был Миша Лусто, а его ведомым Федя Трутнев. Миша с гордостью носил медаль «За отвагу», полученную за бои под Белгородом, и первое время всем своим видом старался подчеркнуть превосходство над летчиками, недавно прибывшими в полк. Низенький, кругленький, как пышка («старые» летчики поэтому звали его Пупком), он производил довольно смешное впечатление потугами казаться выше и солиднее.
Вопрос, заданный Сергеем, не в меньшей степени интересовал всех летчиков. Сейчас они собирались к «КП», а по пути Акиншин и спросил у своего ведущего о причине столь раннего выезда.
— Кто его знает… Наверное, задание получил и летать сегодня будем. Придет командир, скажет, — не задумываясь, ответил Карлов.
Летчики расселись вокруг пепелища на собранных здесь бачках из-под бензина и масла, достали кисеты и металлические коробки, заменявшие портсигары, закурили.
Рассвет наступал по-южному быстро. Одна за другой исчезали звезды в разрывах облаков, из темноты появились силуэты самолетов, расставленных на стоянке на довольно значительном расстоянии друг от друга, — сначала ближние, потом взгляду открывался весь аэродром.
Первое время все молчали. Мне не хотелось курить, и я отошел в сторону. Через несколько минут я возвратился с охапкой сухих стеблей кукурузы и подсолнечника. У «КП» раздался хохот, а затем донеслись слова Чугунова:
— Механик пробует люфт винта и слышит, что в моторе что-то стучит. «Что это там?» — спрашивает. — «Да вот коленчатый вал лопнул. Я его связал веревкой, да плохо, видно. Стучит… Нужно бы проволокой, да некогда. Ничего, сегодня полетает так, а завтра переделаю…»
Ну, сейчас будет: «Сегодня ты козла отодрал, завтра…» В начале войны в авиацию на должности, не связанные непосредственно с полетами, пришли люди, не знакомые с техникой и авиационными выражениями. На этой почве возникло множество различных анекдотов. В основу некоторых легли реальные факты, другие были досужим вымыслом острых на язык курсантов летных училищ и молодых летчиков. Один из этих анекдотов и рассказывал, захлебываясь от удовольствия, Чугунов.
Высокий, тощий, белобрысый, с веснушчатым вздернутым носиком и светло-голубыми глазами, Чугунов был удивительно жизнерадостным, свободно чувствовал себя в любой обстановке, в компании любил быть в центре внимания.
Я подошел к кучке пепла, наломал стеблей кукурузы и сложил из них небольшую пирамидку.
— Можно уже разжигать, наверное? — спросил я у Королева.
— Да, пожалуй…
Робкий язычок пламени заплясал в пирамидке, потом огонь разгорелся, и сразу стало как-то теплее, веселее на душе. Все потеснее сдвинулись к костру.
— Так полетим сегодня, Виктор?
— Наверняка. Куда только?
— Может, опять сами пойдете? Несколько дней назад полк получил задание подготовить группу для вылета на штурмовку. В группу включили летчиков, имеющих боевой опыт. Это произвело неприятное впечатление на всех, кого не брали на задание.
Тогда вылет так и не состоялся, но опасение, что нас могут не взять и на следующее задание, осталось. Виктор не торопился ответить на мой вопрос. Он уселся поудобнее, поправил бриджи, и я снова, в который раз, задумался, почему Виктор так любит эти брюки. Они ведь достаточно послужили на своем веку, начали даже просвечивать на коленках… Но зато они были темно-синие — остаток довоенной формы летчиков, — модные, с напуском. Виктор тщательно ухаживал за ними, аккуратно штопал малейшие дырочки. Только за коленки он боялся приниматься: слишком уж широко поле деятельности! Да и не было там настоящих дыр. Светятся? Что ж, еще потерпят. И они действительно терпели еще очень долго.
Смуглое, похожее на цыганское, несмотря на курносый нос, лицо Виктора было повернуто к огню. Большие черные глаза его, обрамленные длинными, почти девичьими, загнутыми ресницами, весело улыбались. Из-под темно-синей пилотки с голубым кантом не выбивались, а просто вываливались длинные, слегка вьющиеся черные волосы. Не волосы, а целая копна… По глазам его, по улыбке, чуть тронувшей пухлые губы, видно было, что он прекрасно понимает нетерпение ведомого, хочет по-своему подбодрить его.
— Ты что ж думаешь, мы одни все время летать будем? А вы — смотреть? На одних «старичках» далеко не уедешь. Сегодня всем придется полетать.
К костру подошел командир эскадрильи Архипенко.
— Ну-ка, орелики, быстро наносите ЛБС (линия боевого соприкосновения). Сегодня будем летать на прикрытие, — проговорил он, усаживаясь на свободную банку.
Маленький, остроносый и живой, в своей неизменной кожанке, Архипенко никогда не мог усидеть на одном месте, вечно куда-то торопился, а чаще всего занимался починкой реглана. Если бриджи Королева были предметом зависти, то этот реглан притчей во языцех. Он, наверное, еще до 1941 года отслужил свой срок, и теперь от него отрывались клочья, стоило только Архипенко зацепиться за что-нибудь. Архипенко его не зашивал — нитки не держали перегнившую кожу, — он просто склеивал лоскутки эмалитом.
— Давайте, здеся, перерисовывайте ЛБС, — повторил он, протягивая Королеву карту.
Он почему-то очень любил слово «здесь», вставлял его, где нужно и не нужно, и произносил по-особому — «здеся». К этому все привыкли и не обращали внимания.
Линия фронта оставалась несложной: все время тянулась по левому берегу Днепра, и только на участке от Дериевки до Домоткани красная линия отделяла узенькую полоску правого берега. Несколько расширялась эта полоска в районе сел Мишурин Рог и Бородаевка. Местность, судя по карте, там была низменная, а впереди, перед плацдармом, возвышались холмы.
— Тяжело там пехоте… — вздохнул Королев. — Нужно прикрыть так, чтобы хоть с воздуха не бомбили их. Там же наши люди дерутся…
С рассветом полк начал боевую работу. К линии фронта ушла третья эскадрилья, за ней — вторая. Подошло время вылетать и первой эскадрилье.
Первый боевой вылет. Как много надежд связывали с ним мы, молодые летчики! Но он не произвел особого впечатления. Даже разочаровал. Восемь истребителей пересекли Днепр вместе, в одном строю. Потом группа почему-то разошлась по парам, и я остался вдвоем с Королевым, потеряв остальных из виду. Внизу работали штурмовики. Изредка вблизи проносились истребители, но то были советские машины других типов. Фашисты в воздухе не показывались. Об этом говорило и молчание наземного командного пункта — командир их авиационного истребительного корпуса генерал-лейтенант Утин сидел с радиостанцией на плацдарме, но его позывной — «Гусев» — так и не прозвучал по радио.
С ним была установлена устойчивая радиосвязь. То и дело невдалеке от самолета появлялись белые и черные клубочки. Я догадался, что это разрывались снаряды немецкой зенитной артиллерии, но не обращал на них внимания: слишком уж безобидными выглядели эти комочки ваты. Вот и все… Мне показалось, что мы только начали патрулировать, а по радио уже передали команду идти на посадку. «И это весь боевой вылет?! — огорченно подумал я. — Так всю войну пройдешь и врагов не увидишь…» Хотя понятно, что до конца войны еще ой как далеко… Каждый день я читал в газетах об ожесточенных боях. Но молодость брала свое. Хотелось именно сегодня, сейчас встретиться с фашистами и драться, драться.
А тут — пустой вылет. Зря бензин жгли… Я не понимал еще всех тонкостей войны. Ведь своим присутствием над линией фронта истребители придали наземным войскам уверенности, что на них не обрушится удар с воздуха. И действительно, уберегли их от такого удара. Кто знает, если бы здесь не было наших истребителей, то, возможно, в воздухе сразу же появились бы небольшие группы и даже отдельные вражеские самолеты. Всего этого я не знал, будучи почему-то уверен, что немецкой авиации вообще нет на этом участке фронта и все сегодняшние вылеты прошли впустую. Однако после посадки пришлось изменить свое мнение. Вторая и третья эскадрильи вели тяжелые воздушные бои. Некоторые самолеты пришли с пробоинами, а Никифоров, Букчин и Козий не вернулись вовсе…
Жалкий вид представлял «ястребок», на котором летал на задание один из летчиков соседней эскадрильи. От носа до хвоста он был прошит очередью фашистского истребителя, в некоторых местах светился насквозь. Сам летчик уже несколько раз обошел машину, рассматривая пробоины, но не мог остановиться. Видимо, он все еще переживал перипетии воздушного боя. Я был удивлен живучести «Аэрокобры» —несмотря на такие повреждения, самолет не загорелся, не упал и летчик сумел довести его и посадить на свой аэродром, зарулить на стоянку.
Рядом вертелся Чугунов. Он о чем-то расспрашивал механиков, занятых ремонтом, все время оказывался у них на дороге, мешал. Механики недовольно посматривали на него, что-то, видимо, не очень лестное, бурчали себе под нос, но громко свое неудовольствие не высказывали. Все-таки офицер, летчик…
К костру Чугунов подошел своей обычной стремительной, слегка подпрыгивающей походкой и сразу начал, размахивая руками, рассказывать о ходе воздушных боев, проведенных другими эскадрильями, — он успел побывать на всех стоянках и расспросить летчиков. Теперь его так и распирало от добытых сведений.
— А Кошельков как даст!.. А Бекашонок развернулся и как врежет!..
Я почти не слушал Чугунова. «Чего он радуется?! Трое не вернулись, несколько самолетов пришли с пробоинами…»
— Почему так…
Что «так», я не договорил. Да и прошептал эти слова почти про себя. Но меня услышали. Очевидно, все думали о том же. Во всяком случае, Чугунов понял и сразу вскинулся, пытаясь скрыть испуг.
— Испугался? Вон Кошельков не испугался!
— Помолчи ты, балаболка! — одернул Королев Чугунова и повернулся ко мне. — Не вешай носа. Не сразу Москва строилась. Ты думал, десятками немцев сбивать будем, а сами целыми возвращаться?
— Да я знаю, так не бывает…
— И не может быть. Вы ж пришли только в полк. Опыта нет. Боев никогда не вели. Даже не видели живых «худых» и «Фоккеров».
Виктор свернул цигарку, закурил и продолжал:
— Слетанность плохая. Ведомый и без команд по радио должен знать, что хочет сделать ведущий. А у нас как? Вы на севере в Иваново получали матчасть, тренировались, а мы, фронтовики, на юге. Собрались вместе только в Воронеже перед отлетом на фронт. Вместе почти не летали. Четыре полета!.. Это ж смех! Сразу оторвешься. А ведомый с ведущим и на земле и в воздухе всегда должны быть вместе… Ничего, втянетесь, повоюете, тогда и сбивать будете. И сейчас нечего нос вешать. Слышал, Бекашонок с Кошельковым пять штук завалили?
— Слышал. По одному «Мессеру», по одному «Юнкерсу» и в паре еще одного «Юнкерса»…
— Ну вот. Всего-то за эти вылеты шесть мы сбили, а у нас только трое не вернулись. И с пробоинами наверняка тоже есть у них.
Все, что говорил Виктор, было понятно, И соотношение потерь вроде не такое уж плохое. Но одно дело понимать это умом, а другое — сердцем. Сбитые фашисты упали где-то там, на линии фронта, а пустые стоянки трех невернувшихся самолетов, техники и механики, понуро сидящие у этих стоянок, — вот они, рядом.
Королев между тем продолжал говорить:
— А пока смотреть лучше нужно. Если видишь немца, то он тебя не собьет. Всегда из-под огня уйти можно. А то привыкли за ведущим смотреть, а что в воздухе делается, вам неинтересно!
— Смотрел я кругом…
Смотрел я действительно плохо. В этом пришлось убедиться очень скоро.
Второй вылет на прикрытие ничем не отличался от первого. Разве только совсем ушла облачность и солнце светило вовсю. За Днепром группа так же разошлась по парам. «Зачем расходимся? Вместе ведь лучше», — подумал я, но во время патрулирования больше не видел ни наших, ни немцев. Только после команды идти на свой аэродром неожиданно увидел между собой и ведущим еще один самолет какого-то грязного желто-зеленого цвета. На его фюзеляже ярко выделялся черный крест, обрамленный белыми полосами.
«Мессер»! Откуда он взялся?! «Ме-109» был совсем рядом — каких-нибудь двадцать — двадцать пять метров. Я забыл обо всем: о радио, о том, что нужно предупредить ведущего… «Сбить!..» Немного подвернул самолет, прице… Прицелиться-то и не смог: прицел был выключен. Так учил инженер по спецоборудованию полка, оберегая дефицитные американские лампочки прицела, он рекомендовал включать прицел только в бою. Но немец совсем рядом, и так не промахнешься! Я нажал и тут же отпустил гашетку. Красный шар пушечного снаряда мгновенно преодолел это короткое расстояние и впился в мотор «Мессера». Разрыва снаряда не было — «значит, бронебойный». Две пули крупнокалиберных пулеметов — одна прошла перед самой кабиной вражеского летчика, а вторая пронзила эту кабину. «Эх, еще бы немножко…» Поздно. Фашист резким движением рулей увел свой истребитель вниз, под мою «Кобру». И тут же что-то вспыхнуло у пола кабины, обожгло правую ногу, раздался треск… «Второй „Мессер“ в хвосте», — понял я. Теперь моя очередь выходить из-под огня фашиста. Как это делать, я не знал. Королев и Архипенко рассказывали, но со слов не очень-то понятно. Инстинктивно повторил маневр «Мессершмитта». Попаданий в мою «Аэрокобру» больше не было. Оглянувшись, я никого не увидел, и сколько я ни осматривал воздух, немца нигде не было. Только теперь я передал по радио Королеву: «Худые» рядом!», но было уже поздно: «Меня подбили, иду на вынужденную!» — услышал ответ Королева. «Живой!» — настроение у меня немного поднялось, и я полетел на аэродром.
Не успел я выключить мотор у себя на стоянке, как вокруг самолета собрались летчики эскадрильи. Все интересовались подробностями.
— Бой вели? — спросил Чугунов.
Я не успел ответить. Чугунова отодвинул в сторону Валентин Карлов, коренастый шатен среднего роста, с несколько монгольскими чертами лица. Во время боев на Курской дуге он был ведомым у Королева и сейчас, естественно, хотел узнать, где он.
— Что с Виктором? — спросил Карлов.
Я подробно рассказал все, что произошло, успокоил Валентина, что Виктор благополучно сел на нашей территории, показал место посадки.
— Эх ты, вояка! Прозевал! Ведущего чуть не сбили, сам с пробоиной пришел. С парой «худых» не могли справиться! — возмутился Чугунов. — Я бы уж дал «шмиту»!
— Хватит тебе! Все вы одинаковые, — оборвал Чугунова Карлов, имея в виду всех молодых летчиков, прибывших в полк на пополнение. — Увидите «худого» — и мандраж в коленках.
Примерно через час у костра появился Королев.
— А! Виктор! Целый?! — окружили его.
— Целый… По мотору только попало немного…
— Слышали мы тут, как твой ведомый прозевал.
Я думал, что Королев будет ругать, но тот, наоборот, всю вину взял на себя.
— Да с Женьки какой спрос? Только летать начал. Первый боевой вылет. Всего-то сто часов налету на всех типах. Из них семьдесят пять, наверное, с инструктором. Хорошо, он «шмита» снял, а то бы могли сразу обоих срубить. — Виктор подсел было поближе к огню, но тут же поднялся. — Учить нужно, рассказывать, как сами учились, бои вели… Пошли, Женька, разберемся что к чему…
— Ну, рассказывай, как все получилось, — снова заговорил Королев, когда мы отошли на несколько шагов.
— Черт его знает… Когда разворачивались домой идти, вроде блеснуло что-то на солнце. Потом смотрел, смотрел — ничего не видно. Так и не передал по радио.
— Зря…
— Думал, показалось.
— Сказал бы, не подставили хвост солнцу. Показалось, не показалось — передавай, вместе смотреть будем. Дальше?
— Смотрю, «худой» между нами, рядом, вот как до этого самолета, — указал я на «ястребок», стоящий метрах в двадцати. — Дал я по нему короткую… — Королев остановился и даже сплюнул от возмущения.
— Ты что?.. Это даже для пробы оружия мало! Эх ты… Соображать надо! — Виктор крепко выругался.
— Все время в школе, в ЗАПе учили стрелять короткими очередями, беречь боеприпасы… — с обидой ответил я.
Думаю, Виктор понимал, что зря обругал меня. Чем я виноват? Его самого, как и всех летчиков, учили беречь боеприпасы… Пришлось на фронте переучиваться. Им повезло. Почти месяц до начала больших боев на Курской дуге они перехватывали разведчиков, вели бои с одиночными самолетами противника во фронтовом тылу. Один раз отражали налет «Юнкерсов» на свой аэродром. За это время поняли, что многие догмы, преподнесенные им в летных училищах и запасных полках, неприменимы на фронте. А наше пополнение без подготовки пошло в бой…
— Беречь… На кой черт тебе эти боеприпасы на том свете? Поберег, а этот же «Мессер» тебя потом сбить мог. Длинную очередь ты бы мог даже без прицела по трассе подвести. Расстояние-то вот… — ногтем большого пальца он отмерил кончик указательного. — Тут нужно бить, пока не увидишь, что фашист загорелся, падает… — Виктор стал советовать, когда и какими очередями нужно бить фашистов, объяснять, как строится взаимодействие в паре, как смотреть за воздухом. — Искать самолеты нужно не рядом, под своим хвостом, а вдали. Увидишь далеко — не растеряешься. Успеешь и меня предупредить, и проверить все.. Увидел — блеснуло что-то на солнце, а прицел не проверил, мне не передал… Нельзя так.
Мы еще долго разговаривали о воздушных боях, о повадках фашистских истребителей, о том, как держаться в строю над линией фронта.
Тут-то я и вспомнил о том, что мне не понравилось во вчерашних вылетах.
Пока мы обсуждали подробности того вылета, к стоянке подошел грузовик, на котором лежала «Аэрокобра» Виктора. Как сказал подошедший от грузовика инженер полка, потребуется заменить погнутый при посадке винт и поставить новый капот на носу самолета.
— Завтра утром самолет будет готов, считайте его в строю, — закончил инженер.
Тем временем солдаты и сержанты — младшие авиаспециалисты — сняли «Кобру» с автомобиля, установили на специальные треноги с винтовым штоком, как у рояльной скамейки, чтобы можно было поднимать самолет на какую-то высоту, выпустили шасси, опустили самолет на шасси и стали готовиться снимать погнутый винт. Машина ушла за новым винтом. Работали техники быстро, минут через десять погнутый винт уже лежал на земле, и люди на стремянке работали у редуктора, готовясь насаживать на его вал новый винт.
— Слушай, Виктор, зачем мы по парам расходимся? Если одной группой ходить, то фрицы не смогут незаметно подойти. Кто-нибудь да увидит.
Виктор понял, что речь идет об «охотниках» — фашистских истребителях, атакующих только одиночные самолеты и небольшие группы. Как правило, «охотники» в активный бой не ввязывались. Они наносили неожиданный удар из-за облаков или со стороны солнца и сразу же уходили. Повторные атаки производили только по подбитым уже самолетам.
— «Охотникам»-то трудно будет на нас напасть, — ответил он. — Но зато и мы меньше сможем увидеть. Парами захватываем больший участок, значит, и видим больше.
С этим трудно было не согласиться. Как будто все правильно. Но сомнение осталось.
— Ну, одна пара увидела немцев. Остальные должны искать их?
— Так это-то проще! Они передадут, где находятся.
— Все равно время уходит. Атаковать всем вместе лучше.
— Было бы чего атаковать…
— Для чего же пункты наведения? Им с земли хорошо видны большие группы, и они смогут заранее предупредить о подходе бомбардировщиков. А на отдельные пары истребителей они и внимания, наверное, не обращают. Попробуй, разбери — наши там или немцы. Ходим на большой высоте.
— Вообще-то так… Подумать нужно…
Для Виктора сразу стала понятна выгода такого предложения. Обезопасить себя от нападения «охотников» — не главное, хотя и это кое-чего стоит. Главное то, что можно будет бомбардировщиков атаковать всей группой, а не отдельными парами. Тут прямая выгода. И моральное воздействие на экипажи бомбардировщиков, и распыление огня стрелков. И легче связать истребителей сопровождения, в конце концов.
— А ты ничего — разбираешься. Ладно, — Виктор хлопнул меня по плечу ладонью. — Поговорю с Архипенко, с Гулаевым.
— Да, и с Гулаевым нужно…
Гулаев — командир соседней эскадрильи — был опытнейшим летчиком полка. Только в боях на Курской дуге он сбил шестнадцать немецких самолетов. Недавно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Конечно же, с его мнением нельзя было не считаться.
После разговора с Виктором я немного успокоился. Казалось, что все беды вчерашнего дня остались позади, больше не повторятся.
Однако в следующие дни ничего не изменилось. Мы, как и раньше, расходились над линией фронта по парам. Пара Карлова встретила «охотников», и Валентин сбил одного «Ме-109». Другие же группы снова вели бои. Гулаев, Бургонов и Ремез втроем дрались с тридцатью шестью самолетами противника и сбили три из них, не дав остальным отбомбиться по нашим войскам. Бой шел на глазах у командира корпуса, и генерал Утин всем им объявил благодарность. Но не вернулись с боевого задания Галушков, Бургонов, Задирака и Гуров. Все, кроме Галушкова и Гурова, опытные фронтовики.
Закрыл собою
Наступала глубокая осень. Наземные войска за эти несколько дней значительно углубили и расширили плацдарм, и он теперь вытянулся длинным языком на юг, почти до Кривого Рога.
А в полку…
В перерывах между вылетами летчики собирались греться у костра, проводили разборы своих боевых действий, тренировались в прицеливании по летающим самолетам, говорили о том, как лучше строить боевые порядки, обсуждали воздушные бои других эскадрилий. А обсуждать было что.
Правда, большей частью разговор велся на отвлеченные темы. Никому не хотелось вспоминать о потерях. За пять дней боев стоянки самолетов опустели: пятнадцать «ястребков» не вернулись с боевых заданий. Кошельков, так отличившийся в первом вылете, на третий день не вернулся. Ремез тоже — не возвращались и старые летчики. Об одном из них, Жоре Иванове, Карлов даже полковой анекдот рассказал.
— Ему вообще в новых сапогах летать нельзя, — говорил Валентин. — Под Белгородом получил сапоги на два номера больше — других не было — тут же вылет, бой. Потом Гулаев о бое рассказывал: «Вижу, кто-то на парашюте опускается. По куполу видно, что наш. А кто? Подошел поближе, смотрю: длинный, одна нога босая, а на другой — новый сапог. Иванов — понял!..» Вот и в этот раз, — закончил Карлов, — он только перед вылетом сапоги получил…
У летчиков-фронтовиков установились своеобразные правила. Никто не брился утром. Брились вечером на аэродроме после последнего вылета. Не фотографировались, уходя на боевое задание. И то и другое можно было как-то объяснить. Бриться по утрам просто некогда, потом это вошло в привычку. Фотографироваться? Пока фотографы не досаждали летчикам… А вообще, перед боем мысли, конечно, заняты не фотографированием. Новые сапоги? Но это касалось одного Иванова…
Так можно подумать, что кому-то из нашей эскадрильи не везет на встречи с бомберами. Мне, скорее всего. Без меня с Королевым вылетали, Архипенко сбил одного «Юнкерса»… Остальные группы каждый день ведут бои с «Юнкерсами», «Хейнкелями», а мы хоть бы раз встретили…
Улетела третья эскадрилья, стали готовиться к вылету во второй. Меня удивила малочисленность людей на ее стоянке, ведь когда готовится к вылету эскадрилья, на стоянке собирается весь ее состав: и летчики, и техники, и младшие авиаспециалисты — оружейники, прибористы, мастера по спецоборудованию, мотористы и прочие. Это довольно солидная масса народа, но сейчас на стоянке второй эскадрильи что-то не видно и половины личного состава. Вскоре заработали моторы, и на старт вырулили всего четыре самолета. Больше исправных самолетов в эскадрилье не оказалось. И эта четверка истребителей должна была выполнить задачу, которая возлагалась на эскадрилью полного состава.
Четверка истребителей взлетела и с набором высоты пошла по привычному уже для всех направлению к плацдарму. И для всех оставшихся на аэродроме началось томительное время ожидания возвращения улетевших.
Вернулась третья эскадрилья. Она вернулась без потерь, но летчики доложили, что немцы ведут себя над плацдармом более активно, чем в предыдущие дни. Больше появляется групп бомбардировщиков, больше и истребителей врага. Тем более усилилась тревога за судьбу четверки второй эскадрильи, вернее, четверки, которая от нее пошла в бой.
Но все, даже томительное ожидание, подходит к концу.
Мои мысли прервал чуть слышный гул моторов. «Наши с задания идут, судя по звуку», — я посмотрел в сторону линии фронта. Оттуда к аэродрому подходила четверка самолетов второй эскадрильи.
Обычно все истребители, возвращаясь с задания, на максимальной скорости со свистом проносились стартом, свечой взмывали вверх в осеннюю синеву неба и только после этого расходились. На этот раз группа с ходу, с большой высоты пошла на посадку. Что-то там случилось, поняли все сидящие у костра и стали внимательно следить за приземлением истребителей. Вернулись все, но как?
Обычно истребители, вернувшись на аэродром с боевого задания, проходили над стартом и лишь потом расходились на посадку. Сейчас они почему-то над стартом не прошли, а построились так, чтобы можно было заходить на посадку без излишних маневров. Первым приземлялся и покатился по ровному земляному полю аэродрома самолет командира эскадрильи Героя Советского Союза Николая Гулаева. За ним села пара Валентин Карлов — Сергей Акиншин. Все они уже заруливали на стоянку, когда самолет № 14 ведомого Гулаева Семена Букчина только начал выполнять четвертый разворот, чтобы зайти на посадку в створе посадочных знаков. Его самолет выполнял разворот как-то неуверенно, но все же вышел напрямую. Планировал он тоже как-то неуверенно, вздрагивая и покачиваясь. Впрочем, приземлился он благополучно и покатился по полю мимо стоянки первой эскадрильи. Все увидели, что самолет буквально изрешечен очередью фашистского истребителя, пулевые пробоины издали не были заметны, но рваные раны от разрывов снарядов отчетливо были видны. Побит был не только фюзеляж, но и крылья с расположенными в них бензобаками. Из бензобаков выливались остатки бензина. Все удивились, что истребитель смог долететь до аэродрома. Как он не сгорел моментально в бою?!
На севших самолетах второй пары никаких следов боя не оказалось.
— Опять, наверное, с парой «охотников» встретились, — предположил Чугунов.
— Почему, здеся, ты так думаешь? — спросил Архипенко.
— Небольшая же группа была. Только Букчин с пробоинами пришел.
— Ты что же, уверен, что в большом бою обязательно все должны получать пробоины?
Чугунов промолчал. Он просто не знал, что ответить. В душе он был уверен — каждый бой сопровождается потерями. Однако по тону вопроса понял, что командир эскадрильи думает иначе.
Архипенко так и не дождался ответа. Он встал, поплотнее запахнул реглан, подбросил в костер пару сухих стеблей подсолнуха, переломив их предварительно на три части, и заговорил, глядя в огонь:
— В бою, здеся, смотреть нужно. Если видишь немца, то не дашь ему зайти в хвост. А вообще-то сбивают только в начале боя, вернее, до начала, когда «худые» незаметно пристроятся… В бою истребителя сбить трудно: он всегда начеку, все видит.
«Не все видят… Не видел же я тогда, куда делись „шмиты“ и Королев».
Архипенко между тем продолжал:
— Даже бомбардировщиков, здеся, обычно сбивают с первой атаки. Если первая атака неудачная, то дальше бой вести трудно. И стрелки успеют подготовиться, и летчики поплотнее в строю идут, чтобы стрелки помогали друг другу. А если с первой атаки сбить пару бомберов, то группа сразу рассыпается, все бросают бомбы куда попало и удирают кто как знает.
— Слушай, Женька, правильно Федор говорит, — шепнул мне сидящий рядом Виктор. — Учись замечать все самолеты вдали, тогда они близко и подойти не сумеют.
— Выходит, Букчин прозевал? — так же тихо спросил я.
— Кто же его знает, что там было. Расскажут… — Королев посмотрел в сторону стоянки второй эскадрильи и заговорил о другом: — Главное, не вешать носа. Попало тебе первый раз — учись, смотри за воздухом. «Шмиты», они хорошо учат. Лучше любой школы. Был бы ученик хороший… А то у некоторых мандраж в коленках появился… У тебя тоже какая-то неуверенность вроде есть.
— Какая там неуверенность?! — я искренне удивился. После первого вылета, когда увидел подбитые «Кобры», у меня действительно сильно защемило на душе. Из второго вылета я сам привез пробоину и несколько царапин на ноге. И, как это ни странно, успокоился. Где-то в подсознании появилось чувство уверенности в том, что из-под огня «шмитов» можно уйти, что не каждая их очередь достигает цели. Понял, фашистам не так просто меня сбить. А сам? Вот в своих силах уверенности пока не было.
Виктор решил подтолкнуть меня на откровенный разговор.
— А что же тогда?
— Обидно просто. Все дерутся, бои ведут, а мы… А без боев какая уверенность может быть? За себя я не боюсь. А смогу ли сбить?
— Будут еще бои. Больше, чем нужно. Собьешь еще… Домой пишешь? — переменил тему разговора Виктор.
— Пишу… Только не пишу, что на фронте. Зачем маму волновать? Она там с двумя младшими мучается, есть нечего. Один на фронте. Самый старший то ли погиб в самом начале войны, то ли его не успели взять в армию, и он остался в Ананьеве, на оккупированной территории. В Одесской области. Граница там рядом была. Писем от него так и не получали. Зачем же маме еще из-за меня переживать?
— Н-да… А отец?
— Умер в сороковом… — я не хотел распространяться на эту тему и не уточнил, где и как умер отец.
К костру подошел Гулаев.и разговор с Королевым, к моей радости, прервался.
— Ну-ка, ребята, дайте погреться у вашего огонька, — возбужденно заговорил Гулаев. — А то ветер насквозь пробирает. У меня же нет такого реглана, как у тебя, Федор!
Небольшого роста, стремительный в движениях, с большим светло-русым казацким чубом, выпущенным из-под фуражки, он бесцеремонно потеснил летчиков и подсел к огню.
— Что, Николай, подраться пришлось? — спросил Архипенко у Гулаева.
— Пришлось! Вот если бы не Семен, то и меня бы сбили! Представляешь, он своим самолетом закрыл меня! Ему вся очередь досталась, а на моем самолете — ни одной пробоины. А ведь я видел этих «худых», мог бы и увернуться. Но тут как раз одного «лаптежника» сбил, второй в прицеле. Семену передаю, чтобы отогнал «шмитов». А он ни мур-мур, не реагирует.
— Не слышал я вашей команды! — отозвался Семен Букчин — ведомый Гулаева.
— Я ему тоже передавал о «шмитах»! — добавил Валентин Карлов — ведущий второй пары четверки Гулаева. — Он и меня не слышал.
— Да у него же английская радиостанция, «Бендикс»! — вдруг заговорил Сергей Акиншин, — на ней можно услышать, только если в комнате разговор идет и наушники снять.
— По-нят-но! — протянул Гулаев. — А я-то было подумал, что мой еврейчик сдрейфил, труса празднует… Смотрю — «Мессер» уже огонь открыл, вот-вот очередь в мою «кобру» врежется! Семен под эту очередь бросился, закрыл меня! Вот так еврей, думаю, себя не пожалел!
— А что мне оставалось делать? — заговорил наконец Семен Букчин. — По радио ничего не слышал. Увидел «Мессера», когда он уже носом заводил, прицеливался. Отсечь огнем уже поздно было. Ну, думаю, ведомый — щит ведущего. А дело щита — принимать удары на себя. Я и бросил свой самолет перед носом «Мессера»!
— Правильно! — заключил Гулаев. — Ведомый — щит ведущего. Только это у нас понимается не так буквально! Маневр ведомого, огонь его оружия по атакующему врагу — вот что является щитом ведущего. А так бросаться под огонь, защищая ведущего, это уже какой-то перебор, и свидетельствует это только о том, что ведомый плохо смотрит, не замечает вовремя врага, не успевает отогнать его своим огнем!
Семен Букчин поник от этих слов. Гулаев заметил реакцию ведомого и продолжал:
— Я очень благодарен тебе, Семен, за твою самоотверженность, за помощь мне. Думаю, мы с тобой еще полетаем и ты станешь настоящим ведомым, я помогу тебе в таком становлении. Добрые дела не забываются. Это только злые языки болтают, что добрые дела наказуемы. Правда, сегодня тебя за доброе дело наказали «худые». Но на ошибках учатся, и, думаю, ты, Семен, в дальнейшем научишься смотреть. А пока я потребую, чтобы тебе поставили американскую радиостанцию с тех самолетов, которые вышли из строя и восстановлению не подлежат. Спасибо, Семен!
Гулаева расспрашивали до тех пор, пока его не вызвали на командный пункт полка.
— Да, Семен воюет, как надо, — резюмировал Чугунов после ухода Гулаева. — Не то что у нас.
— Ладно, хватит. Посмотрим, как сам-то воевать будешь. Ты, конечно, герой, что и говорить. Но тебе вроде не приходилось еще встречаться с немцами, а? — ехидно спросил Чугунова Королев.
Чугунов вспылил. Он знал — все давно смотрят на него как на опытного летчика, и это настолько возносило его в своих глазах, что он свободно пользовался простотой фронтовых нравов.
— Ну, не встречал. Что, я виноват, что ли? А встретимся — буду воевать не хуже других! — с таким же апломбом он мог ответить не только заместителю командира эскадрильи Королеву, но и командиру полка.
В эти дни я много летал, чувствовал себя увереннее в воздухе. Правда, уверенность была уже другая, не та, что вначале. Я не думал, что буду только сбивать фашистов, а меня не тронут. Все может быть. Потери полка красноречиво говорили об этом. Но летать стал по-другому, не по-школьному. Гораздо меньше внимания обращал на показания приборов (научился определять скорость самолета по его поведению, а работу мотора — на слух), больше смотрел за воздухом, лучше стал понимать намерения ведущего — мы постоянно были вместе на земле, регулярно летали, и это сказывалось на результатах. «Сбить бы хоть одного фашиста. А воевать, видно, можно на этих машинах. Гулаев вон уже четвертого сбил».
Конечно же, воевать можно. Нужно умение. Даже самолеты, казалось бы, совсем не приспособленные для активного воздушного боя, успешно дрались с фашистами. В этот день в полк прилетел командир дивизии Нимцевич — Борода, как называли его летчики за небольшую черную бородку, — и рассказал об интересном бое.
20 октября истребители соседней дивизии сопровождали восемнадцать пикирующих бомбардировщиков «Пе-2» во главе с гвардии полковником Полбиным на железнодорожную станцию Александрия. Бомбили с шестисот метров — выше была сплошная облачность. После отхода от цели первая девятка «Пе-2» встретила над немецким аэродромом на пересекающихся курсах двадцать «Ю-87». Сопровождающая «пешек» (так фронтовики называли «Пе-2») пара истребителей атаковала «Юнкерсов» и сбила двух из них. Вслед за истребителями и Полбин повел в атаку свои «пешки». Они сбили еще один «Ю-87». Остальные фашистские самолеты рассыпались во все стороны, стали уходить в облака и в глубь своей территории, сбрасывая бомбы.
В это время подошла еще группа из восемнадцати «Ю-87» под прикрытием шести «Ме-109». «Пешки» сразу атаковали бомбардировщиков, а ударная группа наших истребителей под командованием капитана Груздева связала боем «Мессеров».
«Пе-2» вели бой на виражах и вскоре разогнали и эту группу «Юнкерсов». Истребители непосредственного сопровождения вели бой вместе с «пешками». Скоро в воздухе почти не осталось фашистов, но экипажи «пешек» настолько увлеклись боем, что стали штурмовать стоянки самолетов на аэродроме и взлетающих истребителей противника.
Двенадцать самолетов сбили наши летчики в этом воздушном бою. И пять из них сбили «пешки»!
«Ну вот, даже бомбардировщики встречают „Юнкерсов“, воюют как истребители, а нам все не везет, — думал я, сидя у костра на своем обычном месте. — И погода у них была как по заказу…»
Летчики предпочитали пасмурную погоду, когда не слепило солнце, а самолеты противника отлично были видны на фоне облаков.
Мои размышления были прерваны приходом Архипенко и Королева — их с полчаса назад вызвали на КП полка.
— Что там нового? Вылет какой наметили?
— Да, готовьтесь, здеся. Завтра с утра пойдем «пешек» сопровождать на Кировоград, — вместо Виктора, к которому обратился я, ответил Архипенко.
— На Кировоград?! — удивился Чугунов. — Это ж километров девяносто за линией фронта!..
— А мы еще дальше пойдем. Чугунов промолчал.
— Да, утром все пойдем на сопровождение. Идем в ударной группе, вверху.
— А сегодня?
— На сегодня все… Да, скажи Волкову, пусть срочно подготовит твой самолет к ночным полетам.
— Зачем?
— Нимцевич группу собирает ночников, шестерку. Будут в сумерках прикрывать переправы. На твоем Фигичев полетит.
— Понятно…
Фашистские бомбардировщики «Хе-111» несколько вечеров подряд появлялись после захода солнца над переправами и беспрепятственно бомбили их. Гитлеровцы знали, что на этом участке фронта нет советских ночных истребителей, и совершенно обнаглели: приходили всегда в одно и то же время, делали по нескольку заходов. Они хотели уничтожить единственный путь, по которому шло снабжение наших войск на плацдарме. Пока это им не удавалось, но кто знает, чем мог кончиться сегодняшний налет, если не помешать фашистам.
Я медленно брел к своей «четверке» (бортовой номер моего самолета, как и официальный позывной по радио, которым, кстати, почти никогда не пользовались, был четыре). «Фашистов нужно проучить, но почему обязательно мой самолет?..» Летчики, да и техники, не любили, чтобы на их машинах летали посторонние. Хоть Фигичев и опытный летчик, штурман дивизии, Герой Советского Союза, но отдавать ему свой «ястребок» даже на один вылет не хотелось.
Волков — худощавый, среднего роста белокурый паренек с остреньким носиком, одних со мной лет (он был только на два месяца старше своего командира экипажа) — вместе с мотористом Ананьевым проверяли масляный фильтр и не заметили подходившего летчика.
— Что там случилось, Николай?
Волков оглянулся, быстро встал, посмотрел на фильтр, который все еще держал в руках, отдал его Ананьеву и доложил:
— Товарищ командир, проверяем фильтр масляной системы. — Потом добавил вопросительно:
— Вылетов больше не будет, можно раскрыть самолет?
«Раскрыть самолет» на языке технического состава означало снять с него все капоты, какие только возможно, и как следует покопаться в моторе, вооружении, радиостанции и во всех системах.
— Нет… Готовьте к ночным полетам. Да побыстрее, сказали…
— К ночным? А кто летать будет?
— Фигичев.
Этих «шмитов» запросто бить можно!
— Ну, сейчас всем спать! — приказал Архипенко после ужина. — Учтите, завтра вылет тяжелый. На маршруте есть аэродром. «Мессеры» сидят. Так что, здеся, смотреть нужно и смотреть. Бой обязательно будет.
«Хорошо бы облачность была тысячи на две…» — мечтал я, укладываясь на нары. Но стоило прикоснуться щекой к жесткой, набитой не соломой, а каким-то крупным бурьяном подушке, как молодой, здоровый сон сморил меня — И ушли куда-то облака, «Юнкерсы», «Хейнкели», «худые» и сама война. Ничего не осталось. Только под утро я начал чувствовать толчки ворочавшегося рядом Чугунова.
Поднялись, как всегда, рано, задолго до рассвета. И на улице сразу увидели иллюстрацию к пушкинским строкам из «Полтавы». Все было: и звезды, и штиль, и тополя. Не было только облачности. Такая идиллия нам не понравилась. Кое-кто даже крепко выругался.
— Это тоже неплохо, — успокоил всех Королев. — К цели подойдем с востока, со стороны солнца. Немцы не успеют подготовиться, будут поднимать истребителей, когда мы пройдем над ними…
Бомбардировщики появились над аэродромом вскоре после восхода солнца. Их ждали в первой готовности. Пара за парой истребители стали подниматься в воздух, и через несколько минут группа легла на курс. Маршрут бомбардировщиков был проложен не прямо на цель, а с изломами, чтобы ввести в заблуждение фашистов.
Кажется, только что отошли от аэродрома, а под крылом самолета уже протянулась в обе стороны, на сколько хватает глаз, широкая блестящая лента Днепра. Через ее гладь переброшены тоненькие ниточки переправ. Впереди в перелесках окаймленных дымами пожарищ протянулся в сторону Кривого Рога длинный язык плацдарма. Но сегодня цель не здесь, не на линии фронта, и вскоре «Пе-2» развернулись прямо на запад.
Внизу расстилается та же земля, Украина. И все-таки она не такая. Попробуй-ка сядь! Сразу попадешь в лапы к фашистам. А сверху вроде бы ничего не изменилось. То же высокое украинское небо, те же разделенные на огромные квадраты и прямоугольники поля…
Здесь, над оккупированной территорией, я впервые увидел в воздухе «Юнкерсов»: на встречных курсах и чуть ниже прошла группа из тридцати «Ю-87». Шли они парадным плотным строем, крыло в крыло, в колонне звеньев. «Почему не атакуем?! Подходи сзади и бей в свое удовольствие!..»
— Виктор! «Лапти» справа идут!
— Вижу… — через некоторое время ответил Королев. — Смотри за воздухом… Наше дело теперь телячье…
Я вспомнил, что в этом вылете нельзя вести обычный воздушный бой. Можно только защищать бомбардировщиков от атак фашистских истребителей, ни на шаг не отходя от «пешек».
Встреча с «Юнкерсами» помогла собраться с мыслями, заставила более внимательно следить за обстановкой в воздухе. Сложности это не представляло. Солнце еще не успело подняться и создать в воздухе дымку, видимость была прекрасной — миллион на миллион, как говорят летчики.
«Сейчас должен быть аэродром», — подумал я и тут же увидел впереди серую полосу бетонки.
Фашисты, наверное, не ожидали налета в такой сравнительно глубокий тыл в дневное время. На летном поле не было заметно никакого движения. Самолеты — истребители и бомбардировщики — располагались по границам аэродрома. Большинство из них стояли еще зачехленные — не видно было игры солнечных зайчиков на фонарях кабин.
Группа проходила над самым аэродромом, внизу взвилась ракета. «Сейчас взлетать будут», — понял я. Однако взлет фашистских истребителей задерживался. Только минуты через три вдоль бетонки заскользили два силуэтика «Мессеров» — начала разбег первая пара. «Долго они копались!»
— Виктор, «худые» взлетают!
— Вижу. Смотри теперь, не зевай! Скоро подбираться будут.
Некоторое время длилось молчание. И вдруг чей-то незнакомый дрожащий голос нарушил тишину:
— Десятка! Десятка! У меня сильно барахлит мотор! Трясет, шатун, наверное, оборвется!..
«Кто это? Из нашей эскадрильи, раз к Архипенко обращается, а кто?» Архипенко отозвался не сразу, и тот же голос еще более панически закричал:
— Я Чугунов, мотор сейчас развалится!
«Чугунов?!» Я никогда бы не подумал, что Чугунов способен кричать таким противным дрожащим голосом. «Хотя вот так ни с того ни с сего прыгать прямо в лапы фашистам…»
— Сам дойти сможешь или послать кого с тобой? — спросил наконец Архипенко.
— Дойду…
— Ну иди. Только внимательно там…
Чугунов развернулся и пошел прямо к Днепру по кратчайшему расстоянию к линии фронта.
Вслед за первой парой фашистов поднялась вторая, третья, четвертая… Больше я не следил за аэродромом: приближалась цель, и можно было ожидать атак истребителей, поднятых с других площадок.
Бомбардировщики с ходу сбросили часть бомб и прошли дальше на запад — второй заход был запланирован с обратным курсом.
Этот заход не прошел так гладко, как первый. Еще на подходе к цели начали бить зенитки. Разрывы плотным кольцом окружили бомбардировщиков, стали перед ними, казалось бы, непреодолимой стеной. Я впервые видел такую концентрацию зенитного огня и понял, что это действительно опасная штука. До сих пор я встречался только с одиночными разрывами: фашисты по истребителям почти никогда не стреляли. Слишком уж маленькая и подвижная цель.
«Как же они пойдут в этот огонь? Разворачиваться надо, обойти…» Но «Петляковы» шли строго по прямой. Они были на боевом курсе, и никакие силы не могли заставить их свернуть. И стена разрывов прогибалась, отступала и… сразу исчезла.
— Смотри, Женька, сейчас «худые» подойдут! — передал по радио Виктор. Он знал, что зенитчики прекращают огонь только при подходе своих истребителей.
Они не замедлили появиться. «Ме-109» с большим углом набора на малой скорости лезли снизу к «Петляковым».
Истребители непосредственного прикрытия вступили в бой. Никогда еще я не видел таких беспомощных фашистов. Собственно, я их совсем почти не видел, но по рассказам опытных летчиков знал, что они всегда сваливаются сверху, на большой скорости. Атакуют и снова уходят вверх. Теперь, без запаса скорости, лишенные возможности маневра, «Мессеры» становились мишенью для наших «Кобр». Вот после очереди Гулаева, выпущенной в упор, один загорелся в воздухе. Второй, сбитый еще кем-то, без дыма и огня спикировал прямо в землю. Летчик, наверное, убит.
Тремя громадными кострами (Гулаев успел сбить еще одного) пылали на земле «Мессершмитты», а первая эскадрилья пока не вступала в бой. Но «Мессеры» прибывали. Гитлеровцы, видно, поднимали в воздух все наличные самолеты. Все так же без скорости они лезли к «Петляковым», падали. Но отдельные пары учли опыт и стали набирать высоту в стороне, чтобы затем атаковать сверху. Наступил момент, когда и ударной группе — первой эскадрилье — нужно было вступать в бой.
Справа, южнее, набирали высоту два «Ме-109». Королев развернулся и пошел в атаку.
— Прикрой, Женька! — только и передал он по радио.
Я видел, как впереди быстро росли силуэты фашистских истребителей, как нос самолета Виктора стал окутываться быстро исчезающими дымками, а в сторону «Мессеров» потянулась огненная дорожка трассирующих пуль и снарядов. Видел я также и то, как вспыхнул и, переворачиваясь, окутанный пламенем стал падать ведущий «Ме-109». Я тоже хотел открыть огонь, но не успел: второй фашист переворотом вышел из боя.
Все новые и новые пары «худых» лезли на высоту. Вскоре пришлось вести бой «на равных правах» — скорости самолетов примерно уравнялись, и «Ме-109» перешли на вертикальный маневр. Они еще не знали как следует летно-тактических данных наших истребителей и надеялись выиграть бой на вертикали, как они это делали с «Лавочкиными» и «Яками». Тщетно! Наши самолеты обладали равными возможностями с «Мессерами», а на пикировании даже обгоняли их. К тому же фашисты были деморализованы слишком большими потерями.
Бой все же продолжался. Вот и за нашим истребителем потянулся длинный хвост белого дыма, но самолет не загорелся и продолжал держаться в строю. Издали я увидел его номер. «Четырнадцатый… Опять Семену досталось…» «Сам не зевай!» — как предупреждение, совсем рядом с носом самолета снизу вверх пронесся «Мессершмитт»…
Все окончилось как-то неожиданно. «Ме-109» покинули поле боя, ушли. Сначала я даже не поверил этому, ждал, что они снова появятся, на этот раз откуда-нибудь сверху. Но в воздухе никто больше не появлялся. Только над самой линией фронта встретилась какая-то группа советских истребителей. Бой окончен. И окончен без потерь с нашей стороны.
Я чувствовал себя победителем, хотя и не сбил ни одного самолета, даже не стрелял, но чувство превосходства над фашистами не покидало. Не важно, что это не моя личная победа. На моих глазах горели «Мессеры». Я увидел, как удирали фашистские истребители, узнал, что они не выдерживают активного боя «на равных правах». Значит, главное, заметить их вовремя, не допустить, чтобы они заняли положение выше тебя…
Внизу промелькнул Днепр, и тут жег в наушниках раздался голос Семена:
— Я Букчин, иду на вынужденную… «Значит, и у нас один не вернется…» Но и это не омрачило настроения. Букчин, видно, на нервах тянул самолет через линию фронта, Днепр, а теперь мог спокойно садиться. «Семен придет домой, а фашисты никогда больше не вернутся!»
На стоянке я подошел к самолету Виктора. Королев сразу обратил внимание на мое сияющее лицо.
— Ну, как дела? Веселее стало?
— Знаешь, этих «шмитов» запросто бить можно!
— А ты думал они заговоренные? Я ж тебе говорил!
— Говорил… А сегодня я сам видел! И твоего видел. Жалко, сам не сбил.
— Собьешь еще…
— Так обидно же… Когда ты «худого» завалил, я тоже мог. Уже в прицеле держал. Оглянулся на твоего, как падает посмотрел, а этот переворотом ушел… Потом еще один перед самым носом проскочил, через прицел прошел, метров десять было…
— Стрелял?
— Нет…
— Почему?! Я ж тебе говорил: держи оружие наготове!
— Боялся — столкнемся.
— Да все равно, сбитый он так же проскочил бы перед тобой, как и целый. Лучше сбить, а потом отворачивать, чем отворачивать от целого. Целый не знаешь куда повернет. А сбитому одна дорога — падать.
— Ладно, учту… А как теперь с подтверждениями будет? Раньше посылали в наземные войска брать подтверждения на сбитые. А теперь куда пошлешь? К немцам?
— Ну, пока от летчиков возьмут подтверждения, от бомбардировщиков… А потом, когда освободят эту территорию, еще от местного населения. Так всегда делается…
Рев запущенного мотора заставил нас замолчать. Это техники искали причину возвращения с задания Чугунова.
Летчики собрались у костра и оживленно обсуждали перипетии только что закончившегося вылета. Радость победы звучала в словах. Активнее всех вел себя Чугунов. Постоянно оборачиваясь и посматривая на столпившихся у его самолета техников, он в то же время живо интересовался всем, что происходило во время воздушного боя, восторгался итогами вылета и беспрестанно повторял:
— Эх, жаль, я там не был… Эх, мотор подвел… Я бы не растерялся, одного-двух сбил… Мотор подвел…
И такое, казалось, искреннее сожаление звучало в его словах, что я невольно подумал: «И в самом деле, не повезло ему. Такой бой, а его не было…»
Но тут к костру подошел инженер эскадрильи Черкашин и обратился к Архипенко:
— Товарищ командир, мотор самолета Чугунова опробован на всех режимах. Работает как зверь.
— Не может быть! Чугунов же из-за мотора вернулся с задания!
— Может, на высоте барахлит? Облетать нужно.
— Какая к черту высота! Больше двух с половиной тысяч не было.
— На этой высоте и нужно облетать.
— Ладно. Слетай, Виктор, — повернулся Архипенко к Королеву.
Королев поднялся и не спеша направился к стоянке.
Чугунов побледнел от злости.
— Вы что, не верите мне?!
— Почему не верю? Я должен найти причину. На земле не нашли. Может, в воздухе обнаружится. Прилетит Королев — узнаем.
— Так я ж летал, говорил вам!
— Пора бы знать, что самолеты облетывают опытные летчики, командиры! — не выдержал обычно невозмутимый Черкашин. Потом добавил спокойнее: — Мы ничего не можем сделать, пока причины не знаем.
— Мотор же барахлил… — не унимался Чугунов. — А потом перестал… Сейчас, может, все нормально будет…
— Посмотрим. Неисправности сами не устраняются. Что-то Королев должен обнаружить.
Минут через двадцать Виктор зарулил на стоянку. У костра его встретили настороженным молчанием. Все эти длинные минуты они напряженно вслушивались в ровную песню мотора, доносившуюся из поднебесья. На слух мотор работал нормально. Что скажет Королев?
Виктор заговорил еще не доходя до костра.
— Эх ты, Эней!.. Как там, Женька, было? «Пья-тамы з Трои накывав»? Только, видно, и можешь пятки салом смазывать да здесь у костра воевать. «Я бы, дал бы, сбил бы, меня там не было!..» Тьфу! — Королев сплюнул и отвернулся от Чугунова. — Товарищ командир, — официально доложил он Архипенко, — все нормально там. Мотор работает как часы. Никаких замечаний нет. Просто очко заиграло. То парашют влезет, а то и иголку не проткнешь. Ушел ведь, когда «шмиты» подниматься начали.
— Как же так, Чугунов?..
Архипенко даже растерялся. Такая откровенная трусость редко встречается среди летчиков. К тому же о Чугунове у всех сложилось мнение как о смелом, настойчивом человеке.
— Барахлил мотор… Не знаю, чего там было, может, вода в карбюратор попала…
На этом все и порешили. Может, в самом деле вода в карбюратор попала. Нельзя же сразу вот так менять мнение о человеке. Хоть механик и говорит, что воды в отстойнике нет, а в карбюратор, может, попала. Еще вчера…
На плацдарм
В этот день еще раз летали на задание. Королев повел четверку на прикрытие наземных войск, ворвавшихся в Кривой Рог. «Вон уже куда отмахали, больше ста километров от Днепра!» — радовались летчики. Всего какую-нибудь неделю назад они прикрывали узенькую полоску плацдарма на правом берегу реки, а сейчас не хватало горючего для прикрытия подвижных частей фронта. Да и самолетов становилось все меньше. Были и боевые потери, некоторые самолеты выходили из строя из-за порчи моторов. Моторы «Аллисон», стоявшие на «Аэрокобрах», были рассчитаны для полетов со стационарных аэродромов с бетонным покрытием. Мы же летали с полевого аэродрома, земля и песок попадали во всасывающий патрубок карбюратора, вместе с воздухом попадали в цилиндры и в маслосистему мотора. Песок разрушал подшипники коленчатого вала, о чем свидетельствовала стружка в масляных фильтрах, мотор выходил из строя.
Шли с подвесными баками. За два часа, прошедшие после вылета на сопровождение бомбардировщиков, на плацдарме, пожалуй, ничего не изменилось. Только ярче светило поднявшееся выше солнце, дымка скрыла горизонт и сделала нечеткими детали пейзажа, видимые с высоты. Но почему-то приблизились с запада дымы пожаров, сопровождавших линию фронта. Почему? Никто даже не обратил на это внимания. Война. Артиллерия бьет, авиация. Мало ли причин для пожаров в прифронтовой полосе…
Кривой Рог выплыл из дымки сразу во всей красе. Нас поразило безлюдье. Никакого движения не замечалось на улицах среди серых, закопченных каменных зданий, скученных на небольшом сравнительно пространстве, и в широко раскинувшихся вокруг этого центра и вдоль Ингульца с Саксаганью горняцких поселках. Кто в городе? Наши или немцы? На эти вопросы никто не мог ответить, у летчиков не было точной линии фронта.
Их послали прикрывать район Кривого Рога, связаться на месте с пунктом наведения. Сейчас на запросы Королева по радио никто не отвечал. Никакого пункта наведения здесь не было, или он не мог ответить. Скорее всего, наши войска еще не дошли сюда, не было обычных для линии фронта пожаров…
Какое решение мог принять Королев? Да и мог ли он принимать самостоятельное решение? Их послали прикрывать Кривой Рог. Никто не перенацелил по радио. Значит, нужно выполнять полученное задание…
Переменными курсами ходили истребители над безмолвным городом, раскинувшимся внизу. Видят ли их снизу? А если видят, то кто? Так и не разрешив этого вопроса, группа вернулась домой.
В штабе полка тоже ничего не знали о положении в районе Кривого Рога. А к вечеру на КП вызвали Архипенко и объявили, что все исправные самолеты сегодня же должны перелететь на новое место базирования, на плацдарм. Слишком уж далеко стало летать на прикрытие наземных войск…
— Здеся поступил приказ перелететь на аэродром Зеленое, — поставил задачу Федор. — От нашей эскадрильи пойдет четверка: я с Цыганом и Королев с Мариинским. Поведет нас штурман полка Овчинников (Цыганом прозвали летчика Бургонова по принципу от противного — он был светлый блондин. Волосы белые, почти как у альбиноса. Лицо тоже белое, без малейших следов загара, обычного у летчиков, проводящих большую часть жизни на аэродроме, на солнце и ветру. К этому прозвищу все привыкли, и ни в воздухе, ни на земле иначе Бургонова не называли).
— Овчинников?! — удивился Королев. — Что, мы сами не долетим?
— Видишь ли, время позднее, солнце вот-вот зайдет. Поэтому Бобров и решил послать своего заместителя ведущим.
Половина багрового диска солнца скрылась за горизонтом, когда мы с Виктором пошли на взлет. Группа сделала круг над аэродромом, собралась и пошла на новую точку.
Солнце зашло. В наступивших сумерках все наземные ориентиры неузнаваемо изменились. Серой свинцовой лентой промелькнул Днепр, а дальше все скрывалось в сгущавшейся тьме. Я впервые был в воздухе в такое время суток и не мог как следует определить, где мы пролетали. Да и что бы это дало? Я даже не знал, куда мы летим, где находится новый аэродром. Знал это, пожалуй, один ведущий. «Этот доведет. Старый волк, ночник. Из Янова вон как точно вел по маршруту…»
По времени группа уже должна была выйти на новый аэродром, но солнце закатилось, сиреневая дымка закрыла местность, поэтому ведущий сразу аэродром не обнаружил и в поисках «пропавшего» аэродрома стал делать большие круги, уводя группу довольно далеко на запад, затем возвращаясь обратно. По-южному быстро темнело. На небе появились звезды. Овчинников дал команду включить аэронавигационные огни, чтобы не растеряться в темноте. Однако летчики еще не настолько хорошо знали кабину истребителя, чтобы в темноте найти тумблер включения этих огней. Я прижался поближе к самолету Виктора и держался возле него, ориентируясь по огням, вырывающимся из выхлопных патрубков мотора. Синеватая полоса выхлопного огня в темноте сравнительно хорошо обозначала борт соседнего самолета. Правда, при малейшем увеличении расстояния этот огонь терялся из виду, и приходилось «на ощупь» отыскивать ведущего. Пришлось пристроиться вплотную, как мы давно уже не летали. Нужда заставила. Становилось все темнее. Летчики уже теряли надежду найти в темноте аэродром. Вдруг с земли вверх взметнулось сразу несколько ракет. Овчинников понял, что это обозначают аэродром, и повел группу туда. Да, это был искомый аэродром. Но как сесть в наступившей полной темноте? Стартовых огней на аэродроме не зажигали, посадочных прожекторов тоже.
Аэродром нашли, а дальше что?.. Темнота такая, что я с трудом, только по слабым голубоватым огонькам, вырывавшимся из патрубков мотора, угадывал силуэт самолета Королева, идущего совсем рядом. Исчезни эти огоньки, и я останусь один на один с непроглядной темнотой…
Да и аэродром ли это? Ни посадочных знаков, ни самолетов разглядеть нельзя. Черная яма внизу, и оттуда одна за другой взлетают сигнальные ракеты…
Наконец на черном фоне загорелся огонь, второй, третий, четвертый… Яркие пятна света расположились на одной прямой.
— Заходим на посадку! Отваливаю!
— Отваливаю…
— Отваливаю…
Четырежды разными голосами повторилось это слово. А вот и голос Виктора:
— Отваливаю… — И через несколько секунд: — Давай, Женька!
— Разворачиваюсь…
Ни меня, ни Виктора никто никогда не учил ночным полетам. Этого не предусматривала программа летных школ. Кто мог подумать, что фронтовым летчикам-истребителям, летающим только днем в простых метеоусловиях, придется садиться ночью? Ведь по фронтовым объектам ночью и в плохую погоду авиация противника почти не действовала. А если и действовала, то ловить одиночные самолеты над всей безграничной линией фронта не было возможности. Ну а крупные города, военные объекты прикрывались летчиками ПВО, ночниками.
И сейчас молодым летчикам приходилось самим, без подготовки, даже без советов со стороны осваивать технику ночного полета и посадки.
Зайти на посадку по линии огней оказалось делом несложным. Я выпустил шасси, посадочные щитки, убрал газ и начал планировать. Казалось, самолет все глубже погружается в какую-то бездонную яму и только далеко впереди светятся огни. Огни почему-то стали подниматься выше, выше, удаляться. «Далеко, подтянуть надо», — понял я и двинул вперед сектор газа. Огни как-то сразу приблизились. Первый совсем рядом. «Пора выбирать ручку на себя… Так… Еще…» Огонь мелькнул рядом с консолью, и тут же самолет мягко коснулся земли, покатился в темноту. Я нажал на тормоза. Кто знает, что там впереди? Где севшие передо мной самолеты? Ослепленный мелькавшими только что рядом с крылом огнями, я долго ничего не видел. Но вот слева загорелся огонек карманного фонарика. Кто-то махал — сюда, мол, давай заруливай. И я подрулил к огоньку, выключил мотор.
Перекликаясь, прилетевшие собрались вместе и двинулись в сторону слабо мелькавшего огонька. Подошли. Оказалось, что на этом аэродроме уже сидит полк, вооруженный самолетами «Ла-5». На огонек работавших у мотора механиков мы и подошли. Техники подсказали, в каком направлении идти, чтобы выйти к командному пункту.
На командном пункте полка «Лавочкиных» выяснилось, что прилета группы «Аэрокобр» здесь никто не ждал, но летчиков все же провели в столовую.
Ужина для нас не готовили.
— Что я могу сделать? — говорил пожилой старшина, заведующий столовой. — Видите, что творится? — В огромном зале, тесно заставленном столами, стоял невообразимый шум. — Для своих не успели ужин приготовить. Тоже под вечер прилетели только…
— Так что же, здеся, нам делать?! Не голодными же спать ложиться?! — возмутился Архипенко.
— Еще найди, где спать… — вставил Королев.
— Ночевать-то вас командир полка устроит, — снова подал голос старшина. — Вон он в углу сидит… Знаете что, — добавил он после некоторого колебания, — я скажу, чтобы и на вас ужин готовили, а вы пошлите кого-нибудь к начпроду, пусть поставит вас на довольствие… Вы же будете, наверное, фронтовые получать? Так все равно к нему идти.
— Фронтовые? Это дело, — улыбнулся Архипенко. — Давай, Виктор, бери ведомого, и валяйте!
Царство начпрода располагалось совсем рядом — через два дома.
— Хорошо, что успели, — улыбнулся начпрод, выслушав Королева. — А то мы с кладовщиком, — он кивнул на сидевшего на ящиках старшину, — закрывать уже хотели и уходить. Ни черта бы не нашли тогда. Сам не знаю, найду ли дорогу. Сегодня только приехали и все время волчком крутимся… Список на водку есть?
— Нет, мы только прилетели. Адъютантов нет, только летчики здесь…
— Н-да… Так это вы ночью садились?
— Да, мы…
— Ну, ладно. Вот бумага, пишите список. Распишитесь и получайте.
— Пиши, Женька.
Я включил в список полтора десятка первых пришедших на ум фамилий.
— На, Виктор, подпиши.
Виктор молча подписал бумажку, отдал ее начпроду. Тот посмотрел итог, перебросил список кладовщику.
— Выдай.
— Додумался же! — заговорил Виктор, как только мы вышли на улицу. — И тех, кто на старой точке остался, включил, и техников!
— Писал, что в голову приходило. Начпроду-то все равно. Он никого не знает…
В столовой мы застали только своих. Остальные успели поужинать и ушли.
— Где пропадали? Здеся остыло уже все, — недовольным тоном проворчал Архипенко.
— А закуска уже есть? Ну и ели бы, а мы бы за вас выпили, — лукаво улыбнувшись, ответил Королев.
Утро застало всех на аэродроме. Механики и передовая команда из их БАО (батальон аэродромного обслуживания) еще не приехали, и самолеты стояли не заправленные бензином. Бензин, на котором работали моторы «Лавочкиных», не подходит для «Аэрокобр». У «Лавочкиных» был Б-78, а для «Аэрокобр» требовался Б-100. Поэтому техники полка «Лавочкиных» не рискнули заправлять своим бензином «Аэрокобры».
На стоянках «Лавочкиных» кипела работа. Их полк уже начал боевую работу. Одна за другой поднимались группы «Ла-5» и уходили на запад. Вдруг со стороны переднего края донесся мощный гул авиационных моторов. По характерному подвыванию легко можно было определить, что это немецкие бомбардировщики. В кильватерной колонне шли три группы «Хейнкелей-111» по двенадцать бомбардировщиков в каждой, затем двенадцать «Юнкерсов-88», и замыкала колонну группа из двадцати четырех «Юнкер-сов-87». Истребителей прикрытия возле них не было.
Вся эта армада двигалась прямо на аэродром. «Ну, сейчас дадут жару, — подумал я. — И взлететь не на чем…»
— Взлететь бы сейчас, Витька!
— На чем?
— А успели бы набрать высоту?
— Можно успеть… Во всяком случае, целыми бы они не ушли…
— Почему же «Лавочкины» не взлетают? — Стоянки «Лавочкиных» располагались за бугром, вдоль которого тянулась взлетная полоса, и я не мог видеть, что делается в соседнем полку.
— Кому взлетать? Они все на задании…
Не доходя до границ летного поля, бомбардировщики развернулись и шли теперь параллельно посадочной полосе. Создавалось впечатление, что они хотят сбросить бомбы на стоянки полка «Лавочкиных».
Отчетливо было видно, как от передних самолетов стали отделяться черные капли и с нарастающей скоростью понеслись к земле. Один за другим «Хейнкели» освобождались от бомбового груза. Навстречу падающим с неба бомбам из-за бугра поднимались черные клубы дыма разрывов и начавшихся пожаров — оказывается, фашисты бомбили село, в котором мы провели прошедшую ночь.
И ни одного нашего истребителя в небе… Нет, есть. Появилась пара «Ла-5», вернувшаяся с задания. Что могут сделать два истребителя с израсходованным горючим, а может, и без боеприпасов против шестидесяти бомбардировщиков?!
«Лавочкины» круто спикировали на замыкающее звено «Хейнкелей», еще не сбросивших бомбы. «Та-та-та-та-та», — прозвучала очередь скорострельных пушек. Последний ведомый «Хейнкель» загорелся, накренился, у него отвалилось левое крыло, и, беспорядочно вращаясь в воздухе, он стал падать.
Над падающим бомбардировщиком раскрылись два купола парашютов. Третий немец, выпрыгнув, рано раскрыл парашют, и он зацепился за киль падавшего самолета. Так они и падали: отдельно крыло, фюзеляж с одним крылом и гитлеровец вместе с ним, описывая круги вокруг хвоста «Хейнкеля» на расстоянии длины строп парашюта. Так до самой земли…
— Видите, здеся, — заметил Архипенко, — никогда сразу не дергайте кольцо. Хоть несколько секунд подождать надо.
«Хейнкели» улетели. Их место заняли «Юнкерсы». Эти, очевидно, должны были бомбить с пикирования, но, напуганные парой «Лавочкиных», сбросили бомбы с горизонтального полета и стали уходить на запад. «Лавочкины» их не преследовали. Кожедуб (это был он, как через полчаса узнали летчики) со своим ведомым тут же на последних каплях бензина произвели посадку. Буквально через две минуты над аэродромом появилась и разошлась на посадку четверка истребителей. Это, продолжая перебазирование, так неудачно начатое вчера, привел группу третьей эскадрильи Бекашонок.
— Минут на пять бы раньше прилетели… Как раз попали бы на бомберов, — вздохнул Виктор.
Одна за другой с интервалами пять-десять минут прилетели и остальные группы, а вслед за ними прибыл и наземный эшелон. Полк снова был в сборе. На прежней площадке осталось только несколько неисправных машин. Среди них почему-то оказался и самолет Чугунова.
— Что с самолетом? — спросил Архипенко Черкашина.
— Не знаю, я выехал раньше. Он должен был лететь.
Прилетевшие летчики рассказали, что Чугунов действительно взлетел, немного прошел с ними, но потом вернулся на старый аэродром.
Вы свое дело сделали…
Летать в этот день так и не пришлось: обслуживающий батальон подвез горючего, которого едва хватило дозаправить перелетевшие самолеты. Зато полк «Лавочкиных» работал с огромным напряжением. Одна за другой взлетали и уходили на задание группы. Они возвращались, заправлялись и снова улетали…
Только вечером, когда все собрались у стога соломы, заменявшего пока командный пункт полка, — землянку для него только начали рыть, — стала ясной причина напряженности. Оказывается, фашисты ввели в действие несколько свежих пехотных и танковых дивизий. Еще вчера, 28 октября, утром они контратаковали наши войска. Контратаки противника поддерживались активными действиями бомбардировочной авиации. Попытка же наступления наших войск в районе Нового Стародуба пока успеха не имела. Создавалась угроза, что противнику удастся отрезать часть клина нашего плацдарма. Танки противника могли выйти на оперативный простор и разгромить наши тыловые части на плацдарме.
— Так что, — закончил Бобров, — сейчас поедем в деревню, где для нас все приготовили, но спать придется не раздеваясь. Говорят, немецкие танки прорвались в районе Покровки. В случае чего ночью улетим на старую точку. Там все время будут дежурить, выложат ночной старт. Кто не летал ночью, должен перелететь Днепр, набрать высоту и покинуть самолет с парашютом.
— Если такое положение, то почему не улетели засветло? — спросил я Виктора, когда мы усаживались в машину. — До Покровки километров тридцать только, и дорога хорошая. Танки за час здесь будут…
— Черт его знает… Не так страшно, значит, как он говорит. Начальство не стало бы рисковать… Соседи вон, видишь, тоже сидят, не улетают. А ведь на «Лавочкиных» и взлететь ночью и сесть намного труднее, чем на нашей «Бэллочке».
Как бы там ни было, а отдых был испорчен. Никому не хотелось, чтобы их застали врасплох, и летчики не столько спали, сколько прислушивались к шуму моторов в темени ночи… Погода резко изменилась. Вместо высокого крылом звездного неба утро преподнесло летчикам низкие облака, несущиеся над самой землей. Молча, без песен ехали на аэродром в своей «Антилопе». Все напряженно прислушивались к звукам, доносящимся из степи. Но что можно было услышать сквозь натужное подвывание мотора и дребезжание разбитой на проселочных дорогах машины?
Стоянки встретили ревом моторов — механики готовили самолеты к вылету. Они, оказывается, ночью тоже не отдыхали, а по очереди прогревали моторы самолетов, чтобы держать их в постоянной готовности к внезапному вылету. Точно обстановку никто не знал, и это еще больше усиливало напряженность. Механики откровенно завидовали летчикам.
— В случае чего вы и в такую погоду улетите, а нам пешком от танков не уйти…
— Товарищ командир, самолет к полетам готов! — доложил Волков, когда я подошел к своей стоянке.
— Хорошо. Погода только сегодня вроде нелетная… А винтовки почему здесь лежат? — поинтересовался я, показывая на оружие, сложенное на куче чехлов.
— А, это наши жены, ружья заряжены… Всю ночь в обнимку с ними спали.
— Что-то не замечал, чтобы вы очень любили своих «жен». Особенно Карпушкин, — намекнул я на случай, когда Карпушкин даже в караул пришел без винтовки.
— Так то ж когда было! — улыбнулся Карпушкин. — А тут, говорят, немцы прорвались.
— Я и для вас, товарищ командир, патронов припас, — добавил Волков. — Достань, Сергей.
Карпушкин порылся под чертыхнулся и вытащил черную картонную коробку.
— Здесь триста патронов, — сказал он, протягивая коробку.
— Откуда столько?!
— А тут мимо автоматчики проходили. Отдали, чтобы лишний груз не тащить. Вот мы и взяли. — Патроны автомата «ППШ» были точно такие же, как и у пистолета «ТТ».
— Лишний груз?
Я еще слишком мало был на фронте и не мог себе представить, чтобы солдаты делали подарки, по триста патронов. Привык к условиям, когда за каждый израсходованный патрон нужно отчитываться, сдавать стреляную гильзу. Однако дебаты на эту тему продолжить не пришлось.
— Товарищ командир! — издали закричала Галя Бурмакова, высокая, крепко сбитая смуглянка, мастер по вооружению из нашего экипажа. — Вас Королев на КП зовет!
— Что там?
— Не знаю. Вылет, что ли…
Я побежал к командному пункту полка.
— Ну, Женька, сейчас пойдем на штурмовку. Ты ж еще в Карловке хотел. Вот и попробуешь!
— Куда пойдем?
— Сюда, — Королев показал на карте довольно большой район. — Что найдем, то и будем штурмовать.
Вообще говоря, предполагался полет на «свободную охоту», только штурмовать нужно было не одиночные цели, а хорошо защищенные зенитными средствами скопления танков и автомашин.
Вылетели парой — для большой группы была слишком низкая облачность и плохая видимость. Шли прямо на юг, в сторону Кривого Рога. Под крылом мелькали заросли бурьяна, небольшие лесные посадки. «Как тут ориентироваться? Ничего рассмотреть не успеешь…» Я впервые — почти все, что делал на фронте, для меня было впервые — летел на малой высоте. Однако, к своему удивлению, успел заметить, когда пролетали Искровку, Недай-Воду. Потом повернули на запад и наткнулись на дорогу, по которой шла колонна автомашин.
— Штурмуем! — передал Виктор и зашел под небольшим углом к колонне.
Мы не пикировали — слишком мала высота, а полого снижались. Метрах в трехстах впереди себя я видел самолет ведущего, а дальше — машины, машины. Одну из них поймал в прицел. Там она проектировалась маленькой черточкой. Черточка росла, увеличивалась в объеме, и вскоре стало отчетливо видно, что это большой крытый грузовик.
— Выводим! — послышался голос Королева.
— Сейчас… — Я нажал гашетку, удостоверился, что пули и снаряды прошили цель, и стал выводить из планирования. Сначала показалось, что снаряды были выпущены впустую: машина, которую я только что обстрелял, продолжала катить по дороге. Но тут откуда-то из-под ее кабины вырвался густой черный дым, брызнуло пламя, машина вильнула в сторону и свалилась в кювет. Есть одна!.. Впереди горела и вторая, подожженная Королевым.
— Пристраивайся! Пойдем дальше!
И снова под крылом мелькает черно-серая степь, изрезанная оврагами. Выскочили на какое-то село.
— Гуровка! — передал Виктор. — Разворот на сто восемьдесят!
Сразу же после разворота мы наткнулись на большое скопление автомашин и танков. Королев с ходу открыл огонь. Загорелась автоцистерна, я увидел, как фугасный снаряд разнес полевую кухню, видимо, оставив фрицев без обеда. Пока он планировал, ни одного выстрела не раздалось снизу, но стоило ему выйти из атаки, как земля ожила. Десятки огненных трасс потянулись к низким облакам, к «ястребку».
«А, сволочи!» — я стал бить по зенитным точкам фашистов! Огонь с земли прекратился. В то время как ведущий скрылся в облаках, я перенес огонь на машины. Неточно прицеливаясь, я все стрелял, пока понял, что высоты не осталось и надо выводить машину.
«Хорошо!» — я тоже вывел самолет из планирования и моментально очутился в огненном мешке. Справа, слева, впереди, сзади — всюду проносились сотни красных огненных шариков. Отчетливо послышались пощелкивания пуль, дырявивших фюзеляж и плоскости. «Маневрировать нужно…» — я слышал, что бомбардировщики делают противозенитный маневр — меняют курс и высоту полета, и не подумал даже, что на этой высоте, когда зенитчики бьют прямо в хвост, отворачивая самолет, я только увеличиваю площадь цели для гитлеровцев.
Виктор видел, как вокруг его самолета понеслись фашистские пули и снаряды. Потом обстрел неожиданно прекратился. Он подумал, что уже, наверное, вышел из зоны обстрела, и стал разворачиваться, следя одновременно за своим ведомым. В сплошном море огня я выходил из атаки, начал разворачиваться.
— Что ты делаешь?! Не подставляй всю площадь! — Я не отозвался.
— Делаем еще заход!..
Королев почему-то ничего не передавал. На развороте я снова пристроился к нему. Виктор строил маневр для повторной атаки. «Ага, атакуем еще…» И снова немцы обстреливали самолет Виктора, пока не открыл огонь я…
Обстрел прекратился неожиданно быстро. «Что-то не то», — Королев оглянулся. Я штурмовал зенитки.
— Молодец! — крикнул Виктор по радио своему ведомому. — Так их, по зенитным точкам бей!
Я снова не отозвался. Начал выходить из атаки, и с земли опять потянулись огненные трассы. Зенитчики били по обоим самолетам сразу. «Так и сбить могут!..» — Виктор рванул ручку управления на себя и ушел в облака. Буквально через десяток секунд он вышел вниз. Зенитный огонь прекратился. За дымкой уже не видно было скопления танков и машин.
— Пристраивайся, Женька, пойдем домой!
Молчание.
Королев оглянулся. Ведомого нигде не было. Черно-серая степь внизу, свинцовые облака вверху, и никого в воздухе.
— Женька! Где ты находишься?
Ответом был только шорох разрядов в наушниках…
Сквозь частую красную сетку зенитных трасс я шел за Королевым. Сейчас и Виктор был не в лучшем положении: такой же огонь окружал и его самолет. Но вот он рванулся вверх, скрылся в облаках. Что с ним? Ранен?
Зенитный огонь утих.
— Витька! Выходи из облаков! Молчание.
«Не сбили же его, упал бы… Вверх не падают…» — я оглянулся вокруг, страшась увидеть громадный костер разбившегося самолета. Черно-серая степь оставалась пустынной. К свинцовому цвету облаков не примешивался черный траур горящего авиационного бензина и масла.
— Королев! Тебя не вижу. Где находишься?
Молчание.
«Нужно идти домой… Отсюда курс градусов двадцать должен быть… — я посмотрел на компас. Стрелка показывала девяносто градусов. — Так, развернемся влево…» Однако стрелка никак не реагировала на разворот самолета. Я сделал полный вираж, а стрелка так и показывала все время на девяносто. «Куда же идти? Хоть бы солнце выглянуло…» Свинцовый полог надежно скрывал дневное светило, и определить по нему, где юг, а где север, не было возможности.
Я беспомощно оглянулся вокруг. «Положеньице… Самолет целый, а куда лететь, не знаю. Так и упадешь. Еще на чьей территории падать придется… Что это там?» В серой дымке что-то промелькнуло и исчезло. «Может, Виктор?» Я развернулся и пошел в направлении мелькнувшего самолета. «Нет, не Виктор…» Это работала пара «горбатых», как называли штурмовики «Ил-2». «Ничего, когда-нибудь пойдут же они домой… И меня доведут». А пока я решил помочь «горбатым» штурмовать. Но «Илы» не приняли меня в свою компанию. Стрелки «горбатых» открыли по мне бешеный огонь. «Этого еще мне не хватало! Немцы не сбили, так эти запросто срубят!» Я отвалил в сторону. «Сколько они еще будут работать? Может, только пришли, а у меня бензин кончается… Постой, они же, наверное, выходят из атаки в сторону своей территории!» Так это или нет, я не знал точно, но выбора не было, и я пошел в том направлении, куда выходили из атак штурмовики.
Путь пролегал вдоль какой-то речушки. На ее берегу показалось село. Какое? Кто там? По улице шло до взвода солдат. Я снизился до бреющего. «Немцы! — определил по цвету шинелей. — Не в ту сторону, наверное, иду…» Все же я решил идти прежним курсом. Если он неверный, то скоро должен показаться Кривой Рог: «Здесь все речки к Кривому Рогу идут».
Вместо Кривого Рога впереди показался аэродром…
— Что ж ты по радио не отвечал? Тут уже думали, что не вернешься. Обстрел-то приличный был. Понял теперь, что такое штурмовка? — Королев искренне обрадовался моему возвращению и сейчас говорил, не давая мне и слова сказать.
В моем самолете насчитали шестнадцать пробоин. Были разбиты приемник и передатчик, компас, несколько пуль (как только не загорелся?) попало в бензобак…
— На чем же мне летать теперь? Пока баки сменят… — спросил я подошедшего Архипенко.
— Может, Чугунов сегодня прилетит. Возьмешь его машину. Я сейчас быстренько схожу на КП, узнаю.
— Даст он мне свою машину, как же!..
— А я его, здеся, спрашивать не буду. Ну, я пошел, — и Архипенко направился к командному пункту своей стремительной, казалось, даже семенящей, походкой.
Волков уже начал ремонт самолета. Ему помогали и Ананьев, и Карпушкин, и Бурмакова.
— Ну как, Николай, долго провозитесь? Волков обиделся на нечаянно вырвавшееся у командира экипажа слово «провозитесь», но не подал виду.
— Кто ж его знает… Будут баки, то завтра к вечеру закончим.
— Разве их нет?
— Не привезли еще из Козельщины.
— Так, наверное, и с этими летать можно. Не текут.
— Нельзя… Протектор пока затянул пробоины. Только он растворяется потихоньку в бензине, слизь получается. Забьет фильтры, и мотор обрежет. Хорошо, если на земле. А в воздухе, в бою? Нельзя…
— Ну ладно. Давайте помогу вам. Что делать нужно?
— Что делать? Вы свое дело сделали… — Николай показал на пробоины.
— Что я, виноват, что ли?! — в свою очередь обиделся я.
Механик смутился.
— Да нет, что вы… Вы только летали, отдохнуть надо… А это наше дело, ремонтировать… И помощников у меня хватает. Всегда бы столько было. Мне только командовать осталось! Даже Галка работает.
— Ну, братцы, новостей, здеся, целая куча, — заговорил Архипенко, присаживаясь к костру.
— Прилетит Чугунов сегодня? — спросил я. Меня больше всего волновал вопрос, будет ли у меня самолет.
— Чугунов? — переспросил Архипенко с таким видом, будто с трудом вспомнил, зачем он ходил на КП. — Чугунов не прилетит. Он разбил машину.
— Как?!
— Как бьют машины? Умненько разбил. Облетывал сегодня утром, сел на вынужденную в какие-то ямы. В общем, от самолета щепки остались.
— А сам?
— Целый…
* * *
Прошло несколько дней. Напряженные бои на плацдарме продолжались, но авиация обеих сторон бездействовала: низкая облачность, дожди и туманы не давали возможности подняться в воздух. Такая погода при угрожающей неопределенности на фронте угнетающе действовала на летчиков. Все так же они прислушивались к шуму моторов в степи…
Внизу — передний край
Все в мире преходяще.
Прошла и напряженность на плацдарме. Наземные войска остановили контрнаступление фашистов. Больше двадцати километров им нигде не удалось продвинуться.
Понемногу улучшалась погода, и у летчиков опять началась работа — в воздухе частенько появлялись одиночные фашистские бомбардировщики. Они обычно шли в облаках, выходили вниз на короткое время, сбрасывали бомбы и снова уходили в облака. Поймать их было затруднительно, но истребители поднимались и не теряли надежды на встречу…
Шли на высоте четыреста метров. Совсем рядом, метров на десять выше, простирался ровный пласт густых, как сметана, облаков. Нас подняли по шуму мотора, донесшемуся из облаков, — над аэродромом прошел «Юнкерс». Где он сейчас? Попробуй найди! С земли приказали продолжать патрулирование, и мы пошли на запад, поближе к линии фронта. «Черта с два тут увидишь, — подумал я, поглядывая вокруг. — Не такие они дураки, чтобы ждать, пока их поймают.
Сбросят — и снова в облака. Вниз они не пойдут…» Я посмотрел вниз, на землю. Там километрах в полутора от нас в черной осенней степи что-то блеснуло в нескольких местах и потухло, а вокруг этих вспышек сразу же образовались белые и черные концентрические круги. «Как в учебниках звуковые волны рисуют… Да это же бомбы взорвались!»
— Виктор, слева видел разрывы бомб?
— Видел… Какой-то «ас» даже из облаков не вышел, бросил в божий свет как в копеечку, — ответил Королев и внезапно скомандовал: — Разворот вправо!.
Королев развернулся градусов на тридцать вправо. «Что он там увидел?!» — удивился я. Воздушное пространство впереди было так же пустынно, как и вокруг Виктор продолжал маневрировать, подворачивать самолет то вправо, то влево, подошел к самым облакам. И тут я увидел, что метрах в двадцати впереди носа самолета Виктора из облаков торчат… «лапти»! Шасси «Юнкерса», как приклеенные к нижней кромке облаков, висели в воздухе. Но облака были настолько плотные, что сам бомбардировщик не просматривался. Только сзади «лаптей» ровный слой облаков взвихривался, колебался… Естественно, и фашист не видел землю, думал, что он неуязвимый идет в облаках…
Виктор закончил маневрировать, приподнял нос своего самолета. В прицеле чуть ниже центральной марки висели ноги «Юнкерса». Сама центральная марка смотрела в облака. Там, за их тоненьким слоем, должен быть фюзеляж бомбардировщика… Виктор нажал гашетку. Красные ленты трасс вырвались из носа его самолета и тут же исчезли в ровном светло-сером слое. Вслед за трассой вверху исчезли и ноги «Юнкерса», а самого Виктора прилично-таки тряхнуло воздушной волной.
«Ушел, сволочь!» — со злостью подумал Виктор, отдавая ручку от себя: ему вовсе не хотелось испытать «прелесть» столкновения с бомбардировщиком в облаках.
— Отворачивай, Витька! — крикнул я. Виктор рванул «ястребок» влево и в тот же миг увидел, как совсем рядом из облачности вывалился «Юнкерс».
За какие-то доли секунды «Юнкерс» успел перевернуться на спину и сейчас с отрицательным углом пикировал к земле, а за ним тянулась слегка изогнутая полоса черного дыма. Эта зыбкая полоса как бы отмечала последний путь гитлеровцев.
Это действительно был их последний путь. Сколько ни смотрели летчики, парашютистов они так и не обнаружили.
— Теперь-то можно и домой идти! — передал Виктор.
— Хорошо, что я всегда привязываюсь плечевыми ремнями и стопорю их. А то бы… — донеслось из-за закрытой двери.
Первым, кого мы увидели, спустившись в землянку, был Чугунов. Освещенный с одной стороны тусклым серым светом, проникавшим сквозь маленькое окошко, а с другой — красными отблесками огня из железной бочки, поставленной на-попа и заменявшей печку, он размахивал руками и с увлечением рассказывал о своей вынужденной посадке.
— Привязывайся!.. Так и посмотреть назад не сможешь, не увидишь, кто и когда собьет. И садиться-то не придется!
— Зачем же тогда эти ремни сделаны, если не привязываться?
— Для спроса… Ты лучше скажи, почему садился не на аэродром, а в эти ямы? — вместо ответа спросил его Архипенко.
По докладу механика, приехавшего два дня назад, когда положение на плацдарме еще не было таким определенным, он знал, что Чугунов вполне мог сесть на аэродром, но почему-то отвернул в противоположную сторону. Кроме того, все механики, наблюдавшие за полетом с земли, в один голос заявляли о хорошей работе мотора. Так что и причины для вынужденной посадки вроде не было. Однако инженеры были уже на новом месте базирования, посылать специальную комиссию для выяснения причин не было возможности, и самолет просто списали…
— Куда ж еще мне было садиться? До аэродрома бы не дотянул, а эта площадка сверху показалась ровной…
— Давай, Женька, готовься. Сейчас вылет будет. Пойдем восьмеркой на прикрытие, — сказал Виктор, подходя к самолету моему. — Вон идут уже все.
Из землянки выходили летчики во главе с командиром эскадрильи.
— Королев, давайте быстренько по самолетам! Сейчас полетим! — закричал Архипенко издали.
Взлетели звеньями и сразу пошли в район прикрытия — высота облачности была всего восемьсот метров, и терять время на набор не приходилось. Я чувствовал себя спокойно. Идет восемь истребителей. Это же сила! Я не летал в составе такой большой группы, и мне казалось, что больших групп истребителей и не бывает. Прошли и те времена, когда они расходились по парам и теряли друг друга из виду. Ежедневно проводились разборы полетов и воздушных боев, и всем стало ясно, что для хорошего взаимодействия необходимо группу держать в кулаке, выделяя часть сил для прикрытия основной ударной группы. Такая группа должна идти в стороне и с превышением не менее шестисот метров, чтобы в случае необходимости, набрав скорость на пикировании, нанести решающий удар во время воздушного боя. Сейчас, при низкой облачности, выделение такой группы было невозможным.
Недолго продолжались мои размышления по этому поводу. Впереди, еще на нашей территории, показались вражеские самолеты. Двадцать «Ме-109» встречали нас на подходе к цели. Они, видимо, пришли на расчистку воздуха, чтобы обеспечить безнаказанность действий своих бомбардировщиков.
— Атакуем! — передал Архипенко, и вся восьмерка врезалась в строй «Мессеров».
Началась настоящая свалка. Стесненные с одной стороны облачностью, а с другой — землей, истребители кружились в небольшом замкнутом пространстве. «Мессеры» сначала действовали нахально. Как же! Их двадцать против восьми! Они даже бравировали своим мастерством. Вот один из них зашел в хвост «ястребку» Лусто и, перед тем как стрелять, перевернул самолет на спину. Я, мол, и с перевернутого положения собью этого Ивана! Но очередь, выпущенная Королевым, положила конец ухарству фашиста. Так, в перевернутом положении, он и падал до самой земли.
Я не мог сам атаковать. Ведомый должен прикрыть своего ведущего, обеспечить Королеву безопасность маневра…
Впервые я участвовал в таком жарком воздушном бою. Даже при сопровождении «пешек» было легче. Тогда «шмиты» лезли снизу. Их было относительно меньше, если брать по количеству наших истребителей. А главное, тогда воздушный бой велся в гораздо большем пространстве по вертикали и горизонтали.
Я следил за всеми самолетами, вертел головой на триста шестьдесят градусов, как любили говорить летчики. «Хорошо, что меховую куртку снял перед вылетом, не повернуться бы…» — мелькнула где-то в подсознании и тут же исчезла мысль. Намокший от пота воротничок гимнастерки резал шею, и я рванул его, обрывая пуговицы.
— Витька! «Худой» справа!
Королев рванул свой «ястребок» влево. С концов плоскостей срывались полотнища сжатого маневром воздуха. Но и «Мессер» не хотел отставать. Он тоже потянул ручку так, что белые полотнища сжатого воздуха стали срываться не только с концов плоскостей, но и со стабилизатора. «Ну и-ди, и-ди…» — бормотал я, вынося центральную марку прицела так, чтобы она легла перед носом «Мессера». «Так…» — И нажал гашетку. Огненные струи полоснули воздух впереди фашиста, ударили по самолету.
— Женька! «Шмит» в хвосте! Предупрежденный Королевым, я рванулся в сторону. Мимо пронесся шквал огня, выпущенного фашистским истребителем.
И снова все сначала… Сначала? Нет. Фашисты как-то быстро потеряли охоту драться, стали уходить в облака, в сторону от поля боя. И вскоре только восемь краснозвездных «ястребков» остались над передним краем. Только они? Нет! Внизу — передний край. Наши войска ведут наступление, и обязательно должны прийти фашистские бомбардировщики. «Шмиты» ведь не просто так приходили…
— Федор! С юга идут «Юнкерсы»! — раздался в наушниках голос Виктора.
— Вижу, — отозвался Архипенко. — Прикрывай, Королев, атакуем! — и повел свою четверку в атаку на бомбардировщиков.
«Ю-87» шли почти под самыми облаками. Сначала всем показалось, что прикрытия возле них нет. Так подумал и Королев.
— Внимание! Атакуем сзади! — передал он по радио и развернулся для атаки.
В тот же момент я увидел четырех устремившихся к ним «худых». А сзади шли еще два «Фоккера».
— Виктор, «шмиты»!
— Уходим в облака! — быстро сориентировался Королев: выходить из-под атаки противника больше было некуда. Обязательно попали бы под огонь стрелков с бомбардировщиков.
Я взял ручку на себя и тут же оказался в непроницаемом молоке. Мне никогда не приходилось летать по приборам и только теоретически, по занятиям в училище я знал, как это делается. Поэтому, пройдя несколько секунд в облаках и испугавшись потери ориентировки с последующим сваливанием, отдал ручку от себя и выскочил вниз. Прямо подо мной шли бомбардировщики, а один из них — ведущий группы — закрыл собой не только прицел, но и все переднее стекло фонаря кабины. От всех «Юнкерсов» ко мне потянулись дымные нити трасс. Я тоже нажал гашетку, увидел, что вся очередь вошла в темную серо-зеленую тушу «Юнкерса», и взял ручку на себя, уходя от огня стрелков.
Когда я снова вывалился из облаков, «Юнкерсов» подо мной не было. Они поодиночке уходили обратно на юг.
— Давай пристраивайся! — услышал я голос Виктора и увидел, как тот качает самолет с крыла на крыло, показывая: вот, мол, где я.
Они еще некоторое время гонялись за одиночными «Юнкерсами», но те не подпускали близко к себе истребителей, загодя уходили в облака.
Семь «ястребков» собрались и пошли домой после боя. Где-то там, на линии фронта, остался восьмой, ведомый Архипенко Николай Бургонов. На аэродроме он обычно молча сидел у костра или у открытой дверцы печки и изредка грустно улыбался, слушая рассказы летчиков.
Что случилось, я не знал. После боя с «Мессерами» все были на месте. Потом короткий бой с бомбардировщиками, проходивший в основном за линией фронта, недалеко от передовой. Я еще радовался, что фашисты бросают бомбы на свои же войска. А если Цыгану пришлось там садиться? Ему тогда отомстят за все…
Уже на земле Архипенко рассказал, что они с Цыганом с первой атаки сбили по одному «Юнкерсу».
Потом «лаптежники» рассыпались по одному. Он видел, как Бургонов погнался за вторым «Юнкерсом», подошел вплотную, но внезапно скрылся в облаках, а оттуда вывалились только обломки его истребителя. Больше он ничего не видел…
В этот день за четыре часа, с двенадцати до четырех часов дня, полк провел четыре воздушных боя и сбил двадцать фашистских самолетов. Но радость такой крупной победы омрачалась гибелью Цыгана, которого все любили в полку…
Случилось что-то неправдоподобное. Летчики забрались в кузов трехтонки, чтобы ехать домой («Антилопа Гну» к этому времени уже отслужила свой срок и развалилась на ходу), и обнаружили, что вместе с ними в кузове сидит и Цыган!
— Цыган!
— Откуда взялся?!
— Цыган пришел!
Его награждали дружескими тумаками под бока, по спине, расспрашивали, перебивая друг друга и не давая Бургонову слова сказать. А он молчал, смущенно улыбаясь.
Оказывается, когда он пристроился к «Юнкерсу» и уже собирался нажать на гашетки, наша зенитка прямым попаданием отбила ему хвост. Неуправляемый обрубок самолета задрал нос и, скрывшись в облаках, начал беспорядочно кувыркаться. Там Цыган с большим трудом сбросил дверцу кабины и вывалился из нее, раскрыл парашют. Архипенко видел падение обломков самолета, а Цыган в это время был еще в облаках…
Вышел из облачности он над немецкой передовой. Его обстреливали с земли, не попали. Хорошо, ветерок дул в нашу сторону. Опустился на нейтральной. Снова обстреливали. Даже «Тигр» выполз из-за бугра, стрелял болванками (бронебойными снарядами). Тогда Цыган понял, что его выдает купол парашюта, отчетливо выделявшийся на черном фоне.
Отполз в сторону. А тут подползли два наших солдата, утащили в окоп…
— Вот и все… — закончил Бургонов.
— Так ты что, и на КП не был? — спросил Гулаев. — Там же передали в дивизию…
— Когда заходить? Смотрю, все на машину полезли. Уедут, думаю, без меня. И сам полез. Пешком не больно хочется переться. Находился сегодня…
Это был обед и ужин сразу. Днем обедать на аэродроме ни у кого не было времени. Сейчас летчики прямо с машины, не заходя домой, ввалились в столовую. Никогда еще сюда не набивалось одновременно столько народу. Шум, гам, толкотня за столами не могли омрачить настроения. Везде все жестикулировали, рассказывали эпизоды проведенных воздушных боев. Героями дня были Бургонов и Галушков, пострадавшие в сегодняшних боях. Бургонов прыгнул с парашютом, а Галушкову в левую бровь впился небольшой осколок плексигласа от разбитого пулей фонаря кабины.
Только лицо Чугунова выпадало из общей гармонии. Мрачный, он сидел в углу на своем обычном месте, которое занял еще до приезда летчиков с аэродрома. Ему, как не летавшему, не дали боевых ста граммов, и он недовольно бурчал про себя.
— Нашли чем хвастаться!.. Я бы полетел! Орденов теперь нахватают! Подумаешь!.. Я им покажу!..
Кому и что покажет, он не уточнял. Просто увидел, что воевать можно и без потерь, что это, казалось ему сегодня, дело несложное —вылетай и складывай в мешок сбитые немецкие самолеты, получай ордена. Он не рисковал высказывать свои мысли во всеуслышание, шептал все себе под нос. Однако Виктор, сидевший против него, услышал и громко спросил меня:
— Ты доложил, сколько сбил сегодня?
— Ничего.
— Почему? Ты ж говорил, что в «худого» очередь всадил и в «лаптя»!
— Так я же не видел, куда они упали. А может, и не упали вовсе.
— Ерунда. Про «шмита» не знаю, все-таки издали бил, может, пули только попали. А в «Юнкерса», говоришь, вся очередь вошла?
— Куда же ей деться? Он загородил все перед самолетом. Ни одна пуля мимо не могла пролететь.
— И ты боишься, что не сбил?! Одного нашего снаряда хватит, чтобы завалить его, а тут целая очередь!
— Ладно… Теперь уже поздно думать. Сбил, не сбил. Не видел я, как падал. А не видел, так вроде и не сбил… В подтверждениях от наземных войск будет указано, сколько, каких самолетов и в какое время упало. Разберемся тогда…
Начали подавать первое. По столовой разнесся аромат наваристого украинского борща. Он и в самом деле оказался хорошим — впервые за все время после перелета на Правобережную Украину. Или, может, летчики просто проголодались? Ведь сегодня они крепко поработали и не пообедали вовремя. Вообще-то кормили здесь довольно плохо. У местного населения ничего не было: все забрали фашисты, а подвоз через переправы был затруднительным. Технический же состав вообще питался «на подножном корму» — собирали в полях остатки кукурузы и свеклы. Изредка кому-то удавалось подстрелись из винтовки зайца, которых расплодилось великое множество, но попасть в которого было ой как не просто.
Во всяком случае, все с удовольствием загремели ложками. Только Чугунов недовольно повернулся к раскрасневшейся от духоты, от шума и общего веселья улыбающейся официантке.
— Сколько раз я говорил, чтобы первое мне подавали с косточкой! Забываться стали?!
Официантка молча, все с той же веселой улыбкой взяла у него тарелку, но смех в ее глазах пропал. Вместо смеха там показались две злые искорки — опять, мол, этот бездельник кочевряжится. Минут пять ее не было.
— Заведующий! Почему мне не подают?! — не выдержал Чугунов.
— Сейчас, сейчас! — донеслось из кухни, и в дверях показалась официантка. Она раскраснелась еще больше, стала чуть ли не малиновой, закусила губу, чтобы не расхохотаться. В вытянутых руках она торжественно несла тарелку, поперек которой, выступая сантиметров по пятнадцать с обеих сторон, лежала кость от коровьей ноги.
— П-п-по-жалуйста! — еле выговорила она, поставила тарелку перед Чугуновым и закрыла рот передником.
Летчики, притихшие было при ее появлении в дверях, так и покатились от хохота.
Чугунов несколько секунд молча смотрел на тарелку, на кость, побледнел и резко вскочил с дрожащими от бешенства губами и сжатыми кулаками.
— Эт-то что?! Издеваетесь?! — Глаза его метали молнии, казалось, он сейчас бросится на официантку и изобьет ее до полусмерти, и только стол мешает ему выполнить свое намерение. — Я в-вам покажу! — Он даже заикаться стал от злости. — Я, я, я!..
Он не находил больше слов, хотел выскочить из-за стола и затеять драку с офицанткой, но летчики не пускали его.
— Садись, Чугунов, ешь!
— Косточка какая хорошая! На десяток барбосов хватило бы.
— Вот угодили!
— Это по блату ему дали! Все время здесь в столовой отирается.
Кое-как он выбрался из-за стола и пулей выскочил в дверь — а вслед еще долго неслось:
— Косточку-то прихвати! На неделю хватит глодать!
— Под машину подложишь, раздавишь, а там — мозг!
— Косточку возьми!..
У меня нового ничего нет
— Со мной, Чугунов, пойдешь, — объявил Архипенко на следующий день, — Цыгану отдохнуть нужно сегодня. Только, здеся, смотри, в случае чего сам собью.
— Да что вы?! — как будто искренне возмутился Чугунов. — Зубами держаться буду!
Но шел снег, вылетов не было, и день тянулся в томительном ожидании. Это однообразие нарушилось только приходом на аэродром Ивана Гурова, сбитого почти два месяца назад 21 октября…
А с самого утра 17 декабря на безоблачном морозном небе засияло солнце и аэродром снова ожил.
— Ну, Чугунов, готовься, — сказал Архипенко, появляясь в землянке эскадрильи. — Вылет через два часа. Ты, Цыган, отдохни пока, здеся.
— Какой отдых? У меня все нормально!
— Ладно, один вылет слетает Чугунов, а там посмотрим. Если все в ажуре будет, то Чугунов у меня ведомым останется, а ты пару водить будешь. Пора уже…
Чугунов убежал на стоянку принимать самолет. Он дотошно заглядывал во все лючки, проверял заправку самолета и даже заставил еще раз опробовать мотор.
— Зачем гонять лишний раз? Мы и так за ночь по четыре раза вставали прогревать моторы да вот полчаса назад еще опробовали… — убеждал его механик.
В БАО не было средств подогрева, и с наступлением холодов механикам приходилось вставать по нескольку раз за ночь и прогревать моторы. Только так можно было держать самолеты в боевой готовности, предохранить от замерзания систему охлаждающей жидкости. Уставшие, не выспавшиеся, с синими кругами под глазами, механики добросовестно выполняли свою работу. Требовать от них большего было, пожалуй, жестокостью. Кроме того, работа моторов на земле уменьшала моторесурс и вообще не рекомендовалась из-за плохого охлаждения водо — и маслорадиаторов. Но Чугунов дорвался до власти, и спорить с ним было бесполезно.
— Разговорчики! Выполняйте то, что вам приказано!
Пока запускали и опробовали мотор, вернулась с задания вторая эскадрилья. Летчики снова вели бой, и на этот раз не совсем удачный: сбили три фашистских самолета, но и своих потеряли два. В бою были сбиты Фомин и Ремез…
Когда подошло время вылета, Чугунова на стоянке не оказалось. Искали всюду, посылали на КП полка, но его и след простыл.
— А, чертов Эней, — повторил Архипенко выражение Королева. — Услышал, что двое не вернулись, и в кусты! Медвежью болезнь, видать, подхватил.
Говоря так, Архипенко и не подозревал, что невольно сказал правду. Чугунов действительно забрался подальше в кусты, принял позу деда Щукаря, в которой тот пребывал длительное время, объевшись мяса прирезанной телушки, и выглядывал оттуда, ожидая, пока вылетит эскадрилья.
Архипенко в который раз осмотрел стоянку, все еще надеясь на появление Чугунова, плюнул и повернулся к Бургонову, шедшему следом за ним:
— Придется, Цыган, тебе идти…
— А я и иду…
Потом Чугунов доказывал, что у него схватило живот, и, хоть никто с ним не спорил — все устали после боя, — долго продолжал оправдываться.
— Да и вообще я думал, — закончил он, — что вы меня не возьмете. Такие бои идут! Если бы боя не было…
— А боев-то не было бы, так на кой черт ты, Эней, нужен там?! Тогда и летать незачем! — возмутился Королев. — Тебе бы летать на прогулку к линии фронта и обратно и ордена загребать! — вспомнил он позавчерашний ужин.
* * *
Загребать ордена… Когда-то, еще в летном училище и в запасном полку, я мечтал получить орден Красного Знамени. Сейчас мои желания гораздо скромнее. Сбить бы хоть одного «лаптежника»!.. Тогда можно считать, что не зря находишься на фронте. Почему именно «Ю-87»? Просто мне казалось, что этого «Юнкерса» легче всего сбить.
Я вовсе не думал о смерти, но считал, что к ней нужно быть готовым, а прикрытие ведущего еще не оправдывает его пребывания на фронте. Королев при мне сбил три самолета. Так это Королев! Самому бы… А пока это «самому» не удавалось. После того как 15 декабря 2-й Украинский фронт соединился с Черкасской группировкой войск, были освобождены Черкассы, Чигирин, Знаменка, Александрия и Новая Прага, линия фронта на некоторое время стабилизировалась. Утихли и воздушные бои. Правда, полк вел боевую работу. Летали на разведку, на прикрытие наземных войск, сопровождали корректировщиков «Ил-2». Но фашистские самолеты в воздухе почти не появлялись, и сбивать было некого.
В общем, я был недоволен обстановкой, сложившейся в воздухе. А тут еще Королев однажды невольно затронул больную струну.
— Ты так и не написал матери, что на фронте? — спросил он, прочитав только что полученное письмо.
— Нет. Я же говорил.
— Зря. Там семьям фронтовиков льготы какие-то положены. Мать-то у тебя на иждивении? Аттестат высылаешь?
— На иждивении? Не знаю… Аттестат только с фронта выслал. В ЗАПе нам по семьдесят рублей давали, а стакан махорки там стоил сто десять…
— Все равно, аттестат есть. Напиши, что на фронте сейчас.
— О чем писать? О том, что летаю, утюжу воздух?
— Напиши, что помог ведущему сбить три самолета. Обеспечил, так сказать… Конечно, тебе самому сбивать надо. Но ты же знаешь, что с плохим ведомым никого не собьешь. Тебя скорее собьют.
— Ладно. Я напишу…
«Обеспечил»… Отец командовал дивизией в гражданскую войну, под Царицыном воевал, Кронштадтский мятеж подавлял, а тут «обеспечил»!
— Вот что, Женька, будем теперь так летать: кому удобнее, тот и атакует, а второй прикрывает. В бою меняться местами, в общем. — Решение оказалось неожиданно простым и взаимно приемлемым.
— Ну и правильно! Гулаев вон учит Букчина воевать, пускает его вперед, так тот в одном бою двух сбил. И Гулаеву обижаться не приходится. Уже тридцать штук на его счету.
Письмо все-таки пришлось написать. Ведь что бы я раньше ни писал, идет война, и мать все равно беспокоится. Не писать совсем — еще хуже… Нужно написать…
И я написал.
«У меня нового ничего нет, — говорилось в этом письме. — Разве только то, что уже три месяца на фронте. Но боев нет, летать не приходится. Сидим на аэродроме и скучаем…»
Через два дня я мог бы написать другое письмо…
Сопровождали звено корректировщиков «Ил-2» на фотографирование фашистских укреплений севернее Кривого Рога. Этот вылет, как и многие предыдущие, не сулил ничего интересного. Но сопровождать нужно. Мало ли что может случиться!
«Горбатые» шли над немецкими оборонительными линиями, фотографировали их. «Что они там фотографируют?» — с интересом посмотрел я на землю. Но ничего не увидел. Ночью была обычная для Украины оттепель, и сейчас снизу расстилался пестрый ковер из белых и черных пятен. «Ни черта там не разберешь, камуфляж какой-то»…
Не увидев ничего интересного на земле, все свое внимание перенес на воздух. Однако и там ничего нет. Только тонкая серенькая пелена, сквозь которую просвечивают солнце и голубизна неба. Никого… Еще и еще раз просматривается воздух впереди, с боков, сзади, сверху, снизу… Что-то мелькнуло чуть левее неяркого солнечного диска. Пара «худых»? Слишком близко друг к другу…
— Архипенко! Слева выше «рама». — Теперь на серо-голубом фоне тонкой облачности отчетливо выделялся двухфюзеляжныи двухмоторный корректировщик «ФВ-189», который кружил над нашими войсками, выискивая цели для артиллерии и авиации. Его узнали по голосу.
— Атакуй, четверка! — отозвался Архипенко. Я находился в самом выгодном из всей группы положении для атаки.
Боевым разворотом снизу атаковал «раму». «ФВ-189» не ожидал нападения. Гитлеровцы, увлеченные разведкой, очевидно, не видели советских истребителей на пестром фоне земли. Я спокойно прицелился, нажал гашетку и с удовлетворением увидел, как очередь пересекла фашистский самолет. Первый снаряд разорвался в левой плоскости, второй, бронебойный (не было видно разрыва), прошел через кабину экипажа, а третий разорвался в правом моторе. Кроме трех тридцатисемимиллиметровых снарядов, еще добрых два десятка бронебойных и зажигательных крупнокалиберных пуль из этой очереди вошло в немецкую машину.
Резким переворотом, так что сжатый воздух широкими белыми полотнищами сорвался не только с консолей, но и со всего крыла, вплоть до кабины экипажа, расположенной в центре «рамы», между моторами, фашист попытался выйти из-под удара.
Попытался ли? Едва ли управляемый самолет способен на такой резкий маневр. Только что он летел одним курсом с моей «Коброй», а теперь почти отвесным пикированием уходил в обратную сторону. Это все равно что на полной скорости врезаться в каменную стену. Скорее всего, «маневр» был результатом повреждений, полученных «рамой».
Однако мне некогда было думать над этим. В бою не думают, а действуют.
Во всяком случае, уходить «раме» было поздно. Правый мотор ее горел, молчал убитый стрелок, развороченное снарядом крыло и вывалившаяся нога шасси ухудшили маневренные качества самолета. Не спасло «раму» и почти отвесное пикирование: «Кобра» быстро догнала ее на пикировании.
Еще одна очередь — и корректировщик врезался в землю.
На этот раз ничто не помешало мне убедиться в результатах своего огня. Видели падение «рамы» все экипажи летавших самолетов — истребители и корректировщики. А наутро следующего дня пришло подтверждение и от наземных войск, в котором расхваливался героизм наших истребителей. Их можно понять. «Рама» была одним из самых ненавистных типов немецких самолетов, предвестником артиллерийских и бомбовых ударов.
Врезался в землю…
— Сегодня вылетов больше не будет, а на завтра готовься, — сказал Архипенко Чугунову в тот же день, когда я сбил «раму». — Пора и тебе за ум браться, хватит сачка давить.
Он все еще надеялся отучить от трусости, заставить воевать человека, на которого в эскадрилье уже махнули рукой…
Утром всех разбудил глухой гул, доносившийся с запада. Это шла артиллерийская подготовка, которая возвещала начало наступления на Кировоград.
— Ну, сегодня придется подраться, держись только! — говорили летчики по дороге на аэродром и тут же прикидывали, кто в составе какой группы будет летать.
— Ты с кем пойдешь, Эней? — спросил Виктор. — Федор говорил, что возьмет тебя.
— С кем пошлют, с тем и полечу, — огрызнулся Чугунов.
Он стоял у самой кабины трехтонки, глядя в сторону и загородившись от встречного ветра поднятым воротником летной куртки.
— Так сегодня же бои будут дай боже!
Чугунов ничего не ответил. Он и сам прекрасно знал, что начало активных действий наземных войск означает и начало больших воздушных боев. Наверняка гитлеровцы бросят всю свою авиацию, чтобы сорвать наступление советских войск. «Опять „худых“ куча будет… — думал он. — Нет чтобы всегда так, как вчера у Женьки: встретил одну „раму“, сбил, и все!..» Он не стал задерживаться на стоянке — благо, своего самолета у него не было, — а сразу прошел в землянку, затопил печку. Вскоре сюда пришли и остальные летчики.
— А, затопил уже печку. Молодец, только место мое не занимай.
Чугунов молча уступил место у дверцы печки Бургонову, за ним оно было закреплено в эскадрилье. Он о чем-то упорно думал и не следил за общим разговором. Только приход Архипенко вывел его из оцепенения. Тревога промелькнула в его глазах, когда он взглянул на командира. Что-то он скажет?
— Чего, Чугунов, смотришь? Ничего, здеся, не выйдет… Может, на второй вылет только, а сейчас Бобров нашу эскадрилью поведет. Сам подобрал группу…
Чугунова как подменили. Только что он с отсутствующим видом, сгорбившись, сидел рядом с Бургоновым, а тут разом выпрямился, глаза его засверкали.
— Опять?! Так никогда летать не придется! Вы ж обещали!
— А что я мог сделать? Во второй вылет обязательно возьмем.
Подполковник Бобров любил иногда водить группы на задания, летал с разными эскадрильями. В этот раз он решил пойти с первой эскадрильей и повел восьмерку прикрывать наземные войска, ведущие наступление юго-восточнее Кировограда. Последние дни в воздухе было спокойно, но сегодня можно было ожидать встречи с противником. Было бы чудом, если бы встреча эта не состоялась. И действительно, еще на подходе к линии фронта все услышали по радио, что туда приближаются бомбардировщики. Вскоре показались и они сами — тридцать два «Ю-87» под прикрытием четырех «Ме-109» и двух «ФВ-190».
Фашисты были ниже наших истребителей и только подходили к линии фронта со стороны солнца. Благодаря преимуществу в высоте создавались все условия для успешной атаки с хвоста бомбардировщиков.
Но Бобров качнул крылом — сигнал «внимание».
— За Родину! За Сталина! Атакуем! — И повел группу в атаку из очень невыгодного положения под ракурсом четыре четверти (углом девяносто градусов к линии полета бомбардировщиков). «Кобры» проскочили истребителей прикрытия, так что те не успели ничего предпринять. Однако атака была безрезультатной. Слишком уж невыгодно было положение для стрельбы: самолет очень быстро проходит сетку прицела. «Лаптежники» как ни в чем не бывало шли своим курсом.
«Вот тебе и „За Родину“ и „За Сталина“ — со злостью подумал я. В газетах часто мелькали эти лозунги, но самому их слышать довелось впервые. Похоже, подоплекой служило страстное желание Боброва получить „Героя“. Как-то после успешного дня, когда полк сбил двадцать немецких самолетов и летчики собрались в столовой, он заявил во всеуслышание:
— Не очень-то рассчитывайте на награды! Никто из вас не получит ничего, кроме «Красной Звезды», пока я не получу «Золотую Звезду Героя»!
Для второй атаки положение создалось удобное — истребители оказались сзади и выше «Юнкерсов». Но правильно говорили всегда на разборах Архипенко, Виктор и другие опытные летчики, что самая эффективная всегда первая атака…
На этот раз первой атаковала пара Королева. Я шел метров на сто пятьдесят сзади Виктора и видел, что строй бомбардировщиков сомкнулся за это время, ведущий «Юнкерсов» построил маневр так, чтобы дать своим стрелкам возможность вести огонь. От «лаптежников» в сторону «ястребков» потянулись дымные трассы. Виктор пока не стрелял, шел на сближение. Ближе, ближе. Вот из носа его самолета брызнул сноп огня и потянулся к крайнему «Ю-87». Тот загорелся и сразу же разломился пополам. Куски самолета, окутанные пламенем и дымом, посыпались на землю.
На большой скорости Виктор пронесся над строем бомбардировщиков и с левым разворотом стал набирать высоту для повторной атаки.
Вслед за Королевым, заходя ему в хвост, начал разворачиваться ведущий «Юнкерсов»…
«У „лаптя“ две пушки по тридцать миллиметров и пулеметы… Собьет сейчас…» — мелькнуло у меня в голове. Я даже не дал очереди по бывшему в прицеле бомбардировщику, а бросился к тому, ведущему.
— Витька! Круче вверх!
Огонь они открыли одновременно. Но Виктор был вовремя предупрежден о нежелательном «ведомом», а фашист — тот просто перестал существовать. Он как-то моментально исчез внизу, под моим самолетом.
Но я не видел, как упал «Юнкерс». Не до того было. Частый сухой треск пулевых попаданий и разрывов снарядов вплелся в ровный рев мотора — по фюзеляжу и хвосту «Бэллочки» ударила длинная очередь.
Самолет вздрогнул, его резко бросило влево, и он перешел в отвесное пикирование. Попытки вывести его не давали результатов: не хватало силы рулями высоты преодолеть сопротивление развороченного снарядом и загнувшегося стабилизатора.
Две тысячи метров… Полторы… «Кобра» пикирует все так же отвесно. Я обеими руками тяну ручку управления на себя. Безрезультатно… «Триммер!» — мелькнула мысль, и я стал быстро вращать на себя штурвальчик триммера руля высоты, чтобы снять нагрузку с рулей. Пятьсот метров… Слишком низко. Снова обеими руками тяну ручку. Самолет дрогнул, нос его, направленный до этого в одну точку на земле, стал потихоньку передвигаться. Под капотом заскользила белая снежная степь. «Снегу сколько! — пришла ненужная мысль. — Вчера под Кривым Рогом совсем почти не было…» Очень медленно… Так не хватит высоты. Я посильнее уперся ногами в педали и изо всех сил потянул ручку. Казалось, такого напряжения не выдержит металл, согнется, сломается дюралевая ручка… Но вот самолет быстрее стал выходить из пикирования. Еще, еще… С катастрофической скоростью приближалась земля. Прыгать поздно… Я уже ясно видел место, куда должен врезаться самолет…
Только над самой землей мне удалось вырвать «ястребок» из пикирования. Туча снега, поднятого с земли винтом (он все-таки задел лопастями снег) и воздухом, сжатым крыльями самолета, на миг заслонила все вокруг. Но «ястребок» тут же вырвался из этого облака и пошел вверх, туда, где еще продолжался воздушный бой.
Впрочем, продолжался он недолго. А то бы, наверное, плохо пришлось мне на почти неуправляемой «Кобре». Но вид фашистских трех «лаптежников» и «Мессера», которые догорали на земле, пятная хлопьями черной копоти свежую белизну снега, сделал свое дело. Остальные «Юнкерсы», сбрасывая бомбы на свои же войска, поодиночке удирали из боя. «Мессеры» и «Фоккеры» проделали этот маневр гораздо раньше.
Восьмерка «ястребков» возвращалась домой. Семь из них шли в строю, а восьмой тянулся далеко сзади. При увеличении оборотов мотора и скорости его начинало тянуть в пикирование. Приходилось идти почти на посадочной скорости — я никак не мог пристроиться к группе. На счастье, фашистских истребителей поблизости не было…
Бобров и все остальные успели сесть и зарулить на стоянки, когда я еще только подходил к аэродрому. Сразу выпустил шасси, щитки и зашел на посадку…
Королев выключил мотор, расстегнул лямки парашюта, открыл дверцу и нехотя вылез на крыло. В его глазах все еще стояла картина взрыва на том месте, где его ведомый врезался в землю. Парашютистов в воздухе не было. Ни наших, ни немцев. Значит, все…
Все прилетевшие самолеты моментально окружили механики, мотористы, оружейники. И у «ястребка» Королева собрался весь экипаж.
А рядом пустая стоянка. И никогда больше там не будет стоять его «ястребок». И он сам не будет идти после вылета сюда с радостным или хмурым — в зависимости от результатов проведенного вылета — лицом. Вместо него оттуда идет Волков. Что ему сказать?.. Виктор печально опустил голову.
— Товарищ лейтенант, а где мой?
— Там… — Королев махнул рукой в сторону линии фронта, тяжело вздохнул и добавил: — Врезался в землю…
Самолет сильно «висел» на ручке: все время стремился опустить нос и перейти в пикирование, хотя триммер был выбран полностью. «Ничего, еще немножко, сяду…» Но со старта одна за другой взвились несколько красных ракет — запрещение посадки. «В чем дело?! Расчет правильный». — Я решил не обращать внимания на ракеты и садиться. Больше бороться со своим отяжелевшим «ястребком» я не мог.
Приближается земля, выравнивание… Через несколько секунд колеса коснутся заснеженной поверхности летного поля, и самолет покатится по аэродрому. Я взглянул на посадочное «Т» — нужно уточнить расчет. Возле черных полотнищ на снегу лежал человек. Он зачем-то задрал ноги вверх, хлопал по ним руками, потом вскочил и выстрелил из ракетницы почти прямо в самолет.
«Шасси!..» — догадался я, и рука сама в тот же миг двинула сектор газа вперед. Мотор взревел, и «ястребок» пошел на второй круг. Тут только я посмотрел на лампочки сигнализации шасси.
Горели красные огоньки. «Шасси не вышло… Нужно выпускать вручную…»
Два круга пришлось сделать над аэродромом. Пот заливал глаза, лицо, струйками пробегал по спине и груди. По мере выхода шасси «ястребок» все больше «висел» на ручке. Руки от напряжения противно дрожали. Но наконец загорелись зеленые огоньки — шасси выпущено!
Еще в начале пробега самолет сильно повело влево. Даже правый тормоз не помогал. О рулежке не могло быть и речи. Скатившись с посадочной полосы, обозначенной редкими вешками, влево, я выключил мотор. Открыл дверцу, приподнялся, но тут же снова сел. Все тело болело, стало каким-то непослушным… Наконец кое-как сумел выбраться из кабины и почти упал на землю. Оперся о крыло, стоял, отдыхая и наслаждаясь холодным ветерком, приятно овевающим разгоряченное лицо, мокрую от пота гимнастерку.
Минут через пять подбежали Волков, Ананьев, Карпушкин. Некоторое время я молча смотрел на улыбающееся лицо Николая с искрящимися радостью светло-голубыми глазами.
До меня не сразу дошел смысл того, что говорил Николай.
«Врезался в землю… Взорвался… Кто врезался?»
— Товарищ командир, так что же случилось?
— Что?
— Мне сказали, что вы врезались в землю, самолет взорвался… Ой, что это я?! Вы ж замерзнете! — Волков, обрадованный возвращением командира, только сейчас заметил, что тот, мокрый от пота, все еще стоит раздетый на морозе и его гимнастерка уже покрылась инеем. — Возьмите мою куртку! — Он стал снимать свою недавно полученную новенькую и поэтому еще чистую техническую куртку.
Я не обратил внимания на предложение одеться.
— Ни черта я не врезался. Видишь, прилетел… — Я посмотрел на хвост самолета. Там не было половины руля высоты, а левая сторона стабилизатора как-то уродливо выгнулась. — Прилетел… А где остальные?
Николай понял, что командир спрашивает о летчиках.
— На КП все, обедать пошли.
— Ну и я пойду на КП. Куртку туда пришли. — Я пошел через посадочную полосу.
— Товарищ командир, возьмите пока мою куртку!
— Тут недалеко, так дойду…
— Женька?! Ты откуда взялся?! — встретил меня у входа в КП заместитель начальника штаба полка Земляченко. — А я только что в дивизию передал, что ты сбил одного и сам врезался в землю.
— Ну и как, похож я на покойника?
— Почему же тогда Бобров говорил?
— Я и сам думал, что врежусь. Давай звони в дивизию, пускай воскрешают обратно.
— Придется… Да ты иди обедай, замерз. Почему без куртки?
— На стоянке еще не был. Самолет вон где пришлось бросить, — я указал на «ястребок», одиноко стоящий на летном поле, и начал спускаться в землянку КП.
При моем появлении в помещении, где обедали летчики, на минуту воцарилось молчание. Потом все вскочили и бросились к дверям.
— Женька?!
— Пришел?!
— Когда успел?! — О возвращениях летчиков, считавшихся погибшими, все прекрасно знали. Это бы никого не удивило. Многие «погибшие» возвращались в полк. Но еще не было случая, чтобы летчик возвращался так быстро. Ведь только-только успели передать сообщение о его гибели!
— Ладно вам, вон Цыгана два раза хоронили, а ему хоть бы что! Смотрите лучше за своим компотом! — пришлось остановить ребят.
У стола, оставленного летчиками, орудовал под шумок известный любитель компота адъютант второй эскадрильи Воравко. Он допивал четвертый стакан и тянулся за пятым.
— Ну-ну-ну, только без рук! — крикнул Бургонов. Он вспомнил, как однажды Воравко решил выпить компот за всех летчиков своей эскадрильи, а чтобы у него не отобрали, он обмакнул палец в каждый стакан, приговаривая: «А ну, посмотрим, горячий он или холодный!»
После обеда на стоянку возвращались все вместе.
— Виктор, а как вылет у второй эскадрильи прошел?
— Ну, им побольше, чем нам, досталось… Гулаев четверкой дрался против двадцати семи «Юнкерсов», шестнадцати «Мессеров» и четырех «фоккеров». Гулаев «Юнкерса» и «Фоккера» завалил, Букчин, Никифоров и Горбунов по одному «Юнкерсу» сбили…
По пути Королев принял озабоченный вид, а когда подошел к «ястребку» ведомого, совсем «рассердился». Он молча обошел самолет, посчитал пробоины, осмотрел места, где разорвались снаряды, удивленно покачал головой и повернулся ко мне.
— Это не «худой» тебе дал, их снаряды таких повреждений не наносят… Да и пулевые пробоины крупнокалиберные…
Ему хотелось улыбнуться, обнять ведомого, поздравить его с удивительным спасением, поскольку хвостовое оперение было разворочено так, что не понятно, как можно было вырвать «Бэллочку» из пикирования, но он по молодости боялся проявить свои чувства, считал, что он, более опытный летчик, должен всегда учить напарника, ругать его за промахи.
— Сколько можно приходить с пробоинами? — начал он сердито. — Пора самому сбивать и оставаться целым!
— Так я же сбил «Юнкерса»!
— Знаю. А тебя кто?
— Не видел… Вроде бы никого сзади не должно быть. Бобров там парой шел…
— Ну вот, прозевал!
— Некогда было смотреть. И видел бы, все так же было бы. Мне нельзя было уходить. Ты сбил одного, выходишь из атаки, а за тобой ведущий «Юнкерс» подворачивает. Сбил бы, сволочь!
— Передал же по радио. Я бы вывернулся. И сам хвост не подставил бы.
— Вывернулся… У «лаптя» тоже маневренность будь здоров.
Виктор не знал этих подробностей. Бобров рассказал, что я погнался за «Юнкерсом», хотя у самого в хвосте был «худой». Он, Бобров, сбил «шмита», но и тот успел сбить меня. Чтобы разобраться во всем, нужно расспросить остальных летчиков, которые, наверное, все видели. А пока Королев решил перевести разговор на другое.
— Волков! — окликнул он механика. — Когда готов будет?
— Стабилизатор и остальное сегодня заменим. А вот масляный бак… В нем пробоина есть. Даже горел немного, потом потух… К утру, может, подлатаем.
— Давайте побыстрее разбирайтесь. А то летать не на чем. Пошли, Женька.
Мы снова разговорились о бое, о том, как удалось вывести самолет из пикирования.
— Говоришь, Бобров сзади был. Как же «шмит» мог подобраться? Ишь как разворотили тебе хвост! Никогда не думал, что немецкие пушки так дают. На «шмитах» все пушки маленького калибра. Может, тебе «Юнкерс» засадил?
— Черт его знает… «Лапти» за мной не увязывались… Может, два или три снаряда попали в одно место?
— Так не бывает, хотя… — что «хотя», Виктор не уточнил. Он просто не знал, как можно объяснить такие результаты огня «Ме-109».
Пока мы разговаривали, стоя у дверей землянки, сюда подошли остальные летчики. Они успели осмотреть подбитый «ястребок», радовались тому, что товарищ вернулся невредимым, но грубоватым подтруниванием скрывали свои истинные чувства.
— Ну что, познакомился с немцем? Или от старого знакомого привет получил? — спросил Ипполитов, намекая на пробоину, которую я привез в одном из первых своих вылетов на Днепре.
— Нет, он просто хотел испытать самолет на прочность. Узнать, сколько он снарядов может выдержать, — «возразил» Лусто.
— Ну и как, узнал?
Я знал, что в таких случаях лучше молчать. Сам не раз участвовал в подобных подначках. Возражения всегда еще больше подзадоривали летчиков. К тому же я замерз в своем мокром от пота обмундировании и хотел побыстрее уйти в землянку, к печке. Возможно, еще долго бы продолжалось беззлобное подшучивание, но меня выручил Архипенко.
— Хватит! — оборвал он подначки. — Быстренько готовьтесь, сейчас опять полетим. Ты, — он повернулся ко мне, — не пойдешь — Чугунов слетает.
— Где он?
Ни на стоянке, ни в землянке Чугунова не оказалось…
Вечером ко мне подошел Волков.
— А что, товарищ командир, на «Мессерах» такие же пулеметы стоят, как и на «Кобрах»?
— Нет, конечно! А в чем дело?
— Да вот между тормозными дисками левого колеса застряла бронебойная пуля нашего крупнокалиберного пулемета, которая заклинила колесо намертво. — Волков показал пулю от крупнокалиберного пулемета «Кольт-Браунинг», которые стояли на «Аэрокобрах». Королев стоял рядом.
— Тогда ясно! Бобров стрелял в «шмита», а очередь всадил в тебя! Поэтому-то такие разрушения. А я-то думал, откуда у «Мессеров» такие мощные пушки?! Только об этом ни гу-гу, а то Бобров тебя без соли скушает… У него гонор знаешь какой! А кому охота признаваться, что он вместо врага своего сбил?
Об этом в полку никто не узнал, только техники и механики ехидно посмеивались, глядя, как на машине командира полка подрисовывают еще одну звездочку.
Что ты сможешь один!
К вечеру у меня разболелась голова. Но по привычке все же подсел с какой-то книжкой поближе к «катюше» (коптилке, сделанной из пушечной гильзы) и начал читать. Подошел Ипполитов, сел рядом и спросил:
— Чего это ты все читаешь? Не надоело? Сегодня чуть не убили. Зачем тогда тебе эти книги? Там институтов нет, учиться дальше не будешь.
Я был направлен в авиацию с первого курса геолого-разведочного института. Не хотелось отвечать, но к разговору стали прислушиваться остальные летчики.
— Эх ты, голова як казан, а розуму ни ложкы! — ответил ему украинской поговоркой. — Я помирать не собираюсь. Еще поживу.
— Ты что, серьезно думаешь живым остаться?! — удивился Иван.
Я даже привстал от неожиданности.
— Конечно… А если и убьют, так что?
— Зачем тогда голову забивать?
— А что, с пустой головой мертвому легче жить?
— Время зря теряешь…
— Н-да… Логика у тебя железная. Даже булыжная. По-твоему, выходит, вообще читать, учиться не стоит. Даже и без войны. Все равно, мол, умрешь когда-нибудь.
— Ну, когда войны нет, людей не убивают каждый день. А тут не знаешь, будешь завтра жить или нет.
— От тебя самого зависит, будешь завтра жить или нет. Смотреть нужно, правильно маневрировать, быстро принимать решения…
Ипполитов не дал мне развить мысль.
— Говорить-то ты мастер — смотреть, маневрировать, решения!.. А сам сегодня чуть не сыграл в коробочку. Чего ж не смотрел?
— Иногда о себе некогда думать. Многие сознательно жертвуют собой. Вон Букчин закрыл Гулаева. А Матросов? Гастелло? Талалихин? Нельзя же только о себе думать.
— Кто же о тебе подумает, если не сам?
Ипполитов долго работал инструктором, постоянно твердил курсантам, что нужно надеяться только на себя. «Нянька с вами летать не будет. Сами должны отлично пилотировать», — не раз говорил он курсантам. В конце концов Иван и для себя решил, что это главное. И лишь на фронте ему пришлось столкнуться с необходимостью взаимодействия, взаимной выручки. Он и раньше, конечно, знал о такой необходимости. Теоретически. Летать ему приходилось сравнительно мало, и применить теорию на практике оказалось не так просто. Говорят, привычка —вторая натура. И привычка к одиночным полетам давала себя знать на каждом шагу.
Я даже растерялся было, но на вопрос Ипполитова тут же ответил:
— Все. Ведущий, другие летчики. Все, кто участвует в бою.
— Много они о тебе сегодня подумали…
— Бобров-то сбил «шмита» у него в хвосте, — заметил Виктор. — А то, может, Женьке и конец был бы…
— Да дело и не в этом… — я встал, подошел к печке и продолжил: — У тебя получается так: все равно убьют, думать ни о чем не надо, учиться не надо, читать тоже… Так и живешь. Даже умываться не хочешь. Ходишь в столовую, на аэродром, летаешь, когда берут, вечером выпиваешь свои сто граммов, и доволен. Как же, еще один день прожил!
— Ну-ну, ты это брось! — обиделся Ипполитов, но я продолжал:
— Вот недавно хронику показывали. Ленинград, блокада, а там школы работают, пацаны учатся. Их артиллерия обстреливает, бомбят, есть нечего, а они учатся… В газете как-то читал: там в самое трудное время, в самый голод на заводе вечернюю школу организовали. Рабочие учиться захотели. С завода не уходили — сил не было, люди на улицах умирали от голода, а они учились. И потруднее, чем у нас, было.
Я помолчал немного, что-то вспоминая, пошарил в карманах и заговорил снова:
— Что там говорить! Вот письмо получил из дома. Если хотите, послушайте. Живут они там не очень-то хорошо. Паршиво живут. Однако работают и учатся…
Я стал читать письмо, и перед взором ярко вставала картина жизни матери, братьев.
За столом в небольшой покосившейся избушке собралась вся семья. Еще недавно многочисленная — пять сыновей! — она сейчас состояла всего из трех человек. У стола сидели мать и два младших сына — Павел и Дима. Старший, если жив, то, наверное, на оккупированной территории, под Одессой, где они все раньше жили. Еще двое учились в институтах, но перед войной были взяты в армию, и теперь оба служат в авиации — один штурманом в бомбардировочной, второй — истребитель. Писали раньше, что находятся далеко от фронта, в запасных полках. Недавно лишь написали, что на фронте, но по некоторым примерам, известным только матерям, — по денежным аттестатам, переводам, по отдельным словам в письмах — мать давно догадалась, что они в действующей армии, воюют. Что с ними будет? Идет такая война… В гражданскую воевали, куда проще было… А теперь с каждой почтой в поселок похоронки приходят…
Перед ней за столом двое младших. Они еще не доросли до боев, но, оказывается, выросли, чтобы управляться у станков. Павел работает токарем на заводе. Тяжело ему, а он еще и учится вечерами. Дима — в ремесленном. Подкормить бы их, худые, светятся.
На столе все запасы — небольшой кусок хлеба пополам с мякиной и несколько штук конфет, выменянных в ОРСе на ягоды и грибы. Хорошо хоть лес помогает. Грибы и ягоды растут, будто и нет войны. Рыбу ребята иногда приносят, если удается выбраться на рыбалку на Вятку или на Широкий Аркуль. Жаль, времени свободного у них нет. Все взрослые ушли на фронт, у станков остались старики, женщины да ребята. А план выполнять нужно…
Мать разделила хлеб, конфеты, отложив себе кусочек поменьше, налила детям по большой кружке кипятку, заваренного вместо чая поджаренной морковью.
— Ешьте.
Павел посмотрел на стол, на кусочки хлеба, проглотил слюну и спросил:
— Чего ж ты себе мало оставила?
— Мне хватит… Я тут дома как-нибудь, а вам работать.
— Да-а, — протянул Дима. — Помрешь с голоду, что мы без тебя будем делать?
Все трое принялись за свою более чем скромную трапезу. Некоторое время длилось молчание. Потом Павел вспомнил, видно, что-то веселое, улыбнулся и спросил у матери:
— Мама, чего ж ты теперь палку не берешь, чтобы хорошо ели? Помнишь, раньше, в Ананьеве, заставляла?
— Вот я сейчас палку возьму, чтобы не ели!
Но вот и последняя строчка. Письмо дочитано. Я аккуратно сложил листок, спрятал его в карман гимнастерки.
— Ну и что же тут такого? Везде сейчас плохо живут. Все для фронта, для победы, — после небольшого молчания отозвался Ипполитов.
— Как «что такого»?! Пацаны ведь голодные все время, учатся, работают… для победы, для тебя. Они там всех фронтовиков героями считают… Убьют… Разве герои о смерти думают?
— Герой!.. — процедил Ипполитов.
— Ну, не герой. Зато думаю о жизни, а не о смерти. Если бы Гулаев думал о смерти, то не сбил бы тридцать два самолета. А Кожедуб? Видел, как он над аэродромом «Хейнкеля» рубанул?
— Они тогда на пять минут опоздали прилететь, — напомнил Бургонов.
Против примеров из жизни полка Ипполитов ничего возразить не мог. Он попытался, однако, поспорить еще о жизни в тылу.
— Учатся они там! Знаю я, как учатся. Заставляют их, вот и учатся. Нас тоже заставляли в училище учить разные ортодромии, локсодромии… Сильно они нужны тебе сейчас!
Летчики в этом споре были на моей стороне. Они органически не могли принять мрачную «философию» Ипполитова. А сейчас спор принял принципиальный характер — нужно ли человеку знать то, что не пригодится сегодня, немедленно. Первым вмешался Трутнев. Он обычно молчал, но на этот раз не выдержал:
— Тебе уже и ортодромии не нужны! Что же нужно? Только за ручку держаться? Так ты больше нас всех вместе за нее надержался. Значит, все? Больше тебе ничего не нужно?
Трутнева поддержал Королев:
— Шоферы и то изучают теорию двигателя, автомобиль. Механики изучают аэродинамику, хотя и не летают. А ты-то летчик!
— А он как Митрофанушка, — улыбнулся Лусто. — Извозчик, мол, довезет. Да, а кто же их там заставляет учиться, по-твоему? — спросил он Ипполитова. — Работать, может, заставляют. Война… А учиться?
Под таким напором Ипполитов стушевался, даже стал как будто меньше ростом.
— Да что, да я так просто… — он попытался обратить все в шутку, никак не ожидая, что все летчики ополчатся против него.
— Кто их заставляет… — вместо Ипполитова ответил Мише я. — Сами учатся. И читают то, что проходят в старших классах. Вот послушайте еще одно письмо:
«На днях работал у станка и так устал, в сон клонит, — писал мне брат Павел на фронт. — Глаза слипаются, деталь на станке крутится, все сливается, того и гляди уснешь, сам в станок вместо заготовки попадешь… Думал, упаду. И вдруг почему-то вспомнил „Войну и мир“, „Анну Каренину“ — читаю сейчас, когда время есть. Представил себе Стиву Облонского и Пьера Безухова в Английском клубе. Сидят они там, обедают… Аж в животе заурчало, слюнки потекли. Вот бы, думаю, их на наши харчи посадить. То-то бы полакомились!
Даже смешно стало. Ребята повыключали станки, смотрят на меня, как на сумасшедшего. Чего это, мол, ему смеяться охота пришла.
— Ты чего смеешься?
— Да вот представил: обедают Облонский с Безуховым в Английском клубе. Перед каждым по кусочку нашего хлеба, по кружке морковного чая, вместо сахара — клюква. Едят и похваливают, запивают кипятком. Любезности друг другу говорят…
Ребята ржут, за животы берутся.
— Это что ж, кипяток вместо шампанского?
— А мякина — устрицы?
— Конечно, похваливать будут!
— Добавки попросят!
— Вот бы их после обеда сюда в цех, к станку! Вместо моциона! Чтобы подагры не было!..
Опять все смеются. А я представил себе Пьера возле своего станка — куда и сон делся! Будто сам в том клубе по-настоящему пообедал досыта. И кажется, тычется Безухов туда, сюда, не знает, как к станку подступиться, что с ним делать, посматривает на соседний станок, а там так же Облонский мучается. Я у них за мастера. Показываю, что и как делать. Работа идет…
Так и приладился с тех пор. Как тяжело станет, вспоминаю их, заставляю работать… Безухов у меня уже заправским токарем стал — он поближе, на моем станке работает. А у Стивы что-то не ладится еще. За ним все следить приходится. А то брак дает. Но исправляется потихоньку…»
Летчики от души смеялись над этим письмом.
— Вот ты, — сквозь смех заговорил Бургонов, обращаясь к Ипполитову, — посади вместо себя в кабину Безухова или Болконского, заставь его воевать. А сам только командуй, подсказывай, что и как делать. Со стороны-то виднее. Тогда и ты живой останешься!
— А что, Безухов и Болконский тоже смелые были, — поддержал его Виктор. — Дурные только. Ну чего Андрей ждал, пока снаряд взорвется, не лег?
— Да как же он его посадит в кабину? — возразил Лусто. — Он же не знает, кто такой Безухов. Не читал ведь?
— Ну ладно, — сразу посерьезнел Виктор. — Смех-то смехом, а тебе, Иван, крепко подумать нужно… Сейчас не так дерутся, как бывало раньше: встречались два самолета и вели бой. Какой летчик лучше пилотировал, тот и побеждал. Теперь большие группы встречаются, на одной технике пилотирования не выедешь. Если тебе товарищи не помогут, ничего не сделаешь.
И сам всегда товарищам помогай… Привык инструктором летать, всегда один… Все в группе должны как один действовать, друг другу помогать…
Ну, плясать можно!
Опустив голову, я медленно брел к землянке эскадрильи. Все окружающее проходило мимо сознания, нисколько не интересовало меня. Так же, как не произвел никакого впечатления и случай, происшедший только что на КП. Туда, в комнату, где мы обедали, ворвалась мастер по вооружению из третьей эскадрильи Жаринова.
— Где тут компрессия лежит? — спросила она, запыхавшись.
— Зачем она тебе?
— Механик послал. Говорит, что на КП есть, а без нее самолет не полетит.
— Правильно, не полетит. Только она не здесь…
— А где же?..
— Иди в кабинет Боброва, — посоветовал Лусто. — Она там слева от двери, в углу, в ведре стоит. Я тебя провожу.
Жаринова в сопровождении Лусто пошла к Боброву, а летчики двинулись вслед за ними. Через минуту до меня донесся взрыв хохота, но я даже не улыбнулся и не попытался представить себе покрасневшее от негодования и от смеха одновременно лицо командира полка. Я и сам при случае был не прочь разыграть незнакомого с техникой человека — послать двоих с носилками за шплинтом, заставить смотреть искру, которая якобы уходит в костыль. Однако сейчас это меня не развеселило…
Я не обиделся на то, что летчики не дождались меня, оставили одного ковыряться в тарелке с давно остывшим вторым и ушли. Даже не обратил на это внимания. Скорее бы добраться до землянки, завалиться в уголке нар на солому, закрыть глаза и ни о чем не думать… Видно, сказалось вчерашнее переутомление или здорово прохватило на морозе, пока раздетый добирался до КП после посадки…
Вот и землянка, шагов десять осталось. «Чего это Орещенко прямо на меня прется?!» — я попытался обойти сержанта, но тот остановил меня.
— А, товарищ младший лейтенант! А я тебя как раз ищу!
«Ну, сейчас какое-нибудь задание даст…» Сержант Орещенко был секретарем комсомольского бюро полка и частенько-таки старался «подбросить» комсомольское поручение офицерам, особенно летчикам. Техники ведь и так все время проводят с младшими авиаспециалистами.
— Мы на бюро посоветовались, думаем, что можно рекомендовать тебя в партию. Воюешь порядочно, два самолета сбил… Да и парторг говорил о тебе. Пиши заявление, проси рекомендацию. — Орещенко пошел на КП полка, оглянулся и на ходу крикнул: — Завтра же мне заявление отдашь!
Я молча прошел в землянку, пробрался в угол, залез на нары и улегся навзничь. Думать о предстоящем не хотелось, голова закружилась во все убыстряющемся темпе, да и вообще мысли сразу исчезли. Сколько так пролежал? Минуту? Час?
Очнулся оттого, что кто-то сильно дергал меня за ногу. Я открыл глаза. У ног стоял Королев.
— Что это тебя не добудишься сегодня?! Вареный какой-то! Пошли на стоянку. Все уже ушли, вылет сейчас.
Я встал, проверил за голенищем унта карту и пошел за Виктором. После отдыха состояние значительно улучшилось, и, кажется, никто ничего не заметил. Только Волков внимательнее, чем обычно, посмотрел на меня, когда я не смог сразу влезть на крыло. Николай помог надеть парашют, усадил в кабину, хотел что-то спросить, но тут дали команду запускать.
— От винта!
— Есть от винта! — ответил Волков и спрыгнул с плоскости…
Шестерка истребителей без набора высоты шла к Кировограду. Тяжелые свинцовые облака, простирающиеся на высоте пятисот метров, не давали возможности идти вверх, превращали середину короткого зимнего дня в сумерки. Кое-где от облаков к земле протянулись косые полосы падающего снега, даль скрывалась — или это только казалось? — за густой дымкой.
Я шел крайним слева. По привычке, но без обычного при подходе к линии фронта напряжения, посматривал по сторонам. В полете снова разболелась голова, я безразлично воспринял даже сообщение наземной радиостанции наведения о подходе шестидесяти «Ю-87» и десяти «Ме-109». Автоматически выполнил команду Ар-хипенко: «Разворот влево на девяносто!» — и оказался после этого маневра вместе с Королевым на правом фланге.
Почти тотчас же из синей дымки впереди вынырнули темные туши «Юнкерсов».
— Атакуем! — передал Архипенко и повел группу в атаку на «лаптежников» прямо в лоб.
Силуэты «Юнкерсов» росли в прицеле. Один из них был немного в стороне от центральной марки. Немного подвернуть, самую малость, — и бить!.. Но не было силы сделать это микроскопическое движение. «Только бы не оторваться от Витьки!.. — осталась единственная мысль. И промелькнула вторая: — Зря я, наверное, полетел. Чем тут помогу?..» — но думать об этом было поздно…
Истребители проскочили «лаптежников» и тут же развернулись на сто восемьдесят градусов для атаки в хвост. Дальше все слилось в какой-то сумбурный сон, в котором все скрывается в тумане и только отдельные кадры как бы останавливаются и успевают запечатлеться в сознании, но нет силы двинуть даже пальцем. Впереди мелькали «Юнкерсы», они даже проходили через центр прицела, но не было сил нажать гашетку. Хвост самолета Виктора — вот единственная цель, которую я боялся упустить. «Только бы не оторваться…» При каждом маневре в глазах темнело, я все терял из виду, потом из черного тумана снова выплывал хвост «ястребка» Королева, а дальше за ним туши «Юнкерсов». В один из моментов такого просветления немного сбоку я увидел на темном фоне облаков яркий огонь факела и даже не понял сначала, что это горит один из «лаптежников». Потом такой же факел вспыхнул чуть подальше, а в наушниках раздался голос Бургонова:
— «Мессера» справа!
«Только удержаться!..» — даже не думая об этом, я понимал, что в бою с истребителями придется маневрировать куда энергичнее.
Королев резко развернулся вправо и перешел в пикирование. Темнота… Сквозь туман на белом фоне снега проступает клубящееся ярко-оранжевое пламя, скрывающееся в черных клубах дыма. Королева впереди не было. «Потерял…» — и тут же увидел Виктора, который разворачивался с набором высоты влево.
Темнота, прояснение… Больше ничего не осталось в памяти от продолжавшегося дальше воздушного боя…
Наконец мотор выключен… Рукавом гимнастерки — до кармана под лямками не доберешься — вытер пот с лица, стал медленно расстегивать карабины парашюта. Открыл дверцу, попытался вылезть на крыло, но так и не смог.
— Что с вами, товарищ командир? Не ранены? — взобрался на плоскость Николай. — Помочь?
— Ничего… Помоги вылезть…
— Может, лучше посидите немного, остынете в кабине, а то опять мокрый на мороз выйдете…
— Ладно, тут недалеко…
Волков с Карпушкиным помогли мне слезть на землю.
— Теперь я сам как-нибудь… — и пошел заплетающимся шагом, едва переставляя непослушные ватные ноги.
— На КП не пойдете? — догнал меня Николай. — Туда все летчики пошли.
— Нет, заболел что-то…
В землянке никого не было, печка давно потухла, но я ничего не заметил. Снова забрался на нары, лег и провалился в небытие… .
— Что с тобой? — толкнул меня в бок Королев. Я чуть слышно застонал, не раскрывая глаз.
— Слышишь, нет? Что у тебя? — Виктор осторожно потряс меня за плечо.
— А, что такое? Вылет? — Я приподнялся на нарах. Рука случайно коснулась ладони Королева.
— Какой вылет?! Ты ж горишь просто… Волков говорил, что ты заболел, я не поверил. В бою держался хорошо — и на тебе…
— Ничего… Сейчас уже лучше.
— Кой черт лучше! Федор, нужно послать кого-нибудь за Иваном Ивановичем.
— Давай, Цыган, пошли, здеся, кого… Бургонов вышел и тут же вернулся. Королев продолжал разговаривать со мной.
— А я думающего это ты на КП не пришел. Разговор у меня к тебе есть. Орещенко говорил с тобой?
— Говорил… Ладно, потом поговорим… Минут через пятнадцать пришел полковой врач Смольников Иван Иванович.
— Ну, где тут у вас больной? Что с тобой, Женя? — подошел он к нарам. — Болеть вздумал? Не стоит. Это ты всегда успеешь, — шутил он, нащупывая пульс. — О, да у тебя температура приличная. Разве так можно летать? Я думаю, нельзя. Давай-ка померяем. Градусник поставим — и все пройдет! Знаешь, один говорил: «Доктор, поставьте трубочку, она все оттягивает. Как поставите — сразу легче становится!»
Иван Иванович всегда был среди летчиков, принимал участие в их немудреных розыгрышах, непритворно любил эту молодежь, которую, пожалуй, до войны и не допустили бы по годам к кабине боевого самолета. Летчики чувствовали его любовь и платили ему взаимностью.
Вот и сейчас он моментально включился в общий разговор, смеялся, и только в глазах, когда он смотрел на меня, иногда проскальзывала тревога. Среди разговора он не назойливо, как бы между прочим, расспрашивал, как началась болезнь.
— Так ты что, здоров, здоров был, прилетел и сразу заболел?
— Вчера, наверное, простудился. Вечером голова болела.
— Все правильно! Так и должно быть. — Это «так и должно быть» он сказал с таким видом, будто подразумевал нормальное состояние человека, а не симптомы болезни. — Почему же сразу не пришел ко мне? Или утром? Зачем полетел?
— Думал, пройдет… А перед полетом нормально себя чувствовал.
— Конечно, пройдет! Давай-ка градусник.
Он взял градусник, отошел с ним к окошку, присвистнул.
— Ну, ерунда какая! Я думал, что серьезное, а тут тридцать девять и три. С такой температурой плясать можно. Только потом. А пока мы вот порошки примем да полежим. И все.
Иван Иванович посидел еще немного и ушел.
— Ну какого ты черта… — Королев крепко выругался, — полетел?! Без тебя некому?
То ли порошки Ивана Ивановича, то ли молодой организм сделали свое дело, но на следующее утро я встал совершенно здоровый. А может, помогли медицинские старания Виктора — он принес водки и заставил ею запить порошки. Что тут помогло, неизвестно, однако результат был налицо.
Из-за плохой погоды вылетов в этот день не было, все сидели в землянке. На минутку забежал Иван Иванович:
— Ну, как тут мой больной? Я же говорил, что плясать можно! — Посидел и ушел.
Официальных разборов воздушных боев последнее время почти не проводили. Архипенко, вероятно, считал, что летчики эскадрильи уже полностью вошли в строй и не стоит допекать их формальностями.
В обычном разговоре, как бы между прочим, разбирались удачные и неудачные приемы, примененные в бою, обсуждались предложения, как действовать в подобных случаях в дальнейшем.
Такой разбор проводился и вчера, но я ничего из того разговора не слышал и захотел узнать подробности боя.
— Вить, расскажи, что там было вчера. Я ж почти ничего не видел…
Королев сразу догадался, о чем идет речь.
— Что там рассказывать? Федор и Пупок сбили по «лаптежнику». Цыган «шмита» сбил, я тоже. Ну, а остальные разбежались.
— Их там вроде до черта было.
— Ну и что же? Не видел, как они удирать умеют? А вчера видимость паршивая была, они не знали, сколько нас там. А у страха-то, знаешь, какие глаза бывают… Ты лучше расскажи, как с Орещенко договорились. Что он тебе сказал?
— Сегодня, говорит, чтобы заявление у него было…
— Почему же не пишешь?
— Да рано мне еще, наверное…
— Рано?! — удивился Виктор. — Кому же тогда не рано?
— Мне только двадцать. Успею… Еще шесть лет в комсомоле можно.
— Ну и что же что можно? Необязательно! Мне тоже двадцать. Я и на бюро говорил, что тебе пора.
Королев был членом комсомольского бюро полка.
— Зря… — только и сказал, а сам подумал: «Так это друг подвел под монастырь…»
— Почему зря?!
Я задумался, помолчал, махнул рукой и сказал:
— А теперь все равно придется… Пойдем, расскажу…
— Что придется-то? — спросил Виктор, выходя следом за мной из землянки. — Ты будто недоволен, что тебя принимают?!
— Будешь доволен! Не примут ведь все равно.
— Ты объясни толком, в чем дело.
— Отец у меня в Первую мировую командовал взводом пешей разведки. Судя по записи в солдатской книжке, «совершал чудеса храбрости», заслужил полный бант Георгиевских крестов и ордена Анны и Владимира с мечами, дослужился до чина штабс-капитана, командовал батальоном. В гражданскую командовал сначала полком, а потом под Царицыном дивизией командовал, против Польши — до Варшавы почти дошел. У него тогда комиссаром Лепсе был. Слышал такого?
— Слышал…
— Потом Кронштадтский мятеж подавлял, за Махно гонялся… А в тридцать седьмом, когда начались аресты военных, его взяли… Кому он нужен был? Персональный пенсионер, девяносто процентов трудоспособности потерял — четырнадцать раз раненый был. Да и где он вредить мог? В нашем Ананьеве? Пятнадцать километров от железной дороги… Мать осталась одна с пятью детьми… Она по совету одного энкавэдэшника продала дом и уехала на родину в Кировскую область. Там особо репрессий не было.
— А в комсомол как вступал?
— В Аркуле вступал, в школе. Там жил у дяди после ареста отца. Там просто было. Все знали, что отец арестован. Не я один такой был. Приняли без всяких. В Уржуме потом, на родине Кирова, в райкоме долго совещались, но приняли.
— Почему же, думаешь, теперь-то не примут? Ты ж воюешь, доказал, что предан Родине.
— Это ж партия!.. Сбил бы еще несколько штук, может, по-другому бы посмотрели. А второй раз и заявления не примут… Пойти к Ульянову и рассказать все?
— Успеешь на партбюро рассказать… Послушай, а как же ты в авиацию попал, таких же не брали. Да и в институт тоже…
— Я тогда сказал, что отец умер. Он ведь действительно умер в феврале 40-го, только в тюрьме.
— Так ты и сейчас так скажи: отец умер в 1940-м, мать живет на родине в Кировской области. Так никого обманывать ты не будешь, а то откажешься подавать заявление, начнут копаться, что да как. Докопаются, что отец репрессированный, и вообще из полка и авиации вылетишь. Ты ж знаешь — «Смерш» пронюхает и скажет: «Что ему стоит перелететь к немцам». Тебя выкинут, подсунут мне Чугунова. То-то радость мне будет! Так что давай садись — будем писать автобиографию.
— Ну вот! Все будет в порядке, — еще раз прочел заявление и автобиографию Виктор. — А то ишь ты, не хочет вступать в партию Ленина — Сталина. За такое загонят куда Макар телят не гонял.
Виктор отнес эти два листка, и через несколько дней состоялось заседание партбюро полкана котором задали лишь вопросы о количестве боевых вылетов и сбитых самолетах и приняли в кандидаты в партию.
Тёркин в плену
Морозным январским днем Архипенко повел четверку — он, Цыган, Королев и я — на новый аэродром.
Бетонка, покрытая слоем снега, все же выделялась на ровном белом фоне. Кажется, совсем недавно с нее поднимались «Мессеры» во время налета «пешек» на Кировоградский железнодорожный узел и на мост через Ингул. А сейчас сюда садятся краснозвездные «ястребки»: наши войска заняли аэродром и продвинулись дальше на запад.
Я выпустил шасси, посадочные щитки, уточнил расчет и внимательно осмотрел летное поле. Мне впервые приходилось садиться на аэродром, с которого еще недавно летали фашисты. Кое-где по краям летного поля стоят немецкие самолеты и в створе полосы «рама» — «ФВ-189». Наверное, неисправные, не смогли, улететь. Думать об этом некогда: «Будет еще время все на месте осмотреть».
Высота… Пора выравнивать… Так…. Самолет мягко коснулся бетонки и быстро, без толчков и ударов, какие обычно бывают на полевых площадках, покатился вперед. «Летать с такой полосы — одно удовольствие». Подрулил к стоявшим с выключенными моторами самолетам Архипенко, Бургонова, Королева. Сзади рулили севшие позже Лусто и Трутнев. Кроме них, здесь еще никто не садился: это была первая группа, перелетавшая на новый аэродром.
Я выключил мотор, вылез из кабины и пошел к самолету Архипенко — там собирались все прилетевшие. У «ястребков» уже возились механики из передовой команды, приехавшие на машинах всего полчаса назад.
Летчики закурили и посматривали по сторонам. Куда идти? Где КП полка? Где будет их землянка? Есть она или немцы не приготовили, рыть придется? Механики ничего не знали: прямо с машины их отправили на стоянку встречать самолеты.
— Пойдем пока, посмотрим «худого», — предложил я Виктору, показывая на стоящий рядом «Ме-109».
Фашистский истребитель был без мотора, не хватало одной ноги шасси. Он как бы оперся правой плоскостью о землю и имел жалкий вид. Но теперь его можно было «пощупать», осмотреть со всех сторон, залезть в кабину, чтобы проверить условия, в которых летают немецкие летчики, сравнить возможности обзора на наших «ястребках» и у фашистов. Поэтому Виктор сразу согласился с моим предложением.
— Подождите, — остановил нас Архипенко. — Нам, здеся, первую готовность занимать нужно.
Так было запланировано еще перед перелетом.
— Какая там готовность? Самолеты-то не заправлены еще… — начал было Королев и тут же осекся: к стоянке подъезжал бензозаправщик. — Быстро они обернулись, — закончил он, подразумевая работников батальона аэродромного обслуживания.
Штаб полка тоже не дремал. К Архипенко подошел посыльный и доложил:
— Товарищ капитан, вашей эскадрилье приказано в полном составе занять готовность номер один. Сигналы на вылет старые.
Эскадрилья. Это звучало внушительно. А в ней осталось только шесть «ястребков». Послали летчиков за новыми самолетами, Ипполитов тоже уехал, но когда они еще будут…
— Знаю… Заправят машины, и сядем.
— Сказали, как пара будет готова, пусть садятся.
— Ладно.
И вот летчики снова сидят в кабинах, готовые к немедленному вылету. Недолго пришлось ожидать его. Не прошло и получаса с момента посадки на этом аэродроме, а у командного пункта одна за другой взвились в воздух три зеленые ракеты — вылет всей эскадрилье.
Последняя ракета еще догорала в воздухе, а «ястребки» прямо с мест стоянок уже начали разбег для взлета.
Задачу получили по радио.
— Десятый, я Бобров. К Кировограду с юго-запада идут две группы бомбардировщиков.
— Вас понял.
Шестерка «ястребков», форсируя моторы, набирала высоту. Вот и город остался позади. Впереди расстилалась белая от снега степь с редкими пятнами рощ и селений. Но смотреть на землю некогда. Каждую минуту, секунду может произойти встреча…
На фоне облаков впереди показались силуэты «Хейнкелей». Всего двадцать километров не успели пройти бомбардировщики, чтобы отбомбиться по городу. Первая лобовая атака. Ее не дано выдержать человеку со слабыми нервами. Самолеты несутся навстречу, кажется, сейчас столкнутся и превратятся в громадный клубок огня и дыма… Строй фашистских бомбардировщиков заколебался. Не открывая огня, мы мчались на врага, сокращая дистанцию до минимума. Может, истребители так и пройдут сквозь строй бомбардировщиков, не причинив им вреда? Нет, в свинцовом небе засверкали огни трассирующих пуль и снарядов. Один из «Хейнкелей» как бы споткнулся в воздухе, накренился и, оставляя в небе черную дымную спираль, понесся к земле.
Этого не выдержали нервы фашистов. Строй бомбардировщиков рассыпался. Однако гитлеровцы еще не отказались от выполнения своей задачи. И поодиночке они стремились прорваться к городу.
Нелегко было шестерке истребителей задержать фашистов. «Мессеры», не успевшие даже среагировать во время первой атаки, теперь вступили в бой. А тут подошла и вторая группа бомбардировщиков. «Юнкерсы» попытались обойти район боя, чтобы без помех прорваться к городу. Но сделать это им не удалось.
Обычно скоротечный воздушный бой затянулся. Прошло десять, пятнадцать, двадцать минут боя, а цель фашистов — город — была все так же далека, как и вначале. Уже несколько дымных костров догорало на земле. Горел там и «Мессершмитт», сбитый Виктором. На белом снежном фоне стали появляться и черные пятна от разрывов бомб. Это бомбардировщики торопились избавиться от опасного груза, трусливо покидали поле боя.
Но бой продолжался. В воздухе еще оставались немецкие истребители. Вот один из них промелькнул передо мной и понесся к земле. Он, видно, хотел последовать примеру бомбардировщиков, уйти на свою территорию.
«Не уйдешь!..» — сквозь зубы процедил я и тоже перевел свой самолет в пикирование.
— Витька, прикрой!
— Давай, давай, бей его!
— Далеко…
Только над самой землей «Ме-109» вышел из пикирования и на бреющем пошел на запад. Я шел почти вплотную сзади него, стараясь еще больше сократить дистанцию: «Сейчас, сейчас…»
Фашист заметил преследование. Он стал маневрировать, чтобы не дать вести прицельный огонь. «Эх, нужно было раньше бить… Все равно не уйдешь!.. Так, ты опять вправо кинешься». В тот момент, когда гитлеровец начал разворот вправо, я нажал гашетку. «Ме-109» сам напоролся на трассу, ткнулся правым крылом в землю и огненным колесом покатился по снежному полю. Сзади осталась только дорожка огня и обломков самолета.
— Порядок! — услышал я голос Виктора. — Разворачивайся на сто восемьдесят, набирай высоту!
Сорок пять минут вместо обычных пяти-десяти длился воздушный бой. И после него шестерка «ястребков» в полном составе пронеслась над своим аэродромом. У них не было боеприпасов, только у меня каким-то чудом осталось семь патронов — три в одном и четыре в другом пулемете. Но израсходованы боеприпасы не зря. Радость победы переливалась через край у каждого летчика.
Я уже зарулил на стоянку, когда на посадку заходила пара Лусто. Его ведомый Федя Трутнев уже планировал на посадку с выпущенными щитками и шасси, когда прямым попаданием зенитного снаряда оторвало хвост его самолета. Трутнев упал в каких-нибудь двухстах метрах от начала бетонной полосы. Отличились свои же зенитчики, только что прибывшие с Урала. Они не знали силуэтов ни своих, ни вражеских самолетов, правда, стреляли хорошо, в тот же день сбив еще и заходящий на посадку «Пе-2». После этого их от нас перевели.
На стоянке меня встретил Волков — почти весь технический состав успел перебазироваться на новый аэродром. На прежней площадке остались лишь несколько человек, готовивших самолеты для перелета. Там же остался и Чугунов. Он должен был подождать, пока отремонтируют один из подбитых «ястребков», и перегнать его сюда.
Николай видел, как только что погиб Трутнев. Механики всегда с тревогой ожидали возвращения ушедших на задание летчиков, вместе с ними радовались успехам, переживали неудачи. Иногда самолеты с задания не возвращались. Тогда механики не находили себе места, пока летчик не приходил в часть. Бывало, летчики гибли. Но это случалось где-то далеко, на линии фронта, в бою. Такая же, как сегодня, гибель у себя на аэродроме от своих же зенитчиков потрясла всех очевидцев.
Однако переживания переживаниями, а выполнять свои обязанности нужно…
— Товарищ командир, разрешите получить замечания, — начал было официально Николай, но не выдержал и перешел на обычный между нами дружеский тон. — Поздравляю с третьим сбитым!
— Ладно тебе… — я угрюмо посмотрел в сторону четвертого разворота.
Волков снова помрачнел, но попытался отвлечь командира.
— Королев сказал, что вы сбили «шмита». Он тоже сбил…
— Я видел… Мотор работал нормально, самолет в порядке. А где Королев? — на стоянке никого из летчиков не было.
— Вон, в землянку все пошли. — Николай указал на бугорок, возвышавшийся недалеко от стоянки.
Отсюда, от самолета, нельзя было понять, что это такое. Бугорок как бугорок. Мало ли таких на полях бывает. Только тоненькая, прозрачная, слегка дрожащая струйка не дыма, а горячего воздуха, если приглядеться, выдавала жилье.
Между тем Николай осматривал самолет. Кажется, все в порядке. Пробоин нет. Так показалось при беглом осмотре, но в ту же минуту он заметил две пробоины в лопастях винта. Пулевую и от бронебойного снаряда. Пуля вошла в лопасть спереди. Видно, стрелки с «Хейнкелей» или «Юнкерсов» постарались. Снаряд же — сзади. Это от «шмита».
— Мотор не трясло?
— Я ж говорил! Хорошо работал.
— Не может быть! Должно было трясти. Видишь, винт пробит!
— Да говорю же тебе, нормально работал. Никакой тряски. Проверь сам.
Я знал (изучали в аэроклубе и летной школе балансировку винта), малейшее изменение веса одной из лопастей вызывает биение винта, тряску, которая может даже разрушить мотор. Но, как это ни странно, на этот раз тряски действительно не было. Я пошел к землянке, спустился по траншее вниз и оказался перед дверью, принесенной, очевидно, из какой-то квартиры. За ней раздавались громкие голоса, отдельные восклицания. Это летчики обсуждали только что окончившийся бой.
Вошел и уселся возле железной печки, не бочки, как обычно, заменявшей печку, а стандартной немецкой буржуйки на железных ножках, в которой горела бумага, — Бургонов на этот раз почему-то не занял своего обычного места. Я почувствовал огромную усталость. Еще бы! Воздушные бои длятся не больше пяти минут. Вернее, длятся и дольше, но очень редко. И эти короткие на земле минуты в бою растягиваются чуть ли не до бесконечности, забирают всю энергию летчика, юноши с отменным здоровьем. А сейчас бой длился сорок пять минут! Ни о чем не думая, я смотрел на огонь. Бумага сгорела, вместо огня осталась горка пепла. Перед глазами снова появились грязно-серые фюзеляжи «Хейнкелей» и «Мессершмиттов», серо-зеленые «Юнкерсы»; черный пепел сгоревшей бумаги напоминал дым горящих фашистских самолетов, а искры, изредка пробегающие по нему, казались трассами, перечеркивающими во всех направлениях облачное небо…
— О чем мечтаешь, Женька? Подбрось бумаги в печку, — вывел меня из задумчивости голос Виктора.
Я посмотрел на него, перевел взгляд на пол справа от печки и тут только заметил плотные стопки бумаги. Взял пачку и машинально, по привычке, задержал в руке, увидев печатный текст.
— Бросай! Чего разглядываешь-то, листовок не видел?
Отделив одну бумажку, я смял остальные и бросил в печку. Почему не бросил все сразу? Сначала даже сам не понял. На фашистском аэродроме могут быть только фашистские листовки. Что в них интересного? Гитлеровцы их часто сбрасывали и на линию фронта, и, по ночам, на аэродромы. Тогда мы собирали их и сжигали. К чему? Что сейчас могли изменить эти листочки? Старая песня. Жизнь ничему не научила немецких пропагандистов. Если в памятном 1941 году, во время повсеместного стремительного наступления немцев, эти листовки могли оказать влияние на мораль наших солдат, то сейчас, когда большая часть оккупированной в 1941—1942 годах территории уже освобождена и каждому здравомыслящему человеку стало ясно, что победа будет за нашим народом, они пели ту же песню — сдавайтесь, переходите на сторону немецкой армии, вам будет обеспечена жизнь… Глупо так писать в начале 1944 года!
1941-й… То страшное воскресное утро 22 июня 1941 года я встретил на посту, стоя часовым у складов Остафьевского военного училища летчиков. Часов у меня, как и у абсолютного большинства населения Советского Союза, не было. А о времени я мог ориентироваться по тому, что делалось за двумя рядами колючей проволоки. Там были заключенные. Поговаривали, что они будут строить бетонированную взлетно-посадочную полосу на аэродроме училища, но пока никаких работ на летном поле не производилось, что они делали здесь, за проволокой, — никто не знал, но по поведению охраны, по сменам караула можно было судить о времени. По моему подсчету, оставалось стоять на посту еще около часа, когда я увидел, что ко мне не идут, а бегут разводящий со сменой. Я всех узнал, но действовал по уставу: «Стой, кто идет?!»
— Разводящий со сменой.
— Разводящий, ко мне. Остальные, на месте!
Подошел разводящий, подошла и смена.
— Давай, Мариинский, быстро сдавай пост, побежим, скоро митинг начнется!
— Митинг?! — удивился я. Никакого праздника сегодня не было. Какая же причина митинга?
Быстро сменившись с поста, я с разводящим забежал в караульное помещение, разрядил и поставил в пирамиду винтовку и с половиной состава караула направился к стоянке самолетов. Такого тоже раньше не бывало, чтобы в карауле оставалась только половина состава.
— Дежурный, взвод наготове!
Митинг намечался в березовой роще, позади стоянки «И-16», на которых курсанты должны были закончить училище. На деревьях уже укрепили четырехугольные граммофонные раструбы громкоговорителей. Курсантов построили, но митинг не начинался. Наконец ровно в 12 часов Дня громкоговорители прорвало, и диктофон объявил: «Внимание! Говорит Москва! Слушайте выступление председателя Совета Народных Комиссаров Вячеслава Михайловича Молотова». И репродукторы замолкли, лишь какой-то шелест доносился из них. Потом раздался глуховатый и встревоженный голос Молотова. Председатель Совнаркома заявил, что гитлеровская Германия, разорвав пакт о ненападении, без объявления войны внезапно и вероломно, без предъявления каких-либо претензий напала на Советский Союз, в отдельных местах вторглась на нашу территорию. Говорил, что наши пограничники героически отбивают ожесточенные атаки врага, держатся, ожидая подхода регулярных частей Красной Армии.
Я слушал и удивлялся тому, что он говорит. Какое вероломство? Вся политика Гитлера построена на вероломстве. Со своим ближайшим соратником Ремом он действительно расправился во время известной ночи «Длинных ножей». Все остальное — его кредо, о чем он вполне откровенно писал в своей книге «Майн кампф». Вероломно нарушил Версальский мирный договор, и дальше все вероломно… Чего же было ждать от него еще?! Внезапно напал?! Какая же это внезапность, если все в Советском Союзе еще с 1933 года знали о неизбежности войны с фашистами, а в 1940 году военком Киевского района Москвы, собрав допризывников, прямо заявил, что им придется воевать с гитлеровской Германией. Выходит, весь народ ждал войну со дня на день, а для правительства она оказалась внезапностью.
Больше ничего нового председатель Совнаркома не сказал. Никаких подробностей, но лучше всяких подробностей о действительном положении дел говорил сам растерянный тон выступления главы Советского правительства.
Однако закончил свое выступление Молотов довольно бодро:
— Наше дело правое! Победа будет за нами! — Все вроде бы правильно. В конечной победе едва ли кто сомневался во всей необъятной стране. Но впоследствии постоянное повторение этого «Наше дело правое!» стало уже раздражать: зачем доказывать то, что не требует доказательств и заклинаний. И услышав привычное «Наше дело правое!», многие добавляли «А мы ее за левую!» И еще долго, до самой победы на Курской дуге в речах политработников без изменений звучали ссылки на вероломство и внезапность нападения. Только после победных салютов в Москве в честь освобождения Орла и Белгорода о внезапности нападения гитлеровцев перестали говорить, о вероломности тоже. И о нарушении этикета — не объявили войну — тоже забыли… Вместо этого заговорили о завоевании стратегической инициативы вообще и стратегического господства в воздухе в частности.
Речь Молотова закончилась.
— Мы передавали выступление председателя Совета Народных Комиссаров Советского Союза! — объявил диктор, и репродукторы умолкли.
Слово предоставили замполиту училища. Он говорил сплошь правительные слова о верности присяге, которую курсанты принимали совсем недавно — 1 Мая 1941 года, о любви к Родине, о священном долге каждого советского человека, о силе и могуществе Советского Союза, о Красной Армии, которая от тайги до британских морей всех сильнее. Что в этой бахвальной песне подразумевалось под британскими морями — Ла-Манш, Атлантический, Индийский или Тихий океан, никто не знал и не задумывался. Ни автор, ни исполнители, ни слушатели. Само собой подразумевалось, что Красная Армия сильнее всех в мире. Тогда мы еще не знали, что пройдут два страшных года, прежде чем слова песни начнут медленно, но уверенно наполняться смыслом.
Я не выбросил листовку в огонь. Что-то остановило меня. Что же? Я снова взглянул на листовку и сверху увидел набранное жирным шрифтом: «Теркин».
— «Теркин в плену», — вслух прочел заголовок листовки. Ниже было напечатано несколько строк прозы, а потом — стихи.
— Что?!
— «Теркин в плену», — снова прочел я.
— Чего ты там болтаешь?!
— Откуда ты взял?!
— Что ему там делать?!
— Я-то здесь при чем? Это ж листовка! Немцы что-то про Теркина пишут.
— Не может быть! — Бургонов выхватил листовку из рук и прочел сам: — «Теркин в плену»…
Ерунда какая…
На фронте, в постоянном соседстве с опасностью, не любят много говорить о смерти, радуются любой возможности переменить тему, отвлечься от таких мыслей. В другой обстановке, может быть, никто бы и не подумал обсуждать фашистскую листовку. Но сегодня все схватили по бумажке, чтобы хоть на время забыть о гибели Трутнева.
В листовке говорилось, что «Теркин понял правоту немцев, увидел несправедливость советского строя и добровольно перешел на сторону германской армии».
— Кой черт сейчас добровольно перейдет к немцам?! Вон куда дошли, скоро на границу, наверное, выйдем, а тут — «добровольно перешел»!
— А наша Сима?.. — вспомните! — Лусто напомнил о сравнительно недавнем случае. Начальником связи дивизии была майор Сима (фамилии ее никто не знал). Очень красивая, еще молодая, даже по понятиям пацанов-летчиков, женщина с роскошными женскими формами. Поговаривали, что она была ППЖ самого командира дивизии Нимцевича. Эту Симу никто в дивизии не любил за ее самодурство, презрительное отношение ко всем низшим по званию — красавице, мол, все позволено…
Когда плацдарм стремительно углубился до Кривого Рога, ее послали на «У-2» на разведку аэродромов. Летчики этих самолетов летали на самой малой высоте, чтобы в случае появления «Мессеров» или других истребителей противника можно было моментально убрать обороты мотора и приземлиться. А уж земля-матушка укроет. К тому же, маскируясь, они старались использовать при полете овраги, балки. Вот уже при возвращении один такой овраг и вывел легкий биплан на территорию, занятую врагом. Высоты никакой, только что колесами по земле не катится… Его и подстрелили, может быть, из простого автомата. Вооружение у них — по пистолету у летчика и у Симы. Сима предпочла сразу сдаться в плен, и уже на следующий день радиостанция Кировограда передавала ее обращение к советским воинам, и в частности к командиру и летному составу 205-й истребительной авиационной дивизии. Она говорила, как ее хорошо встретили, как удобно разместили, и вообще во всю расхваливала гитлеровцев. Летчики не сомневались, что ее встретили хорошо, учитывая роскошные формы этой женщины. После ее выступления по радио больше о ней ничего не было известно, однако никто не сомневался, что она смогла «устроиться». Хуже обернулось дело для командования. Командира дивизии полковника Нимцевича тут же сняли с должности и отправили в глубокий тыл начальником, как говорили, школы первоначального обучения…
Ее выступления по радио никто не мог ожидать. Однако оно было, ее голос знали прекрасно.
Но Теркин!.. Это же совсем другое!
— Да Теркин в жизни бы не сдался! Он умирать будет и то фашисту горло перегрызет!
— Да-а, на Теркина это не похоже, — медленно протянул Виктор. — Вот поэтому-то, наверное, он и «сдался»…
Они все прекрасно знали, что Теркин — литературный герой, но говорили о нем, как о живом человеке.
— Как сдался?!
— А так. Немцы-то знают, как наши солдаты зачитывались Теркиным, как ждали газет с продолжением. А тут уже с полгода ничего о нем не слышно. Фашисты и решили выдать его за пленного.
— Маху, здеся, дал Твардовский, — поддержал Виктора Архипенко.
— А ведь знал, наверное, что на фронте ждут продолжения… — вставил Миша Лусто.
— Знал, конечно, — Бургонов сказал это с такой уверенностью, будто Твардовский постоянно консультировался с ним при составлении своих творческих планов.
— Знал… Но он же поэт. Что хочет, то и пишет. Надоел ему Теркин, вот и взялся за что-нибудь другое, — предположил Виктор.
— Ну, а теперь как же?
— Теперь, здеся, небось выручать Теркина из плена будет.
— Твардовскому, наверное, лестно. Фашисты и то оценили Теркина, — заметил Лусто. — И написали так же, как у нас в газетах пишут.
— Что так же?
— Да стихи такие же самые, как у Твардовского. Вроде он же и писал.
— Такие?! Им и место только в печке. — Я швырнул листовку в огонь. — Так у нас только черносотенцы когда-то кричали про евреев, как они пишут. Теркин никогда бы так не сказал.
С ним согласились. Все вспомнили того Теркина, к которому успели привыкнуть за годы войны. Того Теркина никогда, в самых тяжелых условиях не покидало чувство юмора, уверенности в себе и в своих друзьях. Он никогда не грубил. А главное, всегда чувствовалось, что он до мозга костей наш, советский человек. Такой не станет прихвостнем фашистов.
— А ну, что, здеся, фрицы еще пишут? — Архипенко с такой стремительностью присел на корточки у кучи листовок, что мне показалось, будто я слышу шорох расползающейся кожи реглана. — Вот еще про Теркина… И вот…
В листовках с добросовестностью очень недалекого человека описывалось, как Теркин ест кашу в плену, как он прославляет гитлеровскую армию, «новый порядок», как агитирует пленных… Эти «стихи» вызывали только смех.
Еще больше развеселили листовки с утверждением, что «доблестная немецкая армия не пустит большевиков через Днепр», что на этом рубеже она накопит силы и снова перейдет в наступление. Сразу до Урала.
— Ишь ты! На меньшее, значит, не согласны? — Пусто засмеялся, и на его обветренном, как у большинства летчиков, лице блеснул ряд белых ровных зубов.
— А сами-то небось думают, куда драпать дальше! — добавил Королев.
— Да-а, а все-таки они умно придумали с Теркиным… — протянул долго молчавший Бургонов, развивая высказанную раньше Королевым мысль.
— Почему ты так думаешь, Цыган? Что же здеся умного? Кто им поверит?
— Сразу и мы вроде поверили… Главное, неожиданно все. Пропал Теркин из наших газет. Значит, убит или в плену. Убитый он фашистам не нужен. А в плену — пожалуйста. Может, кто и поверит. Ну, а если даже Теркин в плен сдался, то, мол, стоит подумать об этом…
Шли дни. И на земле, и в воздухе бои продолжались. Южнее, юго-западнее и западнее Кировограда наземные войска натолкнулись на упорное сопротивление фашистов и вынуждены были закрепиться на достигнутых рубежах. Зато правое крыло 2-го Украинского фронта успешно продвигалось вперед. Кроме Кировограда, в январе были заняты Лебедин, Шпола, Смела, а 29 января наконец части фронта соединились с войсками 1-го Украинского в районе Звениго-родки. Таким образом, «пленный» Теркин ничем не помог гитлеровцам. Наоборот, они очутились в новом котле, названном позже Корсунь-Шевченковским.а Урал отодвинулся от них еще дальше.
Наступление шло в тяжелейших условиях зимней украинской распутицы. Обильные снегопады сменялись сильными оттепелями, дороги и поля превращались в густое, клейкое месиво. Автомашины и даже танки застревали в грязи, для доставки боеприпасов мобилизовывалось местное население, и в те дни зачастую можно было услышать: «А я сегодня два пуда снарядов отнес» — и указывалось место, куда именно он или она отнесли эти два пуда снарядов.
Тяжело пришлось и истребителям. Это был единственный на данном участке фронта аэродром с бетонированной полосой. Остальные площадки раскисли, вышли из строя, и вся нагрузка боевой работы легла сначала на один полк, далеко не полностью укомплектованный летным составом и материальной частью.
Летать приходилось на большие для истребителей расстояния, в сложных метеорологических условиях. Для беспрерывного патрулирования большими группами не хватало летного состава и самолетов. Приходилось летать парами, в лучшем случае — четверками. Кроме вылетов на прикрытие наземных войск, летчики еще дежурили в первой готовности для отражения возможного налета фашистских бомбардировщиков на аэродром, на Кировоград…
Томительно медленно тянется время при дежурстве по первой готовности. Влажный холод давно пробрался в кабину, проник под куртку, наброшенную поверх лямок парашюта так, чтобы ее в любой момент можно было выбросить из кабины. Я продрог и поминутно посматривал на часы — скоро ли нас сменят. Нет… Еще полчаса…
Над аэродромом показались самолеты второй эскадрильи.
«Почему три? Они же звеном вылетали…»
— Коля, сходи во вторую, узнай, что случилось. Видишь, один не вернулся…
— Нельзя, товарищ командир. Тут из Москвы инженеров понаехало, и все в папахах. Попробуй отойди. И мне попадет по защелку, и вам достанется. А наши все ушли обедать.
— Ладно, — я посмотрел на часы, — двадцать пять минут осталось…
Долго ждать не пришлось. Вскоре на рулежной дорожке показалась невысокого роста плотная девушка с круглым миловидным лицом — мастер по вооружению из второй эскадрильи.
— Вот Молчанова, наверное, знает, что там случилось, — кивнул на нее я и позвал: — Шура! Иди-ка сюда!
Молчанова подбежала к самолету.
— Я вас слушаю, товарищ гвардии младший лейтенант! (Еще за первый сбитый самолет мне присвоили звание гвардейца.)
— Кто там у вас не вернулся? Бой был? Да залезай сюда, на крыло!
Шура влезла на плоскость.
— Горбунова сбили…
Я сразу представил себе Горбунова, каким он был. Среднего роста, флегматичный, он никогда не спешил. Бывало, все летчики сидят в машине, кричат ему, чтобы поторопился, мотор заведен, шофер даже трогает потихоньку, а он идет себе вразвалочку и не подумает прибавить шагу…
Прошел бои на Курской дуге, на Днепре, декабрьские бои сорок третьего, и вот на тебе… А Молчанова рассказывала дальше.
— Никифоров говорит — он водил четверку — что в бою его подожгли, мотор стал давать перебои, а он дрался. После боя — шли домой уже — он все ниже и ниже. Метров сто высоты оставалось, самолет перевернулся и врезался в землю, взорвался…
«Тяги рулей, видно, перегорели… И чего он тянул? На своей территории ведь, прыгал бы раньше… У немцев садился на вынужденную — и то пришел через день, а тут своя территория…»
Немецкие коммунисты
Когда мы с Королевым вошли в землянку, там на нарах среди офицеров эскадрильи сидел капитан Ульянов. Что ж, парторг полка пришел побеседовать с летчиками по душам, рассказать о последних новостях, посоветоваться с коммунистами, как лучше организовать работу. А может, и просто зашел отдохнуть, посмеяться вместе со всеми над немудреными шутками, молодежи. Обычное явление… Но почему так хмуро взглянул на вошедших и сразу повернулся к парторгу Архипенко?
— Ну, теперь все, рассказывай, Ульянов.
— Что там рассказывать… Жалели Чугунова, не брались за него по-настоящему… И я как-то мало с ним разговаривал. Все на разных аэродромах были. Он на одном, я на другом… Да и на вас надеялся… Кто же ему и помочь мог, если не вы — коммунисты, товарищи… Вот тебя, Мариинский в кандидаты приняли. Сам знаешь, какое положение. Так работать нужно, болеть за товарища!..
— А что я мог? С ним командир сколько раз говорил, Королев. А что я?..
— Да что случилось-то? — перебил меня Виктор. — Он же в Никифоровке.
— В том-то и дело. Остался там, воспылал страстью к санитарке из лазарета, но та не отвечала на его пылкие поползновения. Похоже, у него разгорелась ярость, и он разрядил свой пистолет в живот девушке.
— Зверь, а не человек!
— Какой зверь?! — удивился Ульянов.
— А разный, — пояснил свою мысль Виктор. — В воздухе он заяц, а на земле — лев!
— Что ж, здеся, теперь будет?
— Что будет? — повторил вопрос парторг. — Упустили время… Поздно теперь думать. Дело в трибунал направили. В штрафбат наверняка пошлют… Эх, не поставили вовремя человека на место…
— Чего его жалеть? Давно нужно было этого Энея отправить.
— Нужно было… Не так, Королев. Может быть, он и докатился до такой жизни потому, что вы сразу на него рукой махнули, не помогли… Все мы виноваты, чего греха таить…
В этот день боев больше не было. Фашисты, очевидно, не считали нужным прикрывать свои окруженные войска. Собственно, они никогда не прикрывали наземные части. Немецкая авиация могла не показываться над линией фронта час, два, три, но потом приходила большая группа бомбардировщиков и истребителей. Таким образом, они стремились хоть на короткое время создать превосходство в силах над линией фронта. А их транспортная авиация предпочитала самую плохую погоду, когда под покровом низкой облачности и густой дымки или снегопада можно было незаметно пробраться в котел, подвезти туда боеприпасы и кресты, вывезти оттуда генералов и старших офицеров. В один из таких ненастных дней Гулаев натолкнулся на «Ю-52» — трехмоторный транспортный «Юнкерс». Конечно же, «Юнкерс» никуда больше не полетел, остался на месте встречи. Но в ясную погоду фашистские транспортники сидели дома.
К вечеру беспрерывный рев моторов на земле, гул самолетов над аэродромом, начавшийся с рассветом (к этому времени сюда перебазировалась почти вся истребительная и штурмовая авиация фронта), начал утихать.
Солнце зашло, и небо сразу посерело. Летчикам на стоянках делать больше было нечего.
— Пойдем в столовую, Женька!
— Пошли… Только мне нужно сначала зайти сапоги взять. Сегодня обещал сделать…
Еще в запасном полку в Иваново у меня полностью вышли из строя кирзовые сапоги, выданные при поступлении в авиационное училище летчиков в начале апреля 1941 года. Там же в запасном полку перепрела и расползлась клочьями гимнастерка, так что в Иваново я ходил без гимнастерки, в одном летном свитере из верблюжей шерсти, а оторвавшиеся подошвы подвязывал к голенищам проволокой. В запасном полку обмундирования не было. В таком виде — в свитере и голенищах от сапог я и улетел с 27-м истребительным авиаполком на фронт. В Воронеже, где мы поначалу базировались, мне выдали гимнастерку, но сапог и там не было. Тогда полковой умелец-сапожник сшил из парашютной сумки брезентовые сапоги, использовав подошву от старых развалившихся кирзовых сапог. Эти брезентовые сапожки были очень удобные — легкие, сшитые по ноге. Они имели только один, но весьма существенный недостаток. В них можно было ходить только в сухую погоду. Поэтому на аэродроме Зеленое, когда началась распутица, я был вынужден два дня сидеть дома — не было возможности даже выйти из хаты, в которой располагалась их эскадрилья. И трудно было ожидать, что скоро подсохнет. Солнце хоть и светило, но зимой оно не скоро сможет расправиться с украинской распутицей — обильно выпавший снег и моросящие дожди превратили землю в непролазную грязь на глубину более полуметра.
Неожиданно на второй день в хате появился Чугунов.
— На вот! Архипенко приказал отдать тебе сапоги, а то там летать некому!… — Чугунов сбросил свои бахилы. «Чего же его, Чугунова, не взяли в группу, если некому летать?» — подумал я. Но приказ есть приказ. Надел сапоги Чугунова, которые оказались сорок растоптанного размера и были номера на три больше, чем нужно по моей ноге.
Кое-как, с трудом вытаскивая из раскисшего чернозема все время норовившие свалиться с ноги бахилы, я добрался до аэродрома. За мной одним, конечно, машину никто посылать не собирался, да и расстояние-то было всего два-три километра. По сухой дороге — пустяк, но по грязи, да еще в таких бахилах они показались за все двадцать.
— Пришел? — встретил меня в землянке Архипенко. — А вылет-то отменили.
— Все равно. Побуду здесь с вами. Вечером со всеми на машине поеду. Пешком в этих кандалах могу и не дойти или оставить их в грязи, а дойти уже босиком…
— Хорошо. Отдыхай пока, — согласился командир эскадрильи. И добавил: — Знаешь, намечался серьезный вылет на Знаменку, а с Чугуновым никто лететь не захотел, пришлось тебя вызывать…
— Да я понимаю. Только и Чугунову когда-то нужно пороху понюхать!..
— Нужно! Только не здесь, не в таких маленьких группах, а то он в полете больше вреда наделает, чем десятка «худых»… Подожди, заставим и его воевать!
После того случая прошло не много времени, но много воды утекло. Боеготовые остатки полка перебазировались в Кировоград, а Чугунов остался на аэродроме Зеленое, чтобы перегнать оттуда в Кировоград по готовности ремонтирующийся истребитель. В чем он там ходил, меня не интересовало, кажется, в зимних летных унтах. Я же пока продолжал щеголять в чугуновских бахилах.
Правда, в Кировограде батальон аэродромного обслуживания раздобыл яловый крой для сапог, который и был мне выдан. С этим кроем и занимался уже два дня тот же самый умелец, который сшил мне брезентовые сапоги.
Я хотел побыстрее надеть обновку и ходить «как люди». А то в этих колодках ни погулять, ни на танцы… В Никифоровке в пору осенней распутицы Молчанова несколько раз приглашала погулять вечерком, но из-за такой прозаической причины, как отсутствие сапог, я отказывался. Потом приглашения прекратились, и я стороной узнал, что за Шурой ухаживает один из механиков второй же эскадрильи. И она отвечает ему взаимностью… Правда, между нами сохранились хорошие отношения, однако она вместо дружеского «Женя» называла меня подчеркнуто официально — «товарищ гвардии младший лейтенант»…
Сегодня на стоянке мастер подошел к моему самолету, когда я сидел в кабине в готовности номер один.
— Товарищ командир! Сегодня перед ужином зайдите ко мне, примерьте сапоги. Готовые уже!
— Спасибо! Зайду! А где тебя искать?
— А вот первый дом, где казарма, так на четвертом этаже у меня там комнатка.
На окраине аэродрома возвышались пять пятиэтажных кирпичных домов. Они, по-видимому, были построены тогда же, когда и бетонированная полоса, и предназначались для размещения личного состава авиационных частей, располагавшихся на аэродроме. К счастью, ни наши войска при отступлении, ни гитлеровцы не взорвали эти здания, и в них теперь располагались и штабы, и казармы младшего технического состава, и столовые, и склады БАО. Офицеры же располагались в огромном поселке Кировограда, примыкавшем к аэродрому.
— Ты там недолго? Я скажу, чтоб и тебе подавали, — предложил Виктор, когда мы подошли к подъезду одного из немногих уцелевших четырехэтажных домов военного городка.
— Померяю сапоги, заберу и сразу спущусь.
— Давай побыстрей там!
Виктор толкнул дверь и вошел в столовую, а я стал подниматься по лестнице на четвертый этаж — там находилась казарма младших авиаспециалистов. Еще не войдя в комнату, я услышал нудно подвывающий звук моторов фашистских бомбардировщиков.
— А, товарищ младший лейтенант! Садитесь пока, вот заканчиваю… — сапожник сидел на скамеечке возле низенького столика, на котором горела «катюша» и в беспорядке валялись обрезки кожи, мотки дратвы, ножи, молотки, колодки, гвозди, и заколачивал последние шпильки в подметку правого сапога. — Или померяйте пока левый, а я как раз и этот закончу. — Он достал из-под стола сапог и протянул его мне.
Я пододвинул табуретку поближе к огню, расстегнул куртку, чтобы удобнее было нагибаться, внимательно осмотрел сапог. Пошитый из мягкой юфти, он выглядел как хромовый, выгодно отличаясь от стандартных армейских кирзовых сапог, в которых ходили все летчики. «Ну, теперь живем!» — улыбнулся я про себя и сел.
Сбросить опостылевшую обувь, заново навернуть портянку и натянуть сапог было делом одной минуты. Я встал, притопнул ногой и даже причмокнул от удовольствия — сапог сидел на ноге как влитой.
— Ну как? — приподнял голову и посмотрел на мои ноги сапожник.
— Хо…
У-вах! У-вах! У-вах! — грохот первых взрывов, донесшийся со стороны находящихся рядом стоянок, прервал меня на полуслове. Дальше все слилось: гром одного взрыва — у-ва-у-вах! — накладывался на другой, где-то поблизости — тяф-тяф-тяф! — лаяли зенитки, сюда же вплетался — д-зинь! — звон разбитого стекла, и из-за плотно завешенного одеялом окна доносились крики людей. Стены здания ходили, как во время землетрясения. И среди этой какофонии звуков и впечатлений совсем по-домашнему прозвучал растерянный голос сапожника.
— Бомбят… — прошептал он, будто хотел сказать: «Гвоздей не хватило…» — и бросился к выходу.
— Куда?! Все равно не успеешь! — крикнул я, но того и след простыл.
Я аккуратно завернул портянку, натянул и правый сапог. Прозвучало еще несколько взрывов — дальше и дальше серия бомб уходила к центру аэродрома. Бомбили явно тяжелыми бомбами — более чем двухсотпятидесятикилограммовыми. Разрывы тех бомб я уже видел и слышал. Тут разрывы были много мощнее. Что об этом думать. Обутый в оба сапога, спустился вниз, вышел из дома. У подъезда толпились офицеры штаба, обсуждая бомбежку. Но она-то уже кончилась — «Хейнкели» уходили на запад. Быстро темнело, и идти на аэродром, смотреть результаты бомбежки не было смысла. Кстати, и все летчики потянулись со стоянок в столовую на ужин. Поужинав, вся первая эскадрилья отправилась «на свою базу» — хата, в которой она располагалась, находилась метрах в двухстах от того дома, в котором я только что переобулся, а затем и поужинал. Ночь прошла спокойно, а наутро, как обычно, все отправились на свою стоянку. Неподалеку от эскадрильской землянки мы обнаружили огромную воронку от взрыва авиабомбы. В нескольких метрах от края воронки стояла «Аэрокобра». Издали она казалась целой, подошли ближе.
— Ну и видик у этой «Бэллочки»! — пробормотал Архипенко. — Да у нее, здеся, целого места не осталось.
Действительно, хвост самолета был повернут на девяносто градусов, так что киль самолета мог бы служить стабилизатором, и наоборот.
Вся «Аэрокобра» выглядела как после длительной голодовки. Повсюду выступали ребра. Обшивка крыльев и фюзеляжа от взрывной волны провалилась, обозначив выступающие стрингера фюзеляжа, нервюры и лонжероны крыльев. Ни о каком ремонте не могло быть и речи. Целым остался только воздушный винт и мотор, да еще стойки шасси. Как ни странно, пневматики колес тоже не пострадали. В общем, для технического состава появился некоторый резерв запасных частей.
Летчики обошли все стоянки. От бомбежки сгорел один транспортный самолет «Ли-2» — «Дуглас», как его чаще называли. Еще одна тысячекилограммовая бомба прямым попаданием вдребезги разнесла «раму», которую я заметил еще при первой посадке на этот аэродром, но так и не удосужился сходить посмотреть ее поближе. Теперь-то уже смотреть было нечего. Этот день, пока не было вылетов, посвятили дальнейшему знакомству с аэродромом, посмотрели несколько «Ме-109» и «ФВ-190», изрядно побитых в воздушных боях и явно не прилетевших сюда, а привезенных с мест падения. Заглянули и в одиноко стоявший ангар. Там обнаружили новенький наш штурмовик «Ил-2». Он, очевидно, сел на вынужденную на вражеской территории, немцы привезли его сюда, подлатали, заново окрасили, намалевав при этом вместо-красных звезд свои черные кресты, окаймленные белыми полосами, а на киле — свастику. Однако полетать на нем гитлеровцы, по-видимому, не успели. Тем временем работники БАО обходя бетонированную взлетно-посадочную полосу, обнаружили почти точно в средней ее части третью тысячекилограммовую бомбу. Но она по счастливой случайности не взорвалась, а то бы ее взрыв надолго вывел из строя этот единственный действующий аэродром 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта. Говорили, что была еще бетонированная полоса в Миргороде, но так ли это, точно никто не знал. Во всяком случае, основная работа авиации фронта велась с Кировоградского аэродрома. Он располагался значительно ближе к действующим наземным войскам. Вот и последние дни летчики сто двадцать девятого гвардейского выполняли особое задание — прикрывали введенные в прорыв кавалерийские части — казаков. При этом требовалась особая точность и надежность прикрытия. Если танки горели, выходили из строя только при прямом попадании бомб или снарядов штурмовиков, то лошади гибли и от взрывной волны при достаточно близком разрыве бомбы. Прикрывать кавалеристов — это была адова работа для летчиков-истребителей. Они отвечали за каждого погибшего коня… Сразу поступали возмущенные отзывы кавалерийских командиров, телефонные звонки с укоризнами, телеграммы… а тут была реальная угроза прекращения всякого прикрытия и кавалеристов, и узкой перемычки Корсунь-Шевченковского котла у Звенигородки. Взрыв бомбы посреди полосы оставил бы фронт без аэродрома…
Сразу же послали запрос в штаб фронта с просьбой прислать саперов.
Саперы прибыли утром следующего, дня и сразу приступили к работе. Взрывать бомбу на месте нельзя. Это значило бы самим произвести разрушения, на которые и рассчитывал противник.
Стали бомбу откапывать. Оказалось, взрыватель сработал, а бомба все же не взорвалась! Саперы вывинтили взрыватель, из отверстия посыпался песок…
Тогда они вытащили бомбу из земли — поняли, что взрыва опасаться нечего, разрядили ее и там, в песке, обнаружили маленькую фанерную бирку, на которой коряво, путая русский и латинский алфавит, кто-то написал:
Nemezkie Komunisti делают все, что mogut….
Вот так впервые за войну я столкнулся с помощью немецких рабочих. В данном случае их помощь оказалась как нельзя более кстати…
Островок в парке старинном
Самолет неожиданно вырвался из сплошного месива влажного воздуха, мокрого разлапистого снега и тумана, выровнялся, пронесся немного над землей и приземлился возле командного пункта — в самом начале бетонки. Через некоторое время так же неожиданно появился и сел второй, третий, четвертый.
А ведь только несколько минут назад сам генерал Утин — командир корпуса — посоветовал им по радио: «Если не сможете зайти на бетонку, садитесь на фюзеляж». И попросил: «По возможности садитесь на летное поле». Он и не думал требовать нормальной посадки на бетонку. Ведь ни одному летчику корпуса до сих пор не приходилось садиться в таких условиях. Поэтому генерал считал, что лучше пожертвовать боевыми самолетами, которые можно будет, кстати, восстановить, чем летчиками…
Узкая полоска бетонки. Каких-нибудь тридцать метров ширины. Только она обеспечивала боевую деятельность фронтовой авиации на этом участке, снабжение боеприпасами и горючим танковых и артиллерийских частей. Причем из истребителей только «Аэрокобра» могла работать с этой узенькой полоски, поскольку из нее был прекрасный обзор вперед благодаря трехколесному шасси и узкому носу самолета. Летчик видел взлетную полосу в нескольких метрах впереди себя и мог сразу реагировать на малейшее уклонение самолета на разбеге при взлете и на пробеге после посадки, не допустить скатывания истребителя с бетонированной полоски. У обычных самолетов с хвостовым костылем или «дутиком» нос самолета и в начале взлета, и после приземления задран вверх и закрывает летчику всю впереди лежащую полосу.
Еще во время первого сопровождения транспортного «Ли-2» мы с Королевым видели попытку взлета с этой полоски нашего истребителя «Як-1». На разбеге он чуть-чуть упустил направление, правое колесо шасси скатилось с бетонированной полоски в грязь, «Яковлев» налетел на группу людей, оттаскивавших от бетонки пятисоткилограммовую бомбу, воздушным винтом зарубил пять человек, перевернулся и загорелся. Летчик сгорел вместе с самолетом. Для «Аэрокобры» такой исход взлета исключался.
Но сейчас даже противоположная сторона бетонки (всего-то тридцать метров!) скрывалась в мутном месиве.
Самолеты приземлялись, проносились мимо встревоженной группы людей у командного пункта и тут же скрывались в свинцово-серой мгле.
— Полтора часа были в воздухе. Вернулись без подвесных… — начал было говорить Земляченко, но его перебил Утин:
— Значит, бой вели, там сбросили баки… Как они сумели сесть?!
Полтора часа назад наша четверка истребителей вылетела на прикрытие переправы через Днестр. Переправу только-только навели, плацдарм за рекой пока еще совсем крохотный, и этот жиденький мостик нужно сохранить во что бы то ни стало. Аэродром располагался очень далеко от плацдарма, от Днестра — ближе базироваться негде. Подходящих полевых площадок, конечно, хватало, но весенняя распутица, жирный украинский чернозем, сдобренный изрядным количеством влаги, сделали их совершенно непригодными для посадки самолетов. Только здесь была, хоть и плохонькая, бетонированная полоса. Поэтому и приходилось базироваться на этом оставшемся в глубоком тылу аэродроме, летать отсюда с подвесными баками…
Положение для авиации сложилось тяжелое, и, как это ни странно звучит, виной тому было стремительное наступление Красной Армии.
После ликвидации Корсунь-Шевченковского котла (и туда-то летать было чересчур далеко!) войска 2-го Украинского фронта подтянули резервы и 5 марта 1944 года возобновили наступление. На этот раз удар наносился по уманьско-христиновской группировке противника. В результате пятидневных боев четырнадцать фашистских дивизий было разгромлено, 10 марта заняты Умань и Христиновка, а войска фронта двинулись дальше на запад. Летчики не успевали наносить на карты постоянно меняющуюся линию боевого соприкосновения: 12-го был форсирован Южный Буг, 16-го — взят железнодорожный узел Вапнярка.а 18 марта наши войска форсировали Днестр.
Конечно, авиационные полки тоже перелетели на запад и сели на этот аэродром с миниатюрной бетонкой. Но все равно до Днестра оставалось еще слишком много километров…
Звено сделало круг над аэродромом, городком и взяло курс на юго-запад. Под крыльями поплыли черные, залитые водой поля, редкие дороги, забитые автомашинами, пушками, бронетранспортерами, покинутыми фашистами при слишком поспешном «выпрямлении линии фронта», как они любили говорить в своих сводках.
Любоваться, собственно, было нечем. Внизу черные поля с сероватыми пятнами воды и грязно-желто-зеленой фашистской техникой. А вверху такое же серое, мрачное небо…
Проходили минуты полета. Внизу промелькнула река. «Южный Буг», — отметил про себя каждый из четырех летчиков. За Бугом все стало меняться. Меньше становилось луж на полях, суше дороги. Вскоре на них и пыль заклубилась за движущимися на запад машинами. И в небе наступили перемены. В облаках появились голубые разводы. Да и сами они стали тоньше, светлее. А потом и вообще сплошная пелена уступила место отдельным кучевым облакам. В воздухе заметно потеплело. Это ощущалось даже в закрытых кабинах самолетов.
Сам характер местности тоже менялся. Из равнинной она превратилась в холмистую, изрезанную глубокими балками и оврагами. А вдали уже оказались и засверкали под солнцем громадные петли быстрой и многоводной реки. Приближалась цель…
— Я Десятый, прибыл на работу! — доложил Архипенко командиру дивизии, который находился здесь, на пункте наведения.
Да, истребители прибыли работать. Работать так же, как работали саперы, наводя и укрепляя переправу, как работали артиллеристы, вытаскивая из грязи свои орудия на фронтовых дорогах, как работали все рода войск на переднем крае.
И вот Архипенко доложил командиру дивизии, который находился здесь, на пункте наведения, о прибытии на работу. После Нимцевича, снятого и отправленного в тыл за эпизод с майором Симой, дивизию принял его заместитель Горегляд. Высокий, красивый, молодой, он нравился летчикам и как внимательный, чуткий командир и как боевой летчик. И после вступления в командование дивизией он летал на задания. В одном из вылетов, 17 декабря 1943 года, их группа встретила под Новгородкои сорок «Ю-87» под прикрытием «Мессеров» и «Фоккеров». Они тогда сбили пять «лаптежников», одного «Ме-109» и одного «ФВ-190». И сам Горегляд сбил «Юнкерса», что еще больше укрепило его авторитет.
— Вас понял, Десятый! — отозвался Горегляд. — С юга подходят бомбардировщики!
— Понял, иду.
Внизу изгиб реки. Отчетливо видна тоненькая ниточка переправы. Истребители разворачиваются на юг.
Бомбардировщики как-то сразу появились перед глазами. Они выскочили из-за кучевого облака и уже подходили к реке. Раздумывать некогда. Под угрозой переправа. Только успели подвернуть чуть влево — и тут же врезались в строй «Хейнкелей». Какие-то доли секунды — и фашисты остались позади.
— Разворот влево на сто восемьдесят! Сбросить баки! — скомандовал Архипенко.и самолеты четверки стали энергично разворачиваться вслед за группой «Хе-111». От каждого «ястребка» на развороте отделилось по громадной «бомбе»: полетели на землю опустевшие к этому времени подвесные баки.
Неожиданная, дерзкая атака на встречных курсах ошеломила фашистов. Строй их рассыпался. Каждый старался побыстрее освободиться от смертоносного груза и скрыться, уйти на свою территорию. То тут, то там в голом поле вздымались черные султаны земли, клубился дым от разрывов бомб. Я выбрал ближайшего «Хейнкеля», пошел на сближение. Мотор работает на максимальных оборотах, и длинное светло-серое, почти стального цвета тело бомбардировщика медленно увеличивается в прицеле. Немного впереди справа к «Хейнкелю» пристраивается Виктор. По мере сближения все остальное уходит в сторону, скрывается из поля зрения. Все переднее стекло фонаря занимает бомбовоз. Сто пятьдесят, сто метров… Нужно ближе, чтобы бить наверняка. Видно, как экипаж «Хейнкеля» припал к пулеметам и готовится открыть огонь, стоит только войти в зону обстрела. Зачем туда идти? И здесь хорошо. Я нажимаю гашетку. Огненная трасса прошивает левую плоскость и мотор бомбардировщика.
И тут же в наушниках голос Горегляда:
— Бросьте «Хейнкелей»! Они уходят! Сзади вас пятерка «Фоккеров»!
Я со снижением (не попасть бы под огонь стрелков!) иду вправо, вслед за начавшим разворачиваться Королевым. Мельком заметил — у «Хейнкеля» сильно задымил левый мотор. Следить за ним дальше некогда. Подходит новая группа фашистов, пятерка истребителей «ФВ-190». Это запоздавшее прикрытие «Хейнкелей»? Или пикировщики? Во всяком случае, их нужно отогнать от переправы, не допустить штурмовки.
Первая атака снова состоялась на лобовых. И снова немцы не выдержали, отвернули. Они не торопились уходить. Численный перевес придавал им смелости. Завязался быстротечный воздушный бой над самой переправой, над головами наземных войск. Вот один загорелся и врезался в правый берег реки. Вот Виктор почти вплотную пристроился ко второму «Фоккеру», дал короткую очередь. Может, слишком коротка очередь? Не попал? Во всяком случае, стервятник реагировал довольно странно. Он как-то судорожно качнулся с крыла на крыло, будто подавал сигнал: «Я свой самолет», — перевернулся и в почти отвесном пикировании упал в воды Днестра возле самой переправы. Каким-то чудом его хвост остался торчать над водой… Бой окончен.
Обратный путь. Обратный и порядок смены пейзажа. Пыль. Влажная земля. Грязь, лужи. Но на подходе к аэродрому встретилось новое препятствие — густой снегопад. Видимость сократилась почти до нуля. Мы прижались друг к другу, снизились и на бреющем полете выскочили на свой аэродром.
Разошлись на посадку. Как сесть? Сплошная мутно-серая пелена впереди, с боков, сверху… внизу, если идти на бреющем, чуть-чуть просматривается земля. Да и она постепенно покрывается снегом и как бы растворяется в этом молоке…
Группа пришла с задания. Горючее на исходе.
Что же делать? Встревоженные командир корпуса и командир полка выскочили из командного пункта к бетонке. Над ними с разных направлений выскакивали из сплошного месива самолеты с выпущенными шасси, проносились над головой и снова скрывались из виду. И так один раз, второй, третий…
Тогда Утин и разрешил садиться на фюзеляж.
Это слышали все. Садиться на фюзеляж? Ломать самолеты? На чем же тогда летать? Нет… Пока горючее есть, нужно держаться…
Стрелки бензиномеров склоняются все ниже, загораются красные лампочки… Хочешь не хочешь, а сейчас придется падать…
В этот момент раздался голос Виктора:
— Ребята! Заход от острова Любви! Выйдем на него, возьмем посадочный курс и точно на бетонку выскочим…
Несколько дней подряд стояла нелетная погода. Низкие облака цеплялись за верхушки деревьев. Серое небо вверху, моросящий дождь в воздухе, непролазная грязь внизу… Боевых вылетов нет, фронт уходит все дальше и дальше на запад, а здесь только дежурство, вялые разговоры в холодных будочках с громадными щелями, сквозь которые свободно врывается мокрый мартовский ветер, беззлобное подтрунивание над инженером полка по вооружению Кацевалом. Сенсацией бывали газеты и какая-нибудь затрепанная книга.
Разговоры большей частью велись о городке, куда забросила фронтовая судьба.
— Летом тут, наверное, хорошо! — начал Карлов (первая и вторая эскадрильи располагались в одной будочке. Землянок не рыли: все равно скоро дальше лететь). — Парк тут дай боже!
— Видели… Парк здоровый. В столовую ходим, на посадку над ним заходим… — вяло перебил его Виктор. И добавил, лукаво улыбнувшись: — И слышали кое-что!
— Да, уж слышали, здеся! — засмеялся Архипенко. — Вы б поделились опытом, что ли! А то встретишься с монашкой и не знаешь, о чем говорить!..
— Пришли, понимаешь, сыты, пьяны, нос в табаке и своему командиру ничего не говорят, как и что! Так и не познакомили со своими красавицами! — улыбнулся и Гулаев.
— Красавицы! Ха-ха-ха! Это ж грации настоящие!
Карлов, Никифоров и Задирака сначала смутились, но потом засмеялись вместе со всеми. Собственно, об этом приключении летчики узнали на второй же день, но от нечего делать решили снова послушать рассказ товарищей.
Летчики располагались в поселке возле аэродрома по три-четыре человека в каждой хате. Ходить в столовую на ужин приходилось через парк. В первый же вечер после перелета, еще засветло, вторая эскадрилья отправилась на ужин. Никифоров, Карлов и Задирака поотстали от остальных. На полпути через парк возле какого-то домика их остановили три старушки-монашки лет по семьдесят, как они потом говорили (может, это им показалось? В молодости все, кто старше тебя на пять-десять лет, кажутся глубокими стариками) и пригласили зайти отведать чего бог послал. «Вы же наши освободители! — говорили монашки. — Грех отказываться». Отказаться им действительно показалось неудобным. Да и любопытство взяло свое — интересно ведь посмотреть, как живут монашки, об этом только в книгах приходилось читать. Пошли…
Бог послал неплохой ужин. Очевидно, он был завзятый гурман. Во всяком случае, стол ломился от всевозможных кушаний и закусок, расставленных среди целой батареи бутылок. Ребята переглянулись и молча двинулись к столу — в летной столовой такого не увидишь!
Разговор за столом шел отнюдь не на библейские темы и даже не о дальнейшей судьбе святой православной церкви и женских монастырей. Летчики вели обычный в своей среде застольный разговор («Я ему как врежу!..», «Смотрю — заходит!..», «Развернулся — и в лобовую!..», «А он, сволочь, в облака…» Впрочем, выражения были значительно энергичнее), монашки восторженно слушали и умильно поглядывали на них замаслившимися от первого стакана самогона глазами. Они всячески ухаживали за летчиками («Кушайте, кушайте!», «Откушайте вот этого…», «Не брезгайте нашим угощением…»), не оставляли их стаканы пустыми, не забывая, однако, и себя («Крепенькие старушки!» — говорил потом Петр Никифоров), просили не стесняться в выражениях, рассказывать еще, с ужасом всплескивали руками, крестились и как бы нечаянно прижимались от страха к рассказчикам!
— Так вот чего тебя, Валь, парк-то интересует! Опять к монашкам потянуло? А я-то думал, с чего это ты вдруг в садовники записался? — притворно удивился Виктор.
— И вы так ни разу больше не зашли к ним? — просил Миша Лусто.
— Ну, Пупок про пончики услышал! — засмеялся Гулаев. — Вон аж глаза разгорелись!
Что и говорить, водился такой грешок за Мишей, любил он плотно покушать, особенно мучное…
— Пойдешь туда, как же!.. Съели тогда все у них и спасибо не сказали… — со вздохом ответил Никифоров.
— А ты не бойся! Им, здеся, бог быстренько еще чего-нибудь послал!
— Они боятся, что их там благословлять будут. Крестами, какие побольше и потяжелее, требниками… Чем там еще? Паникадилом… — Бургонов думал, что кадило и паникадило одно и то же.
— Да нет… — постарался вернуться к началу разговора Карлов. — Парк знаменитый! Софиевкой зовется. Хозяйка рассказывала, что его когда-то граф Потоцкий в честь своей жены насадил…
— Это тебе хозяйка или монашка рассказывала? Ты припомни. А то после таких волнений и забыть-то недолго… Это почище всяких «шмитов» и «Фоккеров», — «участливо» спросил Королев.
— Да ну тебя!.. Дело говорю, а они… Интересно же посмотреть!
— Какого черта там смотреть?! Голые деревья, грязь…
Они все-таки побродили по парку, свернули с привычной тропинки к столовой. Конечно, парк не произвел впечатления на летчиков. Голые деревья, грязь, снег в кустах и по сторонам аллей, запустение. Три года войны, оккупация здорово отразились на этом памятнике садово-парковой архитектуры восемнадцатого века. Все это время никто не ухаживал за аллеями, кустарником, не подчищал и не подстригал деревьев. Уцелевшие скульптуры и фонтаны имели жалкий вид…
И вдруг среди темных деревьев сверкнула девственная белизна какого-то сооружения. Летчики повернули к этому манящему миражу. Деревья неохотно расступались, мираж приобретал все более конкретные формы. Легкие колонны, арочки, до этого видные каждая по отдельности, соединились и образовали прекрасную беседку — настоящее произведение искусства. Она была прекрасна даже на жалком фоне темных, плачущих под мелким моросящим дождем растений. Какова же она должна быть весной, когда буйно распустится листва, среди цветов и разных оттенков зелени! Или жарким украинским летом, когда все кругом дышит зноем, листья деревьев безвольно опущены книзу, воздух не шелохнется в душной истоме и только эта беседка гордо и непоколебимо выдерживает палящие лучи солнца, обещает прохладу, отдых…
Да, прохлада здесь действительно обеспечивалась. Беседка стояла посреди ручья на искусственном островке. К ней через поток был перекинут такой же легкий, ажурный мостик. На него даже страшновато было ступить, таким он казался изящным и хрупким…
— «Остров и беседка Любви»… — прочитал кто-то на чудом сохранившейся табличке возле мостика.
Потом, когда установилась сносная погода, летчики нашли с воздуха эту беседку и увидели, что она находится точно в створе посадочной полосы…
Сейчас, в этих сложнейших условиях, остров Любви был единственным ориентиром, который мог бы помочь сесть на аэродром, сохранить самолеты.
Не так-то легко при такой видимости найти остров Любви… Однако это все-таки легче, чем сразу точно зайти на бетонку и рассчитать посадку.
На остров наткнулись при полете в направлении, почти перпендикулярном по отношению к лежащей где-то севернее бетонке. Пришлось сделать что-то наподобие неправильного виража и выйти на остров с более приемлемым курсом. Это удалось далеко не сразу. Несколько неудачных попыток осталось позади. Но зато потом остались «сущие пустяки»: подвернуть немного, выпустить шасси, посадочные щитки (обычно к этому моменту они давно уже выпущены) и на моторе идти на небольшой высоте, пока не покажется полоса.
Под самыми крыльями мелькают верхушки деревьев (только бы не зацепиться за них!), потом редкие крыши городской окраины, поле, изгородь из колючей проволоки (аэродром!) — и — вот она, бетонка! — можно убирать газ…
Самолеты неожиданно вырываются из сплошного месива влажного воздуха, мокрого снега и тумана, выравниваются, проносятся немного над землей и приземляются возле командного пункта, в самом начале бетонки. Один, второй, третий, четвертый. Все… Самолеты целы и через каких-нибудь полчаса будут готовы к новому боевому вылету…
Коротки минуты отдыха у летчиков в дни напряженной боевой работы. Не успели мы пообедать, как в будочку вошел командир полка Фигичев. Он недавно заменил Боброва, переведенного в соседнюю дивизию. При виде Фигичева я всегда вспоминал первый день его командования полком. Сам Фигичев, собственно, был ни при чем. Он только зачитал приказы о награждениях летного и технического состава орденами и медалями, об объявлении благодарности ко Дню Красной Армии. У Виктора к ордену Красной Звезды прибавился орден Красного Знамени, я получил Красную Звезду…
Строй распустили. К летчикам первой эскадрильи подошел с поздравлениями Гулаев.
— Ну, славный, отважный Пупок, нужно по такому поводу салют дать! — Гулаев намекнул на то, что к медали «За отвагу», которой Миша Лусто был награжден раньше, теперь прибавился орден Славы третьей степени. — На, ракетницу! Осторожно, она заряжена, — он протянул Мише трофейную ракетницу с большой неудобной ручкой, оставив себе нашу, отечественную.
Они забрались на крышу командного пункта и по команде «три» выстрелили. Свист падающей бомбы прорезал воздух — это летела трофейная звуковая сигнальная ракета. Свист замер вверху, и тут же раздалось «у-вах!» — разорвалась вторая сигнальная ракета. Эти ракеты не были новинкой для летчиков. Однако эффект на этот раз был неожиданным. Выстрелив, Лусто не удержался на ногах, свалился на глазах у всего полка. Слишком уж велика для маленького Миши оказалась отдача у трофейной ракетницы… А Гулаев потом признался, что нарочно загнул края гильзы и этим еще больше увеличил отдачу…
Я улыбнулся, вспомнив этот эпизод, и снова посмотрел на Фигичева. Что он скажет?
— Ребята, не хотелось мне поднимать вас сегодня после такой посадки, но ничего не поделаешь… Нужно…
У фашистов на этом участке не было достаточного количества наземных войск. Наличные силы не могли ликвидировать плацдарм и сбросить советских солдат в Днестр. А плацдарм — это путь к государственной границе, к Румынии. Его нужно ликвидировать во что бы то ни стало. Ждать подхода подкреплений? Слишком долго. Плацдарм укрепится, расширится. Нужно действовать немедленно. И немецкое командование основную задачу по ликвидации плацдарма возложило на авиацию. По нескольку раз в день над небольшим участком на правом берегу Днестра напротив Ямполя и над переправой появлялись большие группы фашистских самолетов.
Тяжелая задача выпала на долю наших истребителей. «Нужно…» Летчики это знали.
— Эх, остров Любви подвел! Сидели бы сейчас где-нибудь в поле и покуривали, — пошутил кто-то.
— Ладно, хватит, здеся! — перебил Архипенко. — Когда вылетать? — спросил он у Фигичева.
— Через двадцать минут…
И на этот раз истребителям с ходу пришлось вступить в бой. Правда, над плацдармом кружилась только одна «рама».
Вся четверка атаковала фашистского корректировщика. И в этом, пожалуй, была ошибка: гитлеровцы издали увидели атакующих и.используя прекрасные маневренные качества своего самолета, стали уходить на юг. Атаки следовали одна за другой, не принося успеха. А тут и с пункта наведения передали команду возвращаться назад: нельзя оставлять без прикрытия плацдарм и переправу.
Фашисту все же не удалось уйти. Зная, что он значительно углубился на свою территорию и советские истребители не могут его долго преследовать, он решил сразу оторваться пикированием. Вот тут-то и поймал его в прицел Миша Лусто. Еще одна длинная очередь, и «рама» вспыхнула, накренилась, да так и врезалась в землю.
Истребители вернулись к плацдарму.
— Архипенко! С юга подходят двенадцать «костылей». — «Костылями» летчики прозвали легкий немецкий пикирующий бомбардировщик «ХШ-126» — биплан с очень высоким килем.
— Вас понял! — отозвался Архипенко на сообщение Горегляда.
— Разворот влево на девяносто, орелики! — и четверка, по команде Архипенко, резко развернулась на девяносто градусов влево, на плацдарм, чтобы встретить вражеские самолеты на подходе к плацдарму. Тихоходных «костылей» истребители встретили на подходе к плацдарму. То, что произошло дальше, боем назвать было нельзя. «Костылей» атаковали сзади, и с первой атаки два из них загорелись и стали падать. Перкалевая обшивка фюзеляжей и крыльев «костылей» моментально сгорела, и на землю упали только «скелеты» от бывших легких бомбардировщиков. Остальные десять «костылей».бросились врассыпную и, пользуясь своей малой скоростью и отличной маневренностью, уходили от огня истребителей и оказывались в довольно густой легкой кучевой облачности. Оттуда и сбрасывали бомбы в божий свет как в копеечку.
Время прикрытия истекло, и мы получили разрешение идти на аэродром.
Днестр остался позади. Я посматривал на бензиномеры, прикидывая, хватит ли горючего. Результаты получались не вполне удовлетворительные. «А что, если снова заход от острова Любви? — невольно думал каждый. — Тогда наверняка придется садиться на пузо…» Но…
— Десятка! Возвращайтесь ко мне! С юга подходит большая группа бомбардировщиков! — раздался в наушниках голос Горегляда.
— Я Десятка, вас понял. Разворот влево на сто восемьдесят!
Снова под крылом мелькнула блестящая извилистая лента Днестра, впереди раскрывались холмистые дали Бессарабии. А навстречу, как тяжелое облако, приближались бомбардировщики. В одной группе шли сразу восемьдесят «лаптежников». В плотном строю, как связанные, они направлялись прямо к переправе.
Восемьдесят самолетов против четырех!
Соотношение сил весьма неравное. Однако немцы не пошли на пролом. Еще до встречи «Юнкерсы» перестроились в три оборонительных круга, взаимно прикрывая друг друга.
Нелегко подойти и к одной такой оборонительной «карусели». Сзади встречают пулеметы стрелков, спереди — пушки и пулеметы летчиков.
А тут сразу три «карусели». И все они касаются друг друга, вращаются навстречу одна другой…
Истребителей сопровождения не было. Видимо, их командование знало, что мы долго были над линией фронта, израсходовали горючее и боеприпасы, и теперь не рассчитывало на встречу в воздухе. Ведь следующая группа должна подойти еще не скоро.
Отсутствие фашистских истребителей облегчило задачу. Каждый из четырех летчиков мог действовать самостоятельно, не заботясь о прикрытии напарника от истребителей. Это было опасно, но другого выхода не было: гитлеровские «карусели» все время смещались в сторону плацдарма, переправы. Немцы еще надеялись прорваться туда, уничтожить эту тоненькую артерию жизни…
Нужно было рисковать. И Архипенко подал команду:
— Атаковать всем самостоятельно!
«Как же к ним подойти? — подумал я. — Снизу, на большой скорости? Сразу вплотную к „лаптю“, тогда по мне стрелять не смогут!»
Решение принято. Менять его нельзя. Это не на земле. Таков уж закон авиации. Правильный закон. Он спас не одну тысячу жизней летчиков. Основан он на таких положениях: первое решение всегда правильное, так как оно основано на всем предшествующем опыте и принимается мгновенно, почти помимо сознания летчика; даже приняв неверное решение и доводя его выполнение до конца, можно выйти победителем в самой сложной обстановке; если же менять решения, гибель неминуема.
Сейчас решение принято правильное. Но выполнение его было, пожалуй, слишком поспешным. Вместо того чтобы подойти к «Юнкерсам» с внешней стороны общей «карусели», я атаковал одного из бомбардировщиков, когда тот шел к центру, к месту переплетения всех трех оборонительных кругов. Теперь этот «лаптежник» стал щитом для моего самолета. По нему не могли стрелять ни идущие сзади «лаптежники», ни идущие на встречных курсах.
В кольце прицела быстро растет силуэт «Юнкерса». Занял все кольцо, больше, больше… Закрыл все переднее бронестекло. Отчетливо видно грязное, в подтеках отработанного масла брюхо фашиста, можно различить отдельные заклепки на нем… Вдруг бомба, подвешенная между двух неуклюже торчащих ног атакованного бомбардировщика, оторвалась, пошла вниз. Пора… Нажим гашетки. «Юнкерс» как-то неуверенно качнулся, пустил струйку дыма, клюнул носом и, охваченный пламенем, завертелся в штопоре. Щит, роль которого до этого момента выполнял сбитый бомбардировщик, исчез, в ту же секунду по «Аэрокобре» прошла очередь, выпущенная с «Юнкерса», идущего встречным курсом. На фоне монотонного гула мотора отчетливо прозвучали звонкие разрывы снарядов и сухой треск пулевых попаданий. Сильно, затрясло мотор. В кабине появились клубы дыма, а языки пламени стали «нежно», будто ласкаясь, облизывать ноги.
«Горю!.. Скорее на свою территорию!» — молнией пронеслась мысль. И тут же ее сменила другая: «Мотор еще тянет… Успею… Немец рядом!» Как раз подвернулся и новый «щит» — я пристроился ко второму «лаптежнику». И снова никто по моему самолету стрелять не мог. Боброва-то в этом вылете не было.
Все больше дыма в кабине, все длиннее языки пламени, правый глаз заливает кровь из раны на лбу. И все ближе немецкий самолет, он бросает бомбу… как и первый, на свои войска. «Пора!» — и снова сноп огня из носа самолета. Ему некуда тянуться. Он тут же исчезает в брюхе «Юнкерса». Этот вспыхнул сразу и исчез внизу. И снова после исчезновения щита «ястребок» прошивает фашистская очередь. Теперь с другой стороны…
На земле догорают четыре «лаптежника», а немцы все так же крутятся в своей «карусели», все так же пытаются прорваться к переправе или хотя бы к плацдарму. Их действия становятся непонятными. Обычно после первых же потерь гитлеровцы бросают бомбы куда попало, будь то даже собственный аэродром, и удирают.
«Еще держится самолет… Еще немного… Еще атакую — и на свою территорию», — мотор продолжал работать, тянул, а впереди вот он рядом, новый «щит» — перед носом истребителя, совсем рядом шел еще один «Юнкерс».
На этот раз фашист попался какой-то строптивый. Если первые два вражеских бомбардировщика вели себя спокойно, терпеливо ждали, когда их собьют, то этот, третий, попался с норовом, он то резко маневрировал, не давая возможности точно прицелиться, то задирал нос своего самолета, давая возможность своему стрелку обстреливать атакующий истребитель. В такие моменты я отчетливо видел, как со ствола пулемета стрелка срывались короткие, злые огоньки, а в сторону моей кабины тянулись дымные трассы пуль. В таком положении не до точного прицеливания, и я дал очередь навскидку — «Юнкерс» задрал нос, и я послал ее чуть повыше этого задранного в небо мотора. Очередь, казалось, прошла мимо, не задев ни мотор, ни фюзеляж бомбардировщика. Однако дальше началось что-то неожиданное — у «Юнкерса» отвалился кок воздушного винта, затем отвалился и сам мотор, «Юнкерс» перешел в плоский штопор. Один за другим из бомбардировщика выпрыгнули два парашютиста. Из первых двух сбитых никто не выпрыгивал, очевидно, в них экипаж погиб сразу от пуль и снарядов «Аэрокобры». А здесь сразу два парашютиста спокойно снижались под куполами своих парашютов.
Продолжать бой я уже не мог. Мотор трясло, он захлебывался, почти не тянул. Я развернулся в сторону Днестра. Перетянуть Днестр, а там уж точно свои войска… Впереди виднелись три «Аэрокобры», идущие туда же, за Днестр. Это Архипенко уводил с собой Королева и Лусто. Я видел еще, как эта тройка стала заходить на посадку на довольно большой участок целины, оставшийся нетронутым среди перепаханных вокруг полей. Я и сам хотел зайти на посадку следом за ними, но мотор «сдох», кабину заполнил настолько густой дым, что стали не видны даже приборы. Инстинктивно отдал ручку управления от себя, чтобы не потерять скорость и не свалиться в штопор, стал снижаться по прямой. Все время приходилось как бы пританцовывать на сиденье, поднимать ноги, чтобы дать им хоть немного прохлады. В языках пламени все-таки с непривычки было горячо… Наклоняясь к самой приборной доске, старался выдерживать скорость снижения не более полметра в секунду, а поступательную — не более ста пятидесяти миль в час. Так я надеялся ткнуться в землю с минимальной вертикальной и поступательной скоростью. При падении на ровное поле это могло спасти. Но кто знает, может, меня встретит обрыв оврага, которых в этих местах было достаточно, тогда — все, конец, о таком варианте я старался не думать, следил за высотой и скоростью снижения. Сбросил дверцу кабины, надеясь, что дым уйдет, но наоборот — дыму стало еще больше. Прыгать с парашютом — высота по прибору около шестидесяти метров — парашют не успеет раскрыться. Да и верить прибору нельзя. Взлетали мы в Умани, на равнине, а здесь, на границе с Бессарабией, судя по карте, встречаются довольно большие возвышенности.
«Сейчас… Сейчас будет, как говорят: нет земли, нет земли — полон рот земли!.. Так… Уменьшить угол планирования… Так…» Это «так» совпало с ударом о землю. Я почувствовал, что «Кобра» начинает поднимать хвост, пытаясь перевернуться, взял ручку управления на себя, самолет оторвался от земли… «Нельзя высоко, свернется…» Снова ручка от себя, и снова удар. Второй раз ручка на себя, отрыв, от себя, удар о землю. Третий раз самолет уже не оторвался от земли, пахал носом землю, постепенно подымая хвост, но вот и хвост опустился на землю. Наступила тишина. Позади осталась борозда полуметровой глубины и метров двадцати длиной.
Я выскочил из кабины. Сзади увидел полыхающий мотор и весь хвост. Шомполом от пистолета вместо отвертки открыл капоты, люки, пытался землей затушить пламя, ничего из этого не вышло.
Появился присланный с пункта наведения связной «У-2». Его пилот закричал:
— Брось ты, не затушишь!
— Ладно… Хоть рацию сниму…
Орудуя шомполом пистолета вместо отвертки, я открыл лючок радиостанции. Оттуда выплеснулось пламя. Все же я сумел вытащить приемник. Передатчик же безнадежно горел…
— Тикай! Взорвется сейчас! — закричал пилот, путая русские и украинские слова.
Я оглянулся — пламя подбиралось к бензобакам. Подхватив приемник и парашют, отбежал к «ПО-2». «У-ух!» — рванулся сзади один из бензобаков.
— Поехали…
Лететь пришлось недалеко, всего километра два. На прекрасной полевой площадке (впоследствии она стала аэродромом нашего полка) возле радиостанции наведения стояли остальные три истребителя. «ПО-2» подрулил прямо к ним. Навстречу самолету от радиостанции шел Горегляд. Я выскочил из кабины и доложил:
— Товарищ командир! Младший лейтенант Мариинский подбит в воздушном бою, сел на вынужденную. Самолет сгорел… Потушить не удалось…
— Ладно, ладно. Хорошо поработали… Ранен? — с тревогой спросил Горегляд, показывая на кровь, залившую всю правую сторону лица и мою гимнастерку. Он видел, конечно, рану, но этим одним словом спрашивал, тяжелая ли рана, в бою или при посадке она получена, как чувствует себя летчик.
— Так, царапнуло немного…
— Царапнуло? Ну, сейчас перевяжут. Потом вас с Королевым отвезут домой. Вот только пакет приготовят.
«С Виктором?! Что с ним?» — Я повернулся к истребителям и увидел Виктора, который лежал скорчившись под крылом своего самолета и стонал. Оказывается, еще в воздушном бою у него начался приступ аппендицита, но он не бросил товарищей, выдержал до конца боя, посадил самолет и только здесь, на земле, окончательно свалился…
От Архипенко и Лусто я узнал, что наземные войска очень довольны прикрытием. Сейчас для них переправа — вопрос жизни и смерти. Ведь на плацдарме нет никакой техники. Лишь сегодня туда сумели перетащить первую небольшую пушку. И это рассматривается как громадное достижение!
— Так что без нас, — с неожиданной похвальбой продолжал Федор Федорович, подразумевая под словом «нас» себя и свою эскадрилью, — их бы давно здеся всех перебили.
Гордый только что проведенным боем, Архипенко явно преувеличивал. Он участвовал в боях с самого начала войны и прекрасно знал, что успех операции достигается согласованными действиями всех родов войск, а не одной авиации. Конечно, фашисты могли и уничтожить переправу. Но плацдарм уже был захвачен, и не так-то просто его ликвидировать. А вместо уничтоженной саперы быстро навели бы новую переправу, и ничего гитлеровцы с этим не могли сделать. Ведь шел не 1941-й, а 1944 год! Вчера только Бекашонок в паре с Кошельковым встретился над переправой с восемьюдесятью «Ю-87» и четырьмя «Ме-109». Сбили трех «лаптежников», одного «Мессера» и благополучно вернулись домой.
Я не задумывался над этим.
— Вас уже заправили?
— Какой быстрый! Откуда здеся бензин?! Посидим пару дней, пока привезут. Санаторий с Пупком откроем. Вино, говорят, виноградное здеся есть. Вместо воды пьют!.. А тебя с Королевым сейчас отвезут домой.
Минут через десять Виктор и я летели на свой аэродром.
Долго пришлось лететь на этом легком тихоходном самолете. Солнце клонилось к закату, а мы все еще были в воздухе. Наконец впереди показался городок, внизу промелькнул хорошо знакомый остров Любви.
«Остров Любви… Не сели тогда на пузо. А толку что? Все равно сел. И не рядом с аэродромом, а у черта на куличках, возле линии фронта…» Мне казалось, что та посадка в пургу была давным-давно, что с тех пор прошла тысяча лет — все отодвинул в далекое прошлое только что проведенный бой. Я сначала даже не подумал о том, что остров Любви, вернее, любознательность, которая привела летчиков в парк, помогла сохранить самолеты, дала возможность вылететь еще раз. Иначе, возможно, переправы сейчас бы не существовало…
Медленно, выбирая места посуше, брел я домой. Уже прошел неширокое поле, отделяющее аэродром от поселка, в котором мы жили, и сейчас пробирался вдоль заборов к своему дому. Навстречу бежал, не разбирая дороги, Григорий Сергеевич Королев — отец Виктора. Он только на днях прибыл в полк. До этого воевал в танковых частях, во время атаки был ранен, горел в танке, попал в госпиталь. Там по письмам его и нашел Виктор и добился перевода в свой полк — старика по ранению и по возрасту чуть было не демобилизовали, но он хотел послужить с сыном. С тех пор мы жили втроем — Григорий Сергеевич, Виктор и я.
Он уходил с аэродрома в БАО, но там ему сказали, что группа, в которой вылетал его сын, не вернулась с задания в полном составе, и он бежал узнавать подробности.
— Стой, батя! Куда бежишь? — остановил его я (старика все летчики и техники полка звали батей).
Григорий Сергеевич поднял голову, посмотрел на меня отсутствующим взглядом, вздрогнул, увидев пропитанный кровью бинт, и спросил как будто с осуждением:
— Вернулся? А Виктор где?!
Мне даже неловко стало от такого вопроса. Старик вроде обвинял: «Ты-то вернулся, а Виктор…» В бою все может быть. Хорошо, на этот раз обошлось. А случись что? Как тогда посмотрит, что скажет батя?.. Ведь и сейчас прозвучало — так мне показалось — «лучше бы ты не вернулся»…
— Вон, сзади ведут… — только и сказал я. Я вовсе не думал, что мне или Виктору что-либо угрожает, пока мы летаем вместе. Но не всегда же мы вместе. Вот как сегодня, разошлись по одному в бою… Поэтому и ответил не очень-то приветливо.
— Ведут?! — Старик бросился вперед.
— Куда, батя? Не спеши! Приведут. Не ранен он, аппендицит у него!
— Не ранен? — Григорий Сергеевич оглянулся, еще раз посмотрел на мою забинтованную голову, махнул рукой — «рассказывай!» — и побежал.
В этот же вечер в госпитале Виктору сделали операцию. И, сказали врачи, вовремя. Пришлось даже Ивану Ивановичу выделить несколько порошков сульфидина из тех, что он с большим трудом достал в Кировограде для одного из летчиков, заболевшего воспалением легких. Тогда обошлось без сульфидина, и теперь Иван Иванович берег эти порошки пуще зеницы ока.
Отец Королева успокоился, ночью долго не давал мне спать, расспрашивая о последнем бое, о боях, проведенных с Виктором раньше.
Снова в боях
После Вапнярки машина наконец выбралась из густой украинской грязи и быстро покатила по сухому, хорошо накатанному проселку. Впервые за всю дорогу за ней потянулся шлейф пыли.
Я улыбнулся: ничего не изменилось, все так же, как и во время последнего вылета, хотя и прошло больше двадцати дней. Тогда тоже при подходе к цели вместо луж на полях мы увидели под собой подсохшую землю, пыль на дорогах…
Из-за ранения я не летал с тех пор. Полк успел сменить два эродрома.едва поспевая за уходящей линией фронта. И все равно летать приходилось далеко. Через пять дней после того памятного боя у переправы через Днестр, 26 марта 1944 года, наши войска вышли к государственной границе СССР — реке Прут, а на следующий день река была форсирована. К 9 апреля на территории Румынии были форсированы реки Серет, Сучава, и фронт достиг предгорий Карпат, вплотную приблизился к городу Яссы. Дальнейшее наступление приостановилось, так как противник ввел в бой сильные резервы и в ряде мест предпринял контратаки…
Машина тем временем подъехала к полевой площадке, на которой расположился полк, и остановилась у землянки командного пункта. Я поднялся, потянулся, чтобы расправить мускулы, затекшие от длительного сидения на ящиках со штабным имуществом, и тут же увидел заходящую на посадку четверку истребителей. По номерам определил: Архипенко, Бургонов, Лусто… «Наши!» — схватил вещмешок, выпрыгнул из кузова и побежал к стоянке, туда, куда заруливали только что севшие самолеты. «Кто же четвертый?» — мучил меня вопрос. Номер самолета незнакомый — тринадцатый.
— Здравствуй, батя! — поздоровался на бегу с отцом Королева. — Где Виктор?
— Здравствуй. Там, — старик махнул рукой в сторону стоянки. — Под своим самолетом.
Я побежал дальше, хотя этого можно было и не делать: навстречу, к командному пункту, шли все летчики эскадрильи. Замедлил шаг, подошел к Архипенко.
— Товарищ командир, младший лейтенант Мариинский прибыл.
— Здоров, — Архипенко протянул руку. — Как, здеся, добрался? Обедал уже? Нет? Пойдем с нами.
— Вот вещмешок только отдам механикам.
— Давай сюда сидор-то, — взял вещмешок Виктор. — Сейчас мы это организуем. Петро! — окликнул он своего механика. — На сидор, отнеси на самолет!
Мы с Королевым немного отстали от остальных и некоторое время шли молча. Первым заговорил Виктор.
— Значит, снова вместе, — произнес он таким тоном, будто расстались мы не два дня, а по крайней мере два месяца назад. — Узнаешь местность?
— А как же! Да, а кто летел сейчас четвертый?
— Лебедев… Боев-то почти нет, вот и натаскивают его после перерыва.
Лебедев… Перерыв и в самом деле у него был солидный. Еще во время боев за Днепр, 24 октября 1943 года, он был сбит и выпрыгнул с парашютом на территории противника. Так доложили летчики, участвовавшие в том бою. О дальнейшей его судьбе ничего не было известно.
«Пропал без вести» — такое сообщение пошло по всем инстанциям. А в феврале он сам пришел на аэродром и рассказал, что в бою на его «Кобре» было перебито ножное управление, самолет свалился в штопор. Из-за малой высоты вывести из штопора не смог, выпрыгнул с парашютом. При приземлении — купол еще не успел полностью раскрыться — ударился о землю, потерял сознание. («Да… — подумал тогда каждый. — И полностью раскрытый парашют на таких не рассчитан…» Сергей имел рост добрых метр девяносто и был плотной комплекции.) Пришел в сознание, когда немцы уже отобрали у него документы и пистолет. Попал в плен… Но при переезде из Гуляй Поля сумел бежать и скрывался у колхозника Исакова в селе Фрейлебен до прихода частей Красной Армии. Затем вернулся в свой полк.
Примерно в те же дни в полк вернулся и Жора Ремез. Но у него все было просто. 17 декабря 1943 года его сбили. Выпрыгнул. Попал в плен. Бежал. Сражался в партизанском отряде — он и на аэродром пришел с немецкой винтовкой и с красной лентой, нашитой наискось на летный шлем. Принес справку от партизан, и его сразу стали брать на задания. А Лебедев… Проходил дополнительную проверку, потом возникали новые причины: не было самолетов, шли сильные бои…
— Лебедев? Ну, давно пора было летать ему! Жалко смотреть на него на аэродроме…
Наши войска продолжали вести наступательные действия. Они захватили плацдарм на правом берегу в излучине Днестра в районе Григориополь. С него и непосредственно угрожали Кишиневу. Здесь наступала 5-я гвардейская армия. Почти в то же время начала наступление на Яссы, в Румынии, 27-я армия. И тут и там требовалось прикрытие — контратаки противника поддерживались интенсивными действиями крупных групп бомбардировщиков, переброшенных сюда с аэродромов Крыма. Фашисты сконцентрировали здесь до тысячи двухсот самолетов, из них только истребителей более четырехсот пятидесяти. А 7-й истребительный авиакорпус, прикрывавший наступающие армии, имел в наличии к 1 апреля всего шестьдесят четыре боевых самолета…
Кроме того, гитлеровцы пользовались своей обычной тактикой — их самолеты могли часами не появляться над линией фронта. Но зато потом сотни бомбардировщиков и штурмовиков поднимались с близлежащих аэродромов и атаковали советские войска. А наши истребители могли быть над линией фронта лишь по десять минут: слишком далеко располагались их посадочные площадки. Из-за этого они вынуждены были действовать небольшими группами — по два, максимум по четыре самолета. Иногда собирались группы и побольше. Так, хоть и меньшими силами, достигалось почти непрерывное прикрытие наземных войск.
Корпус, которым командовал генерал Утин, действовал очень удачно. В апреле, проведя шестьдесят восемь воздушных боев, его летчики сбили сто восемьдесят немецких самолетов, потеряв при этом лишь семь.
Дело доходило до курьезов…
К линии фронта подходит фашистская армада. Сейчас гитлеровцы начнут бомбить и штурмовать наши войска. Советских истребителей в воздухе нет, зениток тоже нет в этом районе. Что делать?..
— Товарищ генерал, разрешите я их пугну! — обратился к командиру корпуса радист станции наведения.
— Как?! — удивился Утин.
— А я на их волне по-немецки передам, что наши в воздухе.
— Давай попробуй, — согласился генерал.
Радист бросился к микрофону. Рация, оказывается, у него уже была настроена на волну фашистских бомбардировщиков.
— Ахтунг, ахтунг! В воздухе четыре «Кобры».
Свершилось чудо. Даже не доходя до линии фронта, фашисты сбросили бомбы в расположение своих же войск и пикированием стали уходить обратно.
* * *
Королев после операции еще на задания не ходил, первые дни я был «на подхвате». Летал ведомым у Лусто, у Архипенко, потом мне самому дали ведомого Ипполитова. Я ничуть не обрадовался своему «производству» в ведущие. Ведомым у Королева я отлично себя чувствовал. Мне и раньше предлагали водить пару, но я отказывался. «До конца войны вдвоем пролетаем!» — говорил Виктору. Ведь последнее время понятия «ведущий» и «ведомый» для нас были очень условными. В бою каждый из нас бывал и ведущим и ведомым. А Ипполитов… Он же почти не летал на боевые задания: то самолетов не было, то его посылали за «ястребками» в тыл. Так и прошло время. Да и привычка к одиночным полетам, к тому, что надеяться можно только на свои силы… «Будет смотреть только себе под хвост… И ничего не увидит. Придется и за себя и за него смотреть…» — думал я, когда мы возвращались с командного пункта после получения задания, но сказал другое:
— Смотри, Иван! Идешь ведомым, так чтобы задняя полусфера была обеспечена. Мне некогда будет назад смотреть…
В этом полете на меня действительно возложили сложное задание. Ударную группу вел Фигичев. Я должен был парой ходить выше шестерки Фигичева на тысячу-полторы тысячи метров и обеспечить безопасность группы от внезапных атак «охотников».
— А я что, мне назад и положено смотреть…
— Держись на месте, чтобы я тебя всегда видел, — а то собьют и не увижу когда.
Конец разговора услышал Виктор.
— Куда идете-то? — Он не ходил на КП и не знал, какое нам поставили задание.
— За «охотниками» гоняться будем. Вот сюда, — я достал из-за голенища карту и показал на излучину Днестра, — Григориополь, Спея… — улыбнулся и добавил: — Здесь, в Буторах и в Григориополе я жил когда-то… В тридцатом — тридцать втором годах…
— Да, твою родину освободили уже, кажется?
— Давно! Дней десять прошло. Балту ж седьмого освободили, а потом и Ананьев.
— Съездишь туда?
— Когда же ехать? Вон бои какие. Да и потом, — я вздохнул, — там у меня никого не осталось. Мать с братьями в Аркуле, на Вятке, живет…
По всему маршруту стояла ясная погода, но над целью пришлось немного снизиться. Ровный слой неплотных облаков простирался на высоте трех тысяч метров. Я парой ходил под самой кромкой, так, что даже задевал иногда свисающие лохмотья тумана. Иван держался хорошо. Хоть он летал до сих пор мало, но, видимо, учел и тот разговор в Никифоровке, и другие высказывания летчиков во время разборов полетов, и разговор с ведущим перед вылетом.
Фигичев ходил примерно на тысячу метров ниже. Немцы не появлялись. «Так, наверное, никого и не встретим», — подумалось, но вскоре рация наведения передала:
— Фигичев! Будьте внимательны. Иногда из-за облаков выходит пара «худых».
— Вас понял. Четверка, смотри там!
— Смотрю…
Еще две или три минуты прошло. Я проскочил свисающий клок облачности, оглянулся влево назад на Ипполитова. На месте. Вправо назад. Из-за одного только что пройденного облачка выскочил «Мессер» и стал пикировать на группу Фигичева. Мою пару он не видел.
— Вправо, Иван!
Я поймал «шмита» в прицел и под ракурсом примерно три четверти открыл огонь. Трасса прошла немного сзади мотора, прошила кабину и хвост «Ме-109». Но «Мессер» почему-то никак не реагировал на огонь. С тем же углом он продолжал пикировать к шестерке Фигичева.
— Фигичев, добей «худого»! К вам пикирует! «Этот не пропустит, добьет!» — передал я и стал оглядываться по сторонам: где-то рядом должен быть второй «Мессер». За первым больше не смотрел — там Фигичев.
За прошедшие два месяца летчики успели хорошо узнать своего нового командира полка. Начал он войну здесь, в Бессарабии, на границе. Служил в одном полку с Покрышкиным. Воевал и на «МиГ-3», и на «Ил-2», и на «И-16». Сбил десяток фашистов, больше пятисот боевых вылетов имеет, сотню автомашин сжег, шесть танков… Говорят, будто даже на «Мессере» ему приходилось летать… Конечно, добьет! Главное, не пропустить второго «шмита». А может, еще где-то пара или две ходит… Они ж не докладывают!
— Смотри, Иван, внимательно! Второй где-то ходит!
Я опускался метров на двести, чтобы лучше видеть нижнюю кромку, возвращался назад. Где лучше ходить? Под самой кромкой — видишь только ниже себя. Зато и тебя не атакуют сверху. Опустишься — лучше видишь, но окажешься под ударом выходящих из облаков фашистов. Чтобы уравнять возможности, нужно ходить на большей скорости. А это лишний расход горючего…
— Фигичев! Посматривайте вверх. Появится «худой», передайте! — Я решил остаться под самой кромкой облаков.
Однако фашисты больше не появлялись.
И вообще на несколько дней воздушные бои прекратились, хотя в тот день они были довольно жаркие. Вот незадолго до их вылета на задание с восьмеркой соседнего полка ходил Горегляд. В этом же районе они встретили сорок пять «Ю-87» и двух «Ме-109». Сбили тринадцать «лаптежников», а сами, целыми, вернулись на свой аэродром.
Но по возвращении домой я узнал печальную новость. Перед ними на задание вылетали парой Бекашонок и Кошельков. Вели бой с «Мессерами». Бекашонок сбил одного, Кошельков — двух «худых», но и сам погиб…
Похороны Николая Филипповича (так величали этого двадцатилетнего парня на траурном митинге, хотя раньше он был просто Колькой, Николаем), успевшего за короткий срок отличиться в воздушных боях, полностью заслонили собой воспоминания об этом рядовом вылете. Я даже не спросил, добил ли Фигичев того «Мессера», но через два дня меня подозвал на стоянке сам Фигичев. Он разговаривал с каким-то подполковником из штаба корпуса.
— Слушай, Мариинский, ты доложил тогда оперативному, что сбил «худого»? Вот когда из облачности он выскочил.
— Нет… Я же передал вам тогда, чтобы вы добили его, он к вам пикировал. А я искал второго…
— Чего его добивать было? Он так и пикировал мимо нас до самой земли. Видно, летчик убит был…
Вот подполковник говорит, «худой» упал.Утин сам видел, а никто не докладывает! Я тогда забыл сказать оперативному, не до того было…
— Так я же не видел, как он упал… Как я мог доложить? А раз не доложил, то и не послали никого за подтверждением…
— Ну ладно, иди…
— Чего он тебя? — спросил Виктор, когда я вернулся к самолету.
— Да, говорит, сбил я тогда «шмита»…
— Когда?
— Когда он группу водил. В тот день, когда Кошелькова сбили…
— Ты ж не говорил, что бой был? И не стрелял, пробовал только.
Я и в тот раз летал на самолете Виктора, и Королев видел, что оружейники вытряхнули только две стреляные гильзы от пушки и десятка полтора из пулеметов.
— Ты ж знаешь, я оружие не пробую. Зачем лишний расход? Карпушкин готовит, дай боже, безотказно. Несколько благодарностей получил… А тогда, какой бой… Выскочил «шмит» из облаков, дал очередь по нему, и все.
— Попал?
— Попасть-то попал, только он и не шевельнулся. Как пикировал до этого, так и дальше пошел, а Фигичев говорит, что он так в землю и спикировал, не выводил.
— А ты-то что, не видел?! — Королев от удивления даже приподнялся с чехлов, на которых он сидел под плоскостью: он привык, что его ведомый давно научился все замечать в бою.
— Некогда было за ним смотреть: второго искал. По одному ж они не ходят…
— А ведомый на что? Ипполитов должен был смотреть за вторым. А твое дело — бить, пока не увидишь, что тот готов.
— Ну, на него надеяться… Он же ни черта, наверное, не замечает еще в воздухе. Сам знаешь, в первых вылетах только хвост ведущего и видишь. В общем, с таким ведомым атакуй, а сам назад смотри, чтобы его еще не сбили.
— Учить нужно! Тебя-то учили.
— Учить… Сразу не научишь. Не один вылет нужен… А потом у него налет раз в десять больше моего. Не очень он моих советов послушает.
— Налет! У него налет в десять раз больше, зато боевой-то налет у тебя в сто раз больше… Ну, ладно. Через пару дней я летать начну. Пойдешь опять ведомым? — с хитрецой спросил Виктор. Он не сомневался, что я будут летать с ним, ему просто хотелось подковырнуть меня. Как, мол, новоиспеченный ведущий посмотрит на такое предложение.
— Какого черта?! Конечно!
Не вернулся…
Последствия операции давали себя знать, и говоря, что через пару дней он начнет летать, Виктор не думал сразу оказаться в самой гуще боев. Он рассчитывал, что затишье, наступившее в воздухе, продлится несколько дней. Но вот в одном из вылетов под Яссы Миша Лусто почему-то оторвался от группы, сунулся под облака и тут же оказался в прицеле у «Фоккера». Круто спикировав до самой земли, он посадил горящий самолет. На следующий день не вернулся с задания Маслаков. В бою бронебойный снаряд прошел через ступню его левой ноги. Он сумел перетянуть ногу ремнем, но из-за большой потери крови не смог долететь домой, а сел на аэродром соседнего корпуса. Самолет остался цел, но сам Маслаков попал в госпиталь, и ему ампутировали ступню…
В общем, бои разгорелись с новой силой. Наши наземные войска еще не успели подтянуть резервы и вели наступательные действия малыми силами. Конечно, летчики не знали замыслов командования, но создавалось впечатление, что ведется прощупывание линии обороны противника с целью определения ее слабых мест. Бои шли то на Днестровском плацдарме северо-западнее Тирасполя, то в Румынии севернее Ясс, то в направлении на Тыргу-Фрумос… И каждую попытку нашего наступления фашисты встречали массированными налетами своей авиации.
В такой обстановке и полетел Виктор первый раз после месячного перерыва. Фигичев вел десятку на прикрытие наземных войск в районе Вултурул — Яссы. Мощные кучево-дождевые облака свисали из сплошной темно-серой пелены вверху. На этом мрачном фоне, как на экране немого кино, я видел пару «Кобр», идущих тысячи на полторы выше основной группы. Вдруг из-за кучевого облака вырвались два «Фоккера» и сразу оказались в хвосте у нашей пары.
— «Фоккеры», Иванов! — крикнул кто-то по радио, но было уже поздно. Мощная струя огня протянулась от «Фоккера» к «ястребку», впилась в фюзеляж, в крыло, и от самолета Иванова стали отделяться исковерканные разрывами куски дюраля, из правой плоскости выплеснуло пламя, сквозь него проскочил летчик, некоторое время падал, не раскрывая парашюта, потом, видно, дернул кольцо и закачался под четырехугольным шелковым куполом. «Опять Иванов в новых сапогах полетел…» — Иванов, как нарочно, только утром на аэродроме получил новые сапоги.
В наушниках раздался голос командира корпуса.
— Фигичев! «Фоккеры» штурмуют, атакуй!
— Вижу! — Внизу в сумраке облачного дня возилось десятка три «ФВ-190».
Истребители с ходу вступили в бой. Я еще пикировал, когда Виктор начал выходить из атаки боевым разворотом. Я хотел повторить маневр ведущего, но увидел, что снизу на лобовых к нему тянется пара «Фоккеров». Ведущий в кольце. Триста метров. Огонь. И я энергично потянул ручку на себя, перекладывая одновременно самолет на левое крыло. «ФВ-190» так и не успел открыть огонь. Я видел, как трасса оборвалась в центре лобового капота «Фоккера», тот резко перевернулся на спину, будто одним движением, не считаясь с законами аэродинамики и скоростью, закончил первую половину петли Нестерова, или «мертвой» петли, как ее по привычке все еще называли летчики, и, теряя куски мотора, посыпался к земле.
Бой продолжался недолго. «Фоккеры» пассивно оборонялись и быстро покинули поле боя. На них, очевидно, сидели летчики-бомбардировщики. Ходили слухи на фронте, что немцы из-за недостатка бомбардировщиков пересаживают на истребители «ФВ-190» летчиков бомбардировочной авиации, подвешивают к «Фоккерам» бомбы и дополнительные пушки и используют этот самолет в качестве пикировщика и штурмовика. Вот с такими «асами» и пришлось, наверное, встретиться на этот раз. Это мнение вскоре подтвердилось.
25 апреля шестерка Гулаева встретила двадцать пять «Фоккеров». Шли они в кильватерной колонне звеньев. Даже звенья у них были не по четыре самолета, как у истребителей, а по три, как у бомбардировщиков. С первой же атаки Гулаев сам сбил все три «Фоккера» замыкающего звена. Потом сбил еще два. Всего же группа сбила одиннадцать «Фоккеров»! А «Фоккеры»? Они почти не пытались сопротивляться. Сбросили бомбы и постарались побыстрее удрать. С каждым днем, с каждым вылетом наши истребители встречали все большие и большие группы фашистских самолетов. Четверке Королева пришлось вести бой с шестьюдесятью «Юнкерсами», двадцатью «Фоккерами» и десятью «Мессерами», а на следующий день — они летали с эскадрильей Гулаева — с пятьюдесятью «фоккерами»…
— Ну, Вить, «Фоккеры» пошли! С ними, как с «лаптежниками», драться можно, — подошел я к Виктору после боя.
— Ты это брось! Сейчас они дрались будь здоров. Вон Гуров и Букчин побитые пришли.
— А те бои?
— Что те бои? Разные летчики. На них, видно, летают и истребители, и бомбардировщики. С кем встретишься. А то такого «лаптя» покажут! Иванову вон показали, без ноги Жора остался, совсем отрезали… И тебе бы показали сейчас. Почему сразу из атаки не вышел? Я ж тебе передавал!
В этом бою я увлекся погоней за «Фоккером» и не заметил, что самого атакуют четыре «ФВ-190».
— Женька, левый боевой, «Фоккеры»! — крикнул мне Виктор.
Я взглянул влево, увидел атакующих, но… они еще далеко, а тут рядом немец в прицеле. Я успел-таки сбить «Фоккера» и рванулся боевым разворотом навстречу атакующим. Обошлось…
— Успел ведь… А ты почему не отсек?
— Не смог… Сам знаешь, не всегда отсечь можно. Так что смотри! «Лаптежники»-то тебя подожгли, но ты садился, а эти запросто срубят.
— Знаю… Они тоже не боятся, когда их много, — я вынужден был согласиться.
— А ты мне скажи, где их мало бывает, мы их там ловить будем! — засмеялся Виктор.
Где их мало бывает… Немцы собрали на этом участке столько авиации, что ее хватало для массированных налетов. Они летали группами по сорок-шестьдесят «Юнкерсов» под прикрытием двадцати-тридцати истребителей, или сами «Фоккеры» действовали группами по двадцать пять-пятьдесят самолетов. Ведь они не прикрывали постоянно свои наземные войска, а ограничивались отдельными массированными налетами.
После вылета я повалился на чехлы, сложенные под крылом, и уснул в тени. Проснулся от того, что снова припекло переместившееся солнце. Волков и Карпушкин надраивали тряпками крылья, фюзеляж, смахивали все соринки, все лишнее, чтобы улучшить обтекаемость самолета, его летно-тактические качества и хоть этим помочь командиру. Бурмакова лежала, опершись на локти, под крылом и задумчиво грызла травинку. Я поднялся, взял тряпку и стал помогать ребятам.
— Товарищ командир, мы сами все сделаем, отдыхайте, — взмолился Николай.
— Ничего, втроем быстрее сделаем! А то Галя, говоришь, плачет, когда я не возвращаюсь, а делать ничего не хочет, чтобы помочь…
— Товарищ командир!.. Да я… — Бурмакову как пружиной подбросило. Со слезами на глазах она вырвала тряпку из моих рук…
Вот выписка из оперативной сводки дивизии за 2 мая 1944 года. В этот день наши войска снова предприняли наступление. На этот раз бои развернулись западнее Ясс в направлении на Тыргу-Фрумос:
«Четверка наших истребителей под командованием Архипенко прикрывала наземные войска в районе Кыржон.Хэрмэнештий, Бэйчений. Они были наведены на группу из шестидесяти „Ю-87“ и двенадцати „ХШ-123“ под прикрытием тридцати „Ме-109“ и „ФВ-190“.
В ярких лучах весеннего солнца под крылом промелькнула серебряная извилистая полоска реки Прут: вот и государственная граница осталась позади. Я летал здесь, был над территорией Румынии, три сбитых мной «Фоккера» валяются грудами обгоревшего металла где-то севернее Ясс. Но первый из тех полетов был после длительного перерыва, в составе несле-танной группы, над незнакомой местностью. Некогда было думать о чем-либо, не относящемся непосредственно к полету. Потом установилась сумрачная погода, и как-то незаметно проходила внизу эта узенькая полоска реки, по которой тянулась государственная граница. Сейчас речка отчетливо вырисовывалась на большом протяжении, и меня впервые по-настоящему охватило чувство гордости за свой 2-й Украинский фронт, который первым перенес боевые действия за рубежи родной страны. Однако в воздухе нужно думать только о полете, о задании. Об этом напомнил разговор ведущего группы с пунктом наведения.
— Гусев, Гусев, я Архипенко. Иду к вам на работу. — Позывной генерала Утина на этот раз был «Гусев».
— Архипенко, я Гусев. Вас понял. Идите в заданный район. С юга туда подходит большая группа бомбардировщиков.
Знакомый холодок предчувствия боя появился в груди в области сердца. Я крепче сжал ручку управления и сектор газа и стал внимательнее осматриваться по сторонам: можно было ожидать встречи с истребителями противника, посланными для расчистки воздуха.
— Вас понял! — ответил Утину Архипенко и тут же, обращаясь к ведомым, скомандовал: — Внимание, увеличиваем скорость!
Постепенно увеличивая скорость, истребители шли на юг. Линия фронта здесь тянулась почти строго с востока на запад, начинаясь у Прута севернее Ясс и упираясь в предгорья Карпат за городом Пашкани.
Впереди, несколько ниже высоты полета, показались облака.
— Архипенко, я Гусев. Бомбардировщики идут под облаками.
— Вас понял! Снижаемся.
Истребители нырнули под облака.
Фашистов увидели все одновременно — такую группу мудрено было не заметить. И сразу же чувство нервного напряжения, появившееся у меня при подходе к линии фронта, бесследно исчезло. Оно уступило место спокойному азарту боя. Да, спокойному азарту. Здесь переплетались воедино и настоящий азарт, и спокойный холодный расчет предстоящих действий.
Впереди шли шестьдесят «лаптежников», а за ними еще двенадцать «ХШ-123». Эти почти ничем не отличались от «ХШ-126», и их также называли «костылями». И «Юнкерсы» и «костыли» всегда бомбили только с пикирования: у них не было прицелов для бомбометания с горизонтального полета. И те и другие почти беззащитны перед атаками истребителей. «Ну, сейчас мы им дадим!» Было похоже, что на этот раз бомбардировщики пришли одни: истребителей возле них не было.
Архипенко качнул самолет с крыла на крыло, подавая сигнал «внимание», и тут же передал:
— Атакуем «Юнкерсов» и с ходу «Хейншелей»!
Положение для атаки было не совсем удобное, но решение — единственно правильное. Прямо перед нашими истребителями пересекающимся курсом шли «Ю-87», за ними в правом пеленге — «костыли». Они как раз сами должны будут подойти под огонь истребителей, когда те пронесутся сквозь строй «лаптежников».
«Ястребки» мчались на бомбардировщиков сбоку и немного спереди — под ракурсом три четверти. Их могли видеть все экипажи «Юнкерсов», но стрелки противодействовать атаке не могли. Да и гитлеровские летчики не могли, не нарушая строя, использовать пушки и пулеметы, направленные вперед.
Правда, обычно истребители атаковали «лаптежников» сзади. Тогда их встречал плотный огонь стрелков. Однако стоило на большой скорости проскочить эту огненную завесу и врезаться в самую середину строя бомбардировщиков, как «ястребки» оказывались в относительной безопасности. Как это ни странно звучит, но сами фашисты защищали их. Кругом гитлеровцы. И ни стрелки, ни летчики с «Юнкерсов» стрелять не могут: боятся поразить своих. В то же время они смертельно боятся огня советских истребителей, шарахаются от них, создавая угрозу столкновения между собой, бросают бомбы куда попало, и строй рассыпается. А «ястребки», наоборот, в такой куче чувствуют себя свободно. Открывай огонь — и обязательно попадешь, на пути трассы окажется бомбовоз. Только когда строй бомбардировщиков рассыпался, истребители сразу оказывались открытыми, их со всех сторон начинали поливать свинцом и огнем. Но до этого они, как правило, успевали сбить нескольких фашистов, на остальных гитлеровцев все еще действовал страх перед «чумовыми» летчиками, и огонь их бывал не особенно прицельным.
Такой же способ применяли летчики и в боях с большими группами фашистских истребителей — лезли в самую кучу, где гитлеровцы мешали друг другу, не могли полностью использовать свое численное превосходство.
Однако сейчас выбора не было. «Юнкерсы» подходили к линии фронта, и нужно было наносить удар немедленно. И такой атакой — спереди сбоку — можно было сразу, даже не сбив ни одного самолета, нарушить боевые порядки обеих групп и не дать им отбомбиться с пикирования. Ведь чувство собственной беспомощности особенно сильно должно было действовать на фашистов, подрывать их боевой дух. А не дать им отбомбиться прицельно нужно было во что бы то ни стало. И так наши танки горели на поле боя (еще на подходе летчики издали увидели громадные, яркие даже в свете майского дня, костры с густым жирным дымом горящей солярки). Видно, крепко поработала фашистская противотанковая артиллерия…
Архипенко вел группу на головную часть колонны фашистских бомбардировщиков. Молниеносно сокращалось расстояние. Сначала в прицелах проектировалась сплошная масса, затем она распалась на отдельные самолеты, стало возможным различить отдельные детали — торчащие «лапти», изломанные очертания плоскостей, рубленые формы застекленных кабин летчиков и стрелков, хвостового оперения…
Советские истребители шли строем «фронт». Метров на двадцать-двадцать пять вперед вырвались самолеты ведущих пар — Архипенко и Королева. Я шел на правом фланге. Скосил глаза немного влево и увидел, как нос самолета Архипенко стал окутываться быстро исчезающими хлопьями белого дыма, а в сторону «Юнкерсов» понеслись красные шары крупнокалиберных пуль и снарядов.
«Рановато еще… Хотя…» — я совсем было собрался последовать примеру командира эскадрильи — чем раньше, мол, откроешь огонь, тем больше паники будет у фашистов, но по привычке еще раз окинул взглядом воздушное пространство вокруг самолета. Сзади и с боков небо было чистое. Только сверху, в разрывы облаков, пикировали пары и четверки вражеских истребителей. «Сколько их!.. Как горох из прорванного мешка сыплются… Ничего, успеем!..» — но все же передал по радио:
— Я Четверка, сверху пикируют «худые»!
Архипенко, не прекращая атаки, ответил:
— Успеем!
Немецкие бомбардировщики несутся навстречу. Уже вся четверка истребителей ведет огонь. В сторону фашистов тянутся плотные красные жгуты трасс. Самолеты все ближе и ближе. Кажется, сейчас столкнемся с ними и в воздухе появится несколько громадных клубков огня и дыма…
У истребителей положение лучше. Огнем они надеются расчистить себе дорогу. «Сбить — и путь свободен!..» Бомбардировщики в таком положении стрелять не могут. Только своим самолетом могут они принять таранный удар истребителей. Но это верная смерть… А так рисковать своей «драгоценной» жизнью фашисты, конечно, никогда не были склонны.
И строй бомбардировщиков заколебался. А тут еще огонь истребителей наконец достиг цели. Один из «Юнкерсов», оставляя в небе черную дымную спираль, понесся к земле. Это послужило сигналом. Бомбардировщики в панике бросились в разные стороны, а между ними, не сбавляя скорости, пронеслись мы. Только тряхнуло на взвихренных воздушных потоках, оставшихся за прошедшими рядом бомбардировщиками. Да, заметил я, Виктор чуть не столкнулся с фашистом, стараясь в упор расстрелять подвернувшийся «Юнкерс». Хорошо, что тот, с крылом, наполовину отбитым снарядами, успел нырнуть вниз, под самолет Королева…
Впереди открылась новая цель — группа «ХШ-123». «Костыли», наученные горьким опытом «лаптежников», не стали ждать, пока их расстреляют с короткой дистанции. Как по команде, они сбросили бомбы с горизонтального полета («Чья же здесь территория? Кажется, не наша», — успел только подумать я) и врассыпную стали скрываться в облака, чтобы без помех уйти в глубь своей территории.
— Разворот влево на сто восемьдесят! — скомандовал Архипенко. Он думал успеть произвести еще одну атаку по «Юнкерсам», до того как в бой ввяжутся вражеские истребители.
Однако компактной атаки на этот раз не получилось. Еще при встрече большинство «Юнкерсов» побросали бомбы (кому охота подрываться, если по взрывателю попадет шальная пуля!), рассыпались поодиночке, и только два или три звена бомбардировщиков держались плотными группами и шли к линии фронта.
За ними тянулись и некоторые одиночные самолеты. Так снова могла создаться солидная ударная сила, а этого нельзя было допустить ни в коем случае; сейчас каждый удар с воздуха тяжело отозвался бы на наших наземных частях.
Атаковать мелкие группки всей четверкой было бессмысленно. Это Архипенко понял сразу после разворота.
— Атакуем парами.
— Вас понял! — отозвался Королев. — Женька, смотри за воздухом!
— Смотрю.
Я и так беспрерывно осматривал воздушное пространство. Только что в воздухе были одни бомбардировщики, а сейчас почти все они удирали на юг, зато небо так и кишело парами и четверками «Ме-109» и «ФВ-190». Тридцать истребителей противника, хоть и с запозданием, устремились на выручку к своим бомбардировщикам. Но пока они были еще сравнительно далеко и, кажется, не видели нас, а «Юнкерсы» — вот они. Звено «Ю-87» шло прямо впереди нашей пары. До них каких-нибудь сто-сто пятьдесят метров. Ближе, ближе… Вот на серо-зеленых силуэтах можно различить темные подтеки отработанного масла, показались ряды крупных заклепок… Ближе, еще ближе…
Красные молнии протянулись от самолета Королева к ведущему «Юнкерсу». Тот вспыхнул, судорожно перевернулся и, вращаясь вокруг продольной оси, скрылся внизу.
Остальные два бомбардировщика еще никак не успели среагировать на падение своего командира, когда я открыл огонь.
— Женька, вправо! «Худые» в хвосте! — прервал мою очередь крик Королева, раздавшийся в наушниках.
Это было передано таким голосом, что я не стал уточнять, где «худые». Так предупреждают только о смертельной опасности…
Я успел еще увидеть, как рвались его снаряды в левом крыле и в фюзеляже под кабинами экипажа «Юнкерса», и бросил свой самолет вправо, еще оглядываясь в то же время через правое плечо назад. Там, в опасной близости от самолета, вращался желтый кок винта фашистского истребителя. Гитлеровец уже выносил нос своего самолета вперед — брал упреждение, чтобы точной очередью поразить «ястребок». Еще секунда — и…
Я, не прекращая начатого движения ручки управления, сделал полубочку, и самолет вместо правого стал выполнять левый разворот. От сильной перегрузки у меня слетели с головы наушники, стал доставать их, шаря рукой по полу кабины и оглядываясь в то же время на «Мессера». Фашист тоже переложил «Ме-109» в левый крен. Теперь оба самолета разделяло всего-навсего пять метров. Мы были на одной высоте, но я наблюдал за действиями гитлеровца через правое плечо и смотрел как бы вниз, если ориентироваться по полу кабины своего самолета. Летчик «Ме-109», наоборот, запрокинул голову вверх и неотрывно смотрел на меня. Я видел, как врезался в его шею ремешок ларингофонов, как веснушчатое курносое лицо немца все больше наливается кровью, как прилипают к его лбу выбившиеся из-под сетчатого шлемофона пряди рыжих волос…
— Хорош был «шмит»! — раздался в наушниках, которые наконец я с трудом водрузил на голову, ликующий голос Бургонова.
«Вон Цыган „худого“ завалил, а этот черт привязался… У, сволочь! Долго он еще будет висеть в хвосте? А, не вышло!» — я уменьшил обороты мотора, и. «Ме-109», у которого и так после пикирования была значительно большая скорость, стал быстро выходить вперед. «Так, еще немного… Хорош!» «Мессершмитт» оказался впереди. Я чуть отдал ручку от себя, чтобы уменьшить угловую скорость разворота, поймал в прицел самолет гитлеровца.
Тот, очевидно, понял, чем грозит ему такое положение, и стал энергично, с набором высоты выходить из разворота.
Поздно! Выпущенная в упор очередь пуль и снарядов распорола фюзеляж стервятника от мотора до самого хвоста. Смертельно раненный «Ме-109» вздрогнул. Правое, задранное кверху, крыло его резко повернулось и стало плашмя по отношению к набегающему потоку воздуха. Самолет развернулся хвостом вперед и стал распадаться на части. «Ух ты!..» — только и успел выдохнуть я, резко рванув свой «ястребок» в сторону от пронесшегося мимо обломка хвоста «Ме-109». Противная дрожь прошла по самолету, предупреждая о возможном срыве в штопор. В горячке боя я почти полностью убрал сектор газа, чтобы пропустить фашиста вперед, и теперь сам чуть не поплатился за свою невнимательность. От перегрузки снова свалились наушники…
Обломки фашистского самолета остались где-то далеко сзади и внизу. Но где же Виктор, Архипенко? Кругом носились «шмиты», «Фоккеры». Я еще десятки раз уходил из-под огня, стрелял сам, терял и находил снова наушники, с трудом натягивал их на голову, чтобы при первой же перегрузке снова потерять. В короткие секунды, когда предательские наушники держались на голове, я слышал голоса Архипенко, Бургонова, Королева, но эти секунды были слишком коротки, чтобы понять обстановку, в которой находились мои товарищи. Впрочем, и так понятно, что у них обстановка такая же…
Постепенно бой стал утихать. Я понял это сразу. Все реже приходилось увертываться от атакующих фашистских истребителей, все меньше оказывалось гитлеровцев впереди. Бомбардировщики ушли еще в начале боя, а теперь и истребители пикированием уходили на юг, на свою территорию. Несмотря на громадное численное превосходство, они, видно, не очень-то стремились вести бой до конца.
«Где же наши? Ага, вон пара. Архипенко с Цыганом, наверное. А вон и третий к ним пристраивается, Королев…» Немного севернее шла пара командира эскадрильи, а сзади снизу к ним пристраивался третий самолет. «Но почему же у него такой длинный и тонкий фюзеляж?.. Да это же „худой“!»
— Архипенко! «Худой» в хвосте!
— Отбей!
Метров с двухсот открыл огонь по увлеченному атакой гитлеровцу. «Ме-109» сразу же прекратил атаку и, не меняя курса, с белым дымком перешел в пологое пикирование прямо перед собой.
— Архипенко, добей его!
— И так хорош!
Действительно, «Мессер» врезался в землю, так и не сделав попытки выйти из пикирования.
Я пристроился к паре Архипенко. На душе у меня было неспокойно. Бой кончился, но где же Виктор? Сколько ни вертел головой, нигде ни одного самолета не было видно. «Что случилось? Не может быть… Виктор не прозевает…» Наконец не выдержал.
— Королев, я Четверка, тебя не вижу. Где ты находишься?
Вместо Виктора ответил Архипенко:
— Королев передал, что подбит, идет на север. Сидит сейчас где-нибудь на вынужденной, наверное.
— Давно передал?
— Бой уже кончался…
Я немного успокоился. Худшие предположения не оправдались. Подбит? Сядет! В конце боя едва ли его стали бы преследовать «шмиты». Сегодня или завтра придет на аэродром! Значит, бой хорошо провели. А Виктор вернется! И все-таки беспокойство за судьбу друга не покидало.
«Чертовы наушники!.. — думал я. — Не слетали бы, все бы слышал, может, помог бы…» — хотя чем можно помочь в такой свалке, я не представлял. В бою ни секунды не ходил по.прямой. Боевые развороты сменялись переворотами, виражами, спиралью. И, выполняя этот беспрерывный каскад фигур, все время нужно было смотреть, видеть, разгадывать замыслы фашистов, противопоставлять им свою волю и умение владеть машиной, стрелять и… постоянно мучиться со слетающими наушниками… Даже если бы я увидел Виктора в опасности, ничего, кроме передачи по радио, сделать, наверное, не смог бы…
Бати не было на стоянке, когда они вылетали. Не было его и сейчас. Последнее время он был постоянным дневальным в общежитии летчиков эскадрильи — убирал нары, подметал комнату. В общем, по возможности создавал уют для летчиков.
Ему никто не сообщал о Викторе, но к вечеру он сам от нечего делать пришел на стоянку. Сначала он даже не обратил внимания на то, что самолета сына нет на месте: летчики часто летали в составе сборных групп, с другими эскадрильями. Григорий Сергеевич собрался уходить обратного вдруг увидел меня. «Как так?! Виктора нет, а он здесь?! Они же всегда вместе летают… Виктор не мог улететь один…»
— Женя, а Витя?.. — прошептал он сразу побелевшими губами.
— Подбили его, батя… Сел на вынужденную.
— Где?
— Не бойся, на нашей территории.
— А где, в каком месте?
— Не знаю… Он передал, что подбит, идет на север. Дрались всего километра два-три за линией фронта.
— За линией фронта?! — еще больше побледнел старик.
— Так рядом же! Раз передал, что идет на север, значит, перетянул линию фронта. Высота тысячи полторы была, две даже. Он и без мотора мог спланировать на нашу территорию.
— Еще передавал он что-нибудь?
— Нет… — не совсем уверенно ответил я. Может, передавал, но я не слышал из-за постоянной возни с наушниками. Архипенко же и Цыган ничего больше, кажется, не слышали. Во всяком случае, ничего не говорили. — Придет. Другие ведь приходят.
Последнюю фразу я произнес более уверенно. И это подействовало.
Григорий Сергеевич быстро успокоился. Ведь Лусто за последние несколько дней два раза приходил пешком! Второй раз еще смеху сколько 6ыло… Тогда Миша выпрыгнул, а летчики сказали начальнику парашютно-десантной службы дивизии, что он никак не может приземлиться. Легкий, мол, болтается в воздухе на одной высоте, и ни с места.
«А сейчас он где?» — спросил парашютист. «Висит, наверное, там же. Мы минут десять вокруг него ходили, он все на одной высоте висит. Горючки мало осталось, так и ушли…» — «В какую сторону ветер там дул?» — испугался парашютист. Он всерьез принял этот розыгрыш и боялся, что Лусто может ветром отнести за линию фронта. «Так же, как и у нас, на юг, к линии фронта», — продолжали розыгрыш летчики. И тут же «успокоили»: «Да ты не бойся, там далеко до передовой, километров двадцать будет». Лусто выпрыгнул на обратном маршруте, после выполнения задания. «Подтянуть стропы не мог… Скольжением бы высоту потерял!..» — «Да не бойся, не останется он там! Ночью восходящих потоков не будет, приземлится!» Только вдоволь посмеявшись, летчики объявили начальнику ПДС (парашютно-десантной службы), что Лусто нормально приземлился, хотя и действительно опускался очень долго. Миша тогда через день явился…
Воспоминание об этом случае, когда летчики шутили по поводу невернувшегося товарища, и успокоило старика.
— Завтра он придет, как ты думаешь? — спросил батя, хотя и сам прекрасно знал, что добраться за один день невозможно. Придется идти пешком и ехать на попутных машинах двести пятьдесят километров. А попробуй останови попутную! Фронтовые шоферы гоняют на полном газу, торопятся. И остановится если, так окажется, что не туда едет…
— Да нет, не успеет. Послезавтра, наверное… А послезавтра…
Вот и смерть…
«Вот и смерть…» — как-то вяло и безразлично промелькнула и исчезла последняя мысль… «Бэллочка» стремительно поглощала высоту, не реагируя на мои отчаянные попытки вывести ее из пикирования.
В этот день, 4 мая, мы, как всегда, с рассветом прибыли на аэродром. Только вместо завтрака нас сразу же отправили по самолетам.
— После вылета позавтракаете, — сказал Фигичев. — Сейчас некогда, вылетать нужно. Пойдете прикрывать район Думбрэвица.Хэлештиени, Тыргу-Фрумос, Бэйчений…
Пошли шестеркой: Архипенко и Бургонов, пара Басенко и Галушков от третьей эскадрильи, я и Лусто замыкали строй. Мне приходилось раньше садиться в сумерках, ночью. Вылетать же на рассвете, задолго до восхода солнца, довелось впервые. Мы поднялись с таким расчетом, чтобы появиться над линией фронта одновременно с солнцем.
Сначала внизу проступили контуры белых шоссейных дорог, потом показались села, сады, а при пересечении границы все стало совсем привычным. Только сизоватая дымка, как вечером после захода солнца, прикрывала землю. А вскоре показалось и солнце. Оно выкатилось из-за горизонта, брызнуло лучами в глаза, заиграло на плексигласе и стекле фонарей, осветило сумрачные до этого кабины, стало слепить пытавшихся взглянуть на восток летчиков.
Я шел на левом фланге и время от времени приподнимал левое крыло, чтобы прикрыть им солнце и осмотреть восточную полусферу, — немецкие аэродромы находились невдалеке от линии фронта, и в любую минуту можно было ожидать появления их истребителей, а может, и бомбардировщиков. Не зря же нас подняли в такую рань!
Обычно истребители при патрулировании ходили вдоль линии фронта, просматривая весь заданный район. На этот раз Архипенко, учитывая малочисленность группы, избрал другой маршрут. Мы углублялись километров на десять на немецкую территорию, возвращались, пересекали передний край, шли еще километров пять и снова разворачивались на юг, перпендикулярно к линии фронта. При этом солнце все время светило сбоку — справа или слева, но не сзади. Я после разворотов оказывался то на левом, когда шли на юг, то на правом, при полете на север, но постоянно на одном — на восточном — фланге группы. Раз за разом я прикрывался от взбирающегося по небосклону солнца крылом и внимательно осматривал это особенно опасное направление. И не зря. После очередного разворота на север я увидел пару «Ме-109», заходящих мне в хвост.
— Лусто, меня атакуют «худые»! Молчание.
«Мессеры» приближаются. Нужно немедленно принимать решение.
— Пупок, «худые»!
Ни маневра, ни ответа. Даже Басенко с Галушковым никак не реагируют, хотя задача их пары в том и состоит, чтобы прикрыть ударную четверку Архипенко. Медлить нельзя. Те не видят и не слышат, наверное. Чтобы увидеть, нужно прикрыться от солнца крылом.
«А, Пупок чертов! Витька бы сразу услышал или сам бы увидел!.. — промелькнула мысль, пока я разворачивался навстречу „Мессерам“. — И Федор молчит… Не слышат, что ли?!»
На полном газу я шел с набором высоты, держа в прицеле быстро увеличивающегося в размере ведущего «Мессера». Успел бросить взгляд назад — группа спокойно продолжала полет: «Что они, не видят, что ли, что я ушел?! Ослепли м…!» «Ме-109» открыл огонь. Дымная трасса пуль и снарядов потянулась к моей «Бэллочке». «А, сволочь, не выдержал! Ладно, подожди… — бормотал я себе под нос, нагнувшись поближе к переднему бронестеклу. — Рано еще… Вот теперь хорош…»
«Ду-ду-ду-ду-ду-ду…» — содрогался от каждого выстрела пушки самолет! «Та-та-та-та-та-та!..» — заливались пулеметы. Не яркие, как обычно, а бледно-красные шары сплошной струей длиннющей очереди понеслись к пикирующему «Мессеру», отчетливо видному на фоне девственно чистой голубизны неба.
Расстояние слишком большое, и этот жгут огня постепенно рассеивается, окружает «шмита»… Попаданий, кажется, нет… Трасса проходит «худого», загибается за ним вниз. Но все ближе «Мессер», все более плотный сноп огня на его пути. Есть попадание! Одно, второе, третье… «Шмит» на пикировании разворачивается влево, переходит в спираль, за ним потянулся белый дымок, вспыхнул. Выпустив густой траурный шлейф черного дыма, «худой» заскользил вниз, перевернулся и, беспорядочно вращаясь, скрылся. «Порядок. Девятый готов!» Я перенес огонь на ведомого «Мессера». Тот боя не принял. Резко вышел из пикирования и боевым разворотом ушел на солнце.
«С этим все ясно. Он за мной не увяжется, а мне его не догнать» — подумал я, зная, что при потере напарника немцы в бой не ввязываются, и стал разворачиваться, чтобы догнать свою группу. «Хотя… Чем бог не шутит, пока черт спит…» — по-своему перефразировал я поговорку и посмотрел в сторону солнца. Вдали уходил на юг «Мессер», но рядом разворачивались для атаки два «Фоккера». «Эти-то откуда взялись?! — разворачиваясь в лобовую, подумал я. — Пара только или еще есть?» Из-за крыла, которым он прикрыл солнце, показалось еще четыре «ФВ-190». «Шесть уже! А еще? — быстро осмотрелся. — Нет. Ну, жить еще можно!» Я все никак не мог принимать «Фоккеров» всерьез, считая их истребителями второго или даже третьего сорта. Плохо только то, что они намного выше. «Если бы на одной высоте!..»
Снова лобовая атака. Пара за парой пикируют «Фоккеры», а я с набором высоты встречаю их, огрызаясь огнем. Одна пара проскочила мимо, вторая, третья. Можно разворачиваться, уходить на свою территорию. Нет!.. Первая пара уже в хвосте. Приходится опять идти на лобовую. Пара, вторая… Где третья? В хвосте уже?! Да… «Не зря Витька говорил, что разные „Фоккеры“ бывают. С этими придется повозиться…»
— Архипенко! Я Четверка. Веду бой с шестеркой «Фоккеров». Помогите.
Я не звал больше Лусто. Все равно он не слышит. Но и Архипенко ничего не ответил…
Я не знал названий фигур, какие выполнял. Да и были ли это действительно фигуры пилотажа? Вот позавчера мне поневоле пришлось сделать в бою полубочку, о существовании которой я и не подозревал. Не сделал бы, там бы и остался, конец бы пришел.
Но сейчас, что я ни делал, пара «Фоккеров» всегда висела в хвосте, пара шла в лобовую, а третья пара поджидала своего времени вверху. Пот застилал глаза, время как будто остановилось. Давно бы пора Архипенко вернуться сюда, а его все нет. Почему?! «Бой ведут… — наконец по обрывкам разговоров понял я. — С кем они там? Бомберы? Нет, тоже „Фоккеры“… Откуда их столько взялось?! На этой высоте, без бомберов, бой ведут?!» Группы «ФВ-190», как правило, ходили на штурмовку на высоте до полутора тысячи метров. Или сопровождали бомбардировщиков. Активного боя почти никогда не вели. Действовали по правилу: нас не трогай, мы не тронем.
Много позже, разбирая этот бой, мы пришли к выводу, что «Фоккеры» пришли специально для расчистки воздуха, пришли с целью связать боем наших истребителей и дать возможность «Юнкерсам» спокойно отбомбиться. Одна группа связала боем Архипенко, с другой дрался я. А та пара «Мессеров» выполняла роль передового дозора, наводила «Фоккера» на наши истребители. Однако Фигичев последовательно наращивал силы, и «Юнкерсов» встретила группа Гулаева…
Сколько времени прошло? Минута, две? Тысяча лет? Солнце, кажется, застыло на месте, не двинется…
— Архипенко, иди ко мне, — раздался голос генерала Утина. — Здесь один ваш молчит, а уже десять минут с шестеркой «Фоккеров» дерется!
— У меня их тоже три десятка!.. — отозвался Архипенко. — Не пускают…
«Всего десять минут… И Утин не слышит меня. Значит, передатчик не работает…» Я прилагал все силы, чтобы оттянуть бой на север, на свою территорию, но мне только и удавалось, что держаться над одним местом. А группу Архипенко «Фоккеры» постепенно подтягивали сюда, к линии фронта. Издали я увидел клубок истребителей, накатывающийся с севера. Но рассматривать некогда, своих забот хватает. Встретить в лобовую, уйти из-под удара сзади… И снова лобовая, и опять уход из-под удара… Наконец два разрозненных боя слились в один. Я с ходу врезался в самый центр клубка, в котором дралась с «Фоккерами» группа Архипенко.
«Ну, теперь живу! — облегченно вздохнул я, очутившись рядом с товарищами. — Кто-нибудь да выручит, не один!» Оглянулся на пронесшегося мимо Басенко и похолодел: Басенко уходил все дальше, а над самым хвостом повисла здоровенная морда «Фоккера»… «А!.. Разинул варежку, успокоился!» Я рванул самолет влево вверх, так, что в глазах заплясали круги, и успел дать очередь по немцу. В ту же секунду по хвосту забарабанила дробь разрывающихся снарядов. Мой самолет вздрогнул от прошившей его очереди «Фоккера». В голове разливалась тупая боль. Самолет, как был в левом боевом развороте, резко скользнул на крыло вниз, перешел в отвесное пикирование.
Оглянувшись назад, увидел, как «Фоккер» со снижением разворачивался за мной. «Добить хочет, сволочь! Не выйдет!» — потянул ручку на себя. Ручка пошла неожиданно легко, свободно. А самолет продолжал пикировать как ни в чем не бывало. «Управление перебил… Что же делать?..» — снова оглянулся. «Фоккер» продолжал пикировать, а за «Фоккером» увязался наш «ястребок». Вот он дал очередь, «Фоккер» вспыхнул, но продолжал все так же пикировать, отмечая свой путь черным столбом дыма.
«Этот готов. А сам?.. Прыгать? Кой черт! Самолет же целый вроде, не горит… Выпрыгнешь — прямо на стабилизатор попадешь. Перебьет позвоночник, и все… Лучше тут, в кабине… Куда хоть пикирую? К немцам?! К черту! Помирать, так у своих…» Элеронами стал разворачивать самолет на отвесном пикировании на сто восемьдесят градусов. Как только я нажал на ручку, меня неожиданно бросило вправо, в борт кабины, так что я почти потерял сознание. «Свободное падение, невесомость… Падение в пространстве…» — ни с того ни с сего вдруг вспомнилась прочитанная когда-то фраза. Я никак не ощущал невесомости, не замечал ее, пока не ударился о борт кабины. Раньше просто некогда было думать об этом. Да и довольно привычное состояние для истребителя.
Самолет все же развернулся. Теперь он пикировал на север. Впрочем, какая от этого польза? Все равно нос самолета направлен почти в ту же точку на земле… Я снова попробовал потянуть ручку на себя, как будто от разворота что-либо могло измениться. Нет, все так же…
«Триммер!» Как же я сразу не вспомнил о нем?! Ведь приходилось уже раз с его помощью выводить из пикирования. Только тогда у него хватало силы справиться с нагрузкой на рули высоты, а сейчас эта нагрузка вообще отсутствовала.
Я стал быстро вращать штурвальчик триммера на себя. Еще, еще… «Бэллочка», набрав огромную скорость, уже и сама было начала выходить из отвесного пикирования, и совместные усилия триммера и скорости не замедлили сказаться. Появилась даже небольшая перегрузка. «Может, удастся на триммере дойти домой, как тогда?» Однажды в бою у меня заклинило элероны, и, пользуясь рулем поворотов и триммерами элеронов как маленькими элеронами (только вращать тогда штурвальчик приходилось в обратную сторону), довел «ястребок» домой и нормально посадил его.
«Нет, не выйдет…» Самолет пикировал над самой землей вдоль склона ущелья под углом около тридцати градусов. Глаз безошибочно определил глиссаду крутого снижения: вот там, у желтого пригорка, произойдет столкновение. Спереди с молниеносной быстротой набегал противоположный склон неглубокого ущелья. По сторонам замелькали хаты, сады. Вот и впереди сад. Врезаться в противоположный склон нельзя. Верная смерть… Может?.. Я успел крутануть штурвал триммера немного от себя, нажал на педаль руля поворотов, чтобы избежать лобового удара о громадное дерево, стоящее у каменного забора в самом начале сада. Слишком поздно… В глазах сразу потемнело. Все отодвинулось куда-то далеко-далеко…
«Вот и смерть…» — как-то вяло и безразлично промелькнула и исчезла последняя мысль…
Батя отправляется на поиски
А послезавтра я не вернулся…
Вылетели мы на рассвете, еще темно было. Батя, проводив с полчаса назад летчиков на аэродром, как раз вышел подышать свежим воздухом. Спать не хотелось, а сидеть одному в комнате тоскливо.
Слишком многое там напоминает о Викторе, о том что он еще не вернулся: сидор (так сын называл вещмешок) под кроватью, сама деревянная кровать, на которой он спал, тогда как все остальные летчики спали на общих нарах, стол, за которым они часто сиживали по вечерам, потягивая легкое виноградное вино…
«Сегодня Витька вернется», — уверенно подумал батя и поднял голову, прислушиваясь к приближающемуся гулу авиационных моторов. На фоне серого рассветного неба прошла шестерка истребителей, направляясь на юго-запад. «Куда их в такую рань погнали? Опять бои сильные будут… Когда они кончатся?!» Вчера не вернулся Лебедев. Правда, с ним все в порядке, все видели, что он выпрыгнул на нашей территории из-за обрыва шатуна. Но все-таки плохо. Если бы не война, так на этих избитых, потрепанных машинах никто и не подумал бы летать. Их всех на утиль давно пора сдать. Так говорят летчики. А сами летают. Дерутся. Сбивают немцев. Но и сами пешком приходят. А то и не приходят больше…
Григорий Сергеевич прибрал в комнате и решил пойти на аэродром. Сын, конечно, прямо туда пойдет. Зачем ему заходить в село, крюк большой давать, когда он знает, что все там… Ведь он вспомнит в первую очередь о ребятах, о работе, а не об отце…
Григорий Сергеевич подходил уже к аэродрому, когда стала заходить на посадку группа, вылетавшая на рассвете. Какая это эскадрилья? Вернулось только пять «ястребков». Шестого не было…
На командном пункте, у Фигичева, куда он пришел справиться о сыне, стояли Архипенко, Лусто.
— Как, не вернулся? — старик не обращался ни кому конкретно, каждый из присутствующих мог ответить на его вопрос.
— Нет… И не вернется…
— Как не вернется?!
— Погиб… Врезался в землю с отвесного…
— Вы ж говорили… — батя повернулся к Архипенко, побледнел, ухватился за стол, чтобы не упасть. — Вы ж говорили, он передал, что идет на север…
— Ты, здеся, о ком? О Викторе? Женька сейчас погиб…
— Женька?! — растерянно переспросил батя.
— Да. «Фоккера», что его сбил, я рубанул. А он пикировал до самой земли. Не прыгал и не пытался даже, ничего не передал по радио. Убит был, наверное… А если и живой, то там ничего не осталось ни от самолета, ни от него…
Старик сел на подставленный стул. Это известие подкосило его. Позавчера не вернулся Витька, сегодня Женька, его ведомый, погиб… Плохое предзнаменование… Как сейчас спросишь о Викторе? Неудобно…
Но Архипенко понял мысли бати и сам сказал то, о чем он хотел спросить.
— А Виктор, здеся, к вечеру, наверное, придет. Иди домой, приготовь там для встречи… Мы его сразу к тебе направим!
Батя вышел из землянки и прямо у входа увидел Волкова. Николай стоял с покрасневшими, влажными от сдерживаемых слез глазами и ждал Архипенко.
— Ну, что там, батя?
Григорий Сергеевич догадался, что Волков спрашивает о своем командире.
— А тебе что сказали?
— Ничего… Не вернулся, и все… Хочу вот проситься. Поеду туда, может, помочь нужно…
— Эх, Коля! Никуда тебя не пустят…
— Почему?!
Старик поколебался немного. Говорить или нет? Может, сослаться на войну, на то, что механики на аэродроме нужны, они не для того здесь, чтобы искать пропавших летчиков… Решился. Все равно ведь через несколько минут узнает…
— Погиб Женька…
— Что?! — Николай как-то дико взглянул на Королева, понял, что тот говорит правду — такими словами не шутят, — закрыл лицо руками, отвернулся и побежал вдоль стоянки…
«Эх, ребята, ребята!.. Вам бы жить только начинать, а вы такое переживаете, гибнете…» — думал батя по пути в село. Он все же постарался выполнить совет Архипенко.
Обегал село, приготовился к встрече сына. Как же, тут будет и радость возвращения, и новое горе… Наполнил трехлитровый баллончик из-под кислорода самогоном, добыл канистру вина.
Весь день он прождал напрасно, а вечером встретил летчиков с твердо принятым решением. Как он раньше об этом не подумал?! «Вон Волков сразу побежал проситься ехать, помочь. А я, старый дурень, сижу здесь, жду… А он, может, ранен…»
— Федор Федорович, — подошел он к Архипенко. — Отпустите меня завтра с утра. Поеду Виктора искать…
— Зачем же, здеся, искать? Завтра или сегодня ночью он сам придет, раз еще не пришел.
— Волков хотел ехать Женьку искать. А кто он ему? Летчик просто. А это ж сын!..
— Ну ладно. Если, здеся, он завтра не придет, то послезавтра поедешь.
Ни ночью, ни на следующий день Виктор не вернулся. Григорий Сергеевич ходил как в воду опущенный. Последнюю ночь он почти не спал, ворочался на своей широкой лавке под окном, прислушивался к каждому шороху. Может, идет? Наутро он отозвал Лусто в сторонку. Тот, с тех пор как не вернулся Виктор, оставался старшим в общежитии (Архипенко жил отдельно). Да и непьющий. Даже свои фронтовые сто граммов часто отдавал товарищам, не то чтобы когда лишнего хватить.
— Миша, вот тут у меня под лавкой баллон с самогоном и канистра с вином. Если без меня придет Виктор, отдашь. А так побереги, не говори никому — выпьют… А потом ищи, где достать. Это еле нашел. Я сейчас пойду…
— Эй, Лусто! — закричал с машины Архипенко — Где ты там? Ехать пора!
— Счастливо, батя! — Лусто побежал к машине, его втащили в кузов, и машина тронулась.
Старик постоял, посмотрел вслед летчикам, пока они не скрылись за поворотом, вошел в хату, взял шинель, котомку с продуктами и пошел в другую сторону искать сына на фронтовых дорогах и в госпиталях. К этому времени все склонились к мысли, что Виктора нужно искать именно в госпиталях. Здоровый, он пришел бы уже. Вон Лебедев на следующий день после него выпрыгнул, а успел вернуться… Правда, он приземлился невдалеке от шоссе, долго выбираться к автомагистрали ему не пришлось. А Виктор мог сесть где-нибудь в предгорьях, плутать по бездорожью…
Кто ж его знает, где он…
Опять Галя плакала…
Медленно-медленно возвращалось сознание, но тут же на смену приходил какой-то несвязанный бред. Тело как будто обволакивал темно-синий туман небытия, потом он светлел и растворялся, и вновь приходило сознание, пульсировавшее мыслью: «Вот и смерть». Казалось, что она подошла совсем близко, стиснула мои, сразу онемевшие, пальцы, сдавила грудь так, что стало трудно дышать. Только сердце, которое еще продолжало биться, борясь с наплывающим мраком, как будто закричало от ужаса, заставив сделать последнее усилие и очнуться…
Первое, что я увидел, была приборная доска, за которой расстилался зеленоватый сумрак. Преодолевая болезненную онемелость, я шевельнул пальцами ног, затем рук, наконец шевельнулся сам и вдруг понял, что жив. И от осознания этого факта в душе разлилась какая-то безмятежность. Сами собой всплыли картины из детства. Тихий городок Балта Одесской области, речушка Кодыма с берегами, поросшими осокой и камышом, большая груша в нашем саду. Давным-давно упавший с дерева спелый плод поставил мне огромный синяк. Отец еще сказал: «Ничего, сынок, это твой первый синяк. Крепись, сколько их еще будет в твоей жизни…»
Сознание возвращалось медленно. Сквозь мутную пелену я слабо различал очертания приборов, даже пытался читать их показания. Странно, но стрелки стояли на месте: «Как же так? Я же лечу…» Перед глазами совершенно отчетливо виднелись проплывающие под крылом самолета родные места: Балта, Кодыма. Вот медленно наплывает село Буторы, где отец в начале 30-х годов работал заместителем директора колхоза, город Ананьев, где перед войной жила вся семья…
… — Смотри, живой! Дышит! Ай да летчик, ай да молодец!
Эти слова, сказанные отчетливо над самым ухом, ударили словно обухом по голове и вернули меня к действительности. Я окончательно пришел в сознание и увидел склонившегося надо мной майора с артиллерийскими эмблемами на погонах. За ним стояли два капитана, еще несколько офицеров и солдат. Невдалеке грохотала канонада, а в небе над головой гудели самолеты. «Не пойму, где я? Что со мной? На том я свете или еще на этом?»
А майор между тем, подозвав кого-то из солдат, продолжал ощупывать мое тело: ноги, туловище, голову. При этом не переставая восхищаться: «Ну, летчик, ну, герой, после такого выжить…»
Когда он дотронулся до руки, я невольно вскрикнул.
— Потерпи, потерпи, браток, сейчас мы тебя вытащим из этого плена. Васильев, — крикнул он кому-то, — бери его под руки.
Но я уже окончательно пришел в себя, убедился, что цел, хотя и ранен в голову и руку.
— Спасибо за помощь, славяне. Теперь уже я сам выберусь, только уберите это чертово дерево.
Действительно, огромная толстая ветка лежащего рядом дерева придавила мне ноги, не давая двигаться. Солдаты осторожно, чтобы не задеть меня, убрали ее, и я самостоятельно выбрался из разбитого самолета.
Осмотревшись вокруг, я не поверил своим глазам. От истребителя остались лишь куски искореженного металла. От кабины — только противокапотажная рама, сиденье и приборная доска, откуда я только что выбрался. Остальное все разбросано кругом — хвост, куски плоскостей, мотор, куча деревьев наломана… Пушка загнулась как вопросительный знак, пулеметы тоже… Первый удар пришелся по здоровенной, в два обхвата, груше. Нажатие на педаль все же, видно, подействовало. Удар был нанесен боковой стороной кока винта. Срезало ее начисто на метр от земли. Винт с редуктором тут же возле нее в землю ушли. Одна лопасть только целенькая прямо вверх торчит, как на могилах летчиков ставят. Так что памятник готовый был. Выбить только фамилию осталось и даты…
— Ну, летчик, от всей души поздравляю со вторым рождением на свет божий, — шутил артиллерийский майор. Он крепко обнял и расцеловал меня. Вслед за ним полезли обниматься и все присутствующие, которых собралось уже изрядное количество. Одни ходили вокруг обломков самолета и сокрушенно качали головами, не понимая, как летчик мог остаться жив при такой катастрофе, другие помогали перевязывать раненые голову и руку, третьи лезли с вопросами.
Подошел седовласый полковник, попросил всех разойтись.
— Как чувствуете себя? — обратился он ко мне.
— Хорошо.
— Видел ваш бой с немцами. Молодец! Настоящий герой! Я уже доложил командующему армией.
— Товарищ полковник, — обратился я к нему, — который сейчас час?
Тот улыбнулся, глянул на часы.
— Время еще раннее. Шесть тридцать.
— Мне бы надо срочно к своим, помогите добраться…
Несмотря на боль от полученных ран, я решил как можно быстрее добраться в полк. Но полковник перебил меня:
— Сегодня побудь с нами. Ты заслужил отдых, а завтра машиной мы тебя отправим в Бельцы. Удотов, — крикнул он кому-то, — подойдите ко мне!
К нам подбежал знакомый уже майор, улыбнулся мне как старому знакомому и лихо козырнул.
— Летчика надо накормить, — сказал полковник, — создать условия для отдыха, а завтра отправить в часть! Ясно?!
— Предельно, товарищ полковник!
В помещении, куда меня привели артиллеристы, было светло и уютно. Видимо, это был штаб артиллерийского полка, поскольку кругом на стенах висели схемы размещения батарей и дивизионов. В углу стоял большой стол, возле которого суетился офицер с интендантскими погонами. Он привычными движениями накрывал на стол, расставляя закуски и стаканы. Посредине стола возвышался чайник, рядом с которым в алюминиевой миске лежали любимые мной ярко-красные соленые помидоры и темно-зеленые огурцы.
Голод давал о себе знать. Только сейчас я вспомнил, что не позавтракал перед вылетом.
«Молодцы ребята», — подумал я с благодарностью, подсаживаясь к столу. Справа сел майор Удотов, оказавшийся начальником штаба полка, слева парторг полка капитан Кибирев. Всего за столом нас уместилось семь человек. Руководил застольем Удотов. Он взял чайник, налил каждому по полстакана прозрачной жидкости и провозгласил тост за «гвардейскую посадку». «Они думали, что я садился, а не падал, — подумал я. — Ну что ж, пусть будет так!»
Мне не хотелось пить самогон (так я определил прозрачную жидкость), но пренебрегать гостеприимством нельзя. Когда чокнулись, я уловил, что все смотрят на меня, но не обратил на это особого внимания и выпил. Только когда рот обожгло и перехватило дыхание, я понял, что это за жидкость: «Чистый спирт, черт бы его побрал! Но зря вы, братцы, смотрите на меня. Летчики тоже кое-что умеют». Не спеша допил свой стакан, поставил его на стол и под восхищенные возгласы так же не спеша взял помидор. Остальные, переглянувшись, развели спирт водой из котелка, услужливо поставленного адъютантом.
За беседой время пролетело незаметно. Говорили обо всем, но больше о положении на фронте.
После завтрака меня отвели в предоставленную мне землянку. Оставшись один, я попытался заснуть, но не смог. Даже изрядная доза алкоголя не могла заставить мозг расслабиться. Перед глазами вихрем крутился только что проведенный воздушный бой. Поворочавшись полчаса с боку на бок, я встал и закурил: «А бой-то сегодня был интересным. Прав был Архипенко, когда говорил, что если остался один на один с несколькими самолетами противника, лучший способ быть не сбитым — постоянно атаковать, искать лобовую: „Лобовую, как правило, немцы не выдерживают. Здеся есть, конечно, известный риск, но, как говорится, игра стоит свеч!“ Ведь он воюет с первых дней войны, а еще ни разу не был сбит…»
Перебирая в памяти произошедшие события, я все никак не мог понять, почему молчал передатчик. Вчера отлично работал, а сегодня вдруг отказал? Черт знает что! Ведь если бы меня слышали, то мы бы пошли в паре с Лусто.а это совершенно поменяло бы расклад сил… Мысль сама собой перетекла на однополчан: Архипенко, Лусто, Волков… «Ведь они наверняка считают меня погибшим» — вдруг осенила меня страшная догадка. Надо срочно добираться в полк, а то чего доброго похоронку домой отправят. Может, уже и Виктор вернулся…
Через четверть часа я уже был далеко от позиций артиллеристов, перевалив через гору, спустился в село Котнари, где проходила дорога.
Около полуночи, голодный и смертельно уставший, добрался до своего полка. Это произошло только на третьи сутки скитаний по горным перевалам и незнакомым дорогам. Две ночи пришлось провести в пути, перебиваясь чем бог пошлет, голосовать «За блок шоферов», пока наконец не выбрался на дорогу, ведущую к аэродрому. Высадив меня в нескольких километрах от села, машина растворилась в ночи. Пришлось опять брести через холмы и практически на ощупь искать дом, в котором жили летчики эскадрильи.
Поднялся на крыльцо, дернул дверь — заперта изнутри, значит, спят. Обошел вокруг в надежде, что хоть одно окно окажется открытым. Ничего подобного, все заперто, еще подумал: «Чего это они закупорились, как сельди в бочке». Снова поднялся на крыльцо и попытался подналечь — дверь не поддавалась. «Жалко будить, но что поделаешь, не спать же на улице»
Постучал. Внутри было тихо. «Может, сегодня остались ночевать на аэродроме? Тогда опять топать шесть километров». От отчаяния я стал изо всех сил тарабанить в дверь. Внутри завозились, послышалось шарканье обуви, потом кашель.
— Кого нелегкая носит по ночам? — спросил знакомый голос.
— Это я, Женька!
— Какой еще Женька? Тоже мне шутник.
— Ну я, открывай! Не узнаешь, что ли?! Это Мариинский!
Я слышал, как открылась дверь в комнату, потом в коридоре раздался шепот. О чем говорили, разобрать было невозможно. Застучал снова.
— Открывайте!.. Долго я тут стоять буду?
— Кто там? — спросил голос Бургонова.
— Цыган, ты что, не узнаешь меня?! Оглохли тут все, что ли?
Молчание. И снова приглушенный шепот за дверью, доносятся и неразборчивые голоса из комнаты.
— Открывай… а то окно высажу!
— Сейчас, сейчас! Чего шумишь?
Угроза подействовала. Бургонов громыхнул засовом, раздался знакомый щелчок снимаемого крючка, но дверь осталась закрытой. Я толкнул дверь ногой, вошел. В коридоре никого не было. Ощупью прошел в комнату, зажег «катюшу». Сзади сама собой, взвизгнув на петлях, закрылась дверь. Я сел у стола, сбросил шлем, стащил сапоги, оглянулся кругом. Все летчики мирно похрапывали, накрывшись с головой одеялами. («Чего это они так укрылись?! Жарко!») Среди них где-то похрапывал и Бургонов, минуту назад открывший дверь. Когда только успел уснуть?!
— Дрыхните? Пожрать есть чего-нибудь? Никто не отозвался. Только похрапывание зазвучало несколько громче. «Не хотят говорить. Почему?»
— Ладно, спите, сам найду…
Я подошел к лавке бати. У того всегда что-нибудь было в загашнике. Самого бати нет, постель пустая. Но запасы должны быть! Нагнулся, пошарил в густой темноте под лавкой, нащупал мешок и потащил его. За мешком тяжело покатился баллончик из-под кислорода. «Полный?! И не выпили?!» На всякий случай тронул и канистру: если уж начались чудеса, то они должны продолжаться. Тоже полная!..
«Ну что ж, они, наверное, выпили, и мне не грех!» Баллончик положил на стол, канистру поставил рядом, достал из мешка полбуханки хлеба, сало («И где это батя все достает?!»), луковицу, или цыбулю, как здесь говорили, выплеснул прямо на пол воду из стакана, налил самогона. Сел, выпил, стал закусывать. Самогон пить больше не хотелось, и я выпил два или три стакана вина. По нарам прокатился шорох. Сбоку скрипнула кровать. Из-под одеяла выглянула и сразу же скрылась голова Миши Лусто. «Чего это Пупок там спит?! А, Витька, наверное, не вернулся еще…»
— Это кто здесь полуночничает? — строго спросил замкомэска, пытаясь разглядеть в слабом свете «катюши» сидевшего за столом.
— Я!
— Кто это «я»!
— Женя.
— Какой такой Женя?
— Вот гады! Два дня не был, уже списали.да?! И уже во весь голос заорал на всю комнату:
— Да вы что, суки, спятили все здесь? Своих не узнаете?!
Летчики откидывали одеяла, бросали взгляд на стол и как по команде все вскочили.
— А, Женька, черт!
— Явился?!
— Сам пьешь, а нас не зовешь?!
— Давай уж вместе отметим твое возвращение с того света!
— Дай пощупать тебя, друг…
— Ну, погодите же вы, — взмолился я. — Больно же… рука…
— Погодите ребята. Отпустите его! — вмешался Лусто. — Что, ранение серьезное?
— Да нет, пустяки, слегка поцарапало… А вы тут как? Виктор вернулся?
— Нет, Жень, до сих пор не нашли, — ответил за всех Николай Глотов.
В комнате на несколько секунд воцарилась тишина. Я нарушил ее.
— Откройте окна. Душно. Как вы спите в такой жаре?
— Приказ Фигичева, ничего не поделаешь, — сказал Лусто. — Здесь у нас событий навалом, пока ты отсутствовал. Ну об этом потом. Расскажи-ка о себе, как жив остался. Ведь все мы видели, что ты врезался в землю… Туда выехали несколько человек из штаба дивизии, похоронку уже успели на тебя отправить.
— Хотите знать, как я выжил? Слушайте…
Я подробно, во всех деталях рассказал о своем последнем боевом вылете, о том, как дрался сначала с парой «Мессеров», потом с шестью «Фоккерами», как был сбит и спасен артиллеристами, и, наконец, о долгом и трудном пути в полк.
Когда я упомянул о молчавшем передатчике, Лусто внезапно меня перебил:
— Об этом надо рассказать тебе особо. Мы-то с Федором не знали, что на твоей машине неладное с передатчиком, хотя потом начали догадываться. Приезжали Утин с Гореглядом и устроили нам разнос. Обвинили Федора в том, что он пустил бой на самотек, что ты самовольно покинул строй, бросив ведущего. Но сегодня с повинной явился наш радист сержант Широких. Оказывается, накануне вечером перед вылетом он все машины проверил, кроме твоей.
В предпоследнем вылете ты же «Пе-2» на разведку сопровождал. Передатчик у тебя был настроен на его волну. Он подошел к твоему самолету, а тот облеплен механиками. Волков ему сказал, мол, посиди минут десять, пока мы закончим. Он сел, а тут из соседней эскадрильи механик: «Пойдем в деревню, там самогон отменный». Ну он и пошел, решив, что утром перенастроит, а утром проспал с похмелья. Вот так. Теперь сидит на гауптвахте. Фигичев приказал дознание провести и передать дело в трибунал.
— Ну, пожалуй, с трибуналом это зря. Специалист-то он хороший. Да и зачем нам терять людей. Пусть на губе посидит и подумает. Как вы-то?
— Работы хватало. Сбили девятнадцать, потеряли двух вместе с тобой, ну а поскольку ты вернулся, значит, одного. Так что, кроме Королева, потерь в эскадрилье нет, а вот ЧП вчера было в полку…
— В чем дело?
— Представляешь, в лесу возле аэродрома, прямо напротив стоянки нашей эскадрильи, сконцентрировалась большая группа немцев. Видимо, хотели прорваться через линию фронта и наткнулись на аэродром. Судя по рассказам пленных, они собирались напасть на охрану и уничтожить самолеты, но их обнаружили. И знаешь кто?
— Кто?
— Наша оружейница Бурмакова.
— Что? Галка? Каким образом?
— Ночью куда-то ходила и напоролась на их охранение. Они начали стрелять. Тут же наши подняли всех, кто был с оружием, и к утру немцев в основном перебили, хорошо еще пехотинцы помогли. Галю нашли…
— Что с ней? — перебил я. — Жива?
— Пока да. Но врачи очень сомневаются… Две пули в грудь навылет и одна в ногу. Лежит в санбате, бредит, никого не узнает. Знаешь, Женя, она в бреду не раз твою фамилию называла…
Утром я поднялся вместе со всеми, Лусто, успевший куда-то сбегать, сказал:
— Спи. Архипенко сказал, чтобы тебя не беспокоили, отдыхай. Он и сам не пришел, чтобы не разбудить.
— Какой там отдыхай.. Надо доложить Фигичеву, что прибыл, повидаться с ребятами, Волковым…
— Фигичев уже знает о твоем возвращении, ребята тоже. В полку праздник.
— Ну вот, сам говоришь, праздник, а я — спи, отдыхай… Нет, я пойду…
Придя на стоянку, я не застал летчиков. Эскадрилья только что вылетела на боевое задание, но вокруг царило оживление. Первым подбежал Волков.
— Здравствуйте, товарищ командир, с возвращением вас!
— Здорово, Коля! Опять без машины остались…
— Ерунда. Главное, сами живы, а машина будет. Сегодня, говорят, будут к нам перегонять самолеты из соседней дивизии. Они получают новые, а нам свои отдают. Командир, вы о Гале слышали?
— Слышал, Коля. Жаль ее, хорошая дивчина…
— А она столько здесь перестрадала, когда услышала, что вы погибли. Ведь она любит вас, товарищ лейтенант.
— Откуда ты взял, старшина?
— Видно. Как она этого ни скрывала, а я заметил…
— Ну это ты брось! Какая может быть любовь? Война же идет…
Вокруг собрались все свободные механики и летчики соседних эскадрилий. Я поспешил сменить тему разговора, но решил все же зайти в санбат справиться о самочувствии Бурмаковой.
Весь день я не мог найти свободной минуты. Принимал поздравления, отвечал на вопросы, десяток раз рассказывал о событиях прошедших дней. Но, пожалуй, больше всего времени было потеряно на споры с командиром эскадрильи.
Едва прилетел Архипенко, я пошел на КП и стал проситься на задание. Но тот был неумолим.
— Нет, Жень. Сегодня, здеся, отдохни. Потом посмотрим. — Архипенко никогда не брал на задание только что пришедшего домой летчика, всегда давал ему денек отдохнуть.
— Что, летать хочешь? — спросил Фигичев.
— А как же!
— А рука как?
— Ерунда!.. — я пошевелил рукой. — Не больно даже.
— Тогда вот что: будешь перегонять самолеты. Тут недалеко. Километров десять. Туда на машине, оттуда на самолете. Идет?
— Ладно… — в моем голосе прозвучало откровенное разочарование. — Хоть это…
— И себе заодно самолет подберешь…
«Подберешь»! В этот день я перегнал три самолета. Один из них принял Волков. Дрянь, а не машина. Мощности почти выработавшего ресуре мотора едва хватало для взлета. Но выбора не было. Другие тоже не лучше…
Лишь поздно вечером выкроил я время зайти в медсанбат к Бурмаковой. Я понимал, что сделать это необходимо, ведь она была моей подчиненной. А кроме того, из головы не выходили слова Волкова: «Ведь она любит вас, товарищ лейтенант». Странно, но я этого не замечал…
Я подошел к бараку, в котором размещался лазарет, и остановился, слегка оробев. Как вести себя при встрече с Галей? Что говорить? О чем спрашивать? Каких-то несколько дней назад эти вопросы вообще не возникали, а сейчас… Вздохнув, пересек порог и оказался в небольшом освещенном помещении. Три молоденькие сестры о чем-то весело и оживленно переговаривались. Одна из них, завидев вошедшего летчика, смутилась, перестала смеяться и, приставив ладонь ко рту, строго прикрикнула на подруг. Те замолчали и удивленно уставились на лейтенанта широко раскрытыми глазами. «Видно, и сюда уже дошел слух о моем возвращении», — подумал я и, не обращая внимания на любопытные взгляды, спросил:
— Девчата, как мне пройти к Бурмаковой?
— Ой, девочки! — кокетливо присела та, что первой заметила мое появление. — Это же тот самый летчик, ей-богу! Скажите, ваша фамилия не Мариинский?
— Он самый, а что?
— Ничего, — смутилась она. — Просто мы много о вас слышали. Все только и говорят о том, как вы посадили горящий самолет немцам на голову…
Я рассмеялся.
— Кто вам наговорил такую чушь? Надо же — бабий телеграф. Чего только не выдумают. Ну, ладно, показывайте, где лежит Бурмакова.
Палата помещалась в конце коридора, и я, пока шел, все старался представить себе лицо Гали.
Странно, но я его совершенно не помнил, как будто видел его очень давно и совершенно забыл. Да, видимо, и вообще не знал. Ведь за полгода войны мы ни о чем не разговаривали, кроме как о текущих заботах. Только из характерного мужского трепа «про баб» я знал, что она не дурна и обладает хорошей фигурой, что за ней многие ухаживают. Сам же никогда не обращал на это внимания.
Дверь внезапно открылась, и я вошел в палату. Сопровождавшая сестра успела шепнуть, что у меня пять минут, больную нельзя тревожить, и исчезла.
Я осмотрелся. Посредине комнаты стояла больничная койка, возле нее стул и тумбочка. Лампочка под потолком без абажура освещала палату бледным светом. При этом освещении мне показалось, что кровать пуста, но, вглядевшись, я увидел контуры человеческого тела. Подошел поближе и пригляделся. Даже мне, боевому летчику, не раз смотревшему смерти в глаза, стало немного не по себе. Передо мной было совершенно незнакомое, как будто вылепленное из воска, лицо, осунувшееся, бледное, со впалыми щеками. Полуприкрытые глаза смотрели вверх в одну точку не мигая. Лишь нагнувшись, я смог разглядеть знакомые черты Гали. В этот момент ее глаза, слегка скосившись, вдруг широко раскрылись и стали влажными.
Я понял, что она узнала меня. Потрескавшимися губами, еле слышно она прошептала:
— Здравствуйте, товарищ командир. Спасибо, что пришли.
— Здравствуй, Бур… Галочка. Чего там… Раньше бы пришел, да времени не было. Ну, как себя чувствуешь?
— Я рада, что вы вернулись. Я верила, я знала… мне вчера Волков сказал. Вы ранены?
— Пустяки! Сегодня уже самолеты перегонял. А вот ты не вовремя под пулю попала. Кто же теперь самолет готовить будет? А? Ну ничего, здесь подлечат, потом в госпиталь отправят, оттуда к нам. Словом, крепись. Поняла?
Она согласно кивнула, но из правого глаза по щеке покатилась слеза.
— Бои кончаются. Скоро в Германии будем, но, похоже, я не увижу Победы, Женя… — перешла она на «ты».
— Ну это ты брось! Мы еще с тобой до Берлина дойдем, подышим свободным послевоенным воздухом. Так что без паники. Понятно?
— Понятно, — чуть слышно ответила Галя и отвернулась к стенке. Я истолковал это по-своему: устала. Поднялся.
— Не уходи! Может, уже и не свидимся, кто знает…
— Мне пора. Сестра сказала, что тебя нельзя тревожить. Прости меня…
— За что?
— За все.
Я покидал лазарет с тяжелым чувством, перешедшим в горечь утраты, когда на следующее утро мне сообщили, что Галя умерла…
Через два дня вернулся батя. Пришел и сел на свою лавку, хмурый, ушедший в себя. Сына он не нашел. Были слухи, что в Сороках убили какого-то летчика, по описанию похожего на Виктора — в таких же бриджах, с таким же чубом. Но слух, кажется, не подтвердился. Где искать?..
— А в госпиталях, батя, бывал, спрашивал?
— Был и в Бельцах, и в Ботошани…
— А на месте, в районе боя?
— Туда не добрался… Времени не хватило. Вот думаю опять проситься… Может, в медсанбате где.
Вопрос решился просто. Через день полк перелетал в Румынию, в район боев. Плацдарм северо-западнее Тирасполя передали другому фронту, и прикрывать его больше не приходилось.
— Ты, здеся, по пути в госпиталях все еще разузнаешь. А в Румынии опять поедешь к линии фронта… — ответил бате Архипенко на его просьбу.
Целый месяц еще искал Григорий Сергеевич Виктора, но так никаких следов и не обнаружил. Время шло, и поиски все более затруднялись. Много самолетов падало вдоль линии фронта, в тылах. Разве упомнишь все? Старик больше не надеялся найти Виктора живым, он искал хотя бы могилу, место его гибели. Все напрасно. Даже обломков самолета не нашел…
Однажды мимо аэродрома провезли обломки «ястребка», на котором я упал возле Котнари. Груда искореженных кусков металла ничем не напоминала самолет.
— И вы вместе с самолетом упали?! — ужаснулся Волков. — Не может быть… Тут живым никак не останешься!
— Видишь, остался…
— Вот твой самолет провезли… — вздохнул батя. — Может, и Виктора самолет увезли. Как я найду его теперь?
— Это у инженера дивизии можно узнать или в корпусе — увезли самолет или нет…
Я остро переживал потерю Виктора, хотел бы помочь бате, но чем? Ехать искать? Не пустят. Да и прок едва ли будет. Я вспомнил свое падение. «Упал бы я километра на два дальше, — думал я. — Лес, обломков самолета не найдешь. Вон под Москвой целую неделю искали самолет и летчика, разбившегося в тренировочном полете. Здесь тем более. Там с аэродрома видели, куда падал… Наземные части все время меняются. Новые и хотели бы помочь, да ничем не могут. А все-леса один не обшаришь…»
Наступление, начатое нашими войсками 2 мая в районе Тыргу-Фрумос в направлении на Роман, успеха не имело. Наземные войска натолкнулись на линию укреплений, подготовленную боярской Румынией еще в 1939 году, и перешли к обороне. Я слышал об этих укреплениях от артиллеристов, но думал, что это очередная фронтовая утка. Так, мол, они пытаются оправдать безрезультатность боев. Сейчас все подтвердилось.
Воздушные и наземные бои почти совсем прекратились, но все равно нечего было и думать летчику проситься на поиски друга…
Я чуть опять не остался без самолета. Аэродром, на котором мы сидели, располагался на лугу в изгибе речушки Жижия. Размеры его были весьма и весьма ограниченны. Едва хватало места для разбега перед взлетом и пробега после посадки. А с моим мотором нечего было и думать взлететь отсюда. Обязательно в речку с обрыва загремишь. Вот одна такая попытка чуть было и не кончилась аварией. Пришлось поднимать самолет без скорости. С трудом я его удержал от сваливания на крыло… Не было бы счастья, да несчастье помогло. В полк пригнали самолеты на пополнение. На одном из них летчик не рассчитал и сел с перелетом метров на сто… С испугу он выскочил из кабины и бросился вплавь на другую сторону реки и, только немного очухавшись, поплыл назад под дружный хохот собравшихся. Самолет достали из речки. Его можно было восстановить только в мастерских. А мотор, кажется, хороший… Волков побил все рекорды — за пятнадцать часов переставил моторы с одного самолета на другой. За это получил благодарность в приказе от командира полка и простое «молодец» от меня.
Боев не было. Вылетов тоже. Летчики томились от бесплодного дежурства на аэродроме. Единственным их развлечением до начала занятий была стрельба. В эти дни приспособили один из капониров под тир и стали заново пристреливать там самолеты, стрелять из пистолета и ручного пулемета по мишеням. Но все же без настоящей работы было тоскливо.
Особенно тоскливо было, пожалуй, мне. Я все еще ждал каких-либо известий о Викторе. Хоть что-нибудь конкретное… Ничего…
Немного отвлекло меня от мрачных мыслей пополнение летчиков, прибывшее в полк. В их эскадрилью попал москвич Борис Голованов — круглолицый, крепко сколоченный парень с озорными черными глазами. Правда, он прибыл только на стажировку — его оставляли инструктором в ЗАПе. Но он думал, что сумеет добиться пересмотра этого решения.
А через несколько дней надвинулись новые грозные события, которые оттеснили все воспоминания на задний план, приглушили их…
На станцию Ларга…
Темно, хоть глаз выколи. На плоскость вскочил Николай и прокричал мне в самое ухо:
— Фару опять включите! Я впереди побегу, покажу, куда рулить!
Я кивнул. Ладно, мол.
Волков спрыгнул с крыла и исчез. Голубовато-белый луч фары прорезал темень аэродрома. Яркой зеленью засветилась каждая травинка, а вдали, на другом конце летного поля, показались маленькие фигурки людей — инженера эскадрильи, техников звеньев. Туда-то и нужно было перерулить самолеты. Сбоку вспыхнул еще луч, еще, еще, и вот уже шесть сверкающих мечей побежали по летному полю, слегка покачиваясь и выхватывая из темноты то траву вблизи самолетов, то капониры, выстроившиеся вдоль Жижии, то деревья по другую сторону взлетной полосы, там, где проходила дорога и начиналось село Тодирени.
Самолеты подрулили друг к другу вплотную, крыло в крыло, как вообще-то никогда на фронте не ставили. Но сегодня они на дежурстве, взлетят по первой же ракете с командного пункта или «по зрячему», если летчики сами увидят фашистские самолеты. В приказе дивизии так и сказано:
«129 гв. ИАП с 4.45 30.5.44 иметь в. готовности № 1 на старте 6 самолетов с задачей отражения налета авиации противника на аэроузел. Взлет по сигналу с КП дивизий, постов ВНОС и по зрячему…»
Вчера тоже выруливали в такую рань, сидели в кабинах в ожидании сигнала на вылет, потом, с рассветом, поднялись в воздух и пошли далеко за линию фронта. Шестьдесят километров от своих… Там, немного севернее Бакэу, мы патрулировали, обеспечивая действия штурмовиков по аэродрому Роман. Одновременно штурмовке и бомбежке подверглись и другие фашистские аэродромы — командование фронта беспокоило большое сосредоточение авиации противника.
А сегодня все ждали ответного удара. И действительно, как только более или менее рассвело, с командного пункта взвилась зеленая ракета, и истребители пошли на взлет. Постепенно прогревались лампы радиоприемника, и до ушей стали доходить звуки внешнего мира.
— На станцию Ларга идет двести бомбардировщиков! — передала станция наведения с линии фронта.
Это было первое, что я услышал. «Сейчас здесь будут, — подумал я. — Дадут жару…» Я думал не о себе, а о тех, кто остался на земле, на чьи головы вот-вот посыплются бомбы. «И нам достанется… Истребителей тоже, наверное, хватает…»
— Над станцией Ларга триста бомбардировщиков… — снова передал пункт наведения.
— Архипенко! Будьте внимательны. Прикрывайте точку. — На земле ожидали появления всей этой армады над аэродромом.
Минута проходила за минутой, а бомбардировщики не появлялись. Только по радио слышны были отзвуки далекого воздушного боя («Бей его!..» «Прикрой!» и… «Прыгай, прыгай! А!..»), который вела шестерка из соседнего полка. «Почему мы туда не идем?! — возмущался я. — Там же бой идет!» Архипенко, видно, думал так же. Он развернулся и повел группу на юг, в сторону недалекой здесь линии фронта. Но тут же с земли передали строгий приказ:
— Архипенко! Не уходите от точки! Выполняйте свою задачу!
Пришлось подчиниться. Командование все еще считало, что это попытка нанести ответный удар по нашим аэродромам. Только позже выяснилось, что гитлеровцы после часовой артиллерийской подготовки, которая началась в четыре часа сорок минут утра, обрушили всю массу своей авиации, подготовленной в течение месяца, на боевые порядки войск 52-й армии. Удар наносился на узком участке фронта протяжением всего двенадцать километров.
С утра 30 мая над этим участком непрерывно патрулировали четверки и шестерки «Мессеров» и «Фоккеров». В то же время «Ю-87», «Ю-88», »Хе-111» с прикрытием по четыре-шесть «Ме-109» и «ФВ-190» на каждую девятку наносили непрерывные эшелонированные удары по оборонительным позициям наших войск. Однако, несмотря на огромное количество фашистских самолетов в воздухе, они несли при этом большие потери и решили изменить тактику. Начиная с четырех часов дня и до наступления темноты фашисты действовали группами до восьмидесяти бомбардировщиков в каждой. Эти армады прикрывались двадцатью-тридцатью истребителями «Ме-109» и «ФВ-190».
Всего за день боев над этим участком побывали тысяча девятьсот фашистских самолетов. И только в расположение наших войск упали шестьдесят из них, сбитые советскими истребителями. А сколько свалилось за линией фронта? Подбитые, не смогли долететь домой? На второй день гитлеровцы смогли послать в бой только тысячу шестьсот, на четвертый — семьсот пятьдесят, а на седьмой — триста семьдесят самолетов.
В этот день мы совершили четыре боевых вылета и все с воздушными боями.
В первый день снова отличился Гулаев. За два вылета он сбил пять вражеских самолетов: «Ю-88», «Ю-87», два «Ме-109» и одного «ХШ-126». В первом вылете — он водил группу из двенадцати «ястребков» — они встретили «ХШ-126». Гулаев сбил его, а в это время к линии фронта подошли две группы по пятнадцать «Ю-88» под прикрытием шести румынских истребителей «ИАР-80» и шести «Ме-109». Николай Гулаев сбил «Ю-88», Букчин и Задирака — по одному «ИАР-80».
Прикрывающая группа, которую вел Бекашонок, тоже дралась. Сам Бекашонок и Басенко сбили по одному «Ю-88», а Галушков — «Ме-109». Вся группа, сбив семь гитлеровских самолетов, без потерь вернулась на свой аэродром.
Однако второй вылет Гулаева не был таким удачным. Шестеркой они встретили восемь «Мессеров». Гулаев и Задирака сбили по одному «шмиту», но подошли еще тридцать «Ю-87» под прикрытием шестнадцати «Ме-109». Наши заявили сбитие девяти самолетов (пять «лаптежников» и четыре «Мессера»), а всего за вылет — одиннадцать. Но и немцы сумели сбить всю шестерку. Погиб в бою мой товарищ по аэроклубу и летной школе Акиншин и молодой летчик, только прибывший в полк, Громов, а Задирака, Чесноков и Козинов покинули горящие самолеты с парашютами. Раненные, они в тот же день вернулись в полк, откуда их отправили дальше, в госпиталь. Сам Гулаев тоже был ранен, но сумел посадить самолет на аэродром к штурмовикам. Главная ошибка Гулаева была в том, что в тот вылет он взял троих необстрелянных летчиков, которые и были сбиты в первом же бою.
А дальше все перепуталось: вылеты, бои, дежурства на аэродроме в первой готовности, короткий сон, вернее, забытье ночью — спали не больше чем по два часа, — и снова вылеты, дежурства, бои… Никогда еще полк, дивизия, корпус не вели таких ожесточенных боев, не встречались с такими массированными действиями фашистской авиации. И кто знает, если бы не дивизия Покрышкина, влившаяся в состав корпуса незадолго до начала этой, Ясской, как ее потом назвали, оборонительной операции, может, не многие летчики дожили бы до ее конца… Покрышкинская дивизия сняла часть нагрузки с летчиков остальных двух дивизий корпуса.
Несколько эпизодов с фотографической четкостью запечатлелись в моей памяти.
Отвесно спикировав с пяти тысяч, мы на полутора тысячах метров гонимся за «лаптежниками». Архипенко и Бургонов вырвались метров на триста вперед. В этот промежуток сверху сваливается пара «Фоккеров» и пристраивается в хвост «ястребкам».
— Архипенко, Цыган, «Фоккеры» в хвосте! — кричу я, но они меня не слышат. «Фоккер» у меня в прицеле, но там же и самолет Бургонова, стрелять нельзя… В бессильной злобе я сжимаю ручку, ищу возможности открыть огонь. Тщетно…
«Ястребок» Бургонова загорелся, сорвался в штопор, над ним раскрылся купол парашюта. И тут же я открыл огонь и не прекращал его, пока «Фоккер» не вспыхнул, клюнул носом да так и врезался в землю на северной окраине Ясс. Парашютиста не было. Архипенко наконец увидел преследование, ушел из-под удара второго «фоккера». Но Бургонов опустился прямо в расположение немецкой зенитной батареи… Пройдя плен, он будет освобожден нашими войсками в 1945 году, но в авиацию вернуться ему не дадут, и долго еще на нем будет висеть, мешая жить, клеймо: «был в плену»…
…Я иду ведомым у Архипенко: Ипполитов остался на аэродроме. Из-за тяжелой грозовой тучи выплывают «лаптежники». Вокруг них вьются «Мессеры» и «Фоккеры». «Лаптежники» переходят в пикирование. Вот один из них в прицеле. Но сбоку рвутся снаряды, выпущенные «Мессером». «Издали, видно, стреляет, сволочь. Ничего, там прикрытие есть, отгонят… Главное — бомбить не дать».
— Пупок, бей «худых»! — кричит Архипенко.
Очередь… На фоне темного облака ясно виден полет снарядов. Они достигают ложащегося на крыло «Юнкерса», рвутся в моторе, в плоскостях, в фюзеляже, между торчащими ногами шасси, «лаптежник» разваливается на части, и на землю падают только мелкие осколки его. Видно, взорвалась бомба…
Еще вылет.
— Снижайтесь! — командует генерал Утин с земли. — Здесь «Хейншели» штурмуют!
Четверка Архипенко пикирует вниз. Я рядом с Федором, как и положено ведомому. Врываемся в сплошной дым, пыль, поднятую на высоту взрывами бомб и снарядов. Ничего не видно. Впереди в дыму проступают контуры какого-то кургана или холма, а возле него ворочаются туши двухмоторных штурмовиков «ХШ-129». Архипенко стреляет. Загоревшись, «Хейншель» потерял устойчивость и тут же столкнулся с землей. Второй такой же самолет оказался у него справа, я открыл огонь, но промазал, а тот быстро ускользнул за дымы в лощину.
— Истребители вверху! — передает Утин. Я вслед за Архипенко, правым боевым разворотом пошел вверх. «Мессер» в хвосте у Архипенко. Но он в прицеле у меня. Дистанция метров пятьдесят. Короткая пушечная очередь, и «худой» отвесным пикированием врезается в землю…
…Горегляд ведет «этажерку» из двадцати четырех самолетов — группы по четыре-шесть истребителей ходят на разных высотах, готовые в любой момент помочь друг другу. В первые же минуты «худые» попали в эту сеть. Уходя пикированием от верхней группы, они угодили под огонь одной из нижних. И сразу три «шмита» дымными факелами спикировали в землю. А высоко-высоко, тысячах на семи с половиной-восьми, проходит группа «Хе-111». Оттуда и бросают бомбы. Куда они попали? Что фашисты увидели с такой высоты, когда мы и с двух тысяч ничего не видим в сплошной пелене дыма и пыли, закрывающей землю?..
…Архипенко врезается в самую середину большой группы «Ю-87». Стреляет. «Лаптежники» врассыпную. Но в одном строю с ними идут и «Фоккеры». На них, наверное, летчики с бомбардировщиков. Потом Архипенко говорит: .
— Смотрю, здеся, «Фоккеры» вместе с «лаптежниками» идут, морды это подворачивают. Ну, я, здеся, дал очередь и быстренько сматываться в сторонку…
Это на земле…
Я выскакиваю из кабины.
— Волков! Отвертку давай! Где радист? Николай побледнел, протягивает отвертку.
— Что такое, товарищ командир?
— Не слышит никто меня по радио! Цыгана из-за этого сбили!..
Открыл лючок, где установлена радиоаппаратура.
— Ну, вот видишь! На целых два мегагерца больше на передатчике стоит! Не перестроил после вчерашнего! — Быстро настроил передатчик на заданную волну…
Борис Голованов, когда прибыл в полк, несколько ночей подряд не мог уснуть.
— Как вы тут спите?!
— А что такое?
— Блохи!
Действительно, в бедняцкой румынской хате с земляным полом водились мириады маленьких скакунов.
— Блохи?.. Ну и что же?
— Кусают…
— Ну?! Разве? Ничего, полетаешь — спать будешь, не будут кусать…
Первые дни Архипенко не берет Бориса на задания. Куда же молодого, неопытного летчика в такую мясорубку?
— Федор Федорович, возьмите меня! Все летают, я что, только пятую норму жрать на фронт прилетел?
Все летают… Громов и Евсюков, прибывшие на фронт вместе с Борисом, уже погибли…
— Ладно-ладно… Садись, здеся, дежурить.
Как ракета будет, так вылетишь. А я пока отдохну… — Архипенко укладывается под крылом на свой испытанный реглан, а Голованов выруливает вместе со всей эскадрильей дежурить.
Ракета. Все запускают моторы. Сейчас взлет. Я вижу, как в соседнем самолете улыбается Борис. Сейчас полечу, мол!
— Голованов! Заруливай на стоянку! — Архипенко прямо из капонира пошел на взлет. — За мной, орелики!
Борис понуро заруливает в капонир… Идут дни, напряжение боев спадает — может быть, фашистские нервы не выдерживают, а может, самолетов у них мало осталось. Голованов начинает летать.
— Ну, как спалось?
— Отлично, только мало… Еще бы минуток шестьсот добрать!..
— А эти, не мешают?
— Кто?.. А, блохи? Нет! Я их и не чувствовал…
Дежурство. Я сплю в кабине. Никак не удается выспаться как следует. Удар кулаком в плечо. Не раскрывая глаз, запускаю мотор, даю газ. Только на взлете окончательно просыпаюсь — увидев ракету, Волков толкнул меня. Взлет, мол…
Хоть и сменили на моем истребителе мотор перед началом боев, от этого почти ничего не изменилось. Мотор оказался дрянным.
Дежурному звену обед подают прямо в кабину. Температура здесь давно перевалила за пятьдесят, а тут еще горячий, обжигающий борщ. Под крылом обедают техники.
— Ну как там, Женя? Не замерз? — спрашивает из тени инженер полка по вооружению Кацевал.
— Слушай, Федор, отзынь на пол… вареники в сторону, — меня смутило присутствие официантки, — а то сейчас этот борщ у тебя на голове будет!..
Перед вылетом достал из кармана вкладную книжку Госбанка, повертел в руках. Так и хочется сказать: «На, Коля. Если что, перешлешь матери»… Сорок пять минут воздушного боя измотают какого угодно атлета. А такие бои в каждом вылете. Все устали до изнеможения. Устали не только физически. Постоянное нервное напряжение тоже дает себя знать. Только идиоты, пожалуй, могут ничего не бояться. Страх присущ каждому психически здоровому человеку, только у одних он проявляется открытой трусостью, другие переламывают себя, идут в бой. Но знают, на что идут. Я всегда чувствовал нервное напряжение, пока шли к линии фронта. Но стоило увидеть немцев, как это чувство исчезало, я успокаивался. Вернее, бой занимал все мое внимание. Однако, честно говоря, я не думал остаться живым в этих боях. Вот и решил было отдать вкладную книжку на сохранение Николаю. Но потом самому стало стыдно, спрятал книжку в карман…
Снова обед. На стоянке. Летчики сидят на земле, вяло ковыряются в тарелках. Аппетита ни у кого нет. Даже у Голованова. Сказывается постоянное переутомление.
— А где же этот ваш, маленький… Миша? — вспоминает официантка.
Лусто обедать не хочет и спокойно спит под навесом за капониром.
— Пупок? А он увидел, что вы обед везете, и убежал вон туда, — Лебедев махнул рукой в направлении противоположного берега Жижии, — на гору.
Официантка приняла это всерьез.
— Как же я туда поеду?! Тут же моста нет…
Предрассветная темень. Летчиков привезли на аэродром.
— Товарищ командир, ложитесь, поспите, — Волков заботливо поправляет расстеленные заранее чехлы. Он и сам все эти дни не высыпается, но в первую очередь думает о летчике. Тому летать, драться…
Утро на командном пункте. Командиры эскадрилий получают предварительное задание на день. Оно в первые же часы будет нарушено: вылеты на дежурства поломают весь график. Летчики толпятся вокруг. Каждому интересно узнать, не уменьшилось ли напряжение. Кармин — заместитель Бекашонка — пристроился перед осколком зеркала, бреется. «Что вы делаете?!» — захотелось остановить его, но неудобно подходить с дурацкими — я сам прекрасно понимал это — приметами к пожилому, опытному летчику.
Правда, в воздушном бою в этот день Кармина сбили, он выпрыгнул с парашютом. Но перед этим он сам сбил одного «шмита», а второго, на горящем уже самолете, с перебитыми фашистскими пулями ногами, таранил. Это были шестнадцатый и семнадцатый, сбитые Карминым. Он больше не смог воевать, вернулся в Казань и стал начальником аэроклуба. Там он и до войны работал. С глаз долой — из сердца вон. Кармину так и не присвоили звания Героя Советского Союза, хотя все данные для этого были…
Вечер. На густой траве возле КП сидят коммунисты полка. Присутствуют только летчики и штабные работники — техники и механики заняты подготовкой материальной части. Ведь к рассвету все самолеты должны быть отремонтированы, готовы к вылету.
Приехали командир корпуса Утин и командир дивизии Горегляд, чтобы обсудить итоги первых трех дней операции. Боевые командиры, они не упускали случая побеседовать с летчиками, узнать от них что-либо новое. И Утин и Горегляд многое видели с земли, когда командовали истребителями со станций наведения. А Горегляд и сам часто летал, дрался. Однако и к мнению рядовых летчиков они прислушивались, старались уловить элементы новых тактических приемов, еще только рождающихся в процессе воздушных боев наших «ястребков» с фашистскими бомбардировщиками и истребителями.
Сейчас все говорили о тяжелых боях с большими группами противника. «Вот бы всегда водить по двадцать — двадцать четыре самолета, — намекали летчики на вылет, когда Горегляд водил „этажерку“ из двадцати четырех истребителей. — Тогда бы мы мигом отучили немцев летать…»
— Ну, на этот счет не увлекайтесь, — поднялся генерал Утин. — Такие группы мы можем посылать только изредка. Иначе не выполним свою задачу. Наша обязанность — от рассвета до темна прикрывать передний край, наземные войска, не дать немцам возможности производить прицельное бомбометание. Большими группами мы все время над передним краем находиться не сможем. Не хватит самолетов и летчиков.
Вот вчера передал Бекашонку снижаться — «Юнкерсы» пришли. Он спикировал группой. А один оторвался. Евсюков. Молодой летчик, наверное, не знал такого. Только прибыл, говорите? Оторвался и ходил на высоте. Подходит «худой», дал очередь. Наш стал плавно разворачиваться. «Шмит» — переворот и ходу.
Евсюков все ходит вверху, постепенно снижается. На юг идет с наборчиком, развернется на север — со снижением. Потом опять разворот… Подошли двенадцать «Мессеров». Только пристроится какой-нибудь ему в хвост, Евсюков начинает разворачиваться. «Шмит» сразу переворот — и ходу. Так и носились вокруг него, боялись подступиться. Думали, наверное, ас какой летает. Пятнадцать минут так. Никто больше не стрелял по нему. Постепенно снизился и сел метрах в двухстах от меня. Подбежали к нему, а он мертвый. Семь пуль только через сердце прошло! Пятнадцать минут мертвый летал, двенадцать «худых» пугал! Видно, хорошо отрегулировал самолет триммерами в полете… А вы говорите, что трудно воевать!
Утин, бывало, ругал нас по радио, под горячую руку, хоть и понимал, что мы не можем быть везде одновременно. Но то на переднем крае, когда кругом рвутся снаряды и бомбы и некогда выбирать выражения. А здесь, он знал, нужно подбодрить летчиков, показать, что и меньшими силами они бьют фашистов. Поэтому и рассказал о бывшем в действительности накануне случае с Евсюковым. Главное, поднять, дух летчиков…
— Да и потом, — продолжал Утин, — не такими уж малыми группами вы ходите. Фигичев нашел правильный выход. Одна эскадрилья идет в ударной группе, другая полностью или частью сил прикрывает ее. Как будто и не слетанная группа, а получается хорошо. Одни дерутся с бомбардировщиками, а другие оттягивают на себя истребителей. А разве был случай, когда бы вы вели тяжелый бой и Горегляд не наращивал силы, поднимая дежурные шестерки? Или из соседних дивизий не пришла бы группа? Нет. Вылеты организованы сейчас неплохо. Это же мы заставили немцев изменить тактику. Сначала они посылали много отдельных девяток бомбардировщиков под прикрытием четырех-шести истребителей на каждую. Били их. И хорошо били, хоть и трудно было гоняться за всеми группами. Они боятся и теперь действуют мелкими подразделениями. Приходят армады по шестьдесят-восемьдесят бомбардировщиков под сильным, до тридцати самолетов, прикрытием истребителей. Но и нам легче концентрировать удары по одной большой группе, чем по нескольким, более мелким…
Утром, после приезда на аэродром, я лег добрать.
— Подождите, товарищ командир! — останавливает меня Волков. — Вот, пока прохладно, яйца выпейте, а то днем ничего не едите…
Я взял яйцо, разбил, выпил.
— Сам ешь!
— Мне хватит! Я тут с румыном договорился, каждый день для вас по десятку покупать буду.
После боя группа пришла на последних каплях горючего. У Бориса Голованова останавливается мотор: бензин кончился, и он садится километра за полтора до посадочной, за речкой. Ударился о прицел, у него кожу с головы, как скальп, сняло, завернулась… Привезли на КП.
Сидит, картой рану зажал. Отправили в госпиталь…
За весенние бои эскадрилья сбила одиннадцать немецких самолетов, а полк сбил тридцать пять. Таких ожесточенных боев на моей памяти еще не было, но потери гораздо меньшие, чем на Днепре. Тогда за восемь дней мы потеряли шестнадцать самолетов, а сбили восемнадцать. А сейчас потеряли десять. Зато сбили тридцать пять!.. Свой личный счет я довел до пятнадцати.
На новую границу
Буквально через несколько дней наступило затишье. Группа за группой истребители уходили на задание и возвращались обратно, не обнаружив противника. Внизу не было сплошной пелены пыли и дыма, больше недели закрывавшей передний край.. Обычная голубоватая дымка простиралась над землей.
Летчики садились дежурить в первой готовности и опять вылезали из кабин, не дождавшись ракеты на вылет. Немцы в воздухе не появлялись, и поднимать дежурных истребителей не приходилось.
Вскоре пришел приказ: вылеты на прикрытие прекратить. Попытка наступления немцев провалилась, и бои полностью затихли.
Осталось только дежурство в первой готовности. Усталые летчики, механики, техники отдыхали. Они лежали под плоскостями самолетов и недоверчиво посматривали в сторону командного пункта. Вдруг опять ракета? Снова такие бои?
Ракеты не было. Вместо нее с командного пункта вернулся Архипенко и привел с собой молоденького младшего лейтенанта. Небольшого роста паренек — ниже Миши Лусто — с кругленьким мальчишечьим лицом, на котором выделялись большие, чуть припухшие черные глаза, и с девичьим румянцем на щеках, еще не знавших прикосновения бритвы, смущенно остановился рядом с командиром эскадрильи, посматривая из-под длинных ресниц на приподнявших головы летчиков. Всем своим обликом он резко отличался от присутствующих — тоже молодых, но уже опаленных огнем войны.
— Что там нового, Федор Федорович? — спросил Ипполитов, приподнявшись на локте.
— Новостей вагон и маленькая тележка. Вот, здеся, знакомьтесь. Новый летчик к нам прибыл. Степанов.
И Архипенко стал представлять Степанову летчиков.
— Лусто, мой боевой заместитель… Миша лежа протянул руку.
— Михаил Васильевич.
— Сергей…
«Пупок — заместитель?! А Виктор? Значит, все… О Викторе больше месяца ничего не известно. Отдали приказом, наверное, что пропал без вести…» О летчиках, не вернувшихся с задания, если не было точных сведений о их гибели или о том, что они попали в госпиталь, через месяц отдавали приказ: «Считать пропавшим без вести…»
Архипенко продолжал:
— Старший лейтенант Мариинский, командир звена.
Я, услышав свою фамилию, тоже протянул руку.
— Евгений. Только не командир звена, а просто летчик, лейтенант.
— Приказ, здеся, уже есть на тебя и на Лусто. Да, с тебя причитается за звание и за «Боевик» — Горегляд звонил.
— Я же и старшим летчиком не был!
— Назначили, здеся, сразу командиром звена.
— Ладно, уговорили, мы с комэской приглашаем всех сегодня вечером… — я с едва сдерживаемой улыбкой посмотрел на раскрывшего от удивления рот Архипенко. — Правда, Федор Федорович?
— А я-то тут при чем? — пожал плечами тот. — У меня запасы, здеся, иссякли.
— Не скажи! А канистра, что за тумбочкой стоит? Там еще кое-что плещется…
— Хмм… — недовольно крякнул Архипенко. — Унюхал, черт! Ну, ладно, для такого дела жертвую последнее.
— Последняя у попа жена! — отрезал я, и все расхохотались.
— Ну ладно, Степанов, с остальными сам потом познакомишься… — вернулся Архипенко к теме разговора. — Вот что, орелики. Американцы и англичане вчера во Франции высаживаться начали.
— Это что, в газетах есть? — спросил Лебедев.
— Откуда, здеся, в газетах?! Вчера только высадились! По радио передавали.
— Ну и как?
— Захватили плацдармы. Авиации там!.. Больше десяти тысяч! Да, а ты, Лебедев, — вдруг вспомнил Архипенко, — уходишь от нас.
— Куда?!
— В соседнюю дивизию.
— Почему?
— Обмен. Оттуда к нам летчика переводят.
— Почему же меня?! Вон из пополнения кого-нибудь пускай пошлют. Они только прибыли, им все равно, где служить…
Степанов поежился. Хоть Лебедев и не имел именно его в виду, он принял все на свой счет. С таким трудом удалось добраться до боевого полка, и, на тебе, обратно куда-то отправляют…
— Нужно боевого летчика послать. Такого же, как и они нам дают.
— Может, из второй или третьей?
— Наша эскадрилья, здеся, целее всех осталась. Фигичев и решил от нас взять летчика. Кого же, кроме тебя?
Лебедев посмотрел на лежащего Ипполитова.
— Вон Ивана, может?
Архипенко даже не счел нужным ответить, а Ипполитов обиженно фыркнул:
— А почему меня?!
Лебедев вздохнул, посмотрел вопросительно на командира, на Лусто — может, шутят? — и спросил:
— Когда отправляться?
— Не знаю. Скажут, здеся…
— А как насчет вылетов? — поинтересовался Лусто.
— Не будет вылетов. Отвоевали пока, здеся, — Архипенко не мог успокоиться после короткого разговора с Лебедевым. Он представил себя на месте Сергея. Кому охота уходить из родного полка, где начал свою фронтовую жизнь? Да и жалко расставаться с хорошим летчиком. Сергей только за эти бои троих срубил. Да до этого пару… — Выдохлись немцы, — ответил наконец он Лусто.
Началась мирная жизнь. Мы все так же приезжали к рассвету на аэродром, но большую часть времени находились под плоскостями самолетов и травили баланду. Стреляли в тире из пулемета, прицеливались по силуэтам… Вводили в строй молодое пополнение. Пока на земле. Рассказывали о боях. Даже будто и не рассказывали, а беседовали между собой, вспоминая разные эпизоды и разбирая возможные в таком положении действия. Ни Архипенко, ни Лусто.ни другие летчики, собственно, ничего нового тут не придумали. Давно уже у них в такой форме проводились разборы воздушных боев и боевых вылетов. С жадным вниманием прислушивался к этим разговорам Степанов, определенный в мое звено вместо выбывшего Голованова. Разгоревшимися глазами смотрел он на остальных летчиков, которые, казалось ему, все превзошли, ничего не боятся. И даже летать не просятся! «Вот бы на несколько дней раньше приехать… И я бы, может, в этих боях побывал!» — думал он. Ведь по отдельным репликам, энергичным жестам можно было представить, что ничего страшного там не было. Развернулся, прицелился, нажал гашетку, сбил!..
— Хорошо, Сергей, что ты позже приехал, — заметил его настроение Архипенко. — А то, здеся, четверо приехали перед самыми боями. Тоже, наверно, думали сбивать только. Их и посбивали. Двое погибли, а один в госпитале. Голованов, четвертый, вот тоже без бензина упал после боя, в госпитале…
— А какая разница, товарищ командир? Все равно когда-нибудь начинать надо. Еще бои будут? — не совсем уверенно спросил он.
Я улыбнулся — тоже когда-то думал, что на мою долю не достанется боев…
— Э, нет! Не все равно. Ты, здеся, полетаешь пока в тылу, над аэродромом, потренируешься, а потом потихонечку и на задания ходить начнешь. Не сразу в такие бои! Тут и старые зубры только успевали поворачиваться!.. Молодежь я в такие бои сразу не беру.
Архипенко имел основания так говорить. Он жалел молодых летчиков, прибывающих на пополнение, не брал их сразу на задания. Поэтому и потери в эскадрилье были минимальными. Вот и в этой операции. Как бы трудно ни приходилось им вчетвером, он долго не хотел брать на задание Бориса Голованова. Они тогда почти не вылезали из кабин — то полеты, то дежурство, — но он только и позволял себе, что полежать под плоскостью, а Бориса заставить дежурить в кабине. Но успевал вылететь вместе со всеми, а Голованова по радио отправить на стоянку. Только потом, когда напряжение боев утихло, он стал брать Бориса на задания.
— Так вы же меня и летать не пускаете. Дайте я хоть тут слетаю… — возразил Степанов.
— Летать хочешь? Я думал, нам не хочется, так и никому не хочется… Ладно, здеся, сегодня и слетаешь. С Женькой. Слышишь, Женька?
Я в это время болтал с Мишей Лусто и Ипполитовым. Хотя я и весьма скептически относился ко второму фронту, открытому союзниками на севере Франции, но внимательно следил по газетам и по радио за военными действиями в Нормандии. Ипполитов, наоборот, возлагал слишком большие надежды на американцев и англичан.
— Ты говоришь. А вот они только высадились шестого, а седьмого у нас бои уже кончились. Это что? Немцы туда стали оттягивать авиацию.
— Ишь ты, как быстро! Они ж еще с первого и второго числа меньше стали летать. А потом, Утин говорил, перехватили разговор по радио, немцы вообще стараются на своей территории выждать, пока мы патрулируем, и только потом идут бомбить.
Ипполитов смутился. Однако не сдался. Пользуясь тем, что Лусто придерживался строгого нейтралитета в споре, никак не высказывал своего мнения, он продолжал настаивать на своем.
— Слышал, они же за эти дни тридцать пять тысяч самолето-вылетов на плацдарм сделали! Это ж сила! Только авиадесант двадцать тысяч высадили!
— Ну и что же? Сколько они на Берлин летали? Тысячами. А тебе от этого легче было? У нас вроде немцев не убавлялось.
— Женька! Ты что, здеся, заболтался? Не слышишь?
— Что такое?
— Слетаешь четверкой сегодня на облет района. Степанова ведомым возьмешь. Над аэродромом бой с ним проведешь.
— Ладно. Когда?
— К вечеру, видно. Я пойду с Фигичевым договорюсь. — Архипенко поднялся, поправил свой реглан (он даже в жару лета 1944 года в Румынии ни на минуту не расставался с ним) и направился через летное поле к командному пункту.
— Федор Федорович! — остановил его я. — Реглан хоть оставь. Сваришься в нем. Как ты его в такую жару таскаешь?! И летаешь все время в нем! Не жарко? Бросил бы давно рвань такую.
— Чудак! Это ж кожа! Единственное спасение при пожаре. Почему у тебя ноги не обгорели, когда ты, здеся, на горящем бой вел, садился? Сапоги кожаные спасли. А то бы повалялся в госпитале!
— Так сейчас же не летишь. Оставь его здесь.
— Нема дурных! Выбросите, где я другой возьму? Это у меня талисман. В нем сколько летаю за всю войну, еще ни одной пробоины не привез.
Как-то летчики уже пытались отучить своего командира от реглана, которым побрезговал бы, наверное, даже Плюшкин, прятали его, но Федор Федорович пришел в такое отчаяние, что над ним невольно сжалились и вернули ему эту смесь эмалита и кожи.
— Давно пора выбросить. В нем же эмалита больше, чем кожи. Не то что от огня закроет, сам гореть будет будь здоров!
— Ты мне, здеся, брось! Реглан еще что надо! В нем, как до войны, можно еще на танцы идти, стать там, достать из кармана папиросы, — он показал, как достает коробку папирос. — Знаешь, какие мы тогда курили? Во! Метр куришь — два бросаешь!
Это была его любимая поговорка. И чем дальше наши войска продвигались на запад, тем чаще он вспоминал папиросы, которые курил до войны. Может, и курил-то он обыкновенный «Беломор» — эту марку почему-то всегда предпочитали летчики, — но за годы войны, когда приходилось курить черт знает что, обыкновенные папиросы выросли в его воображении в трехметровые: «метр куришь — два бросаешь».
Архипенко махнул рукой — что, мол, вы в этом понимаете! — и пошел дальше.
К слову сказать, комэска в этих боях выполнил свой четырехсотый боевой вылет, и по такому случаю командир БАО где-то на складах достал два новых реглана для него и Николая Гулаева, но начальство, командир полка Фигичев и начальник штаба, их отобрали, а летчикам отдали свои, уже поношенные. Тем не менее Архипенко был несказанно рад, и хотя его старый реглан носить было уже невозможно, он построил эскадрилью и торжественно вручил его своему заместителю Михаилу Лусто. Хохот стоял такой, что прибежали летчики соседних эскадрилий и тоже присоединились к представлению.
Вернулся Федор примерно через полчаса.
— Давай, Женька, собирай своих ореликов, вылетай. Только, смотри, далеко не уводи. Так, вокруг аэродрома проведи. На линию фронта не надо. А то, знаешь, Степанов, здеся, с тобой…
Архипенко, как и все летчики, с недоверием относился к наступившему затишью на фронте. Летающие на разведку экипажи докладывали, что на прифронтовых аэродромах еще порядочно фашистских самолетов. Конечно, их в любую минуту можно было встретить в воздухе.
— Ладно… Тут вот проведу, и домой, — я достал карту и ткнул в нее пальцем, а сам подумал: «Линию фронта не показать? Какой же это облет района боевых действий? Втроем-то убережем одного Степанова!»
Прошли над линией фронта от Тыргу-Фрумоса до Ясс, заходили на немецкую территорию, но все обошлось благополучно. В воздухе было спокойно. И земля молчала. Ни одна зенитка не тявкнула. Вернулись к аэродрому. Я отпустил вторую пару на посадку, а сам со Степановым остался в воздухе.
— Держись в хвосте, Сергей! — какой еще воздушный бой? Научить молодого летчика хорошо держаться в хвосте — в этом главное.
Я ввел «Бэллочку» в вираж, оглядываясь через плечо на Степанова. «Хорошо держится, молодец!» С виража я перевел самолет в переворот. «Правильно, молодец! Боевой теперь…» Все так же через плечо я смотрел вниз на ведомого. «Мессеры» научили не смотреть на приборы, чувствовать скорость в любом положении. Степанов тянется сзади внизу. Я кладу самолет на спину, чтобы вывести из боевого разворота, а Сергей продолжает идти с набором, нос его «ястребка» все так же направлен вертикально вверх. «Ишь ты, хитрый какой! На новом самолете нетрудно выше меня забраться!» За время боев мотор на моем самолете окончательно поизносился. Его мощности едва хватало для взлета с этого ограниченного аэродрома. «Пора и ему выводить! Так никакого мотора не хватит!»
Но что это?! Самолет Степанова резко опустил нос и начал отсчитывать витки штопора…
— Выводи! — невольно крикнул я по радио, будто Степанов сам не знал, что нужно выводить.
Вывел… И снова боевым разворотом тянется вверх. «Опять сорвется!..» Я не стал ждать нового срыва — слишком мало высоты осталось у Степанова — и поспешил вниз, ему навстречу.
— Пристраивайся!
Сергей занял свое место. Я выполнил еще несколько вялых эволюции (вдруг опять сорвется… Разобьется еще!..) и пошел на посадку.
— У тебя что, Сергей, мотор не тянет? Почему же тогда вверх лез? — спросил я на стоянке и с сомнением добавил: — Самолет-то новый, должен хорошо тянуть…
— Нет, хорошо тянет…
— Почему же в штопор сорвался?
— Не знаю… Стал выводить из боевого разворота, он и сорвался…
— Выводить?! — я удивленно пожал плечами. Когда же он выводил? Все время вверх шел… — Разве ты выводил?
— Ну да…
— Ты и не думал выводить! Выше меня, наверное, хотел залезть.
— Нет, правда…
Долго еще оставался тайной для меня и других летчиков этот срыв в штопор. Но и в последующих полетах Степанов регулярно по нескольку раз срывался в штопор и мастерски выводил из него, хотя, по общему мнению, «Кобру» вывести из штопора было очень трудно, почти невозможно: ручка управления вырывалась из рук, била по ним, по коленям, носилась по кабине… Только сделав с ним около пяти вылетов, я догадался, что Степанова обучал технике пилотирования какой-то инструктор-недоучка. В любом положении самолета при потере скорости он рекомендовал один-единственный способ — отдавать ручку от себя. Даже если самолет идет вертикально вверх. Конечно, при этом срыв в штопор неизбежен… С трудом удалось тогда убедить Сергея, что в таких положениях, нужно сваливать самолет на крыло или класть его на спину.
— Да нет же, неправильно! — возражал Сергей. — Нас учили всегда отдавать ручку от себя.
Пришлось привлечь на помощь аэродинамику и доказать ему, что при потере скорости в вертикальном положении не хватит ни рулей, ни скорости для выполнения заключительной части обратной петли.
Через несколько дней в обмен на Лебедева в полк перевели Николая Глотова. Он быстро прижился в эскадрилье, и его полюбили за веселый нрав.
Вскоре в полк из госпиталей стали возвращаться летчики, раненные в боях под Яссами. Вернулся и Голованов. За время лечения он еще больше округлился, пополнел и… сразу заработал прозвище.
— Ты смотри, Юрик пришел! — приветствовал его Архипенко, поднимаясь навстречу и протягивая руку.
Борис удивленно оглянулся по сторонам. Какой Юрик?!
— Ты чего, здеся, смотришь? Это повар у нас Юрик. Такой же толстый, как ты. Или, наоборот, ты, как он.
И хотя три Головановых нужно было, чтобы составить одного Юрика, прозвище закрепилось. С тех пор не стало Бориса Голованова. Остался Юрик.
Шли дни. Усталость давно прошла, и летчики стали томиться от безделья.
Приезжали на аэродром поздно, к восходу солнца. Только дежурное звено заранее занимало боевую готовность. Остальные летчики и после приезда на аэродром не торопились к самолетам. Все толпились на командном пункте полка, расспрашивали о новостях. Кому, как не штабным работникам знать последние сводки Совинформбюро. И свои, кровно всех касающиеся новости: когда прибудут новые самолеты, моторы, будет ли какое задание.
— Вон Белорусские фронты опять наступают, а мы сидим… — ворчали летчики, забывая, что в Белоруссии в этом году еще не было наступления, а их фронт успел пройти всю Правобережную Украину, Бессарабию, вступил в Румынию.
— Так мы только что отбили немецкое наступление, — возражали некоторые.
— Ну и что же? Под Белгородом отбили и сразу сами пошли наступать! Так и здесь нужно.
— Нас, видно, с тобой спросить забыли, где наступать…
— Слушай, Земляченко, — подошел я к заместителю начальника штаба. — Когда самолеты пригонят новые?
— Тебе-то какая разница? У тебя же есть самолет. Исправный.
— Исправный!.. Полетал бы кто на этом драндулете! Мотор не тянет, и планер ни к черту не годится.
— Все равно новый не дадут.
— Не дадут? На этом летать нельзя. Того и гляди на взлете свернется…
— Ну-ну, потише, подумают, что нарочно разбить хочешь… Ладно уж… Сегодня обещают. Только не дадут же…
— Посмотрим!
На стоянку я шел в приподнятом настроении. Были бы самолеты, а добиться я сумею!
— Федор Федорович, сегодня самолеты пригонят.
— Знаю.
— Мне новый нужен.
— А этот куда?
— В ремонт. Пускай в тыл отправляют.
— Посмотрим. Говорят, здеся, будут лишние, запасные самолеты. Возьмешь себе.
Мы как раз подходили к самолету. Я остановился, а Архипенко направился дальше.
— Товарищ командир… — начал докладывать Волков, но я перебил его.
— Ладно-ладно, Коля, не надо. Сегодня новый «ястребок» получу, наверное.
— А я, а мы, — испуганно начал и тут же поправился Николай, взглянув на стоящих рядом Карпушкина и Евтееву, заменившую погибшую Бурмакову, — а мы как же? С этим останемся? Да и Тихонович тоже не хочет от вас отставать.
— Не бойтесь! Сдадите эту лайбу и примете новый самолет.
— Вот хорошо! А то с этим я уже не знал, что делать. Все разваливается… Центроплан вон весь деформирован. Видно, давали ему перегрузочки в этих боях.
— Приходилось немножко…
— Ну, братцы, — вернулся с командного пункта Архипенко, — новостей куча!
— Что такое?
— Отвоевались мы на этом фронте.
— Почему?
— Ватутина ранили бендеровцы, он умер, слышали?
Тогда все говорили не «бандеровцы», а «бендеровцы». Наверное, потому что очень хорошо всем запомнился известный герой книги Ильфа и Петрова Остап Бендер. А о Бандере кто слышал? Во всяком случае, в полку никому не приходилось.
— Слышали, конечно. Ну и что же?
— Конева переводят командующим 1-м Украинским фронтом.
— Ну?..
— Ну и наш, здеся, корпус туда переходит. Во 2-ю воздушную к генералу Красовскому. Готовиться к перелету, сказали.
— Когда перелет?
— Скоро, наверное. Пока не говорят. На сегодня только задание дали. Ты, Женька, парой пойдешь сопровождать «Ли-2» с техимуществом. Оставите там свои самолеты и обратно вернетесь на этом же «Ли-2».
— Куда лететь?
Архипенко показал на карте расположение нового аэродрома и предупредил:
— Внимательнее, здеся, смотрите. Там, говорят, «шмиты» частенько ходят. Как бы не срубили «ЛИ-2».
— Ладно, не первый раз. Сопровождали их с Королевым сколько… — Я вздохнул при воспоминании о Викторе и еще раз посмотрел на карту в руках Архипенко. — Так у нас же нет этого листа.
— Сейчас Лусто пойдет получит карты на всех. На, посмотри пока мою.
Я внимательно стал рассматривать карту, стараясь запомнить маршрут предполагаемого полета.
— Значит, на новую границу летим?
— На какую, здеся, новую?
— Ну, тут Румыния, а там Польша рядом. Новый аэродром располагался северо-восточнее Львова. Львов, правда, находился еще в руках гитлеровцев, но граница все же была не так далеко.
— Подожди радоваться, здеся. Это ж Западная Украина. Там, говорят, бендеровцев полно. Вон даже Ватутина, командующего фронтом, убили…
— Западная Украина… Там Советской власти почти не было. Но все равно это ж Украина. Не так много их там, наверное.
Все летчики, да и большинство технического состава родились и выросли при Советской власти. Мы и представить себе не могли, чтобы можно было воевать против своей власти. Там же не немцы живут, а такие же украинцы, как и на остальной территории Украины. При этом как-то забывали, сколько крови пролито было в гражданской войне. До сих пор нам приходилось проходить с фронтом по областям, где сразу после революции и гражданской войны установилась Советская власть. Там с радостью встречало все население Красную Армию. И, казалось, так должно быть, так будет везде. Но здесь, в западных областях, только перед войной присоединившихся к Советскому Союзу, польские крестьяне со страхом высматривали на головах у большевиков — они всех советских солдат и офицеров так называли — рога антихриста. Но это будет потом…
«Ли-2» стал набирать высоту. Пошли на взлет и истребители. Они пробежали половину аэродрома, три четверти… Сейчас оторвутся. Действительно, я увидел, как истребитель Ипполитова взмыл в воздух и стал постепенно отходить от земли, одновременно убирая шасси. Моя же машина продолжала бежать по земле, медленно набирая скорость. Граница аэродрома катастрофически надвигалась. Прекращать взлет было бессмысленно: не хватит места для торможения. Путь один — в воздух. Иначе — обрыв к речке, узенькая полоска воды, самолет проваливается вниз и врезается в обрыв противоположного берега. Я еще раз со всей силы надавил на сектор газа. Бесполезно, он и так до отказа подан вперед, мотор ревет на полных оборотах, больше из него ничего не выжмешь. Попробовал подорвать самолет. Напрасно… «Бак чертов!» — я рванул ручку сброса бака…
Как потом рассказывал Николай, он видел, как на границе аэродрома блеснул огонь и громадный шар черного дыма, сквозь который пробивалось ярко-красное пламя, поглотил самолет: «Все… — я в ужасе отвернулся, чтобы не видеть клубка огня и дыма. — Сколько воевал, и ничего, а тут у себя на аэродроме разбился… Не нужно было его пускать на этой лайбе… Да еще с подвесным баком! А тут Евтеева как заорет: „Летит, летит!“ — Кто летит? Чего она там? — но все же посмотрел в сторону взлета. На земле горел огонь, но выше сквозь дым просматривался ваш самолет без подвесного бака, который шел с набором высоты. Подвесного бака под фюзеляжем не было…»
Тринадцатого июля полк перебазировался на аэродром с солдатским названием Окопы, в районе Шепетовки. Летать с него на старой машине не пришлось — слишком уж он был пыльным. Новая машина пришла через десять дней.
В последних числах июля мы получили задачу на сопровождение «пешек». Почти четыре сотни бомбардировщиков участвовали в этом эшелонированном ударе по скоплению танков и артиллерии в районе Золочева. Когда мы подошли к цели, все небо над нею было закрыто самолетами — бомбардировщиками и истребителями, а внизу все было закрыто дымом пожарищ, озаряемым всполохами взрывов и языками пламени. Я летел с последней группой. Завершая этот мощный бомбардировочный удар, «пешки» замкнули знаменитую «вертушку» и стали бомбить с пикирования. В сплошном дыму они выискивали уцелевшие цели, точно, не торопясь, сбрасывали бомбы. Я пикировал вместе с «Петляковыми» — внизу, на выводе, их могли подстерегать немецкие истребители. Это было маловероятно: слишком много советских самолетов над целью, гитлеровцы не любят вести бой в таких условиях. Но все же нужно быть настороже.
В одном из заходов я обратил внимание на то, что «пешки» не только бомбят, но и обстреливают цель из пулеметов. «А я что, лысый? — и я тоже открыл огонь из пушки и пулеметов. — Все не зря летал. В воздухе немцев нет, так хоть на земле поддать им!..»
На следующий день к вечеру мы перелетели ближе к линии фронта на аэродром Незнанов. Вечером, перед заходом солнца, нас привезли в деревню и разместили по домам. Меня и Яковлева привели в добротный просторный дом, огороженный прочным забором высотой не менее трех метров. В таких хоромах мы ночевали впервые, и они нас скорее насторожили, чем обрадовали. Решили, на всякий случай, спать по очереди. Всю ночь было слышно, как приходили и уходили какие-то люди, что внушало еще большие опасения.
На другой день, вернувшись с аэродрома, познакомились с хозяином. В беседе за ужином он рассказал, что в 1941 году в этих краях видел воздушные бои наших самолетов с немецкими: «Насмотрелся я, как ваш брат погибает. Мы вас, летчиков, уважаем». Эти его слова несколько успокоили нас, и мы решили отменить ночные дежурства.
— Сегодня облетаем район, — объявил Фигичев утром. — На днях должно начаться наступление. Изучайте район пока, после обеда летать будем.
А перед обедом над аэродромом в сторону Брод потянулись бомбардировщики. Группа за группой шли они на запад.
«Опять такой налет, как на Золочев?» — высказывали предположения летчики. Никогда еще им не приходилось с земли видеть таких масс бомбардировщиков. Они закрыли все небо, тяжелый гул авиационных моторов доносился отовсюду. А бомбардировщики все шли и шли… «Откуда столько?!» Летчики не знали пока, что против шестисот немецких самолетов наше командование выставило девять авиационных корпусов общей численностью до трех тысяч истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.
Войска фронта перешли в наступление. Фронт безудержно катился на запад. Мы не успевали наносить его линию на карту. Да и была ли она, линия фронта? Только что было задание прикрывать наземные войска севернее Брод, а через час группа соседнего полка дерется в районе Подверезье — Печихвосты, другая — над Горохувом.Стоянувом… Кто там? Немцы или наши? Наверное, немцы еще пока. Возле Печихвостов немецкий аэродром. Там четверка из соседней дивизии дралась против восемнадцати «Фоккеров». Сбили четырех, но и сами потеряли одного…
— Смотрите в оба, — в который раз предупреждал Фигичев. — Немцы почти не летают, но если уж приходят, то большими группами. Держитесь вместе…
Фигичев из собственного богатого опыта знал, что вылеты вхолостую расхолаживают летчиков, и потом при встрече с противником могут быть неоправданные потери. А он и как командир и просто по-человечески жалел молодежь, всегда старался посоветовать, как нужно действовать.
Но ни одного фашистского самолета не попадалось в воздухе, хотя у других полков были встречи. Об одном из боев рассказали летчикам как о положительном примере.
Двенадцать наших истребителей под общим командованием Горегляда прикрывали под вечер 15 июля наземные войска в районе Горохув — Стоянув. Ударную четверку вел Горегляд, прикрывающую — Бобров, а группу резерва — Вильямсон.
— Горегляд! С северо-запада ко мне подходит группа бомбардировщиков, — передал с земли генерал Утин.
Встреча произошла в районе Завидува. Первая девятка «Юнкерсов» уже пикировала на цель, а за ней подходили еще три девятки. Выше их на пятьсот-тысячу метров ходили двадцать «ФВ-190».
— Атакуем! — Горегляд с ходу повел в атаку свою четверку на первую девятку «Ю-87».
«Лаптежник» успел сбросить бомбы и выходил из пикирования. Длинною очередью он все же достал его. Леонид Иванович проводил взглядом пылающий самолет и боевым разворотом пошел на сближение с другим бомбардировщиком, который только входил в пикирование. «Этот-то еще с бомбой», — подумал Горегляд, открывая огонь. Хоть и с бомбой, «лаптежник» загорелся так же хорошо, как и первый.
Горегляд проводил взглядом падающий «Юнкерс», посмотрел вправо вверх — там атаковала «лаптежников» вторая пара его четверки. Капитан Румм подходил к «Юнкерсу», видно, уже прицеливался и готовился открыть огонь. Но сверху свалилась пара «ФВ-190» и зашла ему в хвост. «Фоккеры» не сумели помешать первым атакам советских истребителей и только сейчас вступили в бой.
— Румм, «Фоккеры» в хвосте! — закричал Горегляд и бросился вверх наперерез фашистам.
Румм, предупрежденный командиром, сманеврировал, и «Фоккер» не смог открыть огонь. Теперь поздно. Он в прицеле у Горегляда. Струя огня протянулась от носа истребителя к брюху «Фоккера», который качнулся с крыла на крыло, опустил нос и глубокой спиралью врезался в землю. Правда, конца его пути Леонид Иванович не видел, его отвлек голос ведомого, лейтенанта Веретенникова:
— Горегляд! «Лапоть» в хвосте!
Он оглянулся. «Ю-87» разворачивался ему в хвост, брал упреждение. Вот-вот он откроет огонь. Но и Веретенников не дремал. Резко развернувшись, он открыл заградительный огонь. «Юнкерс» сам напоролся на очередь, окутался дымом, провалился вниз…
Одновременно с четверкой Горегляда вступила в бой и группа прикрытия. Она атаковала вторую девятку, заставила «лаптежников» сбросить бомбы неприцельно, а два бомбардировщика тут и окончили свой путь.
Но возле бомбардировщиков осталась четверка «ФВ-190». Остальных «Фоккеров» и подошедшую шестерку «худых» связала боем и увлекла на высоту группа Вильямсона. Пара «ястребков» из прикрывающей четверки вступила в бой с четырьмя «Фоккерами» возле бомбардировщиков, и Иван Михалин сбил одного из них.
Всего группа Горегляда сбила шесть «Юнкерсов», два «Фоккера» и без потерь вернулась на свой аэродром…
Такие же бои приходилось вести и другим. И правильно говорил Фигичев: держитесь вместе.
Держались… Но никого не встречали.
А летать на прикрытие и на сопровождение бомбардировщиков приходилось все дальше и дальше. Ходили на Яворов. Далеко… Где-то сзади, северо-западнее Брод, осталась окруженная группировка противника. Добьют! Давай дальше на запад! Начались вылеты на Польшу. Сопровождали «пешек» бомбить мосты через Сан у города Санок. Бомбардировщики безбожно отстали от наступающих войск, и на обратный маршрут у них не хватило горючего. Садились у истребителей. Дальше!
27 июля взят Львов, и в этот же день правое крыло фронта вышло на реку Сан, форсировало ее. Дальше!..
А фашистских самолетов все так же не встречали в воздухе. Потом и вылеты прекратились. Даже Иван Ипполитов заскучал:
— Нас вообще в тылу забыли, не летаем…
Из-за большого удаления от линии фронта полк не летал два дня.
Но наутро всех летчиков собрали на КП полка.
— Летим в Польшу, — объявил Фигичев. — На аэродром Турбя… Возле Сандомира ищите, на Сане, где он в Вислу впадает, — добавил он, заметив, что летчики не могут найти на карте Турбю. И упрекать-то их не за что. Как можно требовать досконального знания района, если фронт с начала операции продвинулся вперед почти на триста километров!..
— Нашли?
— Нашли! — зашумели летчики. — Вон куда забрались!
— Тихо! Изучите хорошо район. Перелетать будем парами и звеньями. Подходить к аэродрому только на бреющем. Там линия фронта рядом. Километра четыре. Ясно?
— Ясно…
Летчики стали подниматься, считая, что разговор окончен.
— Куда?! — сердито сверкнул своими цыганскими глазами Фигичев. — Я еще никого не отпускал.
Летчики притихли.
— Всем, кто может, взять с собой механиков. Наземный эшелон отправится только сегодня. Не скоро туда доберется. Ясно? Командиры эскадрилий сами решат, кто возьмет механиков.
Еще с Днепра опытные летчики стали перевозить на «ястребках» механиков. Сначала — в подвесных баках. Вырезали в баке отверстие, сажали туда механика. Но такой способ сразу же запретили. Не исключена была возможность случайного отрыва бака. Тогда придумали другое. Снимали заднее бронестекло и в гаргрот заталкивали механика. Он только наполовину мог влезть туда и лежал на спине нагнувшегося вперед летчика. Мирились… Я радовался, если приходилось везти небольшого Волкова, но Карпушкина… Он почти весь оставался в кабине…
В Турбе долго не засиделись. Хоть фронт и откатился за Вислу, немецкая дальнобойная артиллерия стала обстреливать аэродром, и пришлось оттуда убраться. Было слышно, как орудие призводило выстрел, и примерно через десять секунд на аэродроме разрывался снаряд. Один из снарядов попал в самолет с номером «8», который загорелся. Техники бросились к самолету, и снаряд разорвался недалеко от этой группы, убив техника звена Бушмелева Афанасия Никифоровича и ранив еще несколько человек.
На войне смешное и трагичное часто ходят рука об руку. В этот день Коля Гулаев кое-какие свои личные вещи и ордена положил в самолет за бронестекло, а во время обстрела техник самолета вытащил их, боясь, что снаряд может попасть в самолет и ордена погибнут. Летчикам была дана команда на взлет, и все три эскадрильи, невзирая на продолжавшийся обстрел, перелетели на аэродром Хожелеев. После посадки Гулаев облазил весь самолет в поисках орденов и был крайне расстроен, не найдя их. Все его утешали как могли, говоря: «Ничего, новые заработаешь». Только когда прибыл инженерно-технический состав полка, награды нашлись, но долго ему еще приходилось выслушивать наши остроты…
На следующий день, во время похорон, орудийным огнем противник накрыл похоронную процессию, и когда люди разбежались по кладбищу, а оно было рядом с аэродромом, то поймали немецкого артиллерийского корректировщика. И хотя обстрел после этого прекратился, но полк решено было перебазировать на аэродром Хожелеев.
Наземные войска вели бои за Сандомирский плацдарм, за город. Пришлось поработать и нам. Прикрывали переправы, вели воздушные бои, штурмовали контратакующие части противника. Во время одной из таких штурмовок был подбит Глотов. Но он сумел перетянуть линию фронта, сел на своей территории.
В сентябре какому-то штабному мудрецу пришла в голову мысль, чтобы самолеты-истребители полетали над Берлином на бреющем полете. Вызвали Архипенко, Никифорова и Бекашонка на КП, на котором находились приехавшие из штаба дивизии и корпуса политработники и замполит полка. Поставили задачу: готовиться к полету на Берлин. Архипенко рассказывал: «Мы говорим, что бензина, мол, не хватит долететь даже до реки Одер, нас в ответ заверяют, что привезут подвесные баки, мы не унимаемся: и с баками на обратном пути Одера не перелететь, — нам спокойно отвечают что-то вроде того, что садиться придется на территории Германии и искать своих спасителей. В общем, решили нашей геройской смертью прикрыть свои задницы».
Три дня заместитель командира полка по политчасти ходил за ними по пятам, внушая мысль о необходимости этого полета, о том, что мы должны показать всему миру, что советские истребители с красными звездами уже появились над Берлином. На четвертый день дали отбой, сообщили, что такого полета не будет: кто-то справедливо заметил, что мы летаем на самолетах американского производства и поучительность демонстрационного полета это несколько подрывает. Наконец-то все вздохнули свободно.
А потом наступило длительное затишье. Три месяца, с сентября по декабрь, в полку, как и в 6-м Гвардейском авиакорпусе, была организована теоретическая учеба, которая прерывалась только редкими вылетами на «свободную охоту». Произошли кадровые изменения. Николай Гулаев и Федор Архипенко получили звание «майор». Николай был назначен на должность штурмана полка, а Федор стал заместителем командира полка по воздушно-стрелковой службе. Нашу эскадрилью принял Пупок, а я стал его заместителем. Из прибывшего пополнения подобрал себе ведомого Федю Орлова.
Впереди Берлин
Наконец 12 января 1945 года началось наступление с Сандомирского плацдарма. Пошли раньше срока, чтобы помочь армии союзников, терпевших поражение в Арденнах. Полк летал мало — не позволяла погода. 25 января полк перелетел на территорию Германии на аэродром Альт-Розенберг. Аэродром, с его грунтовой взлетно-посадочной полосой, которая раскисла практически сразу после нашего прибытия, фактически оказался ловушкой. Только 18 февраля, когда подморозило, мы перелетели на аэродром Ченстохова с бетонной полосой. На этом аэродроме простояли около пяти дней, полностью оторванные от мира — горючего не было, БАО где-то застрял. Мы жили на квартирах у поляков, оставляя по одному человеку от эскадрильи для дежурства у самолетов. Наконец приехала передовая команда инженерно-технического состава и часть БАО, и все стало на свои места. 8 марта полк перебазировался на аэродром Китлицтребен, откуда начал вести боевые действия. Но только в апреле нам впервые удалось встретиться с немецкими самолетами.
Восьмерку вел командир эскадрильи Лусто. Шли ниже редких кучевых облаков. На подходе к Берлину наткнулись на стену дыма, поднимавшуюся на высоту несколько километров от разрушенного, горящего города. Несколько минут я летел, боясь шелохнуться, ничего не видя вокруг. Когда мы выскочили из сплошной дымовой завесы, в глаза брызнуло солнце. Сплошная стена густого дыма осталась сзади. Внизу он еще клубился, поднимаясь вверх и смешиваясь с отдельными кучевыми облаками.
А дальше на запад все было чисто — и небо, и земля без следов пожаров. Такая чистота воздуха казалась даже неестественной по резкому контрасту с закрытой густой мглой восточной стороной.
— Разворот вправо на девяносто! — скомандовал Лусто, и группа развернулась на север, параллельно Шпрее.
Я со своим ведомым — сегодня мы шли с Ипполитовым — очутился на правом фланге. Слева ниже нас шли остальные самолеты группы — Лусто со Степановым, Глотов с Яковлевым и Голованов с Шаламовым.
Позавчера с рассветом мы тоже были здесь, в междуречье Нейсе и Шпрее. Тогда по переднему краю гитлеровцев вдоль Нейсе работали сотни штурмовиков и бомбардировщиков. Вон там, сзади, в то утро была узловая станция Вейсвассер. Теперь от нее остались одни развалины. Тогда «пешки» с одного захода стерли ее с лица земли вместе со всеми эшелонами, стоящими на путях.
В воздухе в начале операции тесно было от наших самолетов. Ипполитов в дыму даже пристроился к чужой группе и сел на соседний аэродром… С тех пор фронт продвинулся к Шпрее, сегодня наши войска форсируют ее…
Я спокойно посматривал по сторонам. Последние дни немцы не показывались в воздухе. Накануне наступления встретил в паре с Орловым шестнадцать «Фоккеров». Потом, в первый день операции, утром к нам на аэродром пришла пара «худых». Разведчики, видно. И все. Куда подевались немцы? На земле вон какие бои идут! А в воздухе тишина…
Однако я все-таки смотрел. От немцев всего можно ожидать. Да вон же пара их! Хотя нет… Это наши… Над стеной дыма на восток шла пара истребителей, похожих на «Лавочкиных» соседней дивизии. «Почему их двое?! Сейчас так не летаем!.. А, вон и остальные… — За парой „ястребков“ снизу тянулась еще восьмерка. — Постой, да это же „Фоккеры“!»
И в тот же момент я услышал по радио голос Глотова:
— Впереди восьмерка «Фоккеров»!
— Атакуем! — отозвался Лусто.
Я увеличил обороты мотора до полных, издали стал выбирать себе цель для атаки. Что делают остальные? Я взглянул влево. Голованов с Шаламовым тоже, видно, шли на максимальных оборотах, и строй восьмерки принял причудливую форму молодого месяца, несущегося на врага рожками вперед, пары Лусто и Глотова немного отстали от флангов группы.
«Фоккеры» заметили атакующих и начали с набором высоты разворачиваться на свою территорию. «За парой гнаться, так мастера, а тут сразу на попятную. — Я наконец выбрал себе цель, атаковал ведущего верхней четверки „Фоккеров“. — Не уйдешь, сволочь!..» Дистанция сто метров. «ФВ-190» плашмя лежит в прицеле — он все еще находится в развороте. Почти невидная в ярком свете дня протянулась трасса от носа истребителя. Трассы не видно. Зато прекрасно видно, как в правом крыле «Фоккера», возле кабины, рвутся снаряды, как отваливается задняя часть центроплана и крыла. Потеряв ведущего, три «Фоккера» бросились врассыпную. Я направил самолет за одним из них и уже догонял его, когда услышал по радио:
— Женька! Слева четверка «шмитов»!
Да, с запада, метров на 500 выше связавшихся в клубок истребителей, идут четыре «Ме-109». Успею.
Пикируя за выбранным «Фоккером», не забываю смотреть, что делается вокруг.
Нижняя группа «Фоккеров» начала разворачиваться для ухода на свою территорию одновременно с верхней, только пошли они не с набором высоты, а со снижением, и четверке Глотова пришлось атаковать их на пикировании. «Фоккеры», что было совсем необычно для них, потянули на вертикаль на боевой разворот, как показалось сначала Глотову. Однако, не выводя из разворота, они снова переходили в пикирование. «Косые петли, — понял Николай. — Давай косые!..» На второй петле он вышел выше ведущего «Фоккера» и с дистанции пятьдесят метров сбил его. Второго из этой пары «Фоккеров» уже на пикировании под углом семьдесят градусов сбил ведомый Глотова Яковлев.
От пары Голованова «Фоккеры», наоборот, стали уходить правым виражом, на котором они вообще были несильны, и Борис легко зашел в хвост ведомому «ФВ-190», двумя очередями сбил его.
Я на пикировании догоняю «Фоккера». Тот резко идет вверх. Только в верхней точке петли, когда тот немного завис, мне удается прицелиться, дать очередь. Нос самолета при этом направлен вертикально вверх. Прямо надо мной висит «Фоккер». Мимо. Да и пушка почему-то молчит. Новая петля. И опять только в вертикальном положении можно вести огонь. И снова ни одного выстрела из пушки.
На третьей петле я выскакиваю выше и даже немного обгоняю «Фоккера». «А, черт! Как тот „шмит“ под Яссами вперед — меня выскочил… Сейчас он мне врежет…» Морда «Фоккера» совсем рядом, метров на двадцать сзади и немного ниже. И сделать ничего нельзя. Оба самолета висят на спине, без скорости. Давно бы пора опустить нос, перейти в пикирование, иначе сорвешься в штопор, но тогда сам, собственной рукой подведешь «ястребок» под огонь фашиста…
— Женька! «Худой» атакует! — кричит Ипполитов. Иван не пошел за ведущим на вертикальную карусель с «Фоккером», остался выше, со стороны наблюдая за ведущим.
«Этого еще не хватало!..»
— Отбей, черт!
Я уже собрался бросить самолет вниз и попытаться оторваться от преследования, как вдруг увидел, что «Фоккер», также висевший без скорости, в конце концов не выдержал, перешел в пикирование. Я за ним, оглядываюсь назад. Где «худой»? Самолет уже набрал скорость, можно сманеврировать, если что… «А, вон они!» Справа заходила пара «Ме-109». Левее их идет Ипполитов. Он разворачивается, открывает огонь. Это видно по дымкам, срывающимся с носа его самолета, по слабеньким огонькам трассы, направленной в ведущего «шмита». Одна очередь, вторая, третья… «Мессер» окутывается дымом, скользит в сторону, переворачивается… Второй «худой» левым боевым разворотом выходит из боя.
«Где же „Фоккер“? А, сволочь, удираешь!» «ФВ-190» пикировал за Шпрее, чуть севернее Шпремберга. «Сейчас я тебя отправлю…»
Однако мне самому «отправить» не пришлось. Глотов, разделавшись со своими «Фоккерами», подошел сбоку и одной длинной очередью уговорил этого «ФВ-190». На земле он потом долго оправдывался, что не видел меня и потому решил сбить этого «Фоккера».
Через десяток минут наша восьмерка, засчитавшая в этом бою шесть самолетов противника, на бреющем прошла над своим аэродромом…
На следующий день в колонне военнопленных, проходившей мимо аэродрома, я заметил немецкого летчика в офицерской форме, на груди которого было несколько орденов и знаков отличия. Я подошел к колонне. Один из сопровождавших пленных неплохо говорил по-немецки, и я попросил его спросить офицера, как он попал в плен. Немец жестом руки отстранил переводчика и с пафосом сказал на ломаном русском языке:
— Я достаточно знаю Россию, чтобы не пользоваться услугами переводчика. Вчера мой «Фокке-Вульф» был поврежден над Шпрембергом.
Из разговора выяснилось, что немец оказался тем самым летчиком, с которым дрался я и которого в итоге сбил Глотов. При этом он нес фашистскую ахинею о Великой Германии, великой немецкой нации, которая еще будет владеть миром. Я подошел к нему и с удовольствием съездил ему по морде, добавив: «Жаль, гад недобитый, не придется нам с тобой еще раз встретиться в воздухе». Развернулся и пошел к самолету.
Бои шли в окруженном Берлине, советские войска соединились на Эльбе с американскими, Германия оказалась расчлененной на несколько частей.
И все же фашисты не сдавались. Везде наземные войска вели упорные бои, гибли люди. Только в воздухе стало спокойно. Нельзя же считать боем случай, который произошел при возвращении с задания. Прикрывали район Потсдама. На обратном пути ниже нашей шестерки «ястребков» прошел «Фоккер». Я не мог сам атаковать его — слишком неудобное положение.
— Лусто! «Фоккер» справа ниже!
Миша как-то нехотя, лениво даже — так казалось со стороны — развернулся, дал очередь — и «ФВ-190» огненным колесом покатился по огородам какой-то маленькой деревушки.
Потом я сам водил шестерки и дважды встречался над Берлином с реактивными «Ме-262» — с парой и с шестеркой, но догнать их не смог…
И вот последний бой.
Патрулирование проходило спокойно. Громадный город с многомиллионным населением широко раскинулся внизу. Собственно, видны были только окраины, с ходу взятые нашими войсками. Всю центральную часть закрывал громадный столб густого дыма, сквозь который просвечивали огни пожарищ. Там продолжались бои.
Крупных групп немецкой авиации давно уже не встречалось в воздухе, кроме той шестерки реактивных. Но это не давало права успокаиваться. Смотреть нужно было в оба. Большую группу легко увидеть издали. А пару «охотников»?
Как бы в подтверждение этого из дыма над центром Берлина вырвался и стал уходить на запад «Ме-109».
— Разворот вправо на сто восемьдесят! — Передавая по радио эту команду, я энергично ввел свой «ястребок» в правый вираж.
Конечно, это был не «охотник». Но, может быть, гораздо хуже «охотника». Мы знали, что иногда с площадей и улиц поверженного города, еще не занятых нашими войсками, взлетают и уходят на запад легкие самолеты и истребители. Что они вывозят? Секретные документы? Руководителей гитлеровского рейха? Может, этот везет самого Гитлера?
«Мессер» даже не пытался вступить в бой. Он просто удирал. Как когда-то удирал такой же «Мессер». Но тогда все было по-другому… Тогда я был ведомым у Виктора Королева, вел один из первых воздушных боев. Это было под Кировоградом…
Дистанция все меньше и меньше.
— Бей его, Женя, бей! — не выдержав, закричал Борис Голованов.
— Сейчас! Смотри, Юрик, за воздухом, может, еще где сматывается.
«Хорош!» Огни трассирующих пуль и снарядов потянулись от носа «ястребка» к «Мессеру», вонзились в его фюзеляж, крыло. Сразу же из мотора «Ме-109» показался белый дымок, блеснуло пламя…
Пал Берлин, но бои продолжались. 1-й Украинский фронт повернул на юг, на помощь восставшей Праге.
Туда же стали летать и истребители. Из одного такого полета не вернулся Степанов. Погиб…
Это был последний день войны, последний боевой вылет…
Эпилог
В конце июня 1945 года, глубокой ночью, в комнату, где мы с Михаилом Лусто досматривали не то второй, не то третий сон, ворвался Николай Волков, а за ним все механики, мотористы и оружейники эскадрильи. Хотя у нас с ним были самые дружеские отношения и мы называли друг друга по именам, но при других офицерах или младших авиаспециалистах Николай всегда переходил на «товарищ командир», а я на «Волков». А тут он как заорет:
— Женька, черт, вставай! Проспишь все на свете! — Николай с такой силой тряхнул меня, что я чуть не слетел с кровати.
— Ты что, свихнулся? Какого черта сам не спишь и другим спать не даешь? Лишнего хватил, что ли? — я не понимал, что творится с механиком.
Проснулся Лусто:
— Я вот сейчас сапогом огрею, мигом успокоится!
— Вставайте, подъем! — в один голос закричали набившиеся в комнату механики.
— Женька, тебе ж «Героя» присвоили! А ты дрыхнешь тут, как сурок, — снова заголосил Волков. Орал он так, как будто «Героя» присвоили не мне, а ему.
— Брешешь… — прошептал я.
Только пару дней назад перед строем зачитывали Указ Призидиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза летчикам 22-й гвардейской дивизии. Этим указом звание Героя было присвоено Архипенко, Лусто, Глотову, Карлову, Никифорову, Бекашонку. Моей фамилии в приказе не было, хотя представление на звание на меня послали раньше всех. Еще на Сандомирском плацдарме.
Правда, тогда, после построения, видя мое уныние, ко мне подошли Горегляд и Фигичев.
— Не вешай носа, Мариинский! Указ еще будет! — успокоил Горегляд.
А Фигичев добавил:
— Тебе же не впервой! Помнишь, когда перелетели на 1-й Украинский. Ты тоже думал, что пропали твои ордена. А потом сразу получил Красного Знамени и Отечественной войны первой степени…
Да, так было. Но на этот раз… Посылали-то уже с этого фронта…
— Кой черт, брешешь?! — возмутился Николай. — На, смотри, в тот же день Указ подписан, что и всем. Только Указ другой. — Он включил лампу, и комнату залил яркий свет, от которого я зажмурился. — Вот газета, читай! С полчаса назад привезли.
Я взял у Николая газету, раскрытую на второй полосе.
— Вот здесь смотри, — Волков ткнул пальцем в середину Указа, занимавшего больше половины страницы.
— Ну, где там? — Лусто притянул газету к себе. — Ага, вот. Мариинскому Евгению Пахомовичу, — раздельно прочитал он. — Ну, поздравляю, Женя, — он обнял меня. — Такое дело и отметить бы не мешало! Да чем?..
— А мы принесли! Вот, у адъютанта реквизировали, пока он спит, — Волков протянул две бутылки коньяка, переданные ему из задних рядов. На столе разложили какую-то немудреную снедь, расставили консервные банки, используемые вместо кружек и стаканов, — жили еще по-фронтовому.
— Давай, Женя, выпьем за твою Звезду, — поднял кружку Михаил, — чтобы она никогда не тускнела, чтобы ты всегда оставался самим собой! Поднимем бокалы!






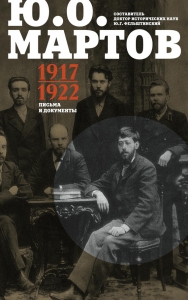

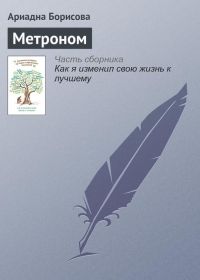
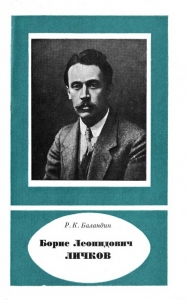

Комментарии к книге «Я дрался на «Аэрокобре»», Евгений Пахомович Мариинский
Всего 0 комментариев