Лора Радзиевская Это просто цирк какой-то!
© Лора Радзиевская, текст, 2017
© Дарья Копанс, иллюстрации, 2017
© Александр Заварин, обложка, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
* * *
Посвящается памяти моей мамы – Дины Афанасьевны Лоскутовой.
Без тебя не было бы ничего
Благодарю моего мужа Ивана – ты дал мне возможность написать эту книгу.
Признательна Юрию Васильеву – ты когда-то подал мне идею этой книги.
Помню и люблю каждого, кто поддерживал меня, убеждал, что все получится, и терпеливо ждал. Спасибо вам.
1. Антре (самостоятельный выход персонажа)
То, что безвозвратно изменило мою жизнь, случилось в гардеробе. Прямо внутри обычного гардероба, большого, трехдверного – такие стояли в прошлом веке во многих домах. У нас он царствовал в спальне и был глубокого коричневого цвета, слегка шершавый на ощупь, как будто лакировали его вручную, при помощи широких кистей. Я любила прислоняться щекой к деревянному боку (да-да, никаких ДСП и ДВП, никакого пластика, только натуральное дерево) и водить пальцем по невидимым выпуклостям лака – шкаф почему-то был теплым. И всегда был закрыт на ключ.
Постойте, я сейчас сказала: «В прошлом веке»? Понимаю, звучит ужасно, но это действительно было в начале семидесятых прошлого века, в небольшом южном городе, который в советских газетах называли «столицей степной Украины», но на самом деле он был урановой Голкондой Советского Союза. Там волей случая и Госбезопасности оказалась моя бабушка, москвичка в десятом поколении, туда же приехала после войны мама, туда же привезли меня, годовалую, родившуюся в совсем уж южном городе у моря.
Однажды мне повезло: бабуля забыла вынуть ключик из замочной скважины. Став постарше, я узнала, что на одной из полок гардероба, под белоснежными стопками крахмального белья хранился весь семейный бюджет: свою пенсию и деньги, которые присылала мама, бабуля прятала под хрустящие от крахмала пододеяльники и простыни, наивно запирая дверцу малюсеньким ключиком, будто несерьезный замок мог стать препятствием, случись в доме какие-нибудь ненормальные воры. Какой уважающий себя вор полезет в квартиру, где живут пенсионерка-бабушка и ребенок? В квартиру, где окна в теплое время года круглосуточно, легкомысленно и провокационно (первый этаж) открыты? Чтобы что там украсть? Книги? Хотя в то время книги были огромным дефицитом, а наша библиотека подбиралась к двум тысячам томов, я не могу представить себе вора, рискнувшего схлопотать срок ради Анн и Сержа Голон, например. Или даже ради полных собраний Джека Лондона и Дрюона.
Обычно, уходя по делам, бабуля доставала из книжного шкафа том «Мира животных» Игоря Акимушкина или какую-нибудь другую книгу потолще. Это был мой личный книжный шкаф, который регулярно пополнялся присылаемыми в тяжелых фанерных ящиках сокровищами: разноцветными томами «Сказок народов мира», Детской энциклопедии или новыми книгами Крапивина. То, чего было не купить в нашем городе, мама добывала на складах и базах Москвы, Ленинграда и Киева. А роскошное издание «Книги джунглей» прилетело самолетом из немыслимо далекого Магадана, где в магазинах, судя по письмам мамы, был настоящий книжный рай.
Обычно книга гарантировала, что я спокойно просижу в старом кресле несколько часов, но сейчас я видела ключ, он был досягаем, только протяни руку. И какие книги, книги не убегут же, а когда еще представится шанс увидеть Буку?
Я мечтала об этой встрече уже полгода – с того вечера, когда моя добрая и ласковая бабуля, доведенная до белого каления бесплодными попытками уложить внучку спать, неосторожно сказала:
– Ласточка, даю тебе пятнадцать минут. И если в девять ты еще не будешь в кровати, мне придется позвать Буку. Это крайняя мера, но ты меня вынуждаешь. Бука живет за дверью, спрятанной в нашем гардеробе, и очень не любит непослушных девочек. Тебе нужны эти неприятности, ласточка?
Впечатление было внезапным. Я моментально затихла, залезла в кровать, обняла плюшевого верблюдика Яшку и принялась мечтать о Буке. Мне исполнилось пять, я давно и много читала, а самой любимой в тот момент была коричневая книжка с нарисованной на обложке кованой дверцей – «Приключения Буратино», – так что я точно знала, какая именно дверь скрывается в нашем шкафу. У дома Буки просто не могло быть другой двери… Сам Бука виделся мне чем-то средним между небольшим добрым драконом и огромной лохматой белой собакой с темными глазами. Разве такое чудесное существо могло представлять опасность для не очень послушной девочки пяти лет, которая не согласна укладываться спать в девять вечера? Да никогда. Надо было только дождаться подходящего для знакомства с ним случая.
И вот случай представился. Бабуля подкрасила губы, поправила густые, все еще очень черные кудри, взяла хозяйственную сумку и ушла. Через минуту я уже стояла перед шкафом, предвкушая встречу с добрым волшебным Букой, живущим за тайной дверью. Поднялась на цыпочки, зажмурилась, повернула ключик, досчитала до пяти и распахнула обе дверцы, повторяя про себя давно придуманную приветственную речь…
Внутри открылось пространство, показавшееся мне огромным. Из окна, напротив которого стоял гардероб, прямо в его нутро бил солнечный луч. Мне все прекрасно было видно: коробки с обувью, чинно стоящие у левой стенки, бабушкина шуба, мамины пиджаки и пальто, какие-то скучные юбки, а еще – круглые разноцветные коробки, легкие, пахнущие почему-то корицей, с чем-то шуршащим внутри (потом выяснилось, что в коробках хранились мамины итальянские шляпы), – и ни одного Буки. И никакой двери. Хотя она, скорее всего, спрятана вон там, где висит что-то очень яркое и длинное. Я сделала несколько шагов вправо и увидела сияющие платья дивной красоты: серебро и золото, разноцветные камни и блестки, бисер и необыкновенные ажурные кружева, струящиеся и легкие. Платья были совсем не такие, как те, что я видела на женщинах из нашего дома и двора. Да что там, таких платьев не было даже у огромной, как диплодок (и с такой же маленькой головкой), тети Юли, которая прожила с важным очкастым мужем-майором в «самой ГДР» аж пять лет! А еще от платьев исходил тонкий аромат. Они пахли мамиными духами, горьковатыми и очень нежными… Я сделала еще шажок, вошла в шкаф и присела у стенки.
И тут открылась невидимая дверца, и появился мой Бука.
С четырех до шести моих лет, пока мама не перестала гастролировать, я очень ждала ее приездов. Она прилетала на недельку, веселая, нагруженная яркими пакетами с подарками, – и начинался праздник. Но в какой-то из вечеров мама уходила в гости к заждавшимся подругам, а я садилась на широченный подоконник в большой комнате и таращилась во двор: ждала, что она вот-вот появится. Уговоры бабули из серии «мама ведь только ушла, долго ждать, иди лучше диафильмы посмотри или почитай» игнорировались напрочь – я ждала, я не могла оставить наблюдательный пункт. И почему-то каждый раз придумывала себе горькое сиротство. Спустя час после ухода мамы я была уверена, что она НИКОГДА уже не вернется, потому что с ней что-то случилось. Чаще всего воображение рисовало машину, вылетающую на огромной скорости из-за угла, и я начинала рыдать обреченно и беззвучно, до нервной икоты. Время растягивалось тоскливой серой лентой, спустя целую вечность раздавался стук каблуков в арке двора, и – счастье! В комнату врывалось облако горького и нежного аромата, и мама снимала зареванную меня, прилипшую к окну, с подоконника. Те четыре-пять часов, что она отсутствовала, бабуля даже не пыталась меня оттуда добыть, ибо обычно покладистая крошка растопыривалась молчаливым осьминогом и цеплялась за все, включая воздух…
И сейчас, сидя в шкафу, вдыхая любимый мамин запах, я снова вспомнила, что ее нет, что она на гастролях и приедет только через два месяца. Вздохнула, уткнулась лицом в подол серебристо-голубого, с камнями и блестками платья. Бука улыбнулся и легонько встряхнул память, старательно прятавшую чудесные воспоминания об утраченном, о том времени, когда мама возила меня с собой. Платье упало с тремпеля[1] прямо к моим ногам, а за ним второе, черно-золотое, короткое и ажурное, и солнечные лучи брызнули во все стороны, отразившись от шитья и камней костюма с красивой длинной накидкой, в котором мама работала номер. Следом за платьями откуда-то из гардеробного поднебесья неслышно спланировало невесомое облачко персиково-розового цвета и легло мне на плечо. Оно было теплое и душистое – легчайшая жилетка из пуха настоящих фламинго. И в этот миг я совершенно отчетливо вспомнила цирк. Вспомнила все сразу, до мельчайших подробностей.
Я вспомнила лилипута Борю, который умел убедить маму в том, что ребенку для нормального развития нужны внешние впечатления, а не только замкнутый цирковой мирок, и поэтому он немедленно забирает меня и ведет на прогулку. Мы бродили с ним по веселому городу, в котором гастролировал коллектив, пили газировку с сиропом (мне Боря покупал с двойным малиновым) из стеклянных больших конусов-колб, ее наливала румяная тетенька, сидящая в голубенькой палатке, по три копейки за стакан. Палатка стояла около памятника странному дядьке в веночке и длинном платье, а звали дядьку почему-то так же, как нашего циркового слона – Дюк. С маленьким человеком было весело и легко, и не приходилось задирать голову, потому что Боря был чуть выше меня, еще даже не четырехлетней. И он иногда покупал мне целых два мороженых.
Еще в том городе было море, и по понедельникам, когда в цирке выходной, артисты большой компанией ходили купаться, а меня всю дорогу к морю по очереди несли на плечах. На пляже цирковые обязательно разыгрывали маленькое акробатическое представление с кульбитами и стойками на руках, со шпагатами и сальто, а веселые загорелые продавцы кукурузы и чудесной крошечной, прозрачной от жира рыбки по имени сайка восхищенно цокали языками, ставили перед нами ведра с горячими початками и клали куски газеты с горками крупной соли: «Та берите, берите, не надо грошей! То ж задарма цирк же ж настоящий!» Взрослые смеялись, играли в преферанс и пили вино, а меня усаживали в вырытый в теплом песке «бассейн», который быстро наполнялся водой. Она была соленая и немножко пахла йодом, я ее слизывала с ладошки – это был вкус счастья.
Потом уже мама рассказывала, что именно в этом городе я, оказывается, родилась: довольно поздние роды обещали быть непростыми, и мамочка специально поехала рожать в другой город, в роддом, где главврачом служила ее давняя знакомая, известный во время войны полевой хирург, вернувшаяся в мирное время к довоенной специальности акушера-гинеколога.
Может быть, потому я, родившаяся у моря, так люблю Большую воду всю жизнь и мечтаю на закате, так сказать, дней оказаться там, «в глухой провинции»? Провинцию мечты, кстати, я увидела на самых первых гастролях, но об этом позже.
Каждый день, пока мама гримировалась перед выходом на манеж, я сидела рядом в персональном высоком креслице и, затаив дыхание, разглядывала роскошные коробочки с разноцветным гримом, блестящую пудру и чудесные накладные ресницы. Мне казалось, красивее очень яркого циркового грима ничего на свете быть не может, и я мечтала все это немедленно намазать и наклеить на себя. Но, увы, по малости лет не могла самостоятельно взобраться на креслице, чтоб дотянуться до гримерного столика и вожделенных коробочек. Несколько раз пробовала, но кресло неизменно валилось с грохотом. Да и мама почти все время была рядом, кроме тех минут, что длился ее номер «Гимнасты на першах[2] и лестницах». Но и тут меня не оставляли в гримерке одну: я сидела на руках у кого-нибудь из артистов, стоявших за кулисами, и смотрела из-за форганга[3], как мама взлетает вверх по першу, как становится в стойку на руках на высоте примерно третьего этажа, слушала аплодисменты зала… Для меня все сливалось в яркую волну звука и цвета, которая несла с собой необъяснимую радость и восторг, – и я хлопала в ладоши вместе с публикой.
Однажды маму вызвал дядя Костя Коротков, директор цирка (надо же, я всю жизнь помню фамилии и имена людей из моего циркового детства), и она неосмотрительно оставила меня с альбомом и цветными карандашами в гримерной одну: «Посиди пять минут, доня, я сейчас вернусь, а пока позову тетю Таю, она побудет с тобой». «Отлично, – подумала доня, – надо идти, пока не появилась Тая, я все успею». И рванула из гримерки по давно присмотренному маршруту туда, куда строго-настрого запрещалось ходить: к зверям. Меня не заметили, время было самое удачное – вечер понедельника, у артистов выходной, на конюшне и в зверинце сумрачно и тихо, только с легким топотом переступают в денниках лошади и шумно фыркает слон. Но мне нужно было дальше, за конюшню и слоновник, меня кое-кто ждал.
…Я помню атласный бок настолько глубокого шоколадного цвета, что он казался черным. Протиснувшись между прутьями, я обняла большое и теплое, разглядывала шерсть с расстояния в десять сантиметров и отчетливо видела еще более темные красивые пятна на шелковой шкуре. Шерстинки лезли в рот, и я вытирала губы платочком с вышитой в уголке ромашкой. Под блестящей шерстью громко тукало что-то очень сильное: «Ток-тук, ток-тук», – и моя голова поднималась и опускалась в такт мерному дыханию зверя. Янтарные глаза спокойно смотрели на меня, потом закрылись, и я услышала мощное «гррруммм»…
Нас разбудили шум и яркий свет, чьи-то сильные руки оторвали меня от Катьки и вытащили из клетки. Впервые в жизни я весомо огребла по заднице, мама плакала и одновременно целовала мое лицо, и пахло от нее чем-то лекарственным.
Только через десять лет она рассказала мне, как прибежала в кабинет директора испуганная наездница Тая, как они вдвоем метались по большому пустому зданию цирка, как примчавшийся на мамины крики цирковой люд обшаривал зрительный зал, столовую, площадку оркестра, гримерки, которые никогда не запирались. Как артисты опрашивали людей на улице возле цирка, хотя пожилая дежурная в фойе клялась, что светловолосая девочка в желтом платьице не выходила из здания, как дрессировщик и наездники переполошили слонов в слоновнике и лошадей на конюшне, заглядывая во все углы. И как десятки рук мигом переворошили сено, лежащее за денниками, и как иллюзионист открывал один за другим все свои волшебные сундуки. И как кто-то выдохнул: «Мы не смотрели у хищников», – и все побежали к двери в зверинец и увидели, что она открыта.
Катька была совсем молодой пантерой (точнее – леопардом, темноокрашенный меланист, так их называют), почти ребенком. Выросла она в цирке, была дружелюбна со всеми и готовилась через пару месяцев влиться в большой аттракцион. Но все равно, обыскав все клетки и разбудив дремавших после обеда зверей, в секцию молодняка вошли только дрессировщик Егор с крюком для подачи мяса хищникам, мама и опытный служащий зверинца с пистолетом. Весь поисковый отряд остался шепотом вопить за дверью.
– Ты на ней расположилась, как в кресле. И спокойно спала. А у меня на какие-то секунды зрение напрочь отключилось, да и вообще восприятие отмерло, опомнилась только в тот момент, когда Егор передал тебя, сонную, мне…
Мама смотрит в окно и кусает губы. А потом вдруг спрашивает:
– Дочь, ты никогда не задумывалась, почему у нас нет кошки? Твоя бабушка их нежно обожает, во дворе с десяток ничейных мурзиков и мусек подкармливает. Но дома – никаких кошек. Не могу я, до сих пор не могу…
Я прекрасно помню, как добрая Катька успела лизнуть мою ногу огромным теплым языком. И помню недоумение в ее сонных глазах: так хорошо было, так уютно лежали, чего вы, люди? А вот как такой мелкий ребенок – и четырех ведь мне не было – безошибочно угадал, к какому именно зверю можно залезть в клетку, мне не очень понятно и сейчас. Катьку я видела всего раз во время экскурсии по помещению молодняка, а других львов, тигров, ягуаров и медведей мне показывали неоднократно. Почему-то каждый рабочий аттракционов с хищниками считал своим долгом посадить меня на плечи и отнести в зверинец.
Достаточно большое расстояние между прутьями клетки и исполнение заветного желания привалиться к атласному боку красивого доброго зверя привели к катастрофе и к первому, но очень четкому осознанию того, что за все придется платить. А за хорошее – платить дорого. Так и случилось. В большом кабинете, куда меня принесли, мама и дрессировщик с директором цирка допили на троих оставшийся корвалол, и мама сказала:
– Все. Ребенок должен жить нормальной жизнью. Безопасной. Дома.
А директор цирка дядя Костя, одышливый, полный, держась за левую сторону груди, вытер большим клетчатым платком лоб и добавил:
– Особенно такой ребенок…
Вскоре за мной приехала бабуля. Слезы, обещания больше никогда так не делать, мольбы – ничего не помогло. Мама осталась непреклонной.
Так моя жизнь радикально изменилась в первый раз: я потеряла будущее, обычное будущее каждого циркового ребенка, если он по физическим параметрам годится для манежа и родители не хотят ему иной судьбы. Правда, цирковой ребенок и сам должен любить манеж, иначе тяжелая и радостная цирковая работа будет просто тяжелой. Каторгой. Мне приходилось видеть несчастных продолжателей известных цирковых династий, мечтавших любыми путями сбежать в обычный мир, оставив манеж. Душераздирающее зрелище.
Так вот, если бы не случай с Катькой, лет с пяти со мной бы стали заниматься руководитель маминого номера, все партнеры и сама мама. Примерно к семи годам меня ввели бы на исполнение нескольких трюков (публика очень любит, когда на манеже рядом с родителями работают детки), я училась бы утром и работала вечерами, меняя по шесть или восемь школ за учебный год, потом поступила бы в цирковое училище, где мастера подобрали бы мне жанр по способностям и данным, окончила бы его, стала бы ездить по Союзу…
И, разумеется, сейчас не писала бы эти строчки.
Привезенная домой, я проплакала пару суток, но детская память удивительна и, наверное, милосердна: вместо того, чтоб заполучить стойкий невроз, проснувшись однажды утром, я напрочь забыла цирк. Ждала маму – да, грустила, когда она уезжала снова, – да, но почему-то не помнила совсем ни гастролей, ни людей, с которыми мне было так здорово, ни того своего счастья – как будто погасили свет. Очевидно, психика таким образом уберегалась от травмы потери.
Но сейчас, сидя в старом гардеробе, зарывшись лицом в чудесное пуховое болеро, я пересматривала сценки цирковой жизни и радовалась возвратившейся памяти, зная, что теперь воспоминания навсегда останутся со мной. Потому что Бука твердо пообещал мне это.
Когда бабуля вернулась домой, шкаф был заперт, а я мирно сидела у секретера и рисовала. Рисовала цирк: клоунов Сашу и Мишу, пантеру Катьку, маму и ее партнеров по номеру вместе с першами и лестницами. Рисовала вагончики, огромный зал и высокий купол большого цирка, зеленый брезент и яркие флажки на мачтах шапито – мне нужно было немедленно зафиксировать то, что вернулось. А еще я попросила бабулю больше не запирать шкаф. Она вздохнула, пошуршала крахмальным бельем и унесла наш «золотой запас» на кухню, прятать под банки с крупами. Ключик остался в замке, и я иногда ходила навестить своего Буку. Немножко грустного, всегда ждущего меня, верного Буку в бирюзовом цирковом колпачке.
Еще примерно год я рисовала только цирк и думала только о цирке. Обманом и шантажом (суровым отказом от манной каши и молока и обещаниями всегда спать днем по часу), принудив бабулю к походам в кинотеатр повторного фильма, я трижды посмотрела «Полосатый рейс» и дважды «Укротительницу тигров», а однажды, притворившись, что уснула на диване в комнате, тайком посмотрела красивый, но странный (там очень много пели нарядные дяденьки и тетеньки) фильм про Мистера Икс – благо бабуля сидела в кресле спиной ко мне, поглощенная сюжетом и исполнением арий. Еще мне очень нравилось разглядывать фотографии в толстых альбомах с бархатными обложками, а когда приезжала мама, я просила рассказать, кто все эти люди на снимках. Я давно стала взрослой, но фамилии артистов, о которых тогда рассказывала мама, все эти годы звучат из телевизора и появляются на афишах. А сегодня уже и внуки маминых друзей, продолжатели цирковых династий прошлого века, вышли на манежи мира.
Когда я еще немножечко подросла, маме все-таки пришлось оставить цирк. Добрейшая моя бабулечка, никогда не повышавшая голоса и ни разу меня не отшлепавшая за все мое бурное детство, грузная и величественная, в очередной раз разыскивая любимую внучку во дворе и по подвалам, превзошла себя. Она с трудом, но все-таки взяла штурмом узкую и абсолютно вертикальную лестницу, которая вела на чердак нашей пятиэтажки. Там у нас с пацанами был настоящий пиратский штаб со штурвальным колесом, которое друг Вовка смастерил из велосипедного обода.
Почему-то бабуля не вняла моим восторженным рассказам о пиратском кубрике, сигнальных флажках и фрегатах губернатора на горизонте и, купировав себе приступ гипертонии, дала маме телеграмму такого содержания: «Сил моих больше нет вскл эта сатана однажды убьется зпт неуправляемая зпт ничего не боится зпт сегодня сняла с крыши вскл Бросай все и приезжай немедленно вскл Мы потеряем ребенка вскл».
Наша Анна Ивановна была замаскированным самураем, справедливым, терпеливым и мужественным, но уж если она запросила пощады и помощи, то надо было мчаться на зов, пока не началось. И мама приехала очень быстро. Даже не стала ждать присвоения очередного звания. Не веря своему счастью и на всякий случай не выпуская ее надолго из поля зрения, я перебирала горы подарков, прикидывая, что кому из пацанов отдам завтра. В углу стоял огромный стационарный гастрольный кофр[4], его присутствие означало только одно: мама больше не уедет. Оставалось дождаться шести лет, пойти в первый класс и тогда, уже с позиции вполне взрослого человека, приступить к осуществлению плана. Мама вернулась домой – это было замечательно. Но теперь я больше всего на свете хотела вернуть себе цирк.
2. О Рыжей Соне и трудном пути щенка бульмастифа
Это была мечта, о которой знала только Сонечка. Рыжая Соня, кумир моего детства среди взрослых. Она жила в соседнем подъезде и была не только чудесным человеком, но и совершеннейшей красавицей: грива рыжих кудрей, изумительный носик с горбинкой, огромные зеленые глаза под удлиненными веками, длиннющие ресницы, на которые однажды Соня, поддавшись на наши уговоры, уложила рядом три спички, тонкая талия, стройные ноги с изящными щиколотками, руки, легкие и с длинными пальцами в кольцах тусклого желтого металла, низкий голос и сигаретка в уголке пухлых губ – совершенство, а не женщина.
Кусты персидской сирени и кремовые розы, которые цвели под ее окнами на первом этаже, всегда оставались нетронутыми, наши пацаны не играли с мячом возле ее подъезда – мяч легко долетал до окон на втором этаже. Отпетые хулиганы дрались за право донести до квартиры сумку с покупками, когда Сонечка возвращалась из магазина или с базара. Ее кота, избалованного перса Сему, ошалевшего от весеннего воздуха и ринувшегося на поиски любовных приключений на свою пушистую задницу, мы однажды искали всем двором (а это четыре пятиэтажки), прочесывая окрестности метр за метром почти три дня. И таки нашли мерзавца далеко от нашего дома, в трубе коллектора около старых дач, частично надкусанного и потрепанного уличными котами, но очень довольного. Наша общая любовь надежно хранила все и всех, что так или иначе касалось Сонечки: ее окна, ее цветы, ее фикус по имени Кактус, ее пожилую собаку Бэллу Моисеевну, которая жила по очереди у четверых из нас, если иногда Соня недолго отсутствовала, ее кота и даже ее дверь с простеньким замком.
А еще мы, мелкота, тайно очень ее жалели. Поздний и единственный ребенок, она жила одна, похоронив родителей, погибших страшно и моментально – маму и отца Сони в одну секунду убил нетрезвый водитель грузовика, выехав на остановку автобуса. Кто-то из стоявших там, к счастью, спасся, а старики не успели среагировать. Я помню, как бабуля и мама уходили на весь день, чтобы с другими женщинами двора готовить поминки, помню два полных автобуса со студентами и аспирантами, въехавших во двор за катафалком, – родители Сони оба были профессорами педагогического института. И все мы, дети, запомнили спокойное и очень бледное, прямо какое-то прозрачное лицо нашей Сонечки над двумя закрытыми гробами, стоявшими на табуретах под старым орехом.
Мы не видели ее долго, может, даже целый месяц – в детстве время течет иначе, – очень переживали, но потом Сонечка появилась, неуловимо изменившаяся лицом, загоревшая до черноты, похудевшая и с белоснежной прядкой в рыжих кудрях. Эту седину она никогда не закрашивала, но ей даже было к лицу. Ну, почтенный же возраст все-таки, уже двадцать восемь лет – так думала восьмилетняя я.
Соня работала в одесском пароходстве и ходила в рейсы коком на больших торговых и круизных судах, начав карьеру посудомойкой и подавальщицей сразу после окончания школы. Конечно же, она дружила с моей мамой, часто заглядывала к нам, и тогда они курили и хохотали на нашей небольшой кухоньке. А когда мне исполнилось пятнадцать, мама рассказала о Сонечкиной «большой любви»: первом трепетном чувстве к роскошному, разумеется, капитану белоснежного лайнера. Само собой, он был давно и плотно женат, но с женой «все сложно и катится к финалу», конечно же, они «до сих пор вместе только из-за ребенка», а любит он исключительно Сонечку, и потому пройдемте-ка, душа моя, в капитанскую каюту незамедлительно.
Образовавшаяся беременность капитана почему-то не обрадовала, и ему не составило труда убедить юную «женщину своей жизни» сделать аборт. Соня была очень молода, срок маленький, деньги заплачены немалые, но где-то не сошлось, и она, созданная для материнства, полная любви к детям, больше не забеременела ни разу. Капитан через несколько лет оголтелого вранья был послан по точному адресу вместе со своим белоснежным лайнером, организм Сони при многочисленных обследованиях оказался абсолютно здоровым, претенденты на руку и сердце вытоптали широкую дорогу к ее двери, но ребеночек так и не появился. Так иногда случается.
Зато у нее были мы. Она любила всех нас. Возвращаясь из рейса, Сонечка собирала дворовую ребячью ораву и вываливала на диван объемистые сумки. Необыкновенные конструкторы-трансформеры, жевательная резинка (настоящая, которая выдувалась огромными пузырями и пахла во рту диковинными фруктами несколько дней), почти всамделишные пупсы с настоящими волосиками на красивых головках, яркие машинки, гоночные, легковые и грузовые (у одноклассника Вовки на комоде двадцать лет стоял подаренный Сонечкой бело-синий джип с надписью «Police»), кожаные футбольные мячи, полосатые и огромные пляжные мячи, головоломки, мягкие игрушки, смешные и очаровательные – сейчас я понимаю, что Сонечка оставляла немалую часть зарплаты в магазинах детских товаров. Мы любили бы ее и без всех этих даров, нашу Соню, но как же было приятно прижимать к груди толстую книгу с невероятными иллюстрациями – то был «The Lord of the Rings», невиданный и неизвестный еще в Союзе. А у меня он – вот, на тумбочке. Соня прочла мне, маме и бабуле волшебную сагу, переводя прямо с листа, – мама прекрасно знала немецкий, бабуля – французский, но никто в моей семье не знал английского.
И вот однажды я решилась. Уволокла Сонечку в свое тайное место – дальний павильон в детском садике за нашим домом – и там рассказала все: о вернувшейся памяти, в которой был только цирк, о том, что уже несколько лет я мечтаю вернуться туда, но мама говорит, что ей уже поздно, а мне пока рано… и вообще, почему-то вступает в такие разговоры очень неохотно, и настроение у нее обычно портится, так что я и не заикаюсь уже. Соня обняла меня и сказала фразу, которую я потом часто повторяла себе в течение жизни: «Все будет так, как должно быть, детка. Твое от тебя не уйдет. Просто наберись терпения и жди».
В нашем провинциальном городе стационарного цирка не было, не дорос город до нужного для постройки стационара полумиллиона жителей. От кого-то из друзей я узнала, что каждое лето на площади в новом микрорайоне (от нас множество остановок на троллейбусе и автобусах с тремя пересадками) раскидывают свои шатры приезжающие в город передвижные цирки-шапито. И остаются там примерно на месяц. Мама, конечно, была в курсе, но первые несколько лет после своего возвращения к оседлой жизни меня в цирк ни разу не водила. Только став старше и выйдя под цирковые софиты, я поняла, как сильно она тосковала по манежу, по друзьям, по зрителям, по дорогам… На просьбы отдать в цирковую студию или хотя бы в гимнастическую школу бабушка и мама в один голос сказали, что пока мне хватит художки, что надо исправить трояки по математике и что мы вернемся к этому разговору позже.
Вообще-то в городе нашем никакой цирковой студии и не водилось, я просто об этом не знала. Но тут подоспела неприятность, обернувшаяся для меня удачей: мамин многолетний партнер по номеру (и даже бывший давний муж) дядя Гриша получил очередную серьезную травму плеча. После нескольких месяцев в больнице врачи настояли на том, чтобы гимнаст вышел на пенсию. Надо сказать, что пенсия у дяди Гриши была уже давным-давно: цирковые артисты в Советском Союзе имели право на пенсионные выплаты после двадцати лет работы в манеже. Дядя Гриша впервые ступил в опилки (так на цирковом сленге называется первый выход артиста) в восемнадцать лет. И теперь, «списавшись вчистую», еще молодой, сорокапятилетний, он вернулся в наш город, где пустовала давно купленная кооперативная квартира. А вскоре, заглянув к нам вечерком, поделился с мамой радостью: «Дина, – сказал он, – сегодня меня вызывали в исполком. Можешь поздравить: неожиданно предложили организовать цирковую студию при новом Дворце профсоюзов. Ставку руководителя уже выделили, зал там вполне подходящий, я только что ездил смотреть, отделку заканчивают. Теперь поднимем наши старые связи, чтоб вне очереди получить реквизит из Киева, и начнем, благословясь».
Я даже дышать перестала: вот он, мой шанс! Понятно же, что я должна попасть в число счастливчиков – и тогда цирк немножко приблизится, потому что, достигнув замечательных успехов (а как иначе, я ведь дочь известной артистки, у меня наследственность же!), после восьмого класса я легко поступлю в Киевское цирковое училище. Таков был план. И Сонечка меня всецело поддержала.
И вот уже торжественное открытие студии «Тринадцать метров» (я удивилась, как много людей не знают, что тринадцать метров – неизменный в течение веков диаметр манежа, но мама объяснила, что это довольно специфическое знание, а вовсе не люди такие невежественные). В зале толпилось множество тонюсеньких девочек и спортивных мальчишек, из катушечного магнитофона волнующе звучал Цирковой марш Дунаевского, который я помнила с раннего детства – с этой музыки начиналось каждое представление. Пол был устлан новехонькими, вкусно пахнувшими кожей, матами, а с потолка свисали кольца, канаты, рамки и трапеции. И я так хотела быть к этому причастной, что, улизнув в фойе, немедленно попыталась сделать стойку на руках – от щенячьего восторга и волшебного какого-то предвкушения. Разумеется, пребольно шлепнулась, треснувшись копчиком о мраморный пол, но это только прибавило мне решимости.
Вечером, когда мама с дядей Гришей пили шампанское, набрасывая план работы студии, я решительным шагом вошла к ним в кухню и, чуть живая от смущения и стеснительности, отчеканила:
– Дядь Гриш, я очень хочу у вас заниматься. Возьмите меня, пожалуйста. Готова на все. Буду очень стараться.
Конечно, он взял.
К этому моменту все мои мечты превратились в какой-то благоговейный трепет. Я вдруг поняла, что жизнь моя разделена на две неравные части: то, что хоть как-то относится к цирку и цирковым, и все остальное, малозначащее, хоть и обязательное к исполнению. Но кто ж знал, что у Невидимых Регулировщиков уже заготовлен для меня девиз, отлично работающий и сегодня: «Ничего тебе не будет просто так, детка!»
Я и вправду была готова ко всему. Кроме одного, как выяснилось: ощущать себя щенком бульмастифа среди изящных борзых и левреток.
Дело в том, что дядя Гриша последние двадцать пять лет артистической карьеры был акробатом и воздушным гимнастом – легким, почти невесомым жителем циркового поднебесья. И детей в свою студию он набрал тонких, гибких, прыгучих. Я же, увы, щедро отхватила отцовских статей: папаня мой не был двухметровым гренадером, конечно, но зато был известным оперным певцом – высоким и широкоплечим, с мощной грудной клеткой, так что даже совсем малышкой я выглядела крепенькой, «сбитой», как тогда говорили. Я совсем не была толстой, не была даже пухлой, но там, где моим товарищам хватало трех тренировок, мне требовалось пять, а то и семь – широкие и короткие мышцы растяжке поддавались с трудом, а негибкий позвоночник вынуждал бесконечно кувыркаться еще и дома, отрабатывая разные элементы. Но все равно получалось не очень: гены пальцем не расплющишь, а гены те были не только мамины.
С раннего детства знавшая пословицу про терпение и труд, которые «все перетрут», я ринулась к цели. Но тут нарисовалась другая известная пословица, про коня и трепетную лань: после нескольких непростых лет постоянной боли в мышцах и отказа от всех увлечений, кроме цирковой студии, я продвинулась на пути к цели, условно говоря, метров на восемьсот, а большинство моих товарищей за то же время, абсолютно не напрягаясь, ускакали на пару километров вперед, и догнать их мне не светило. И вот, очень трудно и болезненно, но я все-таки сумела понять: впихнуть невпихуемое, конечно, можно. Только сил, ресурса и душевных мук это потребует неоправданно много. Бывают ситуации, когда кроме искреннего желания необходимы и обязательны природные данные: баскетболист ростом в сто пятьдесят сантиметров и акробат, в котором под два метра роста и семь пудов веса, так же редки, как пурпурные единороги. Точнее сказать, их дважды не бывает в природе.
На поперечный шпагат после пяти лет регулярных тренировок мне сесть «до нуля» так и не удалось, например, а тоненькая и гибкая, как тростиночка, Лиля из параллельного класса сделала это, поспорив всего лишь на ириску, – прямо в школьном дворе, без всякого разогрева, легко и непринужденно. Банальный «мостик» я делала, только растянувшись, уже в конце тренировки, а Олежек Селиверстов мог спокойно читать книжку, поставив ступни носками вперед по обе стороны от собственной головы, практически свернувшись в кольцо. В довершение всех бед оказалось, что мои руки от природы имеют «переключенный» локтевой сустав и потому во время стойки на руках изгибаются внутрь в виде буквы «Х». Меня бинтовали, мне привязывали специальные рейки к рукам, но инвалидская моя стойка вызывала сначала молчаливое сочувствие, а потом добродушный хохот. Это и вправду было смешно: упражнение в моем исполнении получило среди студийного народа кодовое название «нестойкий икс».
Не знаю, сколько бы лет еще я почти безрезультатно терзала себя и смешила других, но тут весьма кстати случились март, каток, морозец, распахнутая куртка и, как следствие, – тяжелое воспаление легких, уложившее меня в постель почти на два месяца. Потом большой начальник из исполкома, где мама по выходным подрабатывала машинисткой, нажал на нужные кнопки, профсоюз поднатужился и выдал очень дефицитную путевку в детский пульмонологический санаторий в Теберде. Мама отвезла меня к дивным горам Большого Кавказа (я утешалась тем, что сравнивала себя с нежной Пат из «Трех товарищей», хоть первые дни и плакала ночами от тоски по дому), а наш коллектив, ставший к тому времени Народным цирком, уехал на свои первые гастроли по районным центрам и сельским клубам области без меня.
Ребята писали мне, рассказывали, что произвели фурор среди не избалованных зрелищами вообще и цирковыми представлениями в частности, но зато очень отзывчивых сельских жителей. В августе несколько председателей колхозов прислали благодарственные письма в Обком профсоюзов – и вот студия в сопровождении дяди Гриши уже едет в Гурзуф, в знаменитый Артек. Меня, конечно, тоже звали, но я отказалась – они работали, они заслужили, а при чем тут я? Я же проболела все гастроли. И пусть невозможно хочется, но это будет нечестно.
К тому же, «мотая срок» в Тебердинском санатории, разглядывая застывшую вечность – горы, тоскуя по всем нашим и развлекая слабеньких, почти прозрачных, очень послушных и дисциплинированных деток нашего «легочного» отделения кульбитами, стойками и сальто, я вдруг поняла, что не хочу. Больше не хочу оставаться после тренировок в пустом полутемном зале, чтоб лишний десяток раз кувырнуться на матах и растянуть «дубовые», неподатливые мышцы еще на два миллиметра, не хочу постоянно ставить в неудобное положение деликатного дядю Гришу, который не мог решиться прямо сказать бесталанной ученице, что гимнастки и акробатки из нее не получится никогда. Не мог – и тратил впустую свое время и внимание, так необходимые другим, от природы наделенным подходящими данными и способным к акробатике ребятам.
Домой я вернулась, уже все для себя решив, а тут еще понимающая и мудрая мамочка, ставя на стол любимую мою яблочную шарлотку (в которой я, кстати, стоически отказывала себе все эти пять лет), осторожно сказала: «Доня, а не попробовать ли тебе что-нибудь другое? Ну, просто так, для разнообразия?» – индульгенция для самолюбия была получена. Я слопала целых три куска пирога, и мне не было стыдно. Но на следующий день все же побежала к Сонечке, очень вовремя вернувшейся из рейса, – мне нужно было укрепиться в решении. Соня выслушала, закурила тонкую сигаретку и сказала: «Ты сделала все, что могла на этом этапе. Он завершен. Иди дальше. Твое от тебя никуда не денется».
В общем, в сентябре, когда наши вернулись из Артека, я уже занималась фехтованием – как раз прочитала дважды подряд пятитомную историю трех мушкетеров и вся прониклась. Немаловажным фактором было и то, что Дворец спорта, в котором тренировались фехтовальщики, находился очень далеко от Дворца профсоюзов, где репетировал Народный цирк – практически на другом конце города. «С глаз долой» у меня получилось, а вот «из сердца вон» – как-то не очень.
К счастью, я не заработала глубокого комплекса на первой своей серьезной неудаче, потому что неожиданно оказалась способной к рапире и довольно быстро выполнила взрослый разряд на фехтовальной дорожке. Меня хвалили, даже ставили в пример другим ребятам, обращая внимание на силу, быстроту реакции, натиск и спортивное поведение. Я считалась перспективной, много ездила с республиканской командой по Союзу, и это было замечательно. Потому что в каждом более-менее крупном городе имелся стационарный цирк. Там я обычно и проводила вечера после соревнований, с восторгом глядя на манеж, – подросток бульмастифа, так и не ставший изящной левреткой. Как же много программ я пересмотрела в те годы… Но никогда ни словом не обмолвилась об этом никому, даже маме. Только Соне. Это была наша с ней тайна. А еще я рассчитывала, приобретя прекрасную спортивную форму, стальные мышцы и значок мастера спорта на лацкан куртки, однажды заглянуть в студию и этак непринужденно сесть на шпагат или легко взлететь над матами, скручивая тело в заднем сальто. Только все сложилось иначе.
3. Знаки Судьбы
«И получает каждый по вере его». Все так. Это свидетельствую я, не шибко знающая постулаты Библии. Но да – получает.
В выпускном классе я подрабатывала курьером в редакции нашей городской молодежной газеты. Очень хотелось помочь маме, которая и дома работала за пишущей машинкой, не разгибая спины, – зарплаты высококвалифицированной машинистки нам немножечко не хватало, а цирковую весомую пенсию маме не дали, она раньше ушла, не хватило двух лет до выслуги.
Наташа в редакции сидела за столом, стоявшим у окна. Была она хорошенькой, светловолосой, с негромким голосом и приятными манерами, нежная, как бабочка. Очень она мне нравилась. Похоронив маму, отгоревав и отметив четвертьвековой юбилей, стала Наташа жить одна в трехкомнатной квартире старого дома в историческом центре нашего города. Небольшого города в степной южной Украине, понимаете? Города, где известное «на десять девчонок по статистике девять ребят» давно уже стало несбыточной мечтой. Ребят на десять взрослых девчонок приходилось примерно пять с половинкой. Причем «половинка» еще не достигла возраста согласия, а из оставшихся пяти двое истово ухаживали разве что за портвейном, отработав смену на заводах, трое же были давно женаты. Выбор небогатый, прямо скажем. При такой печальной статистике двадцатипятилетней Наташе, пусть и имеющей свое уютное и статусное, как сказали бы сегодня, жилье, рассчитывать на толпу кавалеров под окнами было, по меньшей мере, самонадеянно. Она и не рассчитывала. Но, как говорила моя бабуля, «у Бога все готово».
Однажды дружный коллектив редакции решил отметить приближающийся Новый год. Скинулись, сгоняли за шампанским и тортами, пригласили народ из других редакций, все выпили по бокальчику, мне налили любимое ситро «Саяны». Чем бы развлечь себя? А давайте погадаем? Не вопрос – погадаем, дело годное. Праздник же все-таки, время чудес же…
Корректор Серафима Сергеевна, дама позднего элегантного возраста, как сказали бы сейчас, поправила очки и рассказала о старом гадании «Случайное предсказание». Народ быстренько понаписал на одинаковых бумажках случайные, абсолютно произвольные фразы (это было непременным условием), мужчины надули пару десятков шариков, предварительно запихнув в каждый скрученные в рулончики и тщательно перемешанные бумажки. Шарики доверили везде разбросать нам, курьерам, – как самым молодым. А потом началось веселье: толпа журналистов носилась по редакции, ловя и нещадно давя шарики с пророчествами внутри. Мне достался желтый шар и строчка «Кружится карусель, горят прожектора», – полная, казалось бы, бессмыслица.
«Неужели я еще и в парке работать буду? На карусели? Фигня какая», – подумала я. И поискала глазами Наташу – мы с ней дружили, несмотря на разницу в возрасте. Наташа стояла у окна и улыбалась.
– Что у тебя? Тоже ерунда какая-то?
– Даже не знаю, как трактовать. У меня – вот. «Поднимешь свое с земли», – обещал маленький белый обрывок с неровными краями.
А скоро пришел февраль и приволок с собой совершенно дикие для наших мест морозы. Старожилы ахали, грустили в отсутствие парнуса[5], и крестились нищие морозостойкие старушки у церкви, мимо которой я бегала на работу, – прихожан в такую стужу из домов никакая вера не могла выманить. Наташа обычно уходила из редакции позже всех. Куда и к кому ей было спешить? Заведенная к тому времени серо-голубая кошка Ириска отличалась спокойным, терпеливым нравом и встречала Наташу, сидя на тумбочке в коридоре, неизменно радуясь сколь угодно позднему, но возвращению обожаемой хозяйки. И я часто забегала к Наташе за книжками, потому что библиотека в ее доме была просто уникальной.
В тот пятничный вечер она ушла с дежурства вместе со мной – примерно в одиннадцатом часу. А в понедельник дождалась, пока я вечером привезла всякие бумаги, отвела в кафе и рассказала невероятное:
– Такой зусман – жуть, воздух аж звенит. Я пулей лечу от автобусной остановки до дома, выходной предвкушаю, обрадовалась на ходу, что лампочки в фонарях уличных поменяли на новые, светло. Но не настолько, чтоб во все углы нашего двора достать. У подъезда как раз темновато было. Там я об него и споткнулась. Лежит на боку, скрючился в позе эмбриона, портфель к груди прижимает. Одет прилично, ботинки дорогие, дубленка, шапка норковая. И весь уже снегом припорошен. Пьяный – я дух-то этот наизусть знаю, сосед мой по лестничной клетке большой любитель выпить. И смертник, потому что мороз к двадцати пяти уже подбирается. До утра не дотянет человек, замерзнет. Не смогла я его оставить там погибать, понимаешь?
Заволокла как-то к себе на первый этаж. Даже не проснулся, когда по подъездным ступенькам пробумкали его ноги – вусмерть ушатался, бедолага. Заволокла, отдышалась, в коридоре прямо одеяло под него подсунула кое-как, подушку под голову, а сама в маминой комнате дверь на крючок кованый закрыла и всю ночь книгу читала. Задремала, когда уже светало.
Глаза открываю – и аж подпрыгнула, вспомнила о найденыше. Выхожу из комнаты на цыпочках и кляну себя почем зря: дурища, приволокла незнакомого мужика в дом, а возможности уйти тихо не дала – дверь автоматически заперла изнутри на нижний замок, ключ висит рядом, но так, что не сразу и увидишь. Мысли о том, что гость мог обидеть, у меня даже и не появилось почему-то. Иду по коридору, а из кухни чаем свежезаваренным пахнет, да каким-то необыкновенным – не моим, обычным, «со слоном», точно знаю.
Мужик живехонек и уже, между прочим, в мамином пестром переднике, стоит спиной ко мне и достает из портфеля баночки разноцветные со всякими вкусностями, на стол ставит, хлеб режет. Ириска моя тарахтит, как дизель, и об его ноги трется, забыв, что обычно не очень чужих привечает. А я жду, когда ж он заметит-то меня. Повернулся – оказался очень симпатичным и очень смущенным. Представился Сашей.
И Наташа как-то особенно улыбнулась. Мелкая я была совсем, не знала еще, как женщины в предчувствии счастья выглядят, но мне показалось, что в кафешке той скромненькой прямо стало светлее.
В общем, спасенный Саша в наш город в командировку приехал. На завод тяжелого сельскохозяйственного машиностроения. Дела закончил и с принимающей стороной посетил ресторан – отметить удачное подписание чего-то там. Славно отметили. Практически непьющий Саша, уверив хозяев, что «в полном порядке и все под контролем, пацаны!», в бессознательном состоянии перепутал автобусы и вместо своей гостиницы прибрел к дому Наташи – остановка была буквально в ста метрах от ее двора. Там в уютном сугробике и настигла его отключка. И если бы не Наташа, не было бы в жизни ленинградца Саши больше ни одного февраля. И жены прекрасной не было бы, да. И сына, сейчас уже известного ученого. И дочки. И внуков.
Наташа, как и обещало гадание, поднявшая свое счастье с земли, уехала в Ленинград через два месяца. У нее все хорошо. Мы долго переписывались, и потому я знаю, что каждый Новый год гости ее теплого дома играют в «случайное предсказание». Много лет уже играют, традиция такая у них семейная.
Да, кстати, мое «случайное предсказание» оказалось строчкой из песни Валерия Леонтьева, звучавшей тогда из каждого утюга: «… кружится карусель, горят прожектора, и чудеса вершатся на манеже». Шлягер назывался «Куда уехал цирк».
4. Передвижка № 13, парад-алле
У меня есть собственная теория: появившись в этом мире, человек получает неких Проводников. Эти сущности сопровождают человека от момента осознания себя до последней вспышки сознания, передавая его друг другу. Думаю, что у них там профильные специалисты.
И вот они, эти Невидимые Регулировщики, те, которые чертят уникальные, разноцветные и разновеликие маршруты наших жизней, точно знают, что же каждому человеку нужно на самом деле. Они расставляют на наших маршрутах и точки бифуркации. Иначе чем объяснить такой факт: именно передвижной цирк-шапито № 13 оказался в нашем городе той весной, хотя должен был работать даже не в соседней области, а вообще в другой части Украины? Просто график внезапно изменили, и цирк приехал к нам.
Ага, знаем мы эти «просто».
Я заканчивала десятый класс. Оставив рапиру в пятнадцать лет, выполнив нормативы мастера спорта и почти вылечив самооценку, ушла с дорожки, потому что стало неинтересно. Правда, совсем недолго мирно читала книжки и рисовала, радуя маму (бабуля к тому времени уже умерла) ежевечерним присутствием дома. Потому что очень скоро, проходя мимо здания городского ДОСААФа (Добровольного Общества Содействия Армии, Авиации и Флоту), я подняла с асфальта листок с каким-то текстом, который ветер только что сорвал со свежеоштукатуренной стены и швырнул мне под ноги.
Расправила, увидела объявление о дополнительном ограниченном приеме и тут же нашла себе еще более увлекательное занятие – секцию парашютного спорта. Сейчас я понимаю, что неосуществленная (да чего там – и неосуществимая) мечта о гимнастическом трико и рамке для воздушной акробатики так никуда из меня и не делась. Как иголка, однажды попавшая в тело, мечта бродила по сосудам и тканям, потихоньку ища выхода. И вот сначала вместо трико появился фехтовальный костюм, а потом, вместо акробатики на высоте восьми метров от пола, я яростно и весьма успешно стала осваивать акробатику на высоте двух километров над землей.
Там очень кстати пришлись и широкие плечи, и мощная «дыхалка», и крепкий костяк, и выносливость, а гибкости и легкости никто не требовал. Меня это абсолютно устраивало. Конечно, бедная моя мамочка цепенела от страха и каждый раз, когда я уезжала на аэродром, выкуривала вдвое больше сигарет (только это всегда и выдавало ее переживания – две пачки в день вместо одной, я всегда считала оставшиеся в блоке), но я была абсолютно счастлива, а мама делала вид, что принимает все и тоже очень рада. Думаю, она прекрасно понимала, что было всему причиной.
Только от Невидимых Регулировщиков не спрячешься и под облаками. И забытый выросшей девочкой Бука внезапно вспомнил номер телефона Судьбы.
Случилось это в мае. Я как раз уволилась из редакции, потому что нужно было готовиться к выпускным экзаменам. Как-то вечером мама, возвращаясь с работы, решила подышать ароматом рано расцветшей черемухи, которой в нашем парке было великое множество. Она читала свежий номер «Невы», когда представительный седой мужчина с тростью, проходивший мимо, попросил позволения присесть рядом, а еще через секунду коснулся ее руки и выдохнул:
– Дина? Ты?!
Юрий Евгеньевич Барский был старинным маминым другом. В свое время они работали в одном коллективе, объехали всю страну с гастролями, потом часто пересекались в разных программах – гимнастка и известный музыкальный эксцентрик, бывший акробат. Барский долго ухаживал за мамой, но она предпочла другого. Потом Юрий Евгеньевич работал в Югославии, а вернувшись в Союз, узнал, что мама ушла из цирка. Поискал, но застенчиво – был к тому времени уже женат. Овдовев через сколько-то лет, снова пробовал искать, не преуспел (конечно, мама ведь дважды сменила фамилию). Смирился, но помнил всегда, как выяснилось.
– Дина, подсесть именно на твою лавочку в немаленьком незнакомом парке у меня было столько же шансов, сколько встретить Рональда Рейгана в центре Москвы, например. Может, это судьба?
Конечно, это была судьба. Моя Судьба.
И вот Барский, директор передвижного цирка № 13, ужинает в нашем доме. В двух ведрах благоухает несметное количество роскошных роз со стеблями в метр длиной (неизбалованное дитя Советского Союза, я впервые увидела такие цветы – городская спецтеплица, личное распоряжение «на срез» начальника отдела культуры исполкома), наш пес Митька осоловело валяется на спине посреди комнаты, объевшись деликатесами, принесенными гостем, мама и Юрий Евгеньевич сидят за столом, на котором всякой хорошей и редкой еды – на отделение изрядно оголодавшей морской десантуры. Я ухожу, наслушавшись бесконечных «а помнишь?..» и не без труда выныривая из потока их совместных воспоминаний, иду с собакой в детский садик. Там у меня есть заветный павильон, почти скрытый от глаз зарослями молодых грецких орехов – именно туда много лет назад я приволокла Соню, чтоб признаться ей в любви к цирку. Остальные павильоны заведующая детсадом отдала на откуп и поругание художникам уровня «палка-палка-огуречик», а этому павильончику повезло: его единственную сплошную стену расписал кто-то талантливый. По ней скачут единороги и веселые собаки с почти человеческими лицами, на берегу моря видны башенки замка и чудесный сад-лес вокруг, а куда-то за горы уходит дорога. Какой-то ценитель красным мелком размашисто написал на шифере отзыв в одно слово: «Браво!»
Вечерами я иногда прихожу сюда с моим псом. Попозже, когда наши дворовые любители пива, разобранные женами по домам, уже уселись перед телевизорами, а влюбленные парочки еще не заступили на ночную вахту под звездами. Мне хорошо думается в этом укромном уголке, хотя уединение – отнюдь не постоянная моя потребность, я легко завожу любые знакомства, люблю шумные компании и веселые толпы друзей. И сейчас, сидя среди волшебных цветов и единорогов, я смотрю на дорогу, убегающую в зеленые нарисованные горы, и совершенно отчетливо понимаю: в моем мире грядут перемены. Очень серьезные перемены.
Дома выясняется, что Барский пригласил нас на представление, и мы с мамой в ближайшую субботу идем в цирк на премьеру. Я радуюсь, как маленькая, почему-то не сплю почти до утра и на следующий же день вдруг говорю мальчику, моему верному мальчику, с которым дружу со второго класса (и который потом, как мы условились еще в тринадцать лет, непременно станет моим мужем), что скоро, наверное, уеду. Откуда пришло это знание? Наверное, оттуда же, откуда и у Ассоль, когда она поняла, что скоро покинет Каперну, и сказала об этом всем. Мальчик огорчается, учиняет подробнейший допрос, не получив внятных объяснений, жутко обижается и не звонит несколько дней, но я этого почти не замечаю – во мне маленьким колокольчиком неумолчно звенит Предчувствие.
Шапито показалось огромным: высокие мачты с яркими флагами, зеленый брезент купола, прозрачный и крепкий забор вокруг циркового городка и надпись из разноцветных лампочек «ЦИРК» над главным входом, а внутри – запах опилок и зверинца. И тут же с очевидностью свершившегося факта пришло понимание: все, вот я и дома, я вернулась.
Директор Барский усадил нас на лучшие места в ложе администрации, прямо напротив форганга, вокруг шумело и смеялось небольшое человеческое море, а у мамы было очень странное лицо. Через минуту в проходы встали контролеры, на свою площадку поднялся оркестр, включились разноцветные прожекторы и световые пушки, все мигом стихло, а потом грянул марш, из-за тяжелого бордового занавеса появился затянутый во фрак, торжественный и величественный, как принц крови, шпрехшталмейстер[6], ловкие парни в униформе распахнули занавес – и в манеж пошел парад-алле[7]. Короче: за те семь недель, что коллектив работал в нашем городе, я пропустила всего одну субботу и одно воскресенье – при приземлении повредила ногу. Все остальные выходные и понедельники я проводила в цирке: заваривала одинокому и хромому Юрию Евгеньевичу крепчайший черный чай и бегала за свежей прессой в киоск, помогала кассирше Тане штамповать билеты, складывала программки вместе с билетерами, милыми пожилыми дамами, бывшими артистками, у которых теперь по всему Союзу работали в манеже дети и внуки, и слушала их рассказы о старом цирке.
Больше всех мне нравилась Фира Моисеевна, в прошлом известная акробатка и наездница – элегантная, тоненькая, с прямыми хрупкими плечами и копной белоснежных кудрей, которые она собирала в высокую прическу, скалывая разноцветными деревянными палочками-канзаши. В этом маленьком теле жил необыкновенный голос – сильный, низкий, хриплый, глубокий. Он меня очаровывал. К тому же пожилая артистка и моя мама были знакомы много лет и относились друг к другу с нежностью. Однажды Фира Моисеевна приболела, и я после уроков понесла ей домашний куриный супчик с клецками. Был понедельник, выходной день. Цирковые отдыхали, но на манеже все равно кто-то репетировал, с площадки оркестра доносились негромкие аккорды – это пианист наигрывал блюз, – а Фира Моисеевна с книгой и неизменной «Примой» в длинном мундштуке сидела в шезлонге у своего вагончика, который стоял в тени старой ивы.
– Деточка, здравствуй. О, ко́рма старушке принесла? Весьма кстати, мне не доковылять до магазина, нога припомнила все переломы и бессовестно отказывается сгибаться… Чего бы бабуле не сидеть дома, в комфорте, рядом с врачами и массажистами, не наслаждаться спокойной старостью? – наверное, думаешь ты. Только мы, цирковые, не умеем стареть вдали от манежа, быстро начинаем скучать и помираем. Того, что сейчас лежит на сберкнижке, и моей пенсии народной артистки СССР вполне хватит на безбедную жизнь. Любая нормальная старуха в промежутках между поездками в санатории и вояжами на курорты разводила бы орхидеи на подоконнике и клубнику редких сортов на даче или кости грела бы в уютном домике у моря, а я вот не могу. Хорошо мне дышится только в цирке. Вот когда совсем ноги таскать не буду, тогда, может, и подумаю о даче и море, – Фира Моисеевна смеется и отдает должное клецкам.
Мы провели вместе несколько неторопливых часов, и я тогда впервые услышала рассказы о великом эквилибристе Льве Осинском, работавшем сложнейший номер на выдвижных стойках-тростях, да так, что публика ни разу не догадалась о том, что у артиста только одна рука (вторую он потерял на фронте), о грустном клоуне Леониде Енгибарове, умевшем творить чудеса, о таинственном «Человеке-невидимке», гениальном инженере, иллюзионисте Отаре Ратиани, о канатоходцах из дагестанского селения Цовкра, заставляющих публику в цирках всего мира реветь от восторга…
Когда начало темнеть, я засобиралась домой. И тут Фира Моисеевна вдруг сказала:
– Я за тобой наблюдаю, деточка. Отчаянная и пока безответная любовь к цирку написана на твоей хорошенькой мордашке крупными буквами. Ты веришь в волшебство? Если отбросить навязанное тебе комсомольское коллективное сознание и прочую ерунду, – веришь? Веришь, вижу. Значит, я не ошиблась. Так вот, в цирке волшебство таится везде. Полвека назад, когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас, моя наставница рассказала старую цирковую байку: если в зрительном зале против каждого выхода, то есть по сторонам света, закопать под ковром в опилках манежа четыре маленьких зеркальца и искренне, от всего сердца, попросить о заветном, то Дух цирка исполнит твое желание. Но всегда только одно. Когда-то в моей жизни это сработало. Попробуй и ты.
Конечно, я поверила ей сразу. Достала из коробочки-копилки рубль и на следующий же день купила четыре маленьких круглых зеркальца. А в субботу, попросив мальчика Женю, который встречал меня после каждого представления, – хоть и не очень понимал, что за магнит притягивает меня к шапито, сведя к нулю все наши вечерние прогулки и походы в кино, – прийти попозже, под каким-то, очень убедительным, как мне казалось, предлогом просидела в вагончике у Фиры Моисеевны почти до одиннадцати вечера, выжидая. А прощаясь, услышала:
– Иди. Там уже давно все разошлись. Только будь искренней и правильно формулируй, девочка. Другого шанса не будет.
В шапито было пусто, тепло, сумрачно, горел дежурный фонарь на мачте, а из-за форганга слышались взрывы хохота – артисты сидели в курилке. Эх, с какой скоростью я перепрыгнула барьер, вцепилась обеими руками в тяжеленный красный ковер, приподняла и отогнула его край и моментально закопала в опилки, смешанные с песком, первое зеркальце – на все ушло не более пятнадцати секунд… Сверилась с компасом (все должно было быть точно, чтоб колдунство хорошо получилось), нашла вторую точку – она и вправду была ровно напротив выхода из шатра, третью, четвертую… Роя, как фокстерьер, почуявший крысу, я управилась быстро. Села на барьер, чтоб отдышаться, посмотрела вверх, туда, где четыре мачты терялись в сумраке, и выдохнула: «Хочу работать в цирке. Пожалуйста-пожалуйста, хоть недолго и хоть кем!»
И тут – я и сейчас уверена, что это было! – откуда-то сверху послышался тихий одобрительный смешок. Повторяю: зал был абсолютно пуст, я все проверила.
К Фире Моисеевне я влетела с выпученными от восторга глазами (никакого страха, один чистый восторг – такая реакция на все непонятно-таинственное у меня и сейчас), вопя громким шепотом: «Я что-то слышала, там кто-то был, точно был!» Она абсолютно не удивилась, спокойно подняла глаза от вязания: «Конечно, был. И услышал тебя».
Прошло несколько дней. Директор Барский где-то добыл колоссального гуся, «кил на восемь», привез его к нам на заднем сиденье такси, как дорогого гостя (в руках тяжело было тащить), и попросил маму запечь с гречкой и шкварками. Назавтра с Юрием Евгеньевичем пришли еще двое цирковых: коверный[8] дядя Коля и близкий друг Барского шпрехшталмейстер Давид Вахтангович, оба тоже давние знакомцы мамы. Я несла из кухни перемену посуды, когда размякший от лобио («Вай, Дина, и моя мама не приготовила бы вкуснее, да не болят руки твои, даико[9]!») и коньяка Давид Вахтангович вдруг громко сказал:
– А что, Юра? Я девочку взял бы. Наша она, цирковая, я наблюдал за ней, глаза ее видел… Тяжеловата кость для акробатики, для «воздуха» вообще никак, но жонглирование, эквилибр, эксцентрика – легко. И голос хороший, могла бы дневные представления вести, там дети приходят, много детей, а они лучше воспринимают красивую девочку, чем седого грузина. Чего ты молчишь, Юра? Ты ж мне сам вчера говорил?..
Ноги мои приросли к полу, сердчишко полетело к горлу, а Юрий Евгеньевич виновато взглянул на мою маму – и не промолчал. Прямо там, за столом, во весь голос, он взял на себя ответственность за мою несовершеннолетнюю жизнь, а остальные мужчины согласились с ним эту ответственность разделить. Мама, избегая моего умоляющего взгляда, обещала подумать.
Выпускные экзамены я сдавала как будто во сне, отшучиваясь на вопросы учителей и друзей о планах на поступление и тому подобном. Какие поступления? Цирк же, цирк! Меня ждал цирк.
Мама молчала на эту тему долго, опять курила больше обычного и допоздна засиживалась с книжкой на кухне, а я, доверившись судьбе и, вроде бы, благорасположению Духа цирка, тихонечко ждала приговора, не выдавая ужасного своего волнения, но похудев от ожидания на восемь килограммов. И была очень, очень хорошей девочкой, конечно. А за неделю до окончания гастролей передвижки № 13 в нашем городе мама зашла в мою комнату. В руках она держала нежный комок розового пуха – тот самый драгоценный жилет-болеро, который добрый Бука когда-то набросил мне на плечи, чтоб разбудить память о цирке:
– Поезжай, доня. Поезжай с ними. Я не хочу, чтоб ты всю оставшуюся жизнь была несчастна от мысли, что так и не попыталась, и, не дай бог, обвинила бы потом в этом меня. Вот, возьми его. Сейчас таких уже не делают, он подойдет к любому манежному платью. И ничего не бойся.
Как выяснилось вскоре, директор Барский купил для меня билет на поезд сразу после вечера с гусем, не дожидаясь решения мамы. Все-таки он неплохо знал женщину, которую любил всю жизнь.
И мы с жилетом поехали.
5. За форгангом. Начало репетиций
Вот как хотите, но в то время жизнь была совершенно другого вкуса, цвета и имела иные свойства. Мыслимое ли это дело сегодня – отпустить шестнадцатилетнюю, домашнюю и бесконечно наивную книжную девочку, воспитанную в любви и доверии и не ждущую от людей ничего, кроме добра, неизвестно куда со взрослыми мужчинами? Ну и что, что это друзья молодости? Я вас умоляю!
Сейчас каждый Вася знает, что педофилы и прочие извращенцы владеют мимикрией так, что любой хамелеон сдохнет от зависти. Маскируются, падлюки, под массажистов, учителей физкультуры, отчимов – у читательниц и наиболее экзальтированных читателей газеток и журнальчиков, не говоря уже о зрителях ТВ, завивки круглосуточно дыбом стоят от ужаса, мозги вскипают от праведного гнева, а рука нашаривает булыжник покрупнее. Про соцсети я уже молчу, там вообще каждый первый – лучший юрист, учитель, психолог, врач и политик. К счастью, моя юность пришлась на другую эпоху.
Мама всегда верила людям, и я не помню случая, чтоб она обманулась в своем доверии. А уж если пообещали цирковые, то их простое слово стократ сильнее любых обетов и самых страшных клятв.
Так что первые мои месяцы в цирке прошли под неусыпным наблюдением трех строгих интернациональных «нянек»: грузина-шпрехшталмейстера, еврея-директора и одессита-клоуна (дядя Коля всегда говорил, что одессит – это такая особая нация). К ним примкнула и жена дяди Коли, добрейшая тетя Шурочка. Руководила коллективом опекунов Фира Моисеевна, шепнувшая мне на вокзале: «Я знала, что все получится!» Нас теперь, кроме симпатии, связывала и общая тайна. До первого своего гастрольного города я ехала с ней в купе, а потом жила в ее вагончике – они все были поперек разделены толстой деревянной перегородкой на две секции.
А когда опекающие лица убедились в том, что я не заработаю гастрит, потому что умею готовить, не испорчу дыхалку и «ливер», потому что не курю и не пью, не буду совращена каким-нибудь роковым цирковым красавцем, потому что все, включая двенадцатилетнего сына циркового электрика, воспринимают меня как младшую сестренку – вот тогда мне выделили отсек в отдельном вагончике с реквизитом, пусть маленький уголок, девять метров всего, но только мой. Взрослые признали мою самостоятельность, право на личное пространство и надежность. Но это случилось позже, а пока…
Утро. Я сплю на роскошной походной кровати производства братской Польши, купленной за собственные деньги, призовые и премиальные, которые давали за хорошие места на соревнованиях по парашютному спорту. Раздается деликатный стук в дверь вагончика:
– Швило[10], просыпайся! Скоро девять, чеми гого[11], завтракать пошли! – это Давид Вахтангович, добровольно принявший на себя обязанности «утренней няньки», пришел ровно за пять минут до звонка будильника. И это значит, что через пятнадцать минут (водные процедуры в летнем душе и впрыгивание в одежку) за столом в вагончике директора ждут своих порций два почтенных вдовца: Юрий Евгеньевич и Давид Вахтангович, полюбившие в моем исполнении гренки-«харитошки» из белого батона за одиннадцать копеек, каждый кусочек – с яичным желтком внутри. Их я жарила на древней чугунной сковороде, тяжеленной, как блин от штанги, принадлежавшей когда-то почтенной матушке Юрия Евгеньевича и ездившей с ним по городам и весям почти полвека.
Мужчины едят, я пью только некрепкий кофе с молоком без сахара и бегу на конюшню. Там помогаю конюхам накормить лошадей, готовлю ребятам бутерброды с сыром и колбаской, завариваю чай по маминому рецепту, мою посуду – получаю целый рубль, прекрасный приработок к зарплате. До обеда я на манеже, вожусь на свободном кусочке ковра: растяжка, силовые упражнения, неуклюжие попытки правильно встать в стойку на руках, сальто и рондады[12], которые мое тело на удивление легко вспомнило. Потом пару часов привычно помогаю кассиру Тане штамповать билеты на вечернее представление, складываю яркие буклетики-программки с Фирой Моисеевной, обедаю или с моими стариками (мне идет семнадцатый год, им обоим – за пятьдесят), или на конюшне с конюхами – и уже пора готовиться к представлению, которое мы ведем вместе с Давидом Вахтанговичем.
Мои длинные волосы собраны в высокий хвост, я уже почти умею накладывать грим – тот самый, вариант «вырвиглаз», мечта четырехлетней девочки, весьма гипертрофированный: длиннющие накладные ресницы, блестки на веках, броские тени, румяна, темно-розовая помада. Дело в том, что яркий свет манежа начисто съедает краски и обычной повседневной косметики под цирковыми софитами просто не видно, лицо с ней выглядит, как светлое пятно без глаз и губ. Переодеваюсь в одно из прекрасных манежных платьев, которые прямо в своем вагончике пошила на уникальном «Зингере» конца сороковых годов мой хрупкий ангел-хранитель, моя Фира Моисеевна. Платья однотонные, очень нежные и изысканные, почти бальные, туфли, высокий каблук – я должна соответствовать затянутому в строгий фрак шпреху, оттеняя его благородные седины своей юностью. Иногда надеваю предмет всеобщей зависти цирковых девушек – мамину «болерошку» из пуха фламинго.
Потом два с половиной часа на манеже и полчаса отдыха в антракте, в течение всего представления мы с Давидом Вахтанговичем не покидаем наших мест по обе стороны форганга. Но уходим за занавес, пока работают хищники; в это время около клетки, окружающей манеж и коридор, по которому выбегают звери, остаются только служащие номера и специальные люди с брандспойтом и пистолетом.
В половине десятого заканчивается вечернее представление. За час-полтора чистится тяжеленный круглый манежный ковер, закрепляется на отведенных местах реквизит (завтра днем репетиции, его обязательно проверят перед использованием), уборщицы приводят в порядок зал и пространство под амфитеатром из разноцветных скамеек. Потом билетеры протирают эти скамейки влажными тряпками: засохший шоколад, мороженое и жевательную резинку утром отчистить будет трудно. Осветители зачехляют световые пушки и выключают прожектора, оркестранты уносят инструменты. Шапито засыпает.
И вот поздний вечер. Костер на заднем дворе за конюшней, гитара, бесконечные байки и легенды, немножко вина, непременный чай с травами и фруктами – здесь почти у каждого свой собственный, особый рецепт заварки и добавок к ней. А завтра будет новый день и новые зрители, новая порция ни с чем не сравнимой мощной энергии зала – энергии радости, удивления и восхищения.
Потом, уже во взрослой своей жизни, я так и не смогла понять и всегда старалась не просто не приближать к себе, а обходить десятой дорогой людей, агрессивно не любящих цирк и декларирующих это. Многоуважаемый Владимир Семенович с его «…я не люблю манежей и арены, на них мильен меняют по рублю» не в счет. У гениев отдельное право и свои резоны, да и лукавил поэт, были у него закадычные друзья среди цирковых, и как-то он ездил с одним коллективом почти две недели, ночуя на сене в конюшне, – мне рассказывали очевидцы. Эти ненавистники цирка для меня как ксеноморфы, чужие во всем. Не надо горячей любви, пусть просто попытаются понять. А для этого дать себе труд хотя бы всмотреться. Цирк же – потребляют. Под пиво, сахарную вату, попкорн. Сейчас потребляют, утыкаясь лицами в гаджеты прямо во время представления, и плевать на людей, творящих на манеже невообразимое. А потом выходят из цирка, добираются до соцсетей и начинаются завывания: «Ах, бедные тигры! Ах, забитые львы! Ах, тупые клоуны! Ах, несчастные собачки! Ах, что тут смотреть? Гимнасты? Акробаты? Да ладно. Они все со страховкой работают, чего тут сложного-то?!» – etc.
Люди, нигде нет более чистого воздуха, чем в цирке! Я сейчас не имею в виду тигрятник или слоновник – там-то воняет знатно, специфический звериный дух запросто может сбить непривычного бедолагу с ног. Я говорю о самой атмосфере мира цирка. За целую жизнь, незаметно промелькнувшую после описываемых событий, я не видела больше ни одного места, где тебе отдадут безо всякого сожаления последний червонец и последние три яйца. Где будут в свое личное время «за так» держать лонжу[13] на многочасовых твоих репетициях и на всех представлениях (если у тебя нет денег, чтоб хоть рубль-другой доплачивать разовые[14] ассистентам или униформе[15], а на лонже должны стоять два человека, потому что один вес твоего тела при рывке в трюке просто не удержит). Где десятки малознакомых и совсем незнакомых людей выстроятся в очередь, дабы сдать для тебя кровь в Склифе (если повезет, и ты не до смерти разобьешься именно в столице). Где весь коллектив, включая уборщиц, конюхов и костюмеров, толпится за форгангом на премьере номера или при введении новой «корючки» (ведущего трюка), где так искренне радуются чужому успеху, настолько действенно сочувствуют и бросаются помогать в беде, не задумываясь и не рассуждая. Тут, правда, ремарочка: если беда – настоящая. Разводы-измены-потери всяческих материальных благ не воспринимаются цирковыми, многие из которых ежедневно рискуют своими жизнями, как горе, и могут вызвать лишь сочувственное: «Пойдем, тяпнем соточку-другую, расскажешь, может, и полегчает? А не расскажешь, так и хрен бы с ним, все равно пойдем, не надо сейчас тебе одному быть». И слухи о якобы душевной глухоте цирковых, пропитанных спиртным и адреналином, примитивных, необразованных, ценящих лишь мускульную силу и красоту тела, – очень, очень обидная ложь. Люди моего цирка были другими. Совсем другими.
Только тут могли бухать весело и страшно, до беспамятства, до утреннего тремора, в единственный выходной, понедельник, но чаще – в момент переезда из города в город. Пить, а потом лезть на пятнадцатиметровую высоту, чтоб подвесить аппаратуру, без всякой страховки и даже без мысли о нелепости, глупости подобного действия, просто на доведенной до автоматизма памяти мышц. Или репетировать на канате, трапеции, ремнях – аппаратах, находящихся не на манеже, а в воздухе, репетировать по нескольку часов, выгоняя похмелье и вымывая токсины с потом, чтоб вечером блестяще отработать свой номер на публике.
Только тут сильные, красивые люди, как молодые, так и зрелые, неизменно вступали в священный для них круг манежа исключительно с правой ноги: цирковые считают, что левая нога – «неверная», номер пойдет не так, можно не просто облажаться, но и покалечить себя или партнера. Только тут парни могли легко подраться в курилке из-за пустяка вроде «одного места из Блаженного Августина», а через десять минут смеяться и тщательно замазывать друг другу гримом фингалы и подклеивать рассеченные брови – вечером же на манеж, надо быть в форме. И только тут случайному или просто безразличному человеку могло запросто прилететь в репу, если он нарушил один из неписаных законов: его предупредили, а он все равно сел на барьер спиной к кормильцу-манежу или вдруг вздумал в зрительном зале грызть семечки, да еще и сплюнул шелуху на пол. Люди цирка суеверны и чтят обычаи, сложившиеся за века.
Можно, конечно, скептически ухмыльнуться, но прямо в следующем гастрольном городе у нас случилось вот что: город был большой, областной, три недели в цирке «битковый аншлаг» (то есть в зале нет ни одного свободного места), все довольны сборами, директор Барский обещает труппе премию. Только, как говорится, беда пришла, откуда не ждали.
У Юрия Евгеньевича было заведено так: ежедневно за пару часов до начала представления билетеры мыли скамейки в зрительном зале теплой водой с мылом. Все четыре сектора: красный, желтый, зеленый и синий. У моей Фиры Моисеевны был самый маркий желтый сектор, и я, конечно, помогала ей оттирать мороженое, шоколад и следы каких-то неопознанных, но липких субстанций от ярких деревянных перекладин скамеек. А вот горы мусора и сотни пустых бутылок из-под пива и лимонада, которые после представления всегда обнаруживались под деревянным настилом амфитеатра зрительного зала (там под скамейками были двадцатисантиметровые щели между досками, зал собирался, как конструктор, из отдельных секций-секторов, и зрители преспокойненько бросали в эти щели фантики, объедки и бутылки), выносили уборщицы, но никогда не жаловались на тяготы этой грязной работы. Еще бы: после трех воскресных представлений, например, наши дамочки с вениками имели приработок со сданной посуды аж по пятнадцать, а то и по двадцать рублей на одно убирающее лицо. Это, между прочим, четвертая часть месячной зарплаты билетера.
Среди теток, местных жительниц, которых в каждом городе брали на работу на время гастролей, была некая Клава, весьма колоритная бабенка. Высоченной, грудастой и разбитной матерщиннице Клаве цирк как искусство был до глубокой фени – я ни разу не видела, чтоб она смотрела представление. Зато бойкая тетка собирала больше всех бутылок, иногда устраивая громогласные разборки с коллегами по клининговому цеху из-за закатившейся под скамейки соседнего сектора одной единицы ценной двенадцатикопеечной тары, которую Клава почему-то считала своей. Вообще, своей она считала всю тару. И каждую субботу победно вкатывала на задний двор циркового городка огромную самодельную тачку, на которую после представлений складывала мешки с бутылками. Каждый мешок украшала кривая надпись масляной краской: «Клавдия Ж.».
А еще Клавдия Ж. с неприкрытой алчностью поглядывала на статных холостых конюхов и мастеровитых разведенных рабочих, обслуживающих шапито, – Клава никак не могла выйти замуж. Но очень хотела. И все таскала из дома здоровенные корзины пышных пирожков с картошкой и мясом, пакеты с солеными бочковыми огурчиками и помидорчиками, литровые тонкогорлые бутыли с мутным первачом, изо всех сил демонстрируя хозяйственность и полную лояльность к восьмидесятиградусному «натурпродукту» потенциальным претендентам на свои уже начинавшие увядать прелести. Последний вагон с грохотом катился мимо, как говорила Фира Моисеевна, и Клавке следовало хорошенечко наддать, чтоб успеть в него впрыгнуть. Может, кто из неприкаянных цирковых бродяг и потерял бы бдительность, прельщенный пирожками, качественной самогонкой и широко рекламируемой «большой хатой с садом», но тут опять вмешались высшие силы.
Тем вечером мы с Фирой Моисеевной быстро закончили уборку, я уже понесла ведра с грязной водой на задний двор, когда услышала:
– Клава, что ж ты делаешь? Я же тебя предупреждала, я просила тебя, Клава!
Оборачиваюсь. Маленькая и хрупкая Фира Моисеевна стоит перед Клавой, как Давид перед Голиафом – буквально запрокинув голову, а у Клавиного подножья пол обильно заплеван шелухой от «семачек», до которых тетка была большая охотница. Эта бестолковая кукушка лопала семечки в зрительном зале! Я поставила ведра, схватила совок и моментально собрала шелуху, непочтительно отпихнув Клаву, но Фира Моисеевна обреченно махнула рукой:
– Поздно, деточка, хана сборам. Устроила ты нам, Клава, полную «ж»…
На следующий день кассирша Таня в панике прибежала к Юрию Евгеньевичу: билетов на вечернее представление продано лишь чуть больше половины. Не очень улучшилась ситуация и непосредственно перед началом, хотя именно в это время обычно раскупается солидная часть билетов. Увы, на момент нашего с Давидом Вахтанговичем появления на манеже в зале непривычно пустовала примерно треть мест. Так же было и в следующие несколько дней. Барский, отправлявший в Киев и Москву еженедельные финансовые отчеты по выполнению плана, ходил чернее тучи. Лишь немного утешало всех скорое окончание гастролей в этом городе.
А непосредственно перед закрытием директор улетел на сутки в Москву и вернулся довольным: подключив все старые дружбы и нажав нужные рычаги, грозно потрясая отчетными документами, он выбил в Главке несколько «топовых», как сказали бы сейчас, номеров для усиления программы:
– У меня как раз четыре новых вагончика пустуют, а хорошее лишним не бывает. Давид, я отличных ребят выпросил в Дирекции, очень сильные номера, – хвастался он шпрехшталмейстеру за вечерним чаем.
Клавка-преступница, по причине собственной тупости промумукавшая возможную сбычу своей заветной матримониальной мечты, дура и нарушительница табу, почему-то больше так и не появилась на работе. Даже за расчетом не пришла и тачку свою с полными мешками оставила за конюшней. Догадываюсь, что ей кто-то прямо в тот вечер доходчиво все объяснил. А бутылки мы раздали другим уборщицам, правильным, уважающим цирковые традиции.
Хотя, если честно, то я должна быть благодарна этой недалекой и алчной тетке. Если бы не упали сборы, директор не полетел бы выбивать номера и моя жизнь на ближайшие годы опять сложилась бы совершенно иначе. А так через несколько дней, уже когда мы были в другом городе, в коллектив стали приезжать артисты, благодаря им и без того неплохая программа шапито № 13 внезапно расцвела новыми красками, а моя цирковая судьба вдруг определилась сама собой.
6. Люди цирка: Ковбой и Чингачгук
В цирке это приспособление называется люстрой. Такая здоровенная штуковина из толстых труб, железный тор, который подвешивается под купол шапито самым первым, как только установят четыре несущие мачты и натянут основные тросы. Именно к этой штуке крепится весь «аппарат» – те самые рамки, канаты, мостики, лопинги, полотна, ремни, трапеции и кольца, на которых работают артисты в воздухе. На ней же держатся и блоки для лонж, и сами лонжи – страховочные тросы, которые гимнасты, акробаты, «проволочники», все, кто работает не в манеже, а на высоте, обязаны использовать во время репетиций и работы. Лонжи пристегиваются карабином к кольцу, которое вместе с тонким металлическим тросиком намертво вшито в кожаный ремень, скрытый у артиста под костюмом. Больше всего этот ремень напоминает гигантский собачий ошейник: принцип совершенно тот же, только пряжка и фиксирующий стержень сделаны из прочнейших материалов, а сам ремень – из нескольких слоев мягкой кожи, обработанной особым образом. Это, собственно, и вся страховка. Сетку внизу ставят только на номерах «летающих» гимнастов – тех, что работают в отрыве от снаряда.
Понятно, что от надежности крепления как аппарата, так и лонжи зависит все. Ну, то есть в первую очередь жизнь артиста зависит, а уже потом – кому отправляться «по диким степям Забайкалья» и там сидеть. Поэтому цирковые всегда подвеску и настройку «аппарата» делают сами, как парашютисты сами укладывают свои купола. Множество раз я слышала от старших: делиться нужно и должно всем, что есть – водой, магнезией, полотенцем, халатом, гримом, обогревателем, куревом и выпивкой, лекарствами, деньгами, но твоего реквизита не должны касаться чужие руки.
В то утро я, как и всегда впрочем, околачивалась на конюшне: слушала дружелюбную перепалку конюхов с медвежатниками, разносила овес и сено, гладила по бархатным ноздрям Мальчика, молодого вороного жеребца, которого готовили для номера наездников, а он все пытался дотянуться до моих волос и смешно делал губами так: тррргхррррр. Конюшня в передвижке – всего лишь большой брезентовый прямоугольный шатер, соединенный с основным куполом шапито, и там слышен каждый громкий звук, доносящийся… да откуда бы ни доносился – слышно.
– Ты что, парень, твоюматьпростиконешно, совсем охренел?? Где лонжа, блин, лонжа где?? – надсаживаясь, орал Давид Вахтангович, орал громко и с явным грузинским акцентом – очень волновался, значит. Явление это было настолько нетипичным (за прошедшее время я ни разу не слышала, чтоб всегда спокойный шпрехшталмейстер, ведущий свой род от древних и благородных грузинских князей, повысил на кого-то голос), что меня на волне этого ора просто вынесло в манеж. Я увидела причину и чуть сама не заорала: под куполом, держась одной рукой за люстру, висит, просто висит без всякой страховки, парень в модных светлых джинсах и в маечке дикого канареечного цвета. Спокойно так висит себе, будто отдыхает. А другой рукой парень неспешно производит какие-то манипуляции с аппаратом. Лонжи нет. До опилок – четырнадцать метров. Рядом легкомысленно болтается веревочная лестница наших воздушных гимнастов, которой безбашенный смельчак воспользовался, чтоб взобраться на верхотуру.
Внизу беснуется Вахтангович, а на барьере сидит еще один новенький – невысокий симпатичный парень с лукавыми глазами. Сидит и улыбается. Потеряв дар речи, я замахала руками и замычала, тыча пальцем в самоубийцу, на что сидящий на барьере небрежно обронил:
– Ой, дите, та успокойся ты уже, не психуй. Обычное это дело. Сашка всегда так. Все наши привыкли, не спорим и не шугаемся. Чокнутый слегка он, ваще страха не знает – аномалия такая в башке, понимаешь? Вот такое общее горе, адреналиновый наркоман, нужно ему по краешку бегать, а то ни жрать, ни спать не может, аж больной весь делается. Но обаятельный – жуть, сама увидишь. И счастливчик, зараза, все ему с рук сходит, слава богу и тьфу тридцать три раза.
Тем временем обаятельный счастливчик Сашка докрутил то, что крутил, сунул инструмент в задний карман штанов и съехал вниз по канату. Когда при установке циркового шатра краны поднимают люстру под купол, к ней, пока она разложена на месте будущего манежа, прикрепляют несколько канатов, почти таких, как в школах используют на уроках физкультуры, только длиннее в разы, как раз для эффектного спуска гимнастов из-под купола. Закончил артист номер под куполом, взялся двумя руками за канат (там надет специальный «рукав» в виде брезентового цилиндра, чтоб кожу на ладонях не сжечь во время скольжения), и – вуаля! – эффектно съехал в манеж. Именно таким образом и прилетел гипотетический самоубийца прямо в нетерпеливые объятия Давида Вахтанговича, который уже устал орать и теперь просто хватался за сердце.
Так в мою жизнь вошли и остались в ней надолго бесстрашный джедай Сашка Якубов и веселый хитрец Витька Ковбой. Якубов был очень похож на мечту всех женщин Советского Союза серба Гойко Митича, прославившегося исполнением ролей индейских вождей – Чингачгука, Ульзаны и Текумсе. Только волосы у Сашки были светлые, а глаза – карие, веселые и лучистые. В комплекте шли могучий торс атлета, руки с железными мышцами, беззаботность, мягкая улыбка и легкий нрав. Мастер спорта международного класса по акробатике, Якубов пришел в цирк поздно, в двадцать четыре года, и без «корочки» циркового училища, но сразу стал своим – народ манежа мигом разглядел в парне талантливого профи. Кличка у него была, конечно же, Чингачгук.
Ах, как изящно Чингачгук сидел на малюсенькой площадке, закрепленной на вершине перша, и как роскошно потом выходил там же, на девятиметровой высоте, в стойку на руках – плавно, как будто перетекая. А вторым верхним гимнастом в этом номере был Витька Ковбой. Ковбой судьбы моей.
Давид Вахтангович, оторавшись и наматерившись всласть, махнул коньячку, крохотную фляжечку которого всегда носил в кармане домашней куртки, и уволок Якубова на суд и расправу в кабинет директора, а я приступила к ежедневной разминке на пустом (о чудо! Обычно как минимум пять человек репетировали) манеже. Когда дошла очередь до стойки на руках и я в третий раз позорно шлепнулась афедроном о ковер, за спиной зафыркали и ехидно сказали:
– Это кто же у нас тут такой падает, а? Чудненький маленький бегемотик? Да хорошенький какой, хоть и корявенький… Ой, нет, это ж Буратинка деревянная, чурочка неотесанная! И давно ты так корячишься? Эх, дите, неужели никто еще не сказал, что акробатика с гимнастикой тебе противопоказаны категорически? Надо же, какие бесчувственные люди, а? Зря ломаешься ведь, – и аппетитно захрустели чем-то. Кажется, яблоком.
Произнеся вслух то, о чем я и так думала каждый день, Витька через секунду горько пожалел об этом: успокоить «Буратинку деревянную» ему удалось не скоро. Особенно зацепило почему-то злосчастное яблоко, которое этот нехороший человек спокойно лопал, созерцая мою нескладность и неумелость в целом. Когда закончились и его огромный носовой платок, и большая часть махрового полотенца, а поток моих бессвязных сетований и слез почти иссяк, Ковбой принес мне, громко и горестно икающей, воды в большой кружке, задумчиво прошелся по манежу (аккомпанементом ему было клацанье моих зубов о фаянс), еще раз окинул меня оценивающим взглядом и вдруг предложил заняться жонглированием.
Тут же вынул из своего пакета еще три яблока и по кругу непринужденным каскадом запустил их в воздух, ловко ловя одной рукой. Никогда не видевшая вблизи работу жонглера (мы как раз ожидали прибытия в труппу артиста этого жанра), я согласилась попробовать. Просто от отчаяния и из страха, что природа выспалась на мне от души, что Дух цирка, разглядев мою полную непригодность к манежу, отторгнет нелепую и бесталанную дочь блестящей артистки, моей мамы. Добрые мои опекуны, следившие за бытом и здоровьем «нашей девочки», абсолютно не задумывались о том, что я буду делать дальше. Хотела уехать с цирком – уехала, хотела работать в манеже – работаешь. Все любят, все заботятся – хорошо же? А дальше видно будет.
Уже прожившие свои прекрасные и долгие артистические жизни, осчастливленные этими жизнями и искалеченные (Барский – в самом прямом смысле), они не воспринимали целых два месяца моей цирковой биографии даже как мало-мальски серьезный срок (и были абсолютно правы, конечно). Но я-то мечтала о будущих аплодисментах и цветах, о том, как выйду в парад-алле вместе с другими артистами, о том, как будет гордиться мной мамочка…
Только некому было мной заниматься. Совсем некому. Любимые мои ветераны уже почти не имели сил, зато имели по букету болячек, а цирковая молодежь воспринимала меня как хорошенькую улыбчивую малышку, как родственницу директора коллектива, которая, наверное, решила просто поколесить с труппой перед поступлением в институт, но зачем-то ежедневно возится тихонько на манеже, никому не мешает, а совсем наоборот – улыбается и всегда готова помочь. Никто ни о чем не спрашивал, никто не лез с советами. А я страстно хотела, чтоб мне сказали как. И что. Что надо сделать, чтоб стать настоящей цирковой артисткой?
Что ж, самое главное – это правильно сформулировать желание и горячо желать. У меня получилось, видимо: на меня обратили-таки внимание и показали, как и что. А дальше все было, как в старом анекдоте про «лучше б я умер вчера». Почему-то проникшийся ко мне братскими чувствами Витька Ковбой уже на следующий день приступил к делу вплотную, разработав целую методику: упражнения на растяжку, упражнения на координацию, упражнения на постановку рук, упражнения на точность движений – на манеже я теперь проводила четыре часа, последние два из которых держалась на ногах только из голого упрямства и спортивной злости.
Витька отдал мне свои старые теннисные мячики, наполненные водой при помощи шприца (пустые они были слишком легкими для жонглирования), где-то раздобыл особо дефицитную четырехслойную фанеру, годную для изготовления колец, и пообещал сделать настоящие булавы под мою руку. Делались они из обычных детских пластмассовых игрушек-кеглей, куда засовывались утяжелители. К кеглям прикручивались деревянные ручки, которые вытачивались на токарном станке. Такой станок имелся в хозяйстве у шапитмейстера[16], так что скоро булавы были готовы. И я сразу получила повышение: стала именоваться «амбициозным ампутантом» и «улыбчивой жертвой Паркинсона», потому что мячи, кольца и булавы, – особенно булавы! – видимо, испытывали ко мне личную неприязнь, и большую часть репетиций я проводила на четвереньках, собирая их по всему манежу под аккомпанемент ядовитых шуточек беспощадного Ковбоя. Вот уж у кого под языком была тысяча острейших иголок.
«Заставь дурака богу молиться, так он и лоб разобьет», – говорила моя бабуля. Дорвавшись, наконец, до того, к чему оказалась хоть немного способной, я осваивала жонглирование с неистовством неофита. Однажды утром добрейшая Фира Моисеевна, зайдя в вагончик по какой-то надобности, обнаружила меня спящей в странной позе: руки, согнутые в локтях, образуют прямой угол с тушкой, лежащей на спине, и кроватью (опустить вниз ладони было невозможно, они горели немилосердно). Проснулась я от прохладных прикосновений к несчастным конечностям – Фира Моисеевна толстым слоем накладывала на ладони какую-то мазь, приятно пахнущую травами, медом и немножко дегтем:
– Подержи так, пусть впитается. И никаких репетиций завтра. Вот подживет, тогда уж и мячики можешь побросать, о кольцах и булавах забудь пока. На ладонях же настоящие раны! С Витей я поговорю, загонял он тебя, нельзя так, нельзя! Будешь репетировать с бинтованными руками, пока кожа не огрубеет. И мажь каждый вечер, не забывай. Рецепт этого бальзама мне одна бессарабская цыганка еще до войны дала, он и пулевые раны заживлял. А уж сколько раз я им свою порванную шкуру спасала – и не сосчитать. При парфорской езде[17] наездник и так очень часто травмируется, а у меня две лошади шли рядом – такого больше никто ни у нас в стране, ни за границей не делал и сейчас не делает. Очень травмоопасно, хоть и зрелищно, да и долго номер готовится. Я своих рабочих кобыл, помнится, почти три года тренировала, а все равно мне белая красотка Иза устроила пару раз серьезные переломы, жуткая паникерша была, собственного плюмажа пугалась.
В общем, после втыка от Фиры Моисеевны мы с Ковбоем репетировали много, но уже без надрыва. А когда от тяжелых фанерных колец в оплетке из пластыря у меня на руках появились жесткие мозоли между большим и указательным пальцами, стало совсем легко и почти не больно. Булавы тоже были прекрасны – отцентрованные под мою руку, красивые, яркие, с твердыми деревянными ручками, – и скоро полоски огрубевшей кожи легли и наискосок через ладони.
Жонглер ведь репетирует бесконечно. Очень хорошие жонглеры репетируют по восемь часов в сутки, используя малейшую возможность ПОБРОСАТЬ. Это очень тяжелый, очень монотонный труд, и слава Единому, что меня готовили для ввода партнером в какой-нибудь уже готовый групповой номер – карьера жонглера, работающего соло, не привлекала меня совершенно, хоть Витька и пытался увлечь ученицу демонстрацией короткометражек с работой великого Сергея Игнатова и блистательного Евгения Биляуэра. Я восхищенно ахала, теперь уже хорошо понимая, каких мук и адского труда стоит эта легкость и это великолепие, но и все. Повторять желания не возникало. Ни особого честолюбия, ни стремления к рекордам в жонглировании мне не завезли, хотя рука, как выяснилось, от природы правильно была поставлена под реквизит.
Мне не хотелось поражать невиданными достижениями зал, мне было довольно просто жить в цирке, просто иметь возможность выходить в манеж каждый вечер, просто быть частью – да что там! – маленькой частичкой этого прекрасного мира и хорошо делать свое дело. И я была согласна войти рядовым исполнителем в любой номер. Разумеется, после того, как руководителя этого номера одобрит Юрий Евгеньевич, потому что руководитель этот артисту и мама, и папа, и Высший суд, да и суд Линча порой.
Всецело доверив обустройство быта заботам чудесной Фиры Моисеевны, два опекуна, директор и шпрехшталмейстер, сконцентрировались на контроле моего финансового состояния, режима дня и исполнении обязанностей ведущей программы. Чем я там занимаюсь на манеже в личное время, их, судя по всему, волновало мало. А вот третий гарант, ответственный за мою молодую жисть, коверный дядя Коля, неожиданно принял живое участие в наших с Ковбоем занятиях.
Каждый день на репетициях я видела в зале его доброе, но уже основательно стекшее вниз лицо с отвисшими брыльками, с гримом, намертво въевшимся в кожу на щеках и вокруг глаз, смешной красный кончик его носа – ну, тут не только многолетний грим, конечно, был виноват, чего уж там. Любил дядя Коля «беленькую» нежно, но во хмелю делался мягок необычайно, ласков по-отечески и говорлив. Меня дополнительно баловал и все пытался накормить вкусненьким: шоколадками, заварными пирожными, которые мастерски пекла в специальной походной духовке его жена, дефицитными дорогущими конфетами «Трюфель», и неподдельно горевал, что не люблю сладости: «Барышня должна конфетки и прочее пралине иногда есть, деточка… От этого кожа барышни гладкой становится, а характер – мягким. На конфетку, деточка».
Боясь обидеть старого артиста, я, категорически равнодушная к сладкому с детства, покладисто брала конфетки-шоколадки во множестве, а потом меняла накопившееся великолепие на добрый кусок мяса и овощи у рабочих, ухаживающих за медведями (они же использовали конфетный бартер, чтоб подсластить отношения с девочками, работающими на конюшне и псарне). У меня получалось здорово экономить на покупке еды и регулярно откладывать денежки из небольшой зарплаты – я копила на свой первый будущий костюм для номера. Тут швейное искусство моей Фиры Моисеевны уже помочь не могло. Костюм надо было заказывать в самой Москве, в цирковых мастерских, а чтоб он был красивым, покупать искусственные драгоценные камни, отделочную фурнитуру, блестки и специальный трикотаж телесного цвета за границей. Гимнастка Ирка Романова собиралась зимой на гастроли в Польшу и пообещала привезти все что нужно. Для закупки требовалось рублей двести – каждый человек, выросший в Советском Союзе, поймет всю неподъемность этой суммы. Но я очень хотела, чтоб к моменту заказа деньги на «приданое» были собраны все, даже на последнюю бусину.
Ха, знала бы я тогда, что для костюма моего совершенно не нужны будут роскошные украшения и прелестные трико-сеточки «под цвет тела»! У Духа цирка оказалось еще и симпатичное чувство юмора. Зато я еще тогда научилась экономить.
Так вот, сам того не ведая и искренне желая мне исключительно добра, милейший дядя Коля однажды сильно осложнил мою жизнь, приковыляв нетвердой походкой (опять был понедельник, цирковые, разумеется, отдыхали, и коверный уже принял на грудь свои дневные «два-по-писят»). Присел на барьер, – рядом пыхтела под бдительным оком Ковбоя совершенно непьющая, а потому не делавшая различий между рабочими и выходными днями я – понаблюдал немного и вдруг сказал:
– Витенька, а ведь прямой подъем-то у девочки, совсем прямой, погляди. Что ж ты, Витенька? Как она на комплимент выходить будет? Непорядок…
– Точно, вот же я долбодятел, – осознал Витенька, – бросай булавы и готовься, детка, щас начнем.
Подъем «ломают», чтобы стопа с вытянутым и напряженным носком, обутая в мягкую кожаную тапочку-чешку, изгибалась красивой дугой. Балетным постоянными упражнениями ломают еще в детских группах училища, лет в восемь, цирковым – тоже с детства. А в мои шестнадцать, да после парашютного спорта… В общем, меня усадили на барьер, положили ногу на пятку и попросили вытянуть носок. Вытянула. Получилось очень красиво, на мой взгляд. Но мучители сокрушенно затрясли головами, а Витька ухватил рукой пальцы ног и, надавив коленом сверху на подъем, пригнул к бархату барьера. Не резко и не сильно, но ужасно больно – я взвыла так, что на конюшне зафыркал Мальчик. Тиран спуску мне не давал, и полчаса «ломания» были обеспечены. Для каждой ноги полчаса. Ежедневно.
Моднейшие красные босоножки на огромной деревянной платформе, детище умельцев из обувного кооператива славного Еревана, пришлось сменить на открытые раздолбанные шлепки – так болели стопы. Представления я работала с трудом: в манеж ведь не выйдешь в роскошном платье и в говнодавах, а каблуки причиняли сильную боль. До судорог. Но я была готова терпеть и худшее.
А пока что старый коверный и бывшая наездница продолжали мазать мои разбитые кольцами и булавами ладошки то самодельной заживляющей мазью на травах, то чудодейственным «цыганским» бальзамом, рассказывали любимые цирковые истории, по очереди бинтовали мне перед репетициями слабый от природы голеностоп. Кто-то из них всегда ставил сразу за форгангом раздолбанные любимые шлепки, чтоб в антракте я могла на полчаса снять с горящих ног концертные туфли на каблуке и дать многострадальному, но уже почти соответствующему требованиям Ковбоя подъему отдых.
А еще они учили улыбаться во всю пасть, даже когда больно. Особенно когда больно.
7. Тот, кто упал с пня
С чистой совестью могу сказать: я себя не жалела, вкалывала честно и с опережением графика, который составил и тщательно записал в красную общую тетрадку жестокосердный мой руководитель Ковбой. Пока однажды на репетиции икроножную мышцу не свело судорогой так, что я рухнула на манеж как подкошенная. А спазм пополз выше колена и сотнями острых железных клыков впился в бедро.
– Стоп. Перебор, запалилась ты, подруга, нельзя так. Придется идти на поклон к Яковлевичу, – кое-как размяв мою окаменевшую ногу и разогнув скрюченные пальцы, сказал Витька. Передал меня, беспомощно валявшуюся на манежном ковре, в добрые руки Фиры Моисеевны и убежал куда-то. А когда вернулся, за ним шел высокий, очень широкоплечий человек с удивительно спокойным лицом и абсолютно седым ежиком густых волос. Я видела седого человека всего несколько раз за эти месяцы, он жил в большом белом вагончике (остальные были цветные: мой, например, желтенький, Витькин и Сашкин – голубой), который стоял чуть отдельно от других, за конюшней. На двери было написано: «Олег Таймень». И все.
Семья староверов в поселке на самой границе с тайгой…
Хакасы, тувинцы, монголы, буряты, таежная охота с двенадцати лет, младший сын в «родове» Тайменей. Его мать, оставшаяся вдовой с пятью детьми (муж, вернувшись с фронта, прожил всего три года), родила Олега от приезжего политического. Их много, ссыльных, было в начале пятидесятых в том суровом краю. Кто был отец и куда он делся, мать так никогда сыну и не рассказала. Только очень внимательно слушала столичные радиопередачи, особенно когда началось разоблачение культа личности и по радио зачитывали списки реабилитированных – как будто ждала, что услышит знакомую фамилию. И однажды услышала: очень обрадовалась, достала из подпола разносолы, велела старшему сыну заколоть порося, собрала соседей, даже выпила настойки на лимоннике, пела потом с бабами глубоким и сильным голосом «Вот кто-то с горочки спустился», пела и плакала.
Мать, Василиса Акимовна, была костоправкой и повитухой в девятом поколении – все женщины их рода принимали младенцев у баб и приплод у скотины, вправляли кости и позвонки, возвращали на нужное место внутренности после родовых неприятностей и руками могли «вылепить» головку младенчика, если повитуха звала помочь при сложном случае. Три брата и две сестры оказались «неспроможными» к целительству, а вот младшенький, Олег, впервые «достал пуп» в четырнадцать лет. Василиса Акимовна тогда лежала, надорвав спину: тянула из кобылы крупного жеребенка, да и повредила мышцы, а тут привезли из дальнего лесного поселения хворую женщину, сын с мужем волоком втащили страдалицу в избу и положили прямо на пол в горнице. Что было делать? Не отправлять же назад – помрет. Мать смотрела и говорила, что делать, а Олежка «работал» испуганную, зареванную бабу. И получилось ведь, вправил все, что выпало и сдвинулось, на своих ногах ушла, только чуть прихрамывая и держась за живот.
Так с тех пор уже почти сорок лет и работал Олег Яковлевич с людскими хворями. Учился в Китае, у тувинских шаманов учился, у слепых массажистов в Кисловодске учился и не боялся произнести не очень понятные, но признанные антинаучными в советское время слова «мануальщик» и «остеопат». А себя называл просто костоправом.
Потом я часто наблюдала, как каждый день идут к нему люди. Цирковые – само собой, Олег Яковлевич получал у директора Барского зарплату штатного массажиста, но ведь и местные жители в каждом городе прознавали о нем каким-то образом. Тут же начиналось паломничество, тихие толпы собирались прямо с утра и безропотно стояли за забором циркового городка до вечера. Он не всех брал, отбирал по ведомым только ему критериям. На час-полтора страдальцы скрывались в его вагончике и выходили оттуда с ДРУГИМИ лицами. Некоторых выносили родственники, и они лежали на жесткой кушетке у ступенек вагончика Тайменя. А одна очень бледная женщина с несчастными глазами все руку ему порывалась поцеловать. Олег, красный как рак, вырывал руку и бормотал: «Чо так-то, девка… Чо уж… Не надо, чо…» Говор этот непередаваемый, впервые тогда услышанный, мне нравился прямо до обомления: Олег Яковлевич катал на языке слова, как округлые камешки, ударения ставил странно, «чокал», «окал», славно так говорил.
Он починил мне голеностоп всего за четыре сеанса (судороги тоже прекратились и вернулись только через двадцать лет), но за это время мы успели подружиться. Однажды вечером сидели на конюшне, а дрессировщица собак Алдона шла мимо в окружении своих замечательных псов. Таймень посмотрел вслед своре:
– Вот, к примеру, эти лохматые, гляди-тко, живут, как баре. Артисты. Даже сенбернар Лешка, по нутру своему собачьему спасатель – и тот на тумбе сидит. И нравится им, явно же нравится публика, музыка, манеж. А я, лесовик дремучий, этого не понимаю, дочка. Собака – она ж воин, друг, помощник, охранник, добытчик. В тайге греет у костра теплым боком, зверя добыть помогает, от дурного люда уберегает. Вот и жизнь их племя мне четырежды спасало – с шатунами да с секачами, когда на дальней охоте один на один встречался. Собаки у нас так-то всегда были, но жили во дворе, спали в загоне – куда с таким мехом в избу? Если пустишь в сени вдруг, то счастья и гордости столько, аж морды трескаются от улыбок, понимают псины, что заслужили у хозяина почет. Полежат часок, уважение и восторг выкажут – да и во двор, жарко им в дому, тесно. И то пускал я только главного кобеля своры с бабой евонной, старшей сукой. Все дети и родичи их и не пытались взойти, куда в сени ораву таку, восемь псов-то было у меня: шесть лаек да двое суржиков маламутов от огулянных в лесу сук, может, и волчарами огулянных, кто ж знает? Все здоровенные, гордые звери… И хоттошо у меня одно время знатные были. Их банхарами еще называют. С ними история как-то раз случилась занятная.
Бывало, в дом приходили приятели и без меня – двери-то мы в деревне сроду не запирали, даже замков не было никогда. Прийти-то придут, в избу взойдут, а уж назад-то – фигу. Там черные песики мало не с телка ростом на крыльце уже разлеглись, улыбаются двухвершковыми клыками. Так и сидят-то в дому гости, сердешные, пока мы не вернемся. Однажды пятеро набилось их, гостючков-то, всю настойку на лимоннике, матушки моей фирменный напиток, вылакали, видать, сильно ждали – я на дальней делянке был, жена в район уехала. Вот это собаки, девочка. Жили до глубокой старости у меня на пенсионе, кто из тайги выбирался целым. А как время их наступало, то в тайгу и уходили. Навсегда.
Сейчас некоторые в городах больших моду взяли, слышал я: берут в дома кобелей да кастрируют, чтоб управляться с ним проще было, себе чтоб жизнь облегчить, значит. Не понимаю я этого. Какая кастрация? Кобеля охолостить – врага нажить, зверя, помнящего бесчестье, за спиной держать. Да и зачем? Ни силы, ни смелости в калеке нет. Все у меня некалечные были, да. Ну, и щенки, конечно. Дважды в год – всегда. Продавал после отбора, мои собаки ценились по району, из Тувы приезжали за кутяшатами, из области, монголы даже покупали весь помет несколько раз – мои псы лучшие были.
Отбор? Гм… Хм… ты же понимаешь, что щенков до двадцати за щенение порой было? Суки-то, когда живут стаей, в охоту входят в одно время и в одно время щенятся. Куда ораву такую? Чем кормить? Я брал их, как глаза открывали, и в тайгу. В корзину посажу весь помет, человек шесть – восемь, да и отнесу подальше. Пень у меня был присмотрен, широкий, метр, почитай, в диаметре. Вот я их на пень-то посажу, отойду в сторонку, да и гляжу… Которые сразу сами падают – брак. Которых другие сталкивают – брак. А вот те, что упираются и на пне все ж остаются, скулят (малые же еще), но держатся – вот те годные. Те и остаются. Ну, жить остаются, в смысле.
– А остальные? С остальными, дядя Олег, что?
– А остальных, детка, забирал Лес. Ружье-то у меня всегда с собой, понимаешь? Не жильцы все одно, проверял я неоднократно. Гибнут в первый же год в тайге, нехорошо гибнут, мучительно, да еще и прихватят собрата по стае с собой – хорошо, если не человека. Ну, или калечатся серьезно, так, что все равно приходится… Эй, что с лицом-то у тебя, дочка? Ну, я ведь знал, что не поймешь ты, дите городское…
Я сначала аж задохнулась, набрала побольше воздуха и собралась выступить, обличить и испепелить праведным гневом этого первобытного живодера, казавшегося минуту назад таким приятным человеком. А потом заткнулась. Поняла вдруг: в далеком и неведомом мире тайги правят законы тайги. И не следует мне, маленькой чистоплюйке, слабенькой дочери теплых городов, даже обсуждать их. А тем более – осуждать Тайменя. Врачевателя, Охотника, Мужчину.
Так случился мой первый урок по принятию того, что шло вразрез с привычными представлениями о мире. Тогда же я узнала и поняла, что реальная суровая необходимость и жестокость – абсолютно разные вещи. И что у каждого зверя, как и у человека, своя судьба.
Кстати, некоторые говорят, что не любят цирк якобы как раз из-за животных. Много раз, узнав, что я имела отношение к цирку, даже умные люди спрашивали, правда ли, что там зверей мучают: издеваются, опаивают снотворным, морят голодом? Правда ли, что вырывают клыки и когти? Правда ли, что приковывают на цепь и нещадно бьют их, беспомощных?
Нет. Неправда. Зайдите на конюшню, в медвежатник, тигрятник, на псарню, в слоновник. На каждой клетке, на каждом вольере и стойле вы увидите повязанную красную тряпочку – это цирковые, согласно примете, оберегают своих животных от болезней. Зачем оберегать того, над кем ты измываешься? Где логика? Чтоб мучить потом здоровенького? К тому же, в том цирке, о котором рассказываю я, практически все звери были рождены в неволе и другой жизни просто не знали. И их всегда любили и холили. А они рвались на манеж и ХОТЕЛИ работать на зрителе.
Взять хоть тех же собак. Я перевидала довольно много номеров с собаками. Их любят дети и взрослые, собаки понятны, дружелюбны и умны, они существуют в мире почти на равных с человеком и им нравится выполнять команды человека, которого они любят. Здесь главное слово – любовь.
8. Волшебные псы Алдоны
Алдона приехала в передвижку «на усиление программы» одной из первых, но почти две недели выходила только в парад-алле, в представлениях не работала. Директор Барский позволил ей это (выход в парад автоматически означал «палку» – рабочие часы, оплачиваемые стопроцентно), потому что причина была уважительная: у дрессировщицы болели три собаки. Все три – звезды, любимцы публики, на них был построен весь номер.
Надо ли говорить, что на конюшне у меня появилось заветное место? Да-да, как раз там, где был собачий закуток. Первого щенка я приволокла в дом в шесть лет, а сейчас очень скучала по смешному дворянину Митьке, оставшемуся с мамой, и к роскошным псам Алдоны прилипла сразу и наглухо. Меня не прогоняли, мне были рады, моя помощь была принята с благодарностью всеми – и собаками, и Алдоной.
Эти две недели я видела ее исключительно варящей какие-то настои, говяжьи бульоны для каш, набирающей в шприцы лекарства и тому подобное. Кашу часто выпрашивали полакомиться униформисты, да и я пробовала – очень вкусно, хоть и без соли. Брезговать? Так кастрюли с мисками у Алдоны и ее служащей Оли всегда были стерильные, почище, чем мне приходилось видеть у иных на московских роскошных кухнях. Имея номер в лучшей гостинице города, – многие артисты предпочитали жить в гостиницах, особенно те, что были с детками, – Алдона неотлучно находилась рядом с собаками, трое приболевших псов спали на полу вагончика около ее кровати, на чистых мягких матрасиках, чехлы на которых менялись каждые два дня, а сами матрасы просушивались на солнце.
– Девочка, собаки чувствуют все. Чувствуют гораздо острее, чем люди. Эти никогда не болели, с рождения, а тут, видишь, просквозило в товарном вагоне, когда ехали сюда. Сейчас им страшно, они хотят, чтоб я всегда была рядом. Особенно ночью. Так быстрее выздоровеют, да и мне спокойнее, когда просыпаюсь вдруг, опускаю руку – и пальцы утопают в теплом живом меху. Собаки понимают, что я уже не сплю, начинают лизать руки, лезть целоваться, ведут себя, как в щенячестве. А утром вижу: чуть лучше моим мальчикам стало. – Дрессировщица взяла у меня пакет с собачьими лекарствами, который я только что принесла от местного ветеринара, и стала раздавать псам таблетки.
Был вечер очередного понедельника. Цирковые вовсю наслаждались выходным, клоун Юрка играл на гитаре, народ тихо подпевал, скучковавшись у костра, который развели на специальной площадке за конюшней. Алдона слушала маленький концерт, сидя на ступеньках своего вагончика. Один пес лежал на траве у ее ног, второй сидел, привалившись боком к бедру хозяйки, – именно хозяйки, не дрессировщицы, дрессировщицей она была в манеже, – и блаженно жмурился, а третий, огромный бело-коричневый сенбернар, частично свешивался из двери вагончика, пристроив здоровенную лобастую башку на худеньком плече Алдоны. Им было хорошо вместе, женщине и ее собакам, а я пользовалась возможностью погреться в чистом тепле этой любви.
Сейчас на манеже можно увидеть и борзых, и мастифов, и джеков, и такс, и эрделей с чернышами, и даже атлетичных стаффордов. А тогда, много лет назад, зрителя простодушно радовали пудели, болонки, редко – скотчики (знаменитая черная Клякса клоуна Карандаша не считается) и очень часто – беспородные, но обаятельнейшие и умнейшие суржики-метисы. Такая смешанная компания была и у Алдоны. Если дрессура собак не являлась традиционной для всей династии, то в дрессировщики цирковые почти не шли. Подготовка номера «с нуля» отнимала немыслимо долгое время, выбить денег на реквизит, костюмы, кормежку, медицинские процедуры и содержание будущих артистов было сложно, негласно купить готовый номер – дорого, да и не всякий человек продаст СВОИХ собак хоть какому расчудесному чужаку. Как это – продать друзей? Но случаются и исключения.
Алдона была когда-то отличной воздушной гимнасткой. Коронный трюк – стойка копфштейн, на голове, без помощи рук, только за счет мышц и точнейшего баланса. И все это исполнялось на вращающейся рамке. Неожиданно для себя я узнала об этой чудесной женщине даже больше, чем сам директор Барский, а он всегда был в курсе прошлого и настоящего артистов своей труппы.
Моя любовь к собакам была настолько очевидной, что вся стая и сама дрессировщица поверили мне и приняли почти сразу. Когда аденовирус отступил и трое болезных окрепли настолько, что вышли из карантина, с ними уже можно было гулять. Мне тоже давали несколько поводков, и мы часами бродили по огромному ближнему пустырю за шапито. Всем составом: Алдона, ее двенадцать псов и я. Это был огромный кусок счастья: кусты, цветы, прозрачный воздух, свора скачущих вокруг собак и старенькая дворняжечка Басенька у меня на руках – она почти не ходила, а погулять старушке хотелось.
Там, на этом заброшенном футбольном поле, Алдона однажды и рассказала мне вот что:
– До тридцати пяти я работала канат, лауреатств всяких мы с мужем наполучали, премий и титулов. Он крупный был, суровый такой эстонец с почти прозрачными светлыми глазами. Долго, непозволительно долго его молчание я принимала за проявление мужественности, жестокость на репетициях – за целеустремленность, а себя – за бестолковую и бесталанную дуру. Детство в детдоме научило меня радоваться малому и ценить семейные отношения. Даже тому, что он ронял меня довольно часто и больно и сам же потом исходил матерным ором, я тут же находила оправдания.
Пока однажды на репетиции муж не выбросил[18] меня на финальном трюке особенно неудачно, мимо страховочной сетки. Настолько неудачно, что пришлось отлеживаться сутки на конюшне. Благо был выходной, и муж уехал к своей матери, которая жила неподалеку в деревне, так и не заметив моего состояния.
Я лежала в свежем сене, а рядом расположились собаки. Чужие собаки. В коллективе работала известная дрессировщица, дама позднего элегантного возраста, который предшествует откровенной старости, холодная, величественная и строгая. Псы подчинялись ей беспрекословно, номер проходил на ура. Это было крепкое партнерство, построенное на взаимном уважении – я чувствовала, что именно на уважении. Любить стареющую Снежную Королеву было сложно даже огромным собачьим сердцам. В выходные собаки гуляли по всей пустой конюшне, которая, по счастью, была большой и закрывалась – служащие запускали самых крупных псов туда (мелкота оставалась в просторных клетках) и занимались своими делами, пользуясь отсутствием в цирке руководителя номера, которая предпочитала проводить время в гостинице, а не с собаками. И вот я лежу, голова кружится, тошнит, то в жар, то в холод бросает, странная слабость накатывает волнами и будто что-то отрывается внутри, отрывается и падает… пригрелась среди разноцветных мохнатых боков и уснула. Вернее, отключилась, как потом выяснилось.
Очнулась уже в больнице. Нарушения цикла у меня были всегда, так что о беременности я и не подозревала. Ребенка хотела очень, но муж все откладывал, копил деньги на дом в Паланге, и я подчинялась. Операция прошла удачно, и оказалось, что мне невероятно повезло: те три часа, что я была без сознания, кровотечение постоянно усиливалось, и все сено подо мной промокло. Меня не нашли бы до утра, если бы рабочие в тигрятнике не услышали, как колотятся в дверь конюшни и воют псы. Все могло бы быть хуже, если бы не собаки.
Алдона улыбается и вдруг говорит, что ребеночка так до сих пор и не появилось, но это ничего, ей еще только сорок. А мне и в голову не пришло бы жалеть эту красивую, спокойную и очень доброжелательную женщину. Я просто слушаю, впитывая, кажется, даже волосами. Но не забываю почесывать кудрявую макушечку Лехе-сенбернару и гладить старушку Басеньку.
– Выписавшись из больницы, я стала пропадать на конюшне. Мои спасители сразу окружали меня, четыре замечательных пса превращались в мохнатые комки чистого восторга, я была облизана со всех сторон, почти затоптана дружественными лапами и очень счастлива. Старая дрессировщица наблюдала за нами какое-то время и однажды вдруг сама предложила купить у нее номер. Десять собак, реквизит, тумбы, кухню, форму служащих, клетки – все. Она сказала, что уверена: у меня получится. И главные псы меня уже любят. А раз любят, то помогут. Любовь ведь всегда – помощь.
Я побежала к мужу, умоляла, просила, он посмотрел на меня, как на раздавленное насекомое, и молча вышел из гримерной. Но разве такой пустяк, как отсутствие денег, мог отменить чудо, которое меня ждало? В скупку и к приятельницам, которые давно просили уступить хоть что-то из обширной коллекции бриллиантов – в них муж тоже вкладывал средства, – улетели все кольца, серьги, даже фамильная брошь бабушки мужа, и я отнесла большую часть нужной суммы старой дрессировщице. Вместе с драгоценностями вдруг исчез из моей жизни и муж, ему больше не нужна была «возомнившая о себе бесталанная идиотка». Так он выразился.
Остальную сумму удалось отдать до изумления быстро, потому что мы скоро начали работать. Собаки приняли меня сразу и абсолютно все, начиная с огромных Севы и Лехи и заканчивая крошечной Басей, которая была уже в возрасте и выбегала в манеж просто посидеть на тумбе исключительно для поддержки собачьего тонуса. Я и сейчас думаю: наверное, четверо моих спасителей как-то рассказали остальным, что я теперь – их человек и нуждаюсь в помощи и заботе. С минимальным репетиционным периодом мы выпустили номер, я даже добавила несколько новых трюков. Никто не верил, что сложившаяся стая взрослых псов станет работать с новым человеком так быстро, но они работают! Работают вот уже три года с удовольствием.
Тот день и тот пустырь были давно, очень давно, но я и сейчас отлично помню чуть медленную речь Алдоны, ее легкий акцент, нарочито правильное построение фраз и спокойную улыбку. Алдона дружила со своими собаками. Они подчинялись простому движению пальцев, а иногда и бровей – я видела это собственными глазами. Подчинялись совсем не потому, что боялись, нет. Просто очень ее любили и хотели радовать. А она любила их. Я ни разу не видела хлыста в ее руке, ни разу не слышала от собак визга боли или страха, но зато каждый день наблюдала, как Алдона разговаривает с ними. А еще своими руками множество раз выводила и выносила погреться на солнышке нескольких заслуженных разнокалиберных собачьих пенсионеров, проживающих преклонные свои года в полном довольстве, ласке и счастье – дрессировщица не избавилась от балласта в виде старых животных, они получали внимание и заботу наравне со всеми остальными.
Так о каких издевательствах над несчастными собачками может идти речь? Взаимная любовь, приязнь и партнерство, перемежающееся с игрой, – вот принципы дрессуры в цирке.
Ну, и вишенка на торт: история эта получила чудесное продолжение. Через два года я получила письмо от Алдоны. Она писала, что вышла замуж за прекрасного человека – в очередном из гастрольных городов он приехал делать прививки ее псам. Теперь все они, – Алдона, ее муж-ветеринар, его сын от прошлого брака и их годовалая дочка, – живут в большом доме где-то под Астраханью, на самом берегу Волги. И все собаки живут с ними. «У нас теперь питомник, – писала Алдона, – „Волшебные Псы“, так он называется. Не только разведение, но и подготовка собак-поводырей, детская кинологическая школа и небольшая ветлечебница. Приезжай скорее, тебе понравится. Некоторые из наших уже были в гостях».
9. Как обжираться и не поправляться
Некоторые действительно были. И потом в красках рассказывали друг другу, как замечательно все сложилось у Алдоны, ее мужа и их теперь уже общих псов. Например, Надюша Сметанина, хорошенькая, смешливая Надюша, которую я меньше всего рассчитывала когда-либо встретить, потому что во взрослой своей, нецирковой жизни почти не вспоминала ее. В том самом первом, самом главном, наверное, моем цирковом коллективе она оставалась на периферии и примечательна была только одной своей привычкой. Даже не привычкой – страстью.
Видите ли, Надя работала «ка́учук». Это не сок гевеи, нет. А номер, исполняемый артисткой, которую предварительно будто перемололи в мясорубке и в ней не осталось целых костей, не говоря уже о позвоночнике. Зато теперь она способна сесть собственной задницей себе же на затылок и укусить не только локоток, но и обратную сторону колена. Своего. Еще это называют страшным словом «конторсия», но цирковые его никогда не употребляют. Даже чопорное официальное название «пластический этюд» не употребляют. Каучук, и все тут.
Надя, маленькая, но не тощая, легкая, но не хрупкая, работала «каучук» на столе. Ну, какой там стол? Одно название. Это был крошечный круглый прозрачный столик из толстого пластика диаметром максимум шестьдесят сантиметров. И он медленно вращался, а на нем, кокетливо держа в жемчужных зубках алую розу, завязывалась в узлы разной сложности хорошенькая девушка в так называемом «голом» трико – телесного цвета тончайший гимнастический трикотаж, на отдельных местах нашиты блестки и прикреплены стразы. Все действо происходило под страстную, хриплую песнь саксофона и неизменно вызывало просто-таки бешеные аплодисменты у мужской части зрительного зала. Реакция женщин почему-то была гораздо сдержаннее.
Стоя у форганга, я иногда слышала негромкие разговоры в первых рядах красного сектора, самого ближнего к выходу на манеж и, соответственно, к нам с Давидом Вахтанговичем. Сидящие там дядечки с аппетитом обсуждали, каким именно образом Надю можно было бы загнуть и растянуть, а я чуть ли не сквозь тырсу[19] от стыда проваливалась – маленькая была еще совсем, и не уйти ведь с рабочего места, чтоб не слушать и не слышать. Просто какая-то порнография для люмпенов получалась, а не номер гимнастический – настоящей-то порнухи и видом никто не видывал, и слыхом не слыхивал.
В народе ходили смутные легенды о таинственной и недосягаемой распечатке какой-то «Кама-сутры», но ее никто никогда не видел воочию, и потому рассказы тех, кто слышал от тех, кто сам в руках держал, обрастали невероятными подробностями. А Надюша Сметанина, завязывавшая себя в узел, видимо, представлялась некоторым зрителям-мужчинам как раз сошедшей с тех вожделенных страниц иллюстрацией к камасутровым мечтам. Примерно через месячишко я перестала слышать все эти сальности, просто научилась отключать слух в нужный момент.
Эта конфетка-статуэтка, предмет восторгов провинциальных мачо, была порабощена одной банальной страстью. Нет, не курение – Надя курила, конечно, как и все цирковые женщины. И не алкоголь. Хотя она и пила тоже. Любой, видевший артистку, ни за что бы не поверил, но Сметанина обожала ЖРАТЬ. Не откусывать по кусочку от яблочка-огурчика, не клевать, как птичка, а есть, как крупный, тяжело работающий мужик.
Как в такую кроху помещалась сковородка жареной картошки со шкварками и четырьмя солеными огурцами или восемь уличных пирожков с ливером, толщиной в три пальца каждый, я ума не приложу до сих пор. Но она, родившаяся на изобильном юге Украины, обожала сам процесс еды и процесс ее приготовления. И знала толк в обоих процессах. Особенно уважала вареники, свинину, пироги и пирожки, сдобу, сало, котлеты и жареных карпов. Около двери в Наденькин вагончик была оборудована под навесом небольшая кухонька, и там все время что-то готовилось, аппетитно благоухая. Про калории тогда никто понятия не имел, никто ничего не подсчитывал, но лишнего килограмма на себе Надя допустить не могла. И не жрать не могла – страсть же. Но она придумала способ и рыбку съесть, и в шпагат сесть.
Слопав в обеденное время свою порцию впечатляющего объема, она сыто отдувалась минут десять, глазки соловели, и настоящее блаженство разливалось по ее хорошенькому личику. Потом Надюха суровела, отодвигала кастрюлю или сковородку, говорила: «Ребята, налетай, пока не остыло!» – резко подрывалась с места и с мученическим видом шла за конюшню. Блевать, пардон. Принудительно, жестоко и беспощадно. Метнет в сортир харч, прополощет рот, почистит зубы – и на манеж через пару часов. С пустым желудком, завывающим от жестокого обмана.
Конечно, вредно. Но она была молода и здорова, и все обходилось без последствий. А бедному желудку доставались пустые супчики на воде, кефирчик с сухариками да кусочек вареного мяса на завтрак – в остальное время он мог рассчитывать только на овощи, кое-какие фрукты и воду. Кроме священного времени суперсытного обеда, когда Надя с желудком шли в отрыв.
Зато вес Сметаниной никогда не превышал сорока пяти килограммов – эти магические цифры я трепетно храню в памяти столько лет, потому как сама ни разу (даже в восемнадцать лет, даже после двадцати дней в реанимации) не весила меньше пятидесяти восьми. Обычно Надя, хорошенько разогревшись на репетиции, отдыхала в тенечке так: книга в одной руке, сигаретка в другой, одна нога на земле, а вторая вытянута вертикально вверх вдоль стены вагончика – спокойно и расслабленно. В таком шпагате Наденька читала, время от времени меняя ногу.
Мы случайно встретились с ней в Севастополе спустя лет десять. Обе очень обрадовались, хорошо посидели в кабачке на набережной: болтали, смеялись, бесконечно вспоминали, и визит Нади к счастливой Алдоне тоже, съели и выпили много вкусного, ни в чем себе не отказывая. Сметанина оставила цирк, вышла замуж за моряка, родила дивного парня-богатыря, жила в Севастополе, где служил муж, и выглядела абсолютно довольной жизнью.
– А знаешь, где мы с мужем познакомились? В цирке. Не ты одна мучилась, бедняжка. Я ведь тоже на манеже слышала всю эту гнусь, что мужики смаковали. Счастье, что не на каждом представлении уроды такие попадались, в большинстве городов все-таки нормальный зритель шел. Много я тогда плакала, молоденькая дурочка, обидно было и тошно очень. И вот однажды в Виннице на первом ряду оказался совершенный скот, да еще и поддатый. Настолько осатанел, что прямо в финале номера стал орать, приглашая меня к себе домой, попутно озвучивая, что́ я должна буду сделать и какую сумму за это получу, представляешь? Пока дежурный милиционер к нему бежал, какой-то парень из второго ряда гада этого скрутил и потащил к выходу. Я успела заметить, что парень симпатичный, высокий и в форме. А после представления его ко мне в вагончик инспектор манежа привел. С цветами. Рыцарь мой оказался моряком. До конца гастролей наших и предложение сделал. Восемь лет вместе уже. Слушай, а я очень поправилась?
Переход был несколько неожиданным.
– Абсолютно такая же стройная, как тогда, Надюш! – искренне ответила я.
– Ты меня успокаиваешь, да? Я вешу уже пятьдесят пять килограммов! – Она огорченно отхлебнула ледяного пива (третий пол-литровый бокал) и положила себе еще один дивный чебурек размером с лист формата А4.
С тех давних пор я точно знаю, что габитус можно только подкорректировать и держать в узде силой воли и постоянным контролем, но перекроить невозможно. Ну, и не жрать приходится, конечно. Кто отрицает это, тот или мошенник, или невежда.
10. О традициях, штрабатах, пользе и вреде алкоголя
Выросшая с мамой и бабулей, я вообще не видела пьяных мужчин лет до шестнадцати – пока друзья-мальчишки не вошли в возраст недопесков и не принялись робко ставить на себе первые опыты с алкоголем, напрочь вылетая из реальности после одной бутылки портвейна на четверых. А когда однажды, возвращаясь с тренировки, я наткнулась в нашем дворе на мирно спящего на лавочке дяденьку из соседней пятиэтажки, то вообразила, что ему плохо, примчалась домой и попыталась вызвать скорую. Могло получиться очень неудобно, но мама вышла оказать больному первую помощь и вернулась за крепким сладким чаем, смеясь: человек просто не дошел до своего этажа, обессилел и прилег покемарить. Дядька этот, веселый слесарь с радиозавода, потом все ласково называл меня «спасительница моя» и норовил яблочко-баранку скормить. И краны нам все перечинил в квартире. А его добрая жена научила маму делать ватрушки с клубникой и вишней.
Цирк живет по особому распорядку. Все дни недели – одно представление, вечернее, в субботу – два, в воскресенье – три. Между ними идут репетиции. Понедельник – выходной. Так называемый «зеленый день». Поголовное веселье. Выпивка. Гуляют все, даже пожилые билетерши, коллеги Фиры Моисеевны, даже величественный шпрех Давид Вахтангович, даже лошади и собачки. Наши в выходной играли в преферанс на ящиках за конюшней, обустраивали цирковой городок, чинили костюмы, читали, ели всем коллективом вкуснейшую кашу, которую на костре мастерски варил в огромном котле Илья, служащий дрессировщика медведей. В этой каше было все, чем государство СССР щедро (да-да, щедро) снабжало цирковых зверей: говядина, крупы, картошка, коренья, овощи. Все отличного качества и в приличном количестве – директор Барский распорядился по понедельникам выделять из закромов провиант для общего застолья. Он и сам частенько приходил к костру и общему столу, наш Юрий Евгеньевич.
Однажды в такой выходной я увидела странную церемонию: около кустов сирени ребята выкопали несколько ямок размером с посылочный ящик и глубиной примерно в полметра, и некоторые артисты принесли и положили туда… рабочие костюмы. Те, в которых они выходили на манеж. Положили и засыпали землей. Видя мои вытаращенные глаза, Фира Моисеевна объяснила, что по древнему цирковому обычаю костюм, который пришел от времени в негодность, износился и потерял вид, не выбрасывают в помойку и не сжигают. Его закапывают во дворе цирка, выказывая таким своеобразным погребением уважение почти такое же, как и кормильцу-манежу. Закапывают обязательно днем и непременно в выходной – тогда новый костюм прослужит долго и будет удобен в носке, как вторая кожа.
Еще о выходных: так же цирковые гуляют после окончания гастролей в городе. Есть три дня, пока рабочие разбирают шапито и зрительный зал, пока грузится в фуры-длинномеры аппаратура и реквизит, пока покупаются билеты до следующего города и оформляются документы на перевозку груза и животных, пока составляются десятки разнообразных актов по сдаче и приемке земли, на которой стояло шапито, по демонтажу временных коммуникаций и линий электропередачи.
В эти дни артисты, радуясь паузе, отдыхают на полную катушку. И перед началом гастролей в другом городе тоже есть время: шапитмейстер должен согласовать с городскими службами установку купола. Для этого на место временного обитания грядущего праздника приезжают инженеры городских служб, чтобы проверить, не проходят ли под землей коммуникации или кабели – мощные стальные костыли четырех опорных мачт, на которых крепится шапито, уходят в землю почти на три метра, да и не всякая почва подходит для этого. Свет и телефонный кабель тоже надо провести к цирковому городку. Санитарную зону и душевые оборудовать, опять же. Согласования всего этого, получение техники и прочая бумажная волокита дарят цирковым еще несколько дней отдыха.
Не слишком ли много алкоголя? Фигушки. Эти люди не ящики в универсаме таскают и не бумажки в конторе перекладывают, позевывая. А колоссальный многочасовой труд, постоянный, ежедневный – ради пяти минут на манеже? А травмы, мелкие и крупные, копящиеся в организме еще с детства? А невероятное напряжение перед каждым, пусть хоть миллионным по счету, выходом в замкнутый шестидесятисантиметровым барьером круг, под прожектора, под внимательный и ожидающий взгляд публики, этого тысячеглазого Аргуса?
Сколько раз я наблюдала, как артисты стоят перед тяжелым бархатом форганга, стоят еще с нашей, закрытой ото всех стороны мира цирка. Под халатами, наброшенными на плечи, у мужчин яркие блестящие колеты и обтягивающие трико или смешные, нарочито мешковатые одежды. Сверкающие блестки и камни, невесомые юбочки и легкие плащи из цветных перьев (сколько раз я помогала красить это «пух-перо» марганцовкой, синькой, пищевыми красителями) у женщин. Кто-то обязательно быстро закуривает, делает две затяжки и бросает сигарету в стоящую тут же противопожарную бочку с песком, кто-то задумчиво крутит вокруг запястья цветную неснимаемую «заговоренную» тесемочку, кто-то непременно приносит с собой фляжку с компотом и делает единственный глоток, а кто-то декламирует стихи, как делал знаменитый воздушный гимнаст Викторас Путрюс. Это от него я услышала Киплинга и заучила наизусть прекрасное:
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?Викторас тихо читал начало баллады перед каждым выступлением. Неизменно. Не знаю, был ли выполнен ритуал в тот день.
В небольшом молдавском городке мы стояли в конце июля. Передвижка № 13, как обычно, расположилась на пустыре. На симпатичном таком пустыре, окруженном вишневыми деревьями, совсем не заброшенном, а где-то даже и уютном.
Разместились мы, наладили немножко быт, и артисты вместе с техсоставом и обслуживающим персоналом вдруг обнаружили, что попали в рай при жизни практически. Ибо прямо за конюшней появилась Бочка. Как те, что с квасом. Но с вином. С прекрасным сухим вином из местного белого винограда. По ДЕСЯТЬ копеек за стакан. Ну, то есть пятьдесят копеек литр (напоминаю, что хлеб в те древние времена стоил шестнадцать копеек за килограммовую буханку).
Добрая тетенька, начинавшая торговлю «нектаром» в девять утра, быстро сообразила, что сидит непосредственно на гибриде форта Нокс и алмазной трубки, ибо поток цирковых не иссякал вообще никогда, а перед понедельником закупки измерялись в декалитрах и приобретали промышленные масштабы. Тетка-виночерпий точно была доброй. И щедрой. Она оповестила прочих местных «держателей винных акций», всех знакомых, которые могли украсть вина на местном заводе или потрясти свои погреба, что здесь хорошо платят. Так что вскоре за шапито нашим образовался стихийный слет доморощенных молдавских сомелье – рынок вина на любой вкус. Предприимчивые местные виноделы-кустари дежурили там со своими канистрами и даже деревянными бочками, кажется, круглосуточно: кто знает, когда загорится жаждой мятущаяся душа артиста, страдающего легким тремором, а они – оппачки! – уже тут и ждут с живительной влагой.
Цирковые выпивали изрядно, да. Но только накануне выходного и во время переездов. Это если крепкое. А вот такое легонькое сухонькое винцо могли и в прочие дни себе позволить вечерком.
Так и было примерно недели две. До этого случая.
В коллективе у нас «воздуха» было аж четыре номера. Да, Барский умел добыть в труппу своего цирка лучших артистов. Работали трапеция, полет, канатоходцы и акробаты на рамке Альгимантас (Альгис) и Викторас Путрюс. Братья.
Альгис имел довольно редкую по тем временам машинку, «Жигули» седьмой модели. Гордился ею очень, ухаживал, как за дитем, но катал всех желающих и с удовольствием привозил раз в три дня Татьяне Забукене, жене дрессировщика Забукаса, с рынка парное молочко для мелкой дочки.
Однажды я видела своими глазами, как Альгис привез откуда-то моего Женьку (как потом выяснилось, пьяного до изумления и такого же веселого) и одного из молодых коверных, Сережку Смирнова. Аккуратно въехал в ворота, припарковал машину между кофрами и клеткой с медвежатами, открыл водительскую дверь и… просто вывалился из машины на траву, где и забылся мгновенно богатырским сном. То есть он прекрасно ехал в таком состоянии, а добравшись до родного прибежища, поставив машину, расслабился и только тут его нахлобучило по полной. Потому что мастерство не пропьешь – сделал дело и спи смело.
В прекрасном номере братьев Путрюс было много сложнейших трюков, а сами они несчетное количество раз становились разнообразными лауреатами. Но «корючкой», гвоздем номера, был, конечно, штрабат[20]. В финале номера стихала музыка, и только едва-едва пел саксофон, и барабанщик трогал щетками тарелки. Викторас, вольтижер, более легкий и вообще один из героев девичьих грез, на тот момент мой кумир (потому как с фигурой дивной, красивый, с длинными светлыми локонами, весь таинственный такой и немножко грустный), выходил в стойку «руки в руки» с братом на высоте в пятнадцать метров, все действие происходило на рамке, жестко закрепленной под куполом.
Выдержав эффектную паузу, артист как будто терял равновесие, начинал заваливаться из стойки и летел спиной вперед, а потом головой вниз с той высотищи аж до самого манежа. В полуметре от ковра падение останавливалось: «заряженные» брюки со штрипками скрывали легко распускающиеся петли прочного нейлонового троса. Трос крепился по обеим сторонам туловища к ремню вокруг пояса, еще были петли-обмотки вокруг щиколоток (их Викторас незаметно затягивал, стоя на рамке, снизу этого совершенно нельзя было увидеть). В финале трюка артист повисал вниз головой, чуть ли не касаясь кончиками роскошных длинных волос красного манежного ковра. Ах, как это впечатляло! Народ неизменно визжал, да и у меня обрывалось сердце каждый раз, хотя я видела номер минимум ежевечерне – на детских представлениях финальный трюк Путрюсы не показывали, чтоб не пугать ребятишек.
В тот вечер ничто не предвещало дурного. Номер шел к завершению, гимнасты отработали все трюки, вот стихла музыка, и Викторас уже начал «обрыв» спиной вперед из стойки, чтоб через секунду полететь вниз, но брат так и не разжал рук, и акробат просто повис внизу под аппаратом в захвате Альгиса, который ему кричал: «На рамку, блин, на рамку скорее!» – я же стояла у форганга, нам со шпрехом, повторюсь, оттуда все было прекрасно слышно.
Через секунду Викторас уже был на рамке, рядом с ним откинул руку в комплименте Альгис. Зрители аплодировали, потому что и без штрабата номер был очень сложный и красивый. Снова вступил оркестр, рамка опустилась вниз, и Викторас спрыгнул на ковер манежа красивым сальто с переворотом. А Альгис просто сошел с аппарата, что меня удивило, потому что обычно он придумывал очень эффектные соскоки. Рамка поднялась к люстре, номер закончился, зрители ничего не заметили. Давид Вахтангович объявил антракт, за нами сомкнулся занавес форганга, и тут мы обратили внимание на белое, как мука, лицо Альгиса.
– Дайте сигарету! – сказал в никуда абсолютно некурящий Альгис и прямо рухнул на чей-то кофр. Несколько рук потянулись с сигаретами, кто-то протянул стакан с водой.
За секунду до того как Викторас ушел бы в свой последний, смертельный штрабат, старший брат заметил, что трюковой трос не закреплен на прочной стальной рамке аппарата. Вообще никак. Кольцо, к которому он должен был крепиться, просто висело на крючке, карабин, предназначенный для того, чтобы надежно фиксировать это кольцо, болтался рядом. Викторас, поднявшись на аппарат, привычно пристегнул трос к кольцу, даже и не подумав проверить, закреплено ли оно – сотни раз все было в порядке. И он, конечно, абсолютно доверял ассистенту, в чьи обязанности входило проверять аппарат перед выступлением, полностью доверял, тот работал с Путрюсами девять лет.
Стали искать ассистента Славу, который готовил к представлению рамку, лонжи и весь обвес номера. Нашли его на конюшне, храпящим прямо на полу между тюками с сеном. Спящего мертвецким сном. Конюхи сказали, что Слава выпил какого-то легкого сухого винца за пару часов до вечернего выступления. Выпил полстаканчика всего, но его сознание, видимо, просто выключилось напрочь. Ну, он двигался, не шатался почти, но вообще ничего не соображал. Ему показалось, что он зафиксировал кольцо, как обычно. И если бы Альгис каким-то чудом не заметил, что кольцо не закреплено, его брат рухнул бы в штрабат до самого манежа. Пятнадцать метров полета головой вниз из падения спиной вперед. У Виктораса не было даже мизерного шанса выжить.
Цирковые обнимали братьев, поздравляли, радовались, второе отделение артисты отработали так, будто у каждого открылось еще одно дыхание – друг чудесным образом остался жив. Утром наши ребята пошли к продавцам, учинили дознание и выяснили, что в тот день появилась новая тетка с удивительно дешевым и вкусным сухим вином. У нее и отоварился по-быстрому злополучный и слегка прижимистый Слава.
Шпрехшталмейстер и Альгис поехали к тетке домой, и, оцепенев от ужаса, узнали, что баба добавляет в вино какие-то ягоды, названия которых и сама не знает, просто собирает их в лесу около села, где живет ее мать. Как выразилась тетка, «чтоб крепче брало». И что это вино хлещет ее муж-алкаш и тогда не буянит, а делается тихий и спит по двое суток:
– Все равно, паразит, не работает нигде, только ханку жрет, пусть уж лучше спит. Да что вы, мужчины, нормальное вино! Вон, потребитель основной дрыхнет, его, сволоча такого, кувалдой не уложишь, и морда чуть не трескается.
Оглядев спящего двухметрового богатыря весом явно за центнер, Давид Вахтангович и Альгис сразу поняли, почему субтильный Слава полностью потерял ориентацию с половины стакана. Спросили, есть ли еще? Есть, как не быть, вон стоит в сарае.
Дав испуганной бабе пять рублей, они вылили три ведерных бутыля с опасным пойлом в огород на радость или на горе помидорам и прочим кабачкам и аккуратно объяснили хозяйке, почему ей не надо появляться со своей продукцией на «винном рынке».
Очень скоро винопродавцы с пустыря и вовсе порассосались, потому что цирковые стали брать вино только накануне выходного и только у троих проверенных поставщиков.
Судьба подала всем очень недвусмысленный знак.
Но вернемся за форганг, где ожидают выхода на манеж наши артисты. Исполнив каждый свой ритуал, они сбрасывают халаты и колодки (специальные деревянные сабо, состоящие из толстой подошвы и грубой брезентовой перепонки, которые предохраняют тонкую кожу гимнастических тапочек или коротких сапожек), и с первыми тактами музыки своего номера, совершенно преображенные, свободные, легкие, собранные, невероятно красивые, вылетают на манеж, чтоб вдохнуть, впитать пьянящую, восхитительную энергию зрительного зала и отдать публике взамен волшебный концентрат мастерства, любви, риска, силы и куража.
И через несколько минут, отработав номер, выложившись до дна, до абсолютного опустошения, возвращаются за кулисы, выдыхают, расслабляя звенящие от колоссального напряжения мышцы. Однажды в Ивановском цирке я видела, как человека увезли в хирургию прямо из-за форганга: отработав номер, он свалился с острым аппендицитом, дав боли наконец прорваться изнутри. Аплодисменты – лучшая анестезия для цирковых.
Проще и легче всего восстанавливались душевные силы и спадало напряжение в дружеских попойках, так повелось издавна. Еще алкоголь помогает уснуть, когда ноют старые переломы, а спасительный сон не приходит, анальгин и баралгин не помогают, потому что уже давно выработалось привыкание, а кетанов и найз еще не изобрели.
11. О золоте, доверии и ножах
Я точно знаю, что люди цирка даже физически устроены иначе, чем живущие по другую сторону брезента шапито или стен стационарного цирка. Особенно те, кто принадлежит к Династиям: прабабушка покоряла отточенным арабеском[21] на скачущей лошади сердца высших офицеров русского царя и всяких европейских герцогов с маркизами, а правнучка крутит сальто в трехмерной призме под куполом одного из цирков империи Дю Солей, например. По-моему, у них вообще какой-то другой состав крови. Нездешний. Не такой, как у остальных людей. В этой крови гораздо больше воздуха и света.
В коллективе передвижки № 13 была только одна представительница настоящей династии – Маргарита Бакирева, руководитель номера «Акробаты на ренских колесах[22]». Артисты второй знаменитой фамилии, наездники Александровы-Серж, пробыли с нами недолго и укатили на срочные заграничные гастроли.
А Рита со своими партнерами осталась. Интересная женщина, плотно под пятьдесят, но в прекрасной форме – ни малейшего признака оплывания тела, стройные, сильные ноги, если не в манеже, то всегда в изящных туфлях-шлепанцах на каблуке, аккуратно выкрашенные блондинистые волосы, прямая спина, бугры мышц под все еще гладкой кожей (а попробуйте потаскать по манежу в течение тридцати пяти лет колесо диаметром примерно два метра, сваренное из довольно толстых труб и весьма тяжелое), блестящая самоирония – порода отчетливо чувствовалась в ней.
Риточка была очень примечательной дамой. Правнучка, внучка и дочка цирковых акробатов (о таких, как она, говорят «родилась в опилках»), в манеж вышла совсем крохой, в пятилетнем возрасте. Неоднократно побывала замужем, ради артистической карьеры отказалась от рождения детей, получила все возможные почетные звания и лауреатства, стала заслуженной артисткой почему-то Казахской Советской Социалистической Республики. Народную так и не дали – за слишком острый язык и бесстрашный сарказм.
Бакирева объездила весь мир, даже в почти недоступных тогда капиталистических странах часто гастролировала. Давно купила кооператив в Москве, но жила там раз в году во время короткого отпуска, из которого спешила досрочно вернуться в цирковой конвейер, оставляя большую пустую квартиру пылиться до следующего короткого визита хозяйки. Номер работала группа, на манеж по очереди выкатывались в тяжелых ярких колесах семь акробатов. Но они не были родственниками Маргариты, конечно.
Просто в цирке принято объявлять всех исполнителей по фамилии руководителя номера. И две семейные пары, и недавние выпускники училища, Миша и Гоша, которых Рита пригласила в свой номер, все они для зрителя были «акробаты на ренских колесах Бакиревы», а для самой Риты – «мои ребятишки». Пары, кстати, познакомились и переженились уже в процессе работы в номере, и на обеих свадьбах Рита была посаженой матерью, а в жизни часто просто матерью им всем.
Ветеран манежа, Маргарита давно перестала считать травмы. Однажды, придя на массаж к Олегу Яковлевичу, она обмолвилась, что только переломов помнит около двадцати: «Все по мелочи, рука-нога-пальцы-ребро», – но при этом сохраняла прекрасную осанку и летящую походку. Очевидно, неизбежные возрастные боли в переломанных костях, в ушибленном много раз позвоночнике и стали первопричиной ее любви к «коньяковецкому» – так панибратски Рита называла коньяк. Плоская серебряная фляжка извлекалась по десять раз на дню (особенно, если менялась погода). Маленький глоточек – и Рита продолжала репетицию. Только однажды я увидела гримасу сильной боли: Бакирева сидела на ящике из-под реквизита около своего вагончика, а я помыла морковку и несла ее медвежатам. Вокруг не было никого, Рите не нужно было «держать лицо», и на нем четко отразилась вся гамма, от «как же мне хреново» до «когда ж я уже сдохну?». А через секунду Маргарита Генриховна меня заметила. Приложила палец к губам и вымученно улыбнулась:
– Тссс, никому, ладно? Особенно Давиду, он меня в ЦИТО сватает уже лет десять. Только наш массажист в курсе, что обострение у меня. А что делать, деточка? Я не знаю другой жизни. Да и не умею ничего больше. Надо терпеть. К любой боли с годами привыкаешь. И коллектив у меня – я же шесть человек без зарплаты оставлю, если, например, в Склиф залягу надолго… Хоть и пора, наверное, а то и коньяк чего-то уже не очень помогает. Баралгин? Так не действует давно: привыкание, видимо.
Крепкая она была, сильная. А еще – щедрая, доверчивая, добрая и смешная.
На втором месте после цирка и всего, что с ним связано, в списке жизненных приоритетов у Риты было золото. В виде украшений. Вне манежа персты ея унизаны были множеством колец: старинная работа, красное, желтое и белое золото, а из камней уважала Рита только бриллианты. Она покупала кольца, браслеты и серьги во всех своих зарубежных турне, цирковые говорили, что Бакирева уже набрала пару килограммчиков драгметалла и небольшой Алмазный фонд за долгую гастрольную жизнь. Лежал весь этот клад в хронически не запирающемся вагончике Риты, в верхнем ящике роскошного кофра (тоже без замка), и об этом знали даже цирковые медведи и собачки.
В цирке не воруют. Никогда. Точнее, цирковые никогда не воруют. А случайные люди – те вполне готовы. Один такой случайный так и не понял, в какой мир попал, и решил поживиться золотишком Риты, рассудив, что если добро настолько плохо лежит, то прибрать его к рукам велит сам Локи.
Этого худосочного паренька с пронзительно синими глазами взяли на временную работу осветителем. Понятное дело, в цирке он отирался с утра до вечера. А кто бы не отирался? Я его видела и на конюшне, играющим с конюхом Серегой в секу, и в курилке за форгангом, где он регулярно менял песок в противопожарной бочке, и помогающим девочкам, служащим Алдоны, носить воду для купания собак. Безотказный этот Толик был везде. И все время ел, потому что сердобольные цирковые дамы и девицы наперебой совали ему то бутербродик, то куриную ногу, то оладушек. Не раз кормила Толика и Бакирева, в которой его худенькие плечики и тоненькие ручки разбудили, видимо, давно усыпленные тяжкой пахотой и усилиями воли материнские инстинкты. Приглашала к себе в вагончик и потчевала всяко, еще и с собой увесистые свертки давала.
– Ритка, что я вижу? Ты жаришь котлеты? А как же презрение к готовке? – орет на весь цирковой городок проходящая мимо открытой двери вагончика Фиры Моисеевны, где Бакирева арендовала электрическую плитку, иллюзионистка Леночка. И острая на язык, взрослая и довольно циничная Рита смущается и невнятно лепечет про «надо подкормить пацанчика, очень уж худой, в чем душа держится». Цирковой народ отнесся с пониманием – улыбались, но и умилялись.
Но из захудалого щенка дворняги никак не вырастить гордого ирландского волкодава. И оно бабахнуло.
Регулярно столуясь у Риты и чуть ли не живя в ее вагончике, «пацанчик», конечно же, однажды заприметил в небрежно задвинутом ящике кофра валяющиеся без присмотра сокровища. Очевидно, эта картина помутила разум несчастного заморыша, потому что задумал он кражу. Самое время – наши гастроли в том городе заканчивались, срок его работы в цирке, соответственно, тоже подходил к концу. Толян решил одним махом поправить материальное положение, пожертвовав даже своей месячной зарплатой ассистента осветителя, которую должны были выплатить после закрытия. Оно и понятно: в кофре Риты безнадзорно валялись многие и многие сотни его зарплат в золотом и бриллиантовом эквиваленте.
Он позвонил шапитмейстеру, сказал, что приболел, денек отлежится дома. И точно когда Рита с партнерами ушла разогреваться перед выходом на манеж, – а уходили они всегда в одно и то же время, которое легко было отследить по музыке из предыдущих номеров: заиграл оркестр «Марш энтузиастов», значит, Рита сейчас уйдет и десять минут будет разминаться, а потом еще восемь минут работать номер, времени масса, – Толя материализовался из воздуха за ее вагончиком, пробравшись в дырку, которую, как потом выяснилось, сам же и сделал в заборе, подпилив болгаркой железные пруты в одной из секций. Проскользнул в незапертую дверь и через минуту вышел, махом решив, как ему казалось, все свои материальные проблемы на многие годы вперед.
Именно что только казалось. Потому что не заметил помраченный алчностью Толян нашего Пашу Ланге, смуглого, кудрявого и веселого Пашку, работавшего номер «Мукбил-метатель». Правда, в узбекской сказке Мукбил метал камни из пращи, а Пашка метал ножи с большого расстояния и в разные цели, но для публики ножи, серпы и пики еще привлекательнее. Зрелищнее. Наверное, сам Дух цирка привел Ланге, уже отработавшего свой номер, к крану с питьевой водой, который был неподалеку от места преступления, метрах в трех, за кустом сирени. Пики с серпами оставались в ящике с реквизитом, а вот ножи, отличнейшие метательные ножи, блестящие, с кольцами на рукоятках, острые и как будто живые, Пашка после работы всегда уносил с собой, чтоб утром немножечко пометать их в специальную мишень, которая висела для этих целей на тополе возле его вагончика. Ножи пришлись очень кстати: досмотрев все злодейство до конца, Пашка принял вора на выходе.
Бакирева, вернувшись, застала следующую картину: бледный до зелени Толян стоял на верхней ступеньке лестницы, ведущей в вагончик, прильнув спиной к двери, практически распластавшись по ней. А точно по контуру округлившегося на харчах добрых цирковых самаритянок тельца Толяна из двери торчали, вибрируя, все шестнадцать метательных ножей Паши Ланге. Семнадцатым ножом Паша поигрывал, рыча: «Не шевелись, паскуда, замри, я ведь и промахнуться могу, сержусь и нервничаю потому как очень, рука дрогнет, и пипец тебе, гнида ты такая!» Витька Ковбой и парни из номера Риты аккуратно вынули полуживого от страха вора-неудачника из оригинальной рамки, идти он не мог – ноги подгибались. Деликатно, без малейшего насилия, Толяна занесли в вагончик, приподняли, встряхнули – и на пол вывалилась специально сшитая плотная торба, в которой звякало все бакиревское золото. Поганец не оставил своей благодетельнице даже завалященького колечка.
Ему никто не сказал ни слова. Его не сдали в ментовку. Его не били. Его даже не отвели к Барскому. В абсолютной тишине парни вынесли унизительно распластанного Толяна из домика, крепко держа за запястья и щиколотки, подтащили к открытым транспортным воротам, приподняли, раскачали и вышвырнули за территорию циркового городка. Как неодушевленный предмет. Как мешок с дерьмом.
Заслуженная артистка Маргарита Бакирева, женщина-сталь, женщина-огонь, открывавшая ногой дверь в любые важные кабинеты Главка, как десятиклассница рыдала у себя в вагончике. Я слышала ее горькие всхлипывания за дверью – и не постучала. Оробела чего-то. Рита была взрослой женщиной, а я – всего лишь девчонкой, как я могла утешить ту, что годилась мне в матери? Не придумав ничего лучшего, я побежала за Фирой Моисеевной. Чудесная пожилая фея немедленно пошла к Рите и пробыла с ней до глубокой ночи. А утром все сделали вид, будто урода этого неблагодарного, Толика, никогда и не было в нашей жизни.
Кстати, золото украшало Риточку не только извне. Оно было и внутри. В виде золотого характера и кое-чего еще. Но об этом чуть позже.
12. «Просто кусок жизни ломкой» (с)
Тот памятный переезд в очередной город совпал с днем рождения отца нашего родного, шпреха Давида Вахтанговича. Труппа передвижки № 13 ответственно и тщательно готовилась к юбилею.
Здесь следует немножко рассказать о шпрехе. Кто видел знаменитого голливудского араба, актера Омара Шарифа? Вот. Вы, собственно, видели Давида Вахтанговича, потому что сходство было поразительным. «Золото Маккены», добрый американский вестерн, перемонтированный, – ужас, там грудь женскую обнаженную показывали аж секунд пять! – и переозвученный, один из немногих, доступных тогда советскому зрителю, не так давно показали во всех кинотеатрах страны. Обаятельный красавец и гангстер-неудачник Колорадо висел в виде портрета из «Огонька» над каждым вторым девичьим столом. У моей подружки Ирки, например, разбойник Колорадо расположился на стене прямо рядом с портретом холодного прибалта Ивара Калныньша и давал, на мой взгляд, Ивару сто тыщ очков вперед.
В сентябре того же года, уже во время гастролей в Сухуме, на моих глазах две отдыхающие дамы пытались взять у нашего Вахтанговича автограф, предварительно остолбенев от восторга, очень стесняясь и сомневаясь. Как объяснить иностранцу, чего от него хотят? Языковой барьер же! Да и можно ли? И вообще, что делает капиталистический актер на советском курорте? Но искушение было сильнее, и они приблизились. Блондинка оказалась побойчее шатенки, достала блокнотик и почему-то почти шепотом обратилась к спокойно курящему трубку Давиду Вахтанговичу:
– Товарищ… ой, сэр… Мистер Шариф… Господин Омар!
На Омаре бедолага перешла на дискант. Давид Вахтангович оторвался от созерцания моря и обернулся:
– Прошу прощения, это вы мне?
Его отличный русский с легчайшим грузинским акцентом враз разрушил мечту. Дамы отпрыгнули с оскорбленными лицами и мгновенно смешались с курортной толпой. Вахтангович невозмутимо пожал плечами, убрал трубку в специальный замшевый мешочек и пошел плавать свои ежедневные три километра. Родившийся у моря, оторванный от него кочевой жизнью артиста, он очень скучал по Большой Воде и сейчас не пропускал ни единого дня, плавал в любую погоду, даже в шторм.
Наш Дава (так его ласково называл старый друг, директор Барский) был необыкновенно красив. Среднего роста, с глубоким бархатным баритоном, с густющей шевелюрой темных с проседью волос, с печальными и умными глазами мудреца, ироничный и мягкий, строгий и бесконечно добрый, сохранивший прекрасную фигуру гимнаста в свои пятьдесят пять лет, инспектор манежа вызывал всеобщее восхищение. Я любила его благодарной любовью ученицы, бесконечно уважала за профессионализм и преданность цирку, тайно жалела и восхищалась силой его духа.
Давид Вахтангович женился только один раз, что само по себе большая редкость для цирковых с их специфическим отношением к браку и образом жизни, отнюдь не способствующим витью семейных гнезд и строительству семейных же очагов. Женился довольно поздно, но зато на той, которую ждал много лет. Я слышала еще дома, как Барский однажды рассказывал маме эту прекрасную и трагическую историю, и не забыла ни единой буквы:
– Она была такая… ну, как свечка в ночи: маленькая, горячая, смуглая. Огромные черные глаза, гибкая, с низким голосом, наполовину аварка, наполовину еврейка, сумасшедшая смесь норова и терпения. Первый муж, студенческая любовь, оказался канонической сволочью, «пил, бил, гулял», а она молчала, никому не рассказывала, стыдилась. Давид ее с училища любил, а она за этого козлину почему-то пошла, промучилась с ним чуть ли не десять лет… Да ты его знаешь, Дина, – и Юрий Евгеньевич назвал фамилию артиста, которую даже я слышала из телевизора не один раз.
– Как-то они случайно в одной программе оказались, и после первого же выходного Давид Янку увидел с синяками на лице. И на следующий день увез ее к своим родителям, в Аджарию. Разразился грандиозный скандал, покинутый придурок помчался в парткомы и месткомы, к папаше своему, почти всемогущему, но Даве и Янке уже плевать было. Янка стремительно развелась, все оставила козлу тому – квартиру в Москве, что ее родители построили, дачу, все свои цацки. Давид запретил даже платья-шубы брать, заехал только за семейными фотоальбомами и за старым Янкиным псом.
Лечил потом ее от нервного расстройства долго, отогревал, к своей прабабке столетней в горы отвез на все лето, ожила Янка, снова засветилась этим волшебным тихим светом. Очень счастливые они ходили, все время за руки держались, как будто боялись расцепиться хоть на секунду… Мы все любовались и через плечо сплевывали. На манеж она не вернулась, просто ездила с Давой, ни на день не расставались, никогда. А потом и сына родила, тут уж полное счастье приключилось. Марк у них славный получился, умный, послушный, красивый, добрый мальчик, талантливый очень, сильный и бесстрашный. Как все родившиеся в опилках, с отцом на манеж с детства выходил, а в пятнадцать Давид его в номер ввел, и взлетел Марик под купол.
На окончание школы подарили ему поездку в Домбай, всей родней отправились туда. Через неделю пацаны, Марк и двоюродный брат его, девочек и какого-то парнишку из Москвы, с которыми там познакомились, решили покатать-удивить. Ключи стащили, угнали вечером «шестерку» одного из дядьев и на выезде из Домбайской долины, на слепом повороте, ушли с сорокаметровой высоты в пропасть. Пятеро детишек, никому семнадцати не исполнилось… Марк за рулем был, как потом выяснилось.
Я Давида не видел с того страшного мая года три, он на звонки не отвечал, на письма тоже. И никто из наших его не видел, Давид после похорон сына остался в своем доме в Кобулети, родители совсем плохие были, умерли вскоре один за другим, гибели внука любимого не пережили. А потом и Янка угасла. У брата Давида трое сыновей, младший с Марком в машине был. Страшное горе, но двое старших живы, есть за что зацепиться, а у Янки, потерявшей единственное дитя, совсем свет померк перед глазами. Никакого диагноза не было, только лишь тедиум вите, отвращение к жизни. Не поднималась с постели, не ела ничего и даже воду не пила. Я уж не выдержал, помчался к нему, когда узнал от кого-то из наших, но Дава даже калитку мне не открыл. Очень спокойным, мертвым совершенно голосом сказал из-за ворот: «У меня год траур будет, Юрка. Не приезжай, не надо. Я вернусь. Потом. Не волнуйся. Теперь не волнуйся, друг».
И вернулся. Седой весь, такой, как сейчас ты видишь. Напились мы с ним страшно, по-черному напились, он заплакать смог и мне все рассказал. Под купол не полез больше (иногда руки начинали дрожать крупной дрожью, чашка с кофе расплескивалась наполовину в такие минуты, и головные боли страшные появились, сдал он сильно), курсы в Москве закончил, стал одним из лучших шпрехшталмейстеров Союзгосцирка. Мы никогда больше с ним не говорили ни о Марке, ни о Яне, ни о стариках. Я в Главке договорился, что постоянным шпрехом Давид у меня в передвижке станет. Пошли навстречу, спасибо им, я получил возможность каждый вечер ходить к его вагончику ночью и прислушиваться под окном: как он там? Долго ходил, Дина, а когда Давид через пару лет впервые улыбнулся, я в одну харю надрался, как биндюжник, от радости надрался. Понял: будет жить мой друг. Так и ездим вместе с тех пор.
Они помолчали, я услышала, как в тишине щелкнула зажигалка – это Барский поднес огонь к маминой сигарете, потом как-то печально и коротко зазвенели бокалы. А потом я ушла в свою комнату, свернулась калачиком на диване и, обняв собаку, просто рухнула в вязкую взрослую тоску (позже я узнаю, что она была именно взрослой, липкой, тяжелой и беспросветной). О таком сокрушительном несчастье мне довелось услышать впервые, я была потрясена, а воображение услужливо иллюстрировало рассказ Барского, подсовывая мне картинки одну страшнее другой.
Позже, познакомившись с Давидом Вахтанговичем, я с первых минут прониклась к нему грустной и тихой любовью, ни на минуту не забывая, какой ад этот молчаливый и спокойный человек носит в душе. По возрасту он годился мне в молодые дедушки, но вел себя, как старший друг и учитель. Мне посчастливилось провести с ним рядом довольно много времени. Это он учил меня чувствовать зал, учил подавать реплики коверным, учил цирковым манерам и этикету, учил терпению и спокойствию, учил слушать и никогда не повышать голос, учил просить только в самом крайнем случае – «Мастера и Маргариту» я прочла позже, но сразу вспомнила мудрого моего грузина.
Мне случалось встречать людей, спекулирующих своими бедами, выставляющих напоказ постоянно расковыриваемые старые раны, которые давно уже стали просто поводом и основанием для вымогательства: я такой несчастный – немедленно люби меня, прощай мне все, я такая одинокая, брошенная и убогая – дай мне кусок твоей теплой жизни, она вон какая целенькая, а моя же траченая, дай мне, жалей меня, я хочу твое, я имею право на компенсацию.
Но я получила мощную прививку еще в юности и отлично усвоила, что настоящее горе всегда молчаливо. А на клоунов у меня было время насмотреться.
13. Праздник внутри праздника – о веселье и смерти
Итак, окончание гастролей в этом городе, совпавшее с днем рождения нашего любимого шпреха. А еще цирковые поздравляли друг друга с окончанием гастролей.
Кстати, вот и шибболет[23]. Только в цирке люди говорят друг другу: «С выходным!», «С началом!», «С окончанием!», «С закрытием!». И никто никогда не скажет о чем-то – «последний». Назовут заключительным. Неукоснительные правила.
Подготовка захватила всех. Канистры с вином и коньяком занимали почти все пространство курилки – нам везли спиртное прямо с завода. Любил советский народ цирк, очень любил. Любили цирк и руководители всех рангов, появлялись со чадами и домочадцами в директорской ложе регулярно и ни в чем не могли отказать цирковым артистам. А наоборот, всячески проявляли понимание. Например, директор местного мясокомбината, на котором наш Барский все время гастролей, почти полтора месяца, заказывал мясо зверям, уважил весь коллектив и персонально Давида Вахтанговича свиньей. Целую тушу крупной хавроньи привезли прямо к цирку.
Воодушевившись перспективой шашлыка по-карски в исполнении виновника торжества, наши ребята быстренько сложили два вместительных кирпичных мангала, наполнили водой и засыпали привезенным с хладокомбината льдом три корыта для помывки собак – там охлаждались бутылки со всем, включая лимонад. В коллективе было больше пятидесяти человек, организаторы хотели, чтоб никто не ушел. Вообще никак не ушел, не говоря уж о не ушел обиженным. Всяких овощей, фруктов и зелени в избытке предоставила благословенная земля юго-западной Украины, и разноцветные горы их возвышались в конюшне. А предусмотрительный Олег Таймень принес и поставил в укромном уголке ведро, закрытое крышкой, – в нем таилась фирменная травяная «похмельная» настойка каких-то таежных трав и даже, кажется, лиан. Пучки этих трав висели в вагончике массажиста повсюду, очень он уважал природные целительные свойства растений и верил в них. К концу первого сезона работы Олега в коллективе остальные, между прочим, тоже поверили.
Из всей нашей труппы спиртное вообще не употребляли пятеро. Я (по причине юности и воспитания), две раритетные билетерши – ровесницы века (по состоянию здоровья), штатный электрик Коля (зашился) и сорокалетний монтер Сева, у которого к тому времени уже были удалены две трети желудка, он свое выпил. Ну и звери не пили, конечно. Им просто никто не догадался налить.
Праздник продолжался всю ночь. Радостный, легкий, под негромкую музыку циркового оркестра – пока музыканты были еще в состоянии держать инструменты. А когда уже не смогли, то артисты принесли гитары. Пели, танцевали под аккордеон, уговорили виновника торжества: Давид Вахтангович с Барским, на русском и грузинском, очень душевно исполнили а капелла песню о Тбилиси (ее часто передавали по радио и по телевидению: «Расцветай под солнцем, Грузия моя…»). Никого не забыли угостить: лошадям отнесли праздничное меню из яблок и морковки, а некоторые из «малых сих» позаботились о себе сами. Вокруг столов вертелись собачки дрессировщицы Алдоны, быстро превращаясь от обжорства в гладкие или мохнатые шары – в зависимости от количества шерсти. Это были пожилые собачки, из тех, которые на пенсии и которым уже можно есть все. Рабочие собаки громко и выразительно вздыхали в вольерах, но свиного шашлыка им же нельзя – дали просто говядины. Возмущенно трясущей прутья клетки и призывно трубящей медведице Машке тоже обломилось – рабочие отнесли ей чуть поджаренное мясо без специй. Когда еще могли ходить, конечно.
Сидел за столом и Михалыч. Он как-то сам собой завелся у нас. Обычно после премьеры в каждом новом городе у цирковых была традиция выпивать по стакану особого пунша, который варила наша Фира Моисеевна. Необыкновенно душистый, пахнущий сразу всеми фруктами на свете, легкий, чуть терпкий, пунш назывался почему-то арагонским и варился по секретному семейному рецепту. За неимением рома Фира Моисеевна использовала армянский коньяк из неисчерпаемых запасов директора Барского.
Так вот, на вечеринке в том городе артисты допивали уже свои «премьерные» стаканы, когда Давид Вахтангович заметил пожилого человека, сидевшего на лавочке у ворот цирка, немедленно позвал его, налил темно-золотого напитка в кружку, которую человек достал из кармана потрепанного пиджака, предложил поесть с нами и тихо с ним о чем-то заговорил.
Седой человек был явно старше шпреха, держался с достоинством, говорил негромко, ел неторопливо и аккуратно. Утром я увидела его помогающим электрику, который копался в щитке. Днем он красил скамейку возле кассы, а вечером починил закапризничавший «Зингер» драгоценной моей Фиры Моисеевны и чуть разболтавшийся массажный стол Олега Тайменя. Еще через день-два всем уже казалось, что Михалыч всегда был с нами, и никто не удивился, когда Юрий Евгеньевич и ему выдал билет на поезд до следующего города на нашем маршруте. Михалыч пришел на вокзал с саквояжем, фибровым чемоданом и большим ящиком на колесах. Неподъемный ящик и чемодан загрузили с прочим багажом, а саквояж Михалыч взял с собой в вагон. В саквояже приглушенно брякало что-то металлическое. Что это были заготовки, стало понятно, когда на новой площадке установили шатер, цирковые вовсю обустраивались, а метатель ножей Пашка Ланге нашел подходящее дерево, повесил на него репетиционную свою мишень и немедленно приступил – перерыв в сутки сбивал руку, а этого Пашка позволить себе не мог. Михалыч наблюдал какое-то время за свистящими в воздухе ножами.
– Павлик, а дай-ка мне эти веретенца, – попросил он.
Паша протянул чехол с ножами, Михалыч вынул ножи из гнезд, повертел и сказал:
– На половине из них, Павлик, заточка плохая, крадет эффект. Сейчас.
Подошел к своему огромному ящику, отпер его, и оказалось, что внутри целая мастерская: наковаленка, круги, мусаты, точило, молоточки, маленькая печь и много чего еще. Так у нашего коллектива появился свой мастер ножей, кузнец, знаток любого режущего железа Михалыч, знаменитый когда-то на весь Союз оружейник и эксперт. Никто из наших не спрашивал, почему тот, о ком писали газеты, о ком сняли два документальных фильма (это мне Барский рассказал), оказался в глухой провинции и почему так легко согласился поехать с передвижкой. А сам он не распространялся на эту тему.
Михалыч постучал вилкой по тарелке, народ примолк. Мастер поднялся и протянул Давиду Вахтанговичу сверток:
– Владей, Давид. Только осторожно, прошу тебя, он может быть опасен даже для хозяина.
Давид Вахтангович развернул синюю ткань, и мы увидели нож. Нет, Нож. Я тогда ничего не понимала в клинках, но этот завораживал. Он был как застывшее движение, как кусок света, как длинный осколок узорчатой воды, как лепесток булатного цветка. Невероятно прекрасный и очень опасный, да. Михалыч поднял с земли кусок веревки толщиной примерно в два пальца (такими увязывали в тюки сено для лошадей и ослика Яшки), подбросил в воздух. Давид Вахтангович просто подставил клинок – и на землю упали два куска веревки.
Позже, все в том же Сухуме, друг и двоюродный брат, директор ликероводочного завода Гурам Гвазава предлагал Давиду Вахтанговичу за этот нож три золотых червонца времен Александра Третьего, но шпрех от обмена отказался.
– Почему, дзмао[24], дорогой? Этих денег на хороший кусок старости тебе хватит! – горячился темпераментный грузин. Давид Вахтангович помолчал и негромко сказал:
– У меня с жизнью с некоторых пор заключен договор, Гурам. Следуя ему, я не забочусь о будущем, потому что это бессмысленно. Мне важно, как я прожил свой сегодняшний день, утром предполагая, что он может быть последним.
Самое лучшее в цирковых междусобойчиках – это, конечно, разговоры. Анекдоты, рассказы о старом цирке, о знаменитых артистах, смешные байки и даже легенды. Как во всяком довольно закрытом сообществе, здесь свои понятия о хорошем и плохом, о вечном и преходящем. И они несколько отличаются от общепринятых, потому что в цирке работают совершенно другие правила. В ту ночь пожилой тренер-берейтор[25] Аслан Викторович, бывший жокей, очень известный в прошлом наездник-универсал, работавший во всех знаменитых конных аттракционах Союзгосцирка, рассказал неоднозначную и невероятную историю о Дарующей Покой. Я много раз ее пересказывала, хорошо помню и сейчас:
– Мой учитель был черкесом. Адыгом, если уж точно. Родом из горного аула, с трех лет сидел в седле. Лошадей понимал с одного взгляда, любил их беззаветно, разговаривать с ними умел. Не помню, чтоб он хоть раз лошадь ударил, да и кони его берегли – один перелом всего и был у него. Мыслимое ли дело для того, кто всю жизнь в седле провел? Обычно у конников травма на травме, потому что лошадь – большое и пугливое животное. Когда мы на «Мосфильме» каскадерами подрабатывали, учитель познакомил меня с Ирбеком Кантемировым[26]. Через полгода я уже под брюхом скачущей лошади у них в аттракционе пролезал, любой вольтиж[27] в намете легко выполнял. Да и вообще, после работы у Ирбека тебя в лучший конный номер с руками отрывали, как Знак качества эта запись в трудовой книжке была.
Работали мы тогда в одном из стационарных южных цирков. Как сейчас помню, в последнюю субботу гастролей это случилось. На вечернем представлении в первом ряду сидело семейство с ребенком лет четырех. Наш аттракцион большой, лошадей много, нужно ковер убирать перед номером, а то хватит на десяток выступлений, и все – подковы изорвут его в клочья. Шпрех опытный в том стационаре был, ставил номер всегда во второе отделение, чтоб униформа в антракте могла манеж подготовить, ковер снять.
Дите в первом ряду к концу представления утомилось, уже не знало, куда себя деть, и развлекалось тем, что достало откуда-то большущий воздушный шар и начало размахивать им – я, когда манеж проверять вышел, это сразу заметил и подумал еще, что контролеры в зале невнимательны, нельзя такое допускать при работе животных. Ладно, думаю, не буду женщин подставлять, они все пожилые уже, квартальной премии махом лишат, а это треть зарплаты все-таки. Обойдется авось, думаю. Тем более, что самые молодые лошади у нас в шорах скачут, движение шарика их не отвлечет, а опытным коням все до фени, они только наездников видят и слышат во время работы… Но не обошлось.
В финале номера мой друг Мишка на приличной скорости делал очень сложный трюк: двойное сальто с поворотом со спины лошади с приходом на круп другой лошади, скачущей сзади без седла. И вот когда Мишка в воздухе докручивал второе сальто, гадский ребенок свой шарик и лопнул. Музыка, привычная лошадям, как раз в этот момент прекратилась, только легкая барабанная дробь подчеркивала сложность трюка. Практически в тишине хлопок получился громким, как выстрел, и бабахнуло прямо перед мордой молодой лошади, на которую должен был прийти Миха. Лошадь шарахнулась вбок, Мишка с высоты прыжка пришел ногами в пустоту, перевернулся в воздухе, упал навзничь и отрубился, а через секунду на него завалилась идущая третьей кобыла. Опытная была, в сторону хотела отскочить, но неудачно грохнулась ногами о барьер и упала прямо на лежащего человека. Я свою лошадь, что следующей шла, успел рывком в центр манежа послать. Самые экзальтированные зрители орут, по манежу носятся испуганные лошади, кобыла пытается встать, катается по Мишке, но не может подняться – ногу, похоже, повредила, мы стараемся поднять ее, из-за кулис бежит цирковой врач, артисты на манеж повыскакивали… Кошмар, в общем.
Представление мгновенно прервали, народ с пониманием, тихо разошелся (родители и чадо из первого ряда исчезли сразу, как будто поняли, что будут к ним вопросы и всякие другие, менее хорошие, слова), вызвали бригаду скорой. Перевернули Мишу осторожно, а он белый весь, много крови под ним почему-то. И в сознание не приходит. В общем, приехавшие доктор с фельдшером переглянулись, сказали, что не повезут такого, и вызвали бригаду из горбольницы. Те примчались очень быстро, осмотрели: возможный перелом позвоночника со смещением, перелом грудины, переломы ребер, руки, открытый перелом бедра. Судя по неестественному положению таза, он тоже сломан – кобыла больше полутонны весит да еще и повалялась по Мишке, пытаясь встать. «Прогноз совсем хреновый, – матерится доктор, – позвоночнику хана и, может, не в одном месте, вот что самое страшное. На этом фоне потроха угробленные, кровотечение и все остальные травмы уже особого значения не имеют. Потому что ближайшая серьезная больница у нас в столице края, а это почти триста километров по горам».
– В городской богадельне не дотянет он до утра, бедный парень, нет там оборудования такого, всех серьезных больных в край возим, – чуть не плачет пожилой доктор и пытается найти на бледной Мишкиной руке вену. Не находит и колет в плечо, в бедро – колет то, что есть в его небогатом чемоданчике.
Притащили снятую с петель дверь гримерки, переложили на нее Мишку. Доктор опять укол сделал. Тут Мишка глаза открыл и прямо на меня посмотрел – я как раз под голову ему свою рубашку пристраивал. А в глазах такая мука, что у меня чуть зубы не раскрошились. Я и сейчас уверен, что он сразу все про себя и про перспективы свои понял каким-то образом.
– Не хочу таким, не надо, больно… пожалуйста, – шепчет, а я ничем помочь ему не могу, только губы от бессилия кусаю. Доктора в сторону отошли, совещаются, шепотом орут друг на друга, решают все-таки везти в горбольницу. А у Мишки уже темная кровь изо рта потекла.
И тут все как-то притихли. Я голову поднимаю – сквозь толпу артистов пробирается пожилая женщина. Вроде, билетером на входе работала, я ее в фойе, кажется, видел пару раз, но не уверен. Тихим голосом просит всех отойти, мы почему-то послушно расступаемся, даже старый доктор с кряхтением поднимается и отходит к коллегам, а она неожиданно легко для своих лет и седин присаживается на корточки возле Мишки. Кровь платочком у него с лица вытирает, кладет руки ему на голову и закрывает глаза. Минуту сидит неподвижно, вторую – мы стоим вокруг, тишина такая, что слышно, как за форгангом кто-то из девочек негромко плачет. Женщина говорит что-то вроде «вот так… он больше не страдает», ей помогают подняться, и она отходит в сторону. А Мишка лежит и улыбается, да так хорошо, спокойно.
Доктора подошли.
– Давайте, берем вместе с дверью, мужики, осторожно. Подождите! Не надо, он не дышит, пульса нет. Все.
Алан Викторович закуривает, народ потрясенно молчит. Потом кто-то из молодых тихо спрашивает:
– Она его убила??
Старый берейтор подбрасывает в костер еще полешков и ничего не отвечает. Рита Бакирева подставляет стакан под темную струю коньяка:
– Не говори так, это неправильно и несправедливо. Она даровала мальчику покой. Мальчик не пережил бы эту ночь все равно, но терпел бы муки, которых не заслужил. Я тоже слышала о ней, о Дарующей Покой. Мой третий муж видел ее, когда в N-ском цирке воздушный гимнаст Бартеньев во время вращения выронил из зубника[28] свою жену – челюсть ему плохо сделали, не удержал. Двенадцать метров Тася пролетела и упала на кресла в зал, переломалась вся, но в сознании была, ее трогать боялись, очень кричала, бедная. Женщина с седыми волосами точно так же вышла из толпы артистов, сгрудившихся вокруг лежащей, и взяла ее за руку. Скорая долго ехала, зима была, заносы, так что доктора уже только смерть констатировали. Тасю Бартеньеву потом вскрывали, семья настояла – повреждения оказались несовместимы с жизнью. Дарующая Покой появляется только в том случае, если у артиста смертельные травмы, если нет ни единого шанса. И только чтоб облегчить ему последние часы, превратив их в минуты. И это – несомненное благо. Выпьем же за ее руки.
Все пьют не чокаясь, я тоже выпиваю свой лимонад и пододвигаюсь к костру: мне кажется, что хрупкая женщина с белоснежными волосами стоит у технического входа в конюшню, там, где горит дежурный фонарь. Чудится, что она улыбается, но все равно делается как-то зябко. Впрочем, воображение у меня всегда было богатым. Только немножко странно, что и Сашка Якубов пристально вглядывается в тени у конюшни, и Давид Вахтангович смотрит в ту же сторону…
Какое-то время веселая толпа цирковых задумчиво молчит, но тут одна из собачонок, окончательно обнаглев, прыгает на колени кому-то из сидящих около стола, а оттуда непосредственно на стол и вцепляется в здоровенный кус мяса размером с нее саму. Все хохочут, обстановка мгновенно разряжается – цирковые не грустят долго. Это неконструктивно. Кто знает, может, завтра Дарующая Покой придет помочь кому-то из них?
Веселье продолжилось, как будто и не было мистического рассказа – у наших простое и ясное отношение ко многому, что вне цирка выглядит трагично. Риск включен в контракт, и все отлично помнят об этом.
Под финал той мощной двойной гулямбы наш цирковой городок выглядел натуральной иллюстрацией к цитате «о, поле-поле, кто тебя усеял мертвыми костями?». Некоторые особо уставшие где попадали, там и забылись счастливым сном. В живописных позах. А чего? До начала работы еще целых три дня, можно расслабиться.
Утром, лавируя между павшими в нелегкой борьбе с зеленым змием, я сходила к вагончику директора Барского – было немного тревожно за пожилых джентльменов, погулявших с полной отдачей. Когда мы с Фирой Моисеевной покидали празднество, обычно очень сдержанный доблестный виновник торжества, демонстрируя многогранность своих талантов, как раз собирался сорваться в огненный танец и до основ потрясти разогретый коллектив настоящей грузинской лезгинкой. А друг Барский, седой, вальяжный и хромой, отбросив трость и словно забыв об искалеченной ноге, намеревался Давиду Вахтанговичу в этом помочь. Мощный храп дуэтом, гремящий из «квартиры» директора, меня успокоил: друзья, видимо, продолжили вечеринку у Барского в вагончике, да там и полегли, сраженные эмоциями и коньяком.
Все еще печальная от горького разочарования в ничтожном Толяне, наша Рита в течение всей праздничной ночи старательно и вдумчиво снимала стресс. И весьма преуспела, надо сказать. А мне случайно довелось убедиться: золото украшало Бакиреву не только извне. Оно было и внутри. В виде зубов. В то время «статусные» зубы почему-то делали из золота. Мосты, коронки – все было красиво, богато, все блестело и матово светилось. У Риты из благородного металла была построена практически вся нижняя челюсть. Вставная. Точно знаю, потому что сама держала ее в руках.
Проведав спящих директора и именинника, я собралась было пойти поспать еще немножечко, но увидела странное: около ступенек своего вагончика в легком утреннем тумане изящно ползала на карачках заслуженная артистка Маргарита Бакирева. И шарила рукой под ступеньками и около. Да и в лице ее что-то изменилось. Щеки как-то трагически ввалились, что ли? Переживает все, бедная… Я наклонилась:
– Что вы там делаете, Рита? Вам плохо? Принести водички? Может, компотику? Пива?
– Хошошо се, шубы тателяла тока, тлять…
Шубы? Какие шубы?? Лето же. Конец июля. Но с третьей попытки я поняла. Закусив губу и трясясь от напряжения, чтоб непочтительно не расхохотаться, принялась ползать рядом в траве, постепенно расширяя ареал поиска, а сзади жалобно причмокивали:
– Тлять, йоптьютюмать… тлять…
Вскоре я ее нашла. Драгоценная запчасть смирно лежала среди кустиков календулы в нескольких метрах от первоначального района поисков. Впрочем, Рита в том состоянии (похмелье – штука тонкая) не заметила бы и челюсть тираннозавра, не то что свою. Да чего там челюсть, она и самого тираннозавра не заметила бы. Находка была ополоснута коньяком, водворена на законное место – и воцарилась гармония. А я за розыскные способности, зоркий глаз и последующую сдержанную молчаливость была премирована Маргаритой Генриховной ценным подарком. Старинное кольцо красного золота в виде двух целующихся собачьих голов долго было моим талисманом, пока волны жизни не смыли его с моего пальца.
И мне, до того дня вообще ни разу не видевшей пьяной тетки, почему-то даже в голову не пришло со всем юношеским максимализмом осудить немолодую уже и не очень здоровую женщину за невоздержанность в возлияниях. Все происходящее с Ритой ощущалось органичным и правильным. Человек имеет полное право жить свою жизнь так, как считает нужным, в аскезе или разгульно, если это не приносит никому беды.
А на следующий день появился он.
14. Мой печальный великан
Надо сказать, что мой наставник Ковбой и Сашка Чингачгук в манеж не выходили ни разу в течение почти полутора месяцев после того, как прибыли в коллектив. Они подрабатывали «разовыми» на страховке у других артистов, получали немножко по одной на двоих ставке ночного сторожа, Госцирк платил им денежку за вынужденный простой – хватало двум холостякам. Но основным их занятием было ожидание. Витька и Сашка ждали своего руководителя номера. Их «нижнего», на котором все и держалось, причем в прямом смысле – именно он держал перши и лестницы на своих плечах.
Взахлеб рассказывали мне о нем, о его силе и доброте, «о судьбе, похожей на сказку»: аж два «Золотых клоуна» подряд – первые места в разных номинациях на международном цирковом фестивале в Монте-Карло, две победы на самой престижной цирковой тусовке мира, с номером, который он сам придумал, сам поставил, сам подготовил. Беспрецедентный в истории советского цирка случай: победил никому не известный молодой акробат, не сын, не брат и не другой какой родственник важным дядям и тетям из Союзгосцирка. Подошел по анкетным данным, кто-то из вершителей судеб в Главке слышал, что номер приличный, пристегнули к советской делегации наспех, только чтобы количество заявленных артистов совпало во всех списках, взят был вместо давно запланированного и утвержденного во всех инстанциях «золотого мальчика» из знаменитой цирковой фамилии, который весьма некстати сломал ногу.
Чиновники даже не предполагали, насколько хорош номер. У парня оказался сокрушительный талант: огромный зал знаменитого Шапито Монте-Карло, избалованный работой лучших цирковых артистов мира, аплодируя, встал в финале номера – молодому дебютанту пришлось трижды выходить на бис-поклон. Вместе с залом со своих мест поднялись и члены международного жюри. Акробат взял первое место и тут же получил приглашения от нескольких престижных зарубежных цирков. Ни одного не принял – ха, попробовал бы он! Всемогущий КГБ ни на секунду не смыкал бдительных очей, никто никуда талантливого лауреата не выпустил бы, ни в какую капиталистическую, чуждую нам заграницу. А через три года артист снова (уже по персональному приглашению оргкомитета) приехал в Монако. И снова увез «Золотого клоуна». Я слушала Сашку и Витьку и замирала от восторга в предвкушении встречи. Правда, сильно робела заранее.
Имел место и практический расчет: Ковбой продолжал терзать меня на репетициях, а я малодушно и страстно желала, чтоб этот таинственный руководитель номера, «супер-нижний» по имени Володя, уже приехал бы, долгожданный наш, и запряг бы наконец своих в работу. И может, тогда собственные репетиции и непосредственно выступления отвлекут Витьку-садиста от моих несчастных, только-только заживших рук и от многострадальных ног с почти выломанным как надо подъемом.
В тот послепраздничный день ничто не предвещало счастья. Народ отдыхал от веселья, я работала с шариками и кольцами на песчаной полянке слева от конюшни, Витька и Саша поочередно бесконечно подтягивались и крутили «солнце»[29] на турнике, который рукастый Чингачгук сам сделал из двух обрезков дециметровой трубы и грифа старой штанги крафт-жонглера[30] Васи Клосса. Ковбой проделывал упражнения, не выпуская меня из вида, и, даже вися вниз головой, продолжал шпынять беспрестанно. «Косорукая панда» – таким было мое второе имя тем замечательным утром.
Закусив удила, я пылила по полянке, пытаясь сделать «каскад» из пяти мячиков, выбросив их ровненьким кругом, и, бесконечно собирая проклятый реквизит с земли, пропустила момент появления – нет, даже, пожалуй, явления Володи Агеева. Но зато я его почуяла. Терпкий, горьковатый аромат замечательного парфюма поплыл над полянкой – из-за горы реквизитных ящиков и пирамиды пустых клеток выходил Великан.
До того дня я не видела таких крупных мужчин. Не то чтобы вокруг мельтешили сплошь карлы – мне, в которой немногим больше полутора метров, любой среднерослый казался высоким, – но человек, вышедший из-за груды хлама, был загорелый, очень высокий и очень широкоплечий, с густой гривой темных, но уже с изрядной сединой волос, с тонкой для такой махины талией, в светлых брюках и в рубашке-апаш цвета топленого молока. И этот классный запах легким облачком витал вокруг него.
– Лютуешь, Витенька? Жертву себе безответную нашел, да? Ребенка тиранишь? – пророкотал низкий грассирующий баритон, и человек шагнул к нам.
Как позже выяснилось, шагнул он прямиком в мою жизнь, чтоб остаться в ней на пять таких коротких и таких бесконечно счастливых лет.
Да, Володя Агеев в номере был нижним – тем, кто стоит внизу, на манеже, под першом или лестницей. Перш он держал на лбу, на плечах и на ступнях ног, ложась на спину в специальную подставку – подушку, тринку[31]. Кроме почти восьмиметрового перша, Володя балансировал и длиннющие лестницы, на которых работало по три человека, и малый гибкий шест с петлей, что опасно изгибался дугой под тяжестью Сашки Якубова, бешено вращавшегося вокруг перша и вокруг своей оси в зубнике – этот трюк неизменно срывал овации у зрителя.
Совокупный вес лестницы и трех гимнастов, работающих на ней, доходил до двухсот килограммов. Со всем этим нужно поймать баланс, нужно постоянно подбегать под работающих наверху партнеров, нужно ежесекундно контролировать амплитуду аппарата. Володя за несколько минут номера худел на полкило стабильно. Его серебристый колет[32] промокал насквозь, до блесток и камней, а лицо еще какое-то время оставалось напряженно-багровым – я же всегда первой видела их лица, когда ребята разворачивались после комплимента, чтобы вбежать за занавес. И несколько лет назад, как я потом узнала, из его ног уже вытащили куски вен, отказавшихся работать в таких условиях. Благо, шрамов было не видно – артисты работают в особых трико, похожих на очень плотные колготки.
Он был такой красивый… хоть и пожилой, конечно – незадолго до нашей встречи Агееву исполнилось целых тридцать шесть лет. Выросшая без отца, я радостно назначила Володю папой. Нет, не так – Папой. И он не возражал. И не подвел ни разу.
Наконец-то появился тот, кому по-настоящему было небезразлично мое цирковое будущее. Володя как-то незаметно встал рядом, и уже через неделю я, что называется, почувствовала разницу: Ковбой, гад такой, перестал орать матерно, а только огорченно всплескивал руками при очередном моем киксе[33], а шарики, булавы и кольца не так больно стучали по мозолям на ладонях. И теперь уже Володя, а не старый клоун и дражайшая Фира Моисеевна мазал очередным пахучим снадобьем мои руки – у многих артистов в кофрах были индивидуально составленные аптечки, рецепты растирок и мазей передавались из поколения в поколение, и снадобья эти оказывались куда более действенными, чем небогатый ассортимент государственных аптек. Кстати, этой же мазью Агеев лечил и распоротый бок медвежонка Гошки в тот день, когда внезапно обезумевшая огромная бурая Машка попыталась затащить малыша к себе в клетку. Рана закрылась буквально через несколько дней.
Не сводя, фигурально выражаясь, восторженного взгляда с Агеева, счастливая от искреннего внимания настоящего большого артиста, я делала успехи. Запястья выворачивались правильным образом – за несколько репетиций Агеев «поставил руку», сообразуясь с моей персональной анатомией. В стойке я как-то незаметно перестала заваливаться назад – имея за плечами пятнадцатилетний опыт артиста-универсала (это тот, кто может работать в разных цирковых жанрах), он научил, как бороться с «переключенными» локтями, которые были моим кошмаром еще с цирковой студии… Ну много еще всего сразу стало получаться у меня в трудной цирковой пахоте. И он обещал подумать, к кому из знакомых жонглеров меня можно будет ввести в номер. «Через годик попробуем», – так он сказал.
Спокойный, немногословный, иронично-мудрый, очень эрудированный, с лучистыми карими глазами, умеющий заразительно хохотать, играть на саксофоне, фортепиано и гитаре, вязать на спицах смешные полосатые носочки, варить и железо, и дивный суп из чего угодно, щедрый и добрый, подвижный и мощный, как очень интеллигентный крупный лев, он стал моим лучшим другом, оставаясь им и потом, вне цирка, когда я вынуждена была уехать домой.
Едва прибыв в коллектив, Агеев мгновенно стал всеобщим любимцем. Директор Барский немедленно выделил Володе в персональное пользование новый вагончик целиком, чем вызвал приступ ярости у некого известного в узких кругах артиста, который был сослан из столиц в нашу передвижку за неумеренное пристрастие к сплетням и кляузам, но все свои столичные фанаберии прихватил с собой и претендовал на отдельное жилье в цирковом городке, не довольствуясь гостиничным номером. А Олег Таймень, наш малообщительный сибиряк, буквально через неделю сам предложил Володе ежевечерний массаж. Это было так же необычно, как если бы на конюшне заговорил белый ослик Яшка: все артисты труппы записывались к Олегу сильно заранее, он никогда не брал на стол больше трех страждущих в сутки. И сеансы массажа всегда проходили исключительно в тайменевском вагончике, но для Агеева Олег сделал исключение и «работал» его прямо на полу Володиного жилища – стандартный массажный стол был коротковат великану.
А еще я с изумлением отметила, что цирковые дамы теперь даже в курилке сидели исключительно с томными выражениями лиц, изящно изогнув тонкие спинки и трогательно вытянув шейки. Многие покачивали ножками, обутыми не в раздолбанные репетиционные чешки и не в удобные шлепки (не говоря уже о любимых всеми цирковыми «колодках»), а в туфельки на каблучке.
Куда-то исчезли растянутые треники, старые трико и мужские рубашки, в которых так удобно жить – вместо них появились очаровательные халатики и сарафаны, состоящие из одних декольте и бретелек, умело подчеркивающие талию и все остальное. Гимнастка Ирка Романова, вполне счастливая в недавнем браке с симпатичным молодым клоуном Юрой, когда я пристала к ней с вопросами и сомнениями, объяснила мне, соплюхе и полной лохушке в женских делах, что незамужние и разведенные цирковые девушки вышли на Большую Охоту: Володя Агеев потому и задержался на два месяца, что очень тяжело разводился в Москве. Но все-таки развелся, а значит, моментально стал ценным призом, за который стоило побороться.
– Я сама чуть было не поддалась инстинкту и не достала из закромов самую убойную мини-юбку – ну до чего ж годный мужик-то! Но вовремя вспомнила, что я замужем теперь, – смеялась Ирка.
Вездесущая Рита Бакирева, знавшая Агеева еще выпускником училища, к которой я тоже сунулась с вопросом «а чего они все?», помолчала, поморщилась как-то брезгливо, а потом все-таки рассказала мне о жене Володи, дочери дипломата, с которой он познакомился после второго своего лауреатства:
– Ну, может, и пригодится тебе в будущей жизни, детка, эта история. В качестве подтверждения мудрости пословицы про коня и трепетную лань. Причем лань – не всегда то, что выглядит ланью. Володька тогда работал только в больших стационарных цирках, никаких передвижек и в глаза не видел – звезда же. Мы с ним в одной программе на Цветном были, я прекрасно помню, как эта су… эта красотка за кулисы после представления приперлась, огромный букет темных роз приволокла и пару бутылок коньячины французского тоже не забыла прихватить. Подсела к нам в курилке, издалека разговор затеяла, цветочки девкам раздала, восхищение выразила, потом из сумки стаканы добыла, всем налила. Мы ж не знали, кто она – чего не выпить с хорошим человеком, который еще и приятные слова говорит? Потом еще несколько раз приходила, опять сидела с нашими в курилке, журналисткой представилась, материал для статьи в «Литературке» собирающей.
Попросила «со знаменитым Агеевым» познакомить. Сбегали за ним, конечно. Ну, и завертелось. Красивая она девка была, холеная такая. И наглая очень. Прилипла к парню намертво, еще с полгода каталась за ним по всему Союзу, пока не дотащила как-то до ЗАГСа. А после свадьбы быстро переменилась, в цирк больше ни ногой, даже на премьеры, он один всегда на гастроли ездил, жена никогда не приезжала к нему. Володька детей всегда любил, квартиру в Москве купил кооперативную, на Полянке, огромную такую хату, чтоб места много будущим ребятишкам было, но жена морщилась от самого слова «дети» и говорила, что им надо пожить для себя.
…И я представляла себе, как в далекой Москве эта дура (а она, конечно, дура, потому что какая женщина, находясь в здравом уме, захотела бы расстаться с таким чудесным Агеевым хоть на несколько дней?) сидит на какой-то там полянке (я ж не знала, что Полянка – это название улицы), потому что ездить с мужем на гастроли ей не пристало. Что делать дочери дипломата, которая понятия не имела, что картошка и редиска в полях не прямо в сетках растут, а вода в кранах не всегда бывает горячей, в искреннем, простом и пестром мире циркового конвейера? Такую фифу и матом запросто приложить могут, если выпросит. А она бы у всех выпрашивала, судя по тому, что я услышала, и прилетало бы ей регулярно.
– Жена все время предлагала Володьке уехать из Союза, обещала, что папаша поспособствует всяко, возьмут в зарубежный коллектив на большие деньги – лауреат же. Он отказался. Потом тесть предложил оставить цирк совсем и перейти в Главк на кабинетную работу, начальником стать – Вовка и его послал по обидному адресу. Так и жили: он на гастролях двенадцать месяцев в году, она в Москве. Женушка по ресторанам расхаживала, а Володька работал без отпусков первые годы и ей две трети зарплаты отсылал ежемесячно, чтоб в «Арагви» да «Метрополе» ужинать каждый день могла.
Потом вот уже и тридцатничек замаячил у дамы на горизонте, да и папа ее внуков пожелал – родила она дочечку, я на крестинах была. Счастливый папаша Агеев летал отовсюду в Москву на сутки-двое, чтоб видеть воочию, как растет Анечка, а мы все ей вещички из заграниц таскали… Только однажды овца эта, мамаша, мать бы ее так-разэтак, заботливая и любящая, вернулась ночью с очередной вечеринки крепко поддатая и сильно не в духе, придралась к чему-то и выгнала вон няньку девочки. Потом прилегла с устатку в будуаре своем да и уснула, а трехлетняя малышка утром выбралась из кроватки и вышла на открытый балкон гостиной. Там ящики лежали какие-то, девочка вскарабкалась на них… В общем, упал ребенок с четвертого этажа «сталинки». Слава Единому, в клумбу угодила, кусты и ветки спружинили. Жива осталась, только спинку повредила, ножки с тех пор не ходят.
Мамаша, дрянь такая, продолжала дрыхнуть, и глаза продрала только от грохота, когда малышку в больницу увезли, а соседи и менты входную дверь железную начали выносить, потому что решили: с матерью что-то страшное случилось, раз не углядела. Володька примчался в Москву на следующий день – ребенок в реанимации в Филатовской, а супружница, тля, срочно в клинику неврозов залегла, в Кащенку, в закрытое отделение, под охрану. Нервный срыв якобы и глубокая депрессия. Только вранье это все. Боялась, гадина, с мужем встретиться, в глаза ему посмотреть и на вопросы неприятные ответить, в дурку спряталась. Так мне рассказывали, детка, непосредственные свидетели.
Рита закуривает следующую и делает глоточек из заветной фляжечки:
– После несчастья с малышкой Володька с этой тварью и не виделся больше ни разу. Общались только через секретаршу тестя-дипломата. Еще почти четыре года Агеев добивался официального опекунства над дочкой, мать-то, кукушка, очень быстро куда-то за кордон укатила нервы лечить, бросила дочку. А зачем ей ребенок-инвалид? Малышка жила у Володиной матери, но Агеев никак не мог документы оформить, не давала разрешения бывшая и все грозилась из страны малышку увезти. Вот сейчас только добился. И развода, и полного опекунства над дочкой-инвалидом. Правда, новенькую «Волгу» свою и квартиру ту проклятую отдал дряни в качестве отступного, да и хрен бы с ними, этот «счастливый брак» вспоминать – и то мерзко.
И опять я плакала, уткнувшись в плечо Фиры Моисеевны, представляя себе моего несчастного доброго Великана рядом с маленькой девочкой, которая не может ходить. А он нашел меня, сел рядом, вздохнул, погладил по голове:
– Ничего, детка, все хорошо же. Мы всех победим. Ты верь мне.
– Ты ему верь, девочка. Эти победят, – кивнула Фира Моисеевна.
В общем, после своей семейной истории Агеев получил мощную прививку от желания сочетаться с кем-нибудь брачными узами, а наши красавицы категорически обломались с матримониальными намерениями: он был галантен, шутил, рассказывал анекдоты, охотно помогал с реквизитом, произносил тосты «за прекрасных дам» и держал всем желающим красоткам лонжу на репетициях, мог легко чмокнуть в игриво подставленную душистую щечку, но ночевал всегда в своем вагончике и исключительно один. Я за ним следила, поэтому абсолютно точно знаю. И мне не стыдно совершенно, потому что о папе надо заботиться и оберегать его всячески.
Простые нравы цирка вполне допускали открытые предложения вроде «я привлекательна, вы чертовски привлекательны, пошли на сеновал, чего зря время терять?», и я уверена, что не одна дама прямо так и обозначила свои намерения. Обломались все. Но Володя ухитрялся обосновывать отказы соискательницам таким образом, что не было ни оскорбленных и пытающихся отомстить отвергнутых, ни оголтелых и не видящих краев претенденток. Вскоре наши неглупые дамы поняли тщетность попыток, с облегчением влезли опять в треники и в удобные шлепки – все вернулось на круги своя. На дружественные своя круги.
А еще после того рассказа Риты я старалась всегда быть рядом, когда Володя начинал пить. Примерно раз в месяц мы с Фирой Моисеевной становились Агееву нянькой и сиделкой. Первый стакан водки он выпивал в обед. А когда смеркалось, я тащила к месту, где на тот момент величественно возлежало тело поверженного льва, трехлитровую банку томатного сока, молотый перец, сырые яйца, специи и какие-то специальные душистые травы из запасов массажиста Тайменя, смешивала в определенных пропорциях ингредиенты и отпаивала моего друга-отца, проигравшего очередной раунд сражения со своими демонами. Потом Фира Моисеевна приносила крепчайший горячий бульон и аспирин с активированным углем (по таблетке угля на каждые десять килограммов веса реанимируемого тела) – завтра вечером работать, и надо быть в форме. Этот «коктейль имени Агеева» выводил человека (любого, проверено) из пьяного забытья за пару часов. А при повторном приеме наутро не оставлял даже следа от самого страшного похмелья. В Володином случае это было похмелье после примерно двух литров водки, выпитых за шесть – восемь часов.
Забегая вперед, скажу, что мы всех победили: дочь Володи к восьми годам уже уверенно ходила с палочкой – таежному волшебнику Олегу Тайменю удалось сотворить чудо. Сначала он приехал в Москву и осмотрел девочку, осторожно исследуя поломанное тельце, потом они с Агеевым, начав с теплых источников Сухума, возили ее в Пятигорск, в Саки – везде, где были целебные термальные воды и лечебные грязи. Володя подробно рассказывал мне по телефону и в письмах о динамике процесса, присылал фотографии смеющейся, прехорошенькой кудрявой Анечки («Анька у нас настоящий боец, Олег очень ее хвалит!») и снимки тех городов, где бывал на гастролях. Дочь он теперь всегда возил с собой. Да и с возлияниями было покончено: на моей свадьбе роскошный седой великан пил только компот и морсики.
Однажды и моя мама пробыла с ними в одном из приморских городов целых три месяца – Володя тогда стал режиссером программы, дневал и ночевал в цирке, готовя премьеру, а Анечке пришла пора идти в первый класс, и мамочка занималась с ней русским и немецким, водила девочку на пляж, потому что Олег Таймень велел малышке регулярно плавать в море, готовила еду и заботилась всячески об Агеевых. Я отлично понимала, насколько радостно маме вернуться в цирк хоть в таком качестве, но все равно поскуливала от тоски – обстоятельства не позволяли сейчас же мчаться туда, где были те, кого я любила.
Много лет спустя, будучи уже очень взрослой, я посмотрела мультфильм «Король Лев» и вздрогнула, почему-то узнав в царе Симбе моего ушедшего друга. Откуда неизвестные мне диснеевские художники могли знать о его повадках, наклоне головы и даже голосе?
15. По сравнению с Сандро
Неожиданно приехал мальчик, который, как предполагалось, когда-то должен был стать моим мужем. Женька, тот самый, что встречал меня после вечеров в цирке еще в моем городе. Очумел от тоски, наплевал на медучилище и вопли своей маман, продал фотоаппарат, сдал кровь, получил за это тоже какие-то деньги и приехал. Сюрпризом. Мы дружили с ним со второго класса, и я считала, что это на всю оставшуюся жизнь: взялись за руки и пошли к счастливой старости (как все очень юные существа, мы полагали, что старость – это лет сорок максимум), плечом к плечу. И он хотел быть там, где я, потому что только писем для первой любви мало, да и на почту, чтоб поговорить по межгороду, не набегаешься. И к черту то училище, главное же – не расставаться. Так он сказал.
Женьку охотно взяли в униформу, выделили койку у ребят – никто из наших старших даже мысли не допускал, что представленный всем как будущий муж молодой человек может жить со мной в одном вагончике: мне же еще и семнадцати не было, свадьба планировалась только через два года, да мы и не думали ни о каком совместном проживании. У меня появилась дополнительная подпорка для самооценки: влюбленный Женька неизменно восторгался всем, что я вытворяла на репетициях. Стоило мне только увидеть его глаза, полные обожания и гордости, как самооценка, уползшая под манежный барьер (ввиду отсутствия плинтуса) после пятисотого падения четвертой булавы или шестого мячика начинала помаленьку распрямляться и топорщить перышки…
Женька привез от моей мамы корзину домашних пирожков, фирменную буженину, приготовленную по старинному бабулиному рецепту, и конверт. Там было письмо мне и записка, состоявшая всего из одной строчки: «Никогда не сдавайся, дорогая Анечка». А еще в конверте лежала большая черно-белая фотография. Этот портрет всегда стоял у нас дома на полке, я помнила его с раннего детства.
На снимке ослепительно улыбался черноволосый темноглазый красавец в цилиндре, с невиданной в те времена маленькой серьгой в мочке уха. Наброшенный на плечи неизвестного атласный плащ, белая рубашка и галстук-бабочка производили сногсшибательное впечатление на моих неискушенных школьных подружек, но мне нечего было ответить на их расспросы, кроме «нет, это не мой папа». Я всегда думала, что человек на снимке – какой-то мамин поклонник, но спросить стеснялась. Тем более, что внизу на фотографии были видны крупные буквы: «Моей чудесной Диночке. Никогда не сдавайся. Всегда твой – Сандро». И сейчас я недоумевала, зачем мама, знавшая из моих больших и подробных писем историю Володиной дочки, прислала эту фотографию.
Но когда я вытащила снимок из конверта, Агеев восторженно ахнул: «Сандро Да-Деш! Вот спасибо, это ж раритет, музейная редкость! То, что нужно. Пошлю Аньке!» И рассказал нам невероятную историю необыкновенного человека.
Сандро Дадешкелиани родился в 1914 году в Тбилиси. Мальчик был пятым ребенком в небогатой семье и объектом сокрушенных вздохов родственников и соседей, потому что родился без рук. Вообще без рук, даже плечевых суставов у него не было. Старухи шептались, что это несчастье – из-за проклятия, которым пригрозила бабка отца Сандро, потомка древнего рода грузинских чуть ли не царей, когда он женился на безродной красавице-полячке. Зато у мальчика в избытке было оптимизма, силы воли и веселого упрямства. Сандро не отставал от сверстников ни в чем: наравне со старшими детьми помогал матери по дому и в саду, прекрасно учился в школе и не давал ни малейшего повода для жалости или издевок, на любую насмешку отвечая мощным ударом ноги.
Закончив восьмилетку, Сандро из школы ушел – надо было помогать семье. Его трудовой путь отнюдь не был усыпан розами, далеко не все хотели связываться с инвалидом, но Сандро, унаследовавший настойчивость и горячий нрав от отца, смог убедить старших мастеров местной плотницкой артели взять его в ученики и за пять лет освоил профессии резчика по дереву, маляра, полировщика. Работал на фабрике игрушек, потом его приняли экспедитором в геологоразведку, а когда заболела мать, Сандро ухитрился проработать сезон на горной реке Риони, где хорошо платили. Там он ловил багром бревна на сплаве. Багор Сандро держал ногой, но это ничуть не мешало ему всегда выполнять дневную норму, суровые артельщики были им довольны. В свободное от работы время вдруг начал рисовать и рисовал прекрасно, держа кисти и карандаши в пальцах ног. Его работы произвели фурор, и Сандро в виде исключения приняли в тбилисскую Академию художеств. В цирке рассказывали, что закончивший худграф Сандро Дадешкелиани вместе с дипломом получил и часы – награду за лучшую работу, которые тут же непринужденно надел на ногу и долго еще не расставался с ними.
Володя достал из кофра папку с какими-то распечатками и газетными вырезками, начал их задумчиво перебирать. Мы ждали продолжения.
– Мой учитель застал расцвет карьеры Да-Деша, они были довольно близко знакомы. Сандро рассказывал, как абсолютно случайная встреча с неким артистом цирка, переросшая в дружбу, привела его на манеж, где он и остался навсегда. Я давно собираю все, что касается Сандро, его жизни, его трюков. Понимаете, ребята, зрители ведь даже не догадывались, что перед ними безрукий человек. И тому есть свидетельства. Вот что рассказывает о номере Да-Деша в своей «Седьмой тетради» известный шпрехшталмейстер Владимир Успенский, послушайте:
«Итак, на представлении Сочинского цирка в летний сезон 1964 года я в качестве ведущего программы объявляю: «Артист оригинального жанра из солнечной Грузии Сандро Да-Деш!» На арену энергичной походкой выходит высокий, очень красивый мужчина в элегантной фрачной паре, поверх нее – длинный атласный черный плащ на белой подкладке, на голове у красавца цилиндр, на шее – галстук-бабочка. Из-под накидки видны руки в белых перчатках. Артист ногой снимает цилиндр и бросает его униформисту, сбрасывает на спинку стула плащ и садится за столик. Разыгрывается сценка «В кафе»: к столику подходит официантка и подает посетителю меню. Да-Деш одной ногой берет меню, а другой надевает очки. Изучив меню, листает лежащий на столике журнал, потом что-то говорит официантке, та уходит, а он снимает с ноги часы с браслетом и подносит их к уху: видимо, часы не идут – заводит, надевает снова на ногу, достает портсигар, вынимает из него папиросу, берет коробок, достает спичку, подбрасывает коробок и, чиркнув об него спичкой, прикуривает. Снова появляется официантка с бутылкой вина и фужером. В пальцах одной ноги Сандро – бутылка, в пальцах другой – штопор. Штопор ввинчивается в пробку, бутылка с вином открыта, и оно льется в фужер. Да-Деш поднимает фужер, как бы чокаясь со зрителем, и выпивает. Затем, заточив ножом карандаш, подписывает несколько своих фотографий и через официантку передает их публике. На манеже появляется мольберт с чистым листом белой бумаги и углем. Да-Деш ногой рисует портрет клоуна, работающего в программе. Потом на манеж выносят треножник с мишенью. Мишень прозрачная – чтоб было видно всем зрителям, независимо от места, на котором они сидят. В центре мишени закреплена горящая свеча. Да-Деш берет одной ногой винтовку, упирает ее в плечо, другой ногой щелкает затвором, нажимает курок. Выстрел. Пламя погашено.
В течение всего номера Да-Деша публика, видящая его руки в белых перчатках, абсолютно не подозревает, что это хорошо сделанные протезы, и награждает артиста щедрыми аплодисментами за ловкость владения ногами.
В те дни в Сочи ему исполнилось пятьдесят лет. Эта дата была достойно отмечена на арене и за кулисами. Юбиляру на публике преподнесли золотые наручные часы, которые он, так же как когда-то при получении диплома в Академии, под аплодисменты зрителей надел на ногу». (с)
Закончив читать, Агеев бережно убрал пожелтевшие листочки в папку и рассказал нам еще, что Да-Деш был невероятно образован, эрудирован и остроумен, что говорил, кроме русского, на грузинском, армянском, немецком, турецком и греческом языках. Великолепно плавал, был азартным и удачливым игроком в преферанс, домино и в нарды, придумывал и рисовал рекламные буклеты и афиши для цирка. Примечательно, что Сандро, унаследовавший от матери утонченную красоту, а от отца – неукротимый южный темперамент, был любимцем женщин, имел сложную и непростую личную жизнь, был четырежды женат, стал отцом двоих детей и успел увидеть внука. Не всякий полностью укомплектованный конечностями мужчина может похвастаться таким, согласитесь.
Мы сделали копии со старого портрета, и Агеев отправил оригинал дочери в Москву. А у меня в вагончике со стены теперь ободряюще улыбался Сандро Да-Деш. Характерно, что с того вечера я больше никогда не жаловалась на трудности многочасовых репетиций. А потом, с течением жизни, вообще разучилась жаловаться. Как-то стыдно, ведь все же у меня в порядке. Особенно по сравнению с Сандро.
16. Ехали медведи…
Меж тем, труппа наша почти полностью укомплектовалась номерами, которые Барский с боем добыл в Управлении.
За несколько лет, проведенных в цирке, я познакомилась с десятком дрессировщиков и с целым зоопарком разнообразных зверей, но Балис Забукас запомнился навсегда. Он был первым в моей маленькой жизни человеком, который любил Большого Зверя.
Балис дрессировал медведей. Медведь у него на момент нашего знакомства был всего один. Вернее, одна. Машка. Огромная, бурая, такая холеная, что шерсть отливала блестящим перламутром. Машка на манеже творила чудеса: и на самокате, и на велосипеде гоняла, и по тумбам прыгала, и по проволоке ходила, и коврик изображала – Балис валялся-катался по ней всем весом, а она только глаза блаженно закрывала и совершенно явственно улыбалась.
В ее блестящую шерсть моя рука уходила по запястье. И пахла эта шерсть теплой меховой шапкой и сушеной ромашкой. Очень хорошо Балис за своей Машкой ухаживал.
Гражине, дочке Балиса и его жены Тани, на момент нашего знакомства было пять лет. Столько же было и Машке. Таня рассказывала, как Балис принес медведика размером с игрушку – месячного. Как они его из соски выпаивали специальными смесями, как маленькая пушистая Машка жила у них в Вильнюсе прямо в квартире и спала вместе с трехмесячной Гражинкой на диване, как купали ее в ванне, как она росла вместе с ребенком…
Машку выпустили на манеж в четыре месяца. Дрессировал ее Балис исключительно в игре, используя природные наклонности медвежонка. Любой дрессировщик хищных зверей обязан быть хорошим зоопсихологом, иначе никак. Сожрут-с. Или сильно попортят. Там есть чем портить, хоть зубы мишек люди видят редко, медведи почти не скалятся, только смешно топырят верхнюю губу. И тогда видно клыки почти в палец длиной. Но только клыки такие огромные, другие зубы не крупные. О коренных я молчу, они больше похожи на скалы, ими медведь легко дробит огромные говяжьи мослы. А пасть его открывается, как чемодан – от уха до уха, куда там льву.
Когда мы встретились, Машка была минимум на полметра выше меня, жила в просторной клетке с полом из березовых досок (их служащие ежедневно, пока Машка репетировала в манеже, драили с дегтярным мылом и кипятком, а потом посыпали свежими опилками), ела вкусное варево из овощей, круп и мяса, которое готовил в стерильных огромных кастрюлях Илья, один из служащих медвежатника.
Удивительное все-таки дело: это ж передвижка, стоящая просто на земле, тут только холодная вода в достатке, горячую, чтоб помыть что-то, греть надо, медведю́ какому-то, не ребенку готовится, а огромные кастрюли всегда были чистыми до скрипа. Балис лично пробовал корм Машки перед окончанием готовки. Всегда. И я неоднократно видела, как конюхи в выходные шастали к Илье с мисками – закусь из Машкиного обеда или ужина была отменной.
Помню, какой тяжкий шок я испытала, когда уже взрослой увидела в грязной и тесной клетке приехавшего в наш город зверинца жалкую тень медведя. Угрюмый, несчастный и худой зверь монотонно мотался по периметру своей пыточной камеры, утопая в собственном говне, и немногочисленные посетители этого звериного ада, морщась, смотрели на ужасный остов в свалявшейся клочками шерсти – на то, что когда-то, наверное, было мощным и гордым зверем. Я ушла оттуда в жутком настроении и дома в качестве антидота долго рассматривала фотографии со счастливой Машкой и ее счастливым человеком… Больше в зверинцах я не бывала никогда.
Репетировали Балис с Махой каждый день по два-три часа. И выходной частенько прихватывали тоже. Номер шел во втором отделении всего десять минут – никаких клеток вокруг манежа, только невысокая сетка от детишек. Мамы, сидящие в первых рядах, порой так увлекались действом, что теряли бдительность, их дети выскакивали к самому барьеру и пытались выбраться на манеж. Если будете в цирке, обратите внимание на униформистов и контролеров, которые стоят в проходах во время работы животных. Они как раз и отлавливают детвору или нетрезвых товарищей, которым алкоголь подсказывает героическое решение немедленно пообщаться со зверями и вообще принять непосредственное участие в действе.
Машка любила манеж, любила работать и была так добродушна, что не обращала внимания на прыгающих за сеткой человеческих детенышей. К тому же медведица знала, что в специальном кармане у хозяина всегда есть кусочки вареной говядины, которые она получит за хорошее поведение и после выполнения трюка. Медведи работают в плотном кожаном наморднике, стягивающем челюсти, но губы у них вполне шевелятся – я сама неоднократно угощала Машку ништяками, и она мигом всасывала вкуснятину.
А после вечернего представления Балис лез в тайную нычку и доставал двести пятьдесят граммов медвежьего счастья – банку дефицитной в то время сгущенки. Открывал ее, отламывал крышку и отдавал Махе. Мы сбегались смотреть, потому что начинался цирк в цирке: Маха, держа банку в лапах, как в руках, в два могучих всасывания ее опустошала. И тут появлялся медвежий язык. Он существовал как бы отдельно от огромной Машки, был какой-то смешной, несерьезный, розовый, тонкий и длинный, сворачивался в аккуратную трубочку, и этой трубочкой Машка обследовала дно пустой банки, вылизывая все до капелюшечки. Потом еще какое-то время заглядывала туда то одним, то другим глазом, огорченно вздыхала и протягивала банку Балису.
Эта чудесная Маха была далеко не первым медведем у Забукаса. Как-то по просьбе Татьяны, которая была занята с дочкой, я поливала дрессировщику из ковшика после репетиции и в подробностях увидела и ужасные шрамы на спине и животе (медведь Барон полоснул когтями), и словно отполированную, совершенно гладкую ладонь левой руки – это другой медведь ВЫКУСИЛ мышцы и мясо мелкими передними зубами. Нечаянно, был молодой, неопытный и брал печенье с ладони, как сказал Балис, неаккуратно. Неаккуратно, надо же! Кожу приживили с бедра. Три месяца в клинике. Неаккуратно!
Большинство людей после такого опыта навсегда забыли бы само слово «медведь», но Балис был хорошим дрессировщиком. Настоящим фанатом, не представлявшим жизни без медведей.
Он тоже выпивал, правда, и порой много. Тогда Машка оставалась в клетке, скучала без репетиций, просила общения, обиженно что-то бормотала, сидя в углу и качая в лапах любимую игрушку – большую мохнатую собаку почему-то синего цвета.
Однажды Балис в очередной раз ушел в астрал (места, где мы тогда гастролировали, изобиловали качественными и бессовестно дешевыми винами), Машка томилась в своей клетке на конюшне (разумеется, медвежатник и лошади находились в разных концах большого помещения, довольно далеко друг от друга), и мы с Таней пошли ее проведать. В утешение медведице Таня несла печенье, яблоки и немножко ирисок – их Маха очень уважала. Могла запросто за конфетки продать вторую половину родины – то, что осталось после продажи за сгущенку первой части.
Она нас издалека еще приметила, обрадовалась, забегала, потом села на толстую меховую попу, замахала лапами, заворчала ласково… И чего я, дура, первой подскочила к клетке? Одна секунда – и Машкина лапа с громадными когтями выметнулась сквозь прутья, обхватила ногу вокруг икры и стала подтаскивать меня к клетке вплотную… Лапа медведя сгибается невероятным крючком – надо видеть, как огромные звери вычерпывают кашку из обычного ведра, оставляя на дне несколько незначительных комочков. Комочки высасывают опять-таки языком. Мишек, в основном, кормят мясом, и кашей с мясом, и овощами из широких больших лотков – их задвигают в клетку на специальном поддоне, под решеткой для поддона оставлена щель приблизительно в двадцать сантиметров. Но иногда Балис давал Машке ведро с кормом – поразвлечься. И она ела из него, ей нравилось.
Медведица мощно, но осторожно, не причиняя боли, тащила меня к себе, но тут подбежавшая Татьяна гаркнула над ухом так, как будто из пушки бабахнуло, Маха в испуге отдернула лапу и… Ну, в общем, на правой ноге у меня есть отметины от когтей. Которыми, между прочим, в дикой природе медведь запросто одним ударом вспарывает брюхо взрослому кабану.
Вскоре Балис, который ходил в последние дни с торжественным и загадочным выражением лица, улетел в Киев. И вернулся оттуда с двумя двухмесячными малышами. Темненькие пушистые комочки были братьями и только что осиротели где-то в Карпатах: их мать убили браконьеры. Балис оставлял в Главке заявку на медведиков, и его сразу же уведомили, как только детеныши прибыли в Киев. Разумеется, все это было абсолютно бесплатно для дрессировщика, Союзгосцирк заботился о качестве и зрелищности номеров конвейера, маленькие звери отлавливались и покупались исключительно за счет государства, но почти все цирковые медведи попадали на манеж именно так, оставшись без матери.
Мы с упоением возились с малышами, все свободное время посвящая им. Кормили, купали, тискали, опять кормили, разговаривали с ними. Они были очень трогательные, большеголовые, забавные, Яша и Гоша. Такие смешные звуки издавали, не медвежьи совсем, какая-то смесь хриплого мявканья со скрипом и кряком. Жили медвежата во взрослой просторной клетке, в которой нижнее горизонтальное отверстие для лотка с кормом заложили досками. А потом в медвежьем углу конюшни провели реорганизацию, и клетку с малышами неосторожно передвинули поближе к жилью медведицы.
Агеев первым заметил, что ни разу не рожавшая Машка волнуется в своей клетке, которая оказалась прямо напротив клетки детенышей. Может, ревновала, может, пора ей уже было своих медвежат заводить, кто знает? Самый возраст – пять лет. А живут медведи долго, больше тридцати, она была в самом расцвете. И молча беспокоилась, ходила безостановочно, а потом замирала надолго, вглядываясь в суету перед клеткой с малышней.
Володя поделился опасениями с Балисом. Тот, подумав, согласился, что надо убрать мелких от Машки и даже договорился с униформистами о переносе клетки, но что-то его отвлекло, и Забукас элементарно забыл проследить, чтобы это было сделано.
Той же ночью мы, мирно спавшие в своих вагончиках, проснулись от страшного шума: крики, конюшня сотрясается от грохота, истошного ржания лошадей, рева… Примчались те, кто жил ближе – Агеев, Ковбой, Якубов, Таня, Балис, Давид Вахтангович, мы с Женькой и директор Барский, прихвативший пистолет, на который имел разрешение. Только было уже поздно, непоправимо поздно.
Влетели в медвежатник и увидели сначала клетку Машки, ходящую ходуном, орущих черным матом служащих, которые тыкали в клетку железными прутьями для раздачи мяса и всем, что под руку подвернулось, а уже потом и Машку, мотающую башкой из стороны в сторону. Тяжело пахло кровью. Балис подскочил к клетке и страшно рявкнул: «Брось!» И она бросила растерзанное тельце, которое прижимала к груди.
Маленький Яшка как-то раздвинул доски внизу клетки, вылез в щель и поковылял к Машке. Гоша вылез за братом, но ему повезло больше. Машка взревела, молниеносно втащила медвежонка в двадцатисантиметровую щель для мисок и убила его одним взмахом лапы. Илья, всегда ночевавший в медвежатнике, видел весь этот кошмар с самого начала и успел оттащить второго малыша, которому сквозь прутья, по касательной прилетело когтями в бок и он, весь в крови, упал у клетки.
Трупик Яшки вытащили, а Балис впал в ярость. Любимая его Машка впервые в жизни отхватила у хозяина таких люлей, что потом еще трое суток неподвижно сидела, отвернувшись, в углу клетки, отказывалась есть, только воду пила. Даже шерсть у нее потускнела и свалялась прямо на глазах. Яшку похоронили, зашитого пожилым местным ветеринаром Гошку Агеев и Фира Моисеевна постепенно выходили мазями и примочками, а Машке совет труппы запретил выходить на манеж. Навсегда.
Дело в том, что дрессировщики придерживаются строгого правила выбраковки. В старом цирке крупный хищник, отведавший человеческой крови, сразу получал пулю, в советском цирке его усыпляли. Машка зажрала медвежонка, а не человека, но риск был огромный. Кто мог знать, что сдвинулось в ее башке и когда случится рецидив? Балис ручался за свою любимицу, демонстративно выводил ее на парфорсе во двор, чтобы все увидели, насколько она подавлена и чувствует свою вину (клянусь, на опущенной вниз морде Машки было чистейшее страдание и горе), но судьба медведицы решалась в Главке, и был весомый шанс: придет распоряжение усыпить ее.
Таня потратила целое состояние на звонки в Киев и Москву, практически жила на переговорном пункте, уговаривала и убеждала кого-то «наверху» (Барский ей в этом помогал) и за неделю слез и уговоров добилась того, чтобы Машку отправили в ближайший зоопарк, а не в медвежий рай. «Транспортировка и кормежка зверя до места полностью за ваш счет будет», – строго сказали сверху. «За наш, конечно, за наш!» – обрадовалась Таня. Я ушла, когда за Машкой приехала перевозка, чтоб не видеть прощания, и правильно сделала. Володя сказал, что это было очень тяжело, медведица горестно стонала, совсем как человек, и лизала руки маленькой Гражине, Балису, Тане…
Когда мы, уже в другой жизни, однажды встретились в Москве, располневшая и величественная, но все такая же смешливая, как в молодости, Татьяна рассказала, что с Балисом они разошлись спустя несколько лет, что она давно замужем за московским юристом, что дочка Гражина с детьми живет в Прибалтике, тоже работает в цирке и тоже с медведями. А Машка? Машка прожила в зоопарке довольно долго, даже родила несколько медвежат от местного медвежьего мачо и не выглядела несчастной. Таня ездила проведать Машку, а Балис так и не смог ни разу заставить себя навестить ее. Долго горевал, лечился (как и все цирковые в тяжелый период, кстати) бесконечной пахотой, и все-таки выпустил прекрасный номер со ставшим очень большим и красивым Гошкой и еще двумя молодыми медведями, которых взял в том же году. Забукас доработал до пенсии, передал номер дочери и сейчас, наверное, достойно старится где-нибудь в Литве. Таня еще сказала, что он женился повторно и жену его зовут… Маша. Чудны дела твои, Господи.
17. О попугае факира, дороге, мотоцикле и яблоках
Лето катится к осени, и шапито наше готовится, следуя разнарядке, направиться дальше на запад, оставив позади солнечную и гостеприимную Молдавию. Несколько номеров руководство Союзгосцирка перекинуло в другие коллективы, Забукас с семьей и выздоравливающим Гошкой уехали в какой-то стационарный цирк на реорганизацию номера и репетиционный период[34], а к нам прислали… опять медведей, только уже на велосипедах. Пустяковый аттракциончик был, никакого следа в памяти не оставил и за месяц до окончания гастролей их вообще перевели куда-то. А еще Барский ждал приезда какого-то суперэквилибриста, с трудом выпрошенного у дружественного начальства в Москве.
Вся труппа уже отправилась на поезде в следующий город, туда же тягачи увезли наши жилые вагончики, а Давид Вахтангович и униформа, а значит и мой Женька остались следить за разборкой, погрузкой и отправкой непосредственно купола шапито, конюшни и всех сопутствующих конструкций. Шапитмейстер, чьей прямой обязанностью это было, уехал в свой родной Минск полюбоваться на новорожденную внучку, и шпрех его подменял.
Договорившись с Барским и Фирой Моисеевной, я тоже осталась с Давидом Вахтанговичем. Разборка и сопровождение в пути стен и крыши нашего общего дома – эта сторона жизни цирка была пока что для меня тайной, а еще ужасно хотелось поехать в большом товарном вагоне вместе с животными и технической службой. Цирковые вагоны передвигались существенно медленнее пассажирских, часто останавливаясь на перегонах, а то и в тупичках посреди чистого поля, ожидая попутного товарняка, к которому нас цепляли. Порой и по шесть – восемь часов стояли, и тогда конюхи выводили лошадей из вагонов, Алдона выпускала собак, а медвежатники прогуливали мишек в намордниках.
На разведенном тут же костре кипятили чай в котелке, пекли картошку для людей и варили каши зверям, наслаждаясь тишиной и простором вокруг. Такая поездка – это ж целое приключение, гораздо интереснее, чем скучное сидение в купе и поедание холодной курицы и яиц, сваренных вкрутую. А уж насколько лучше спать в свежем душистом сене и сквозь сон слышать, как переступают аккуратно и мягко лошади в другом конце вагона, чем задыхаться от жары на верхней полке, и говорить не стоит.
Старшим униформистом в передвижке № 13 много лет работал Федор Михайлович. Обычно в шапито униформа набирается на сезон, с конца апреля по конец сентября, но таким директорам, как наш Барский, удавалось сохранять некоторых специалистов при цирке и на зимний период, когда шатер и подсобные помещения становятся на консервацию до наступления тепла. Федор Михайлович жил в своем вагончике постоянно.
Прозвище у него было, сами понимаете, Достоевский, но мне больше нравилась звучная фамилия дяди Феди – Лауш. Силовой акробат в прошлом, дядя Федя когда-то был женат и очень неожиданно для себя развелся: его жена, в свое время найденная успешным молодым артистом Федором Лаушем в кордебалете одного из иллюзионистов (девочек в кордебалеты набирали обычно по провинциальным хореографическим училищам, из тех, кто, мягко говоря, звезд с неба не хватал, но для красивых батманов, ярких костюмов, туфелек на шпильке и плюмажей годился в самый раз) вдруг закрутила бешеный роман с редким и экзотическим для того времени мужским экземпляром – стрелком-арбалетчиком из группы кубинских артистов.
Страстный мачо предложил немедленно сочетаться законным браком и уехать на другой конец мира, к прекрасному будущему, пальмам, жаркому солнцу, белому песку и синему океану – то есть на дружественную и далекую Кубу. Возликовав, дамочка сначала обнаружила, а потом и обнажила множество мелких, но острых зубов, развила бешеную деятельность и отгрызла у мужа половину его огромной родительской квартиры где-то в историческом центре Москвы. Потому как денежки от продажи дорогостоящих метров в столице должны были помочь построить новую и счастливую жизнь на Острове Свободы.
Наверное, у них все сладилось, потому что из цирковых никто и никогда больше о неверной и ее аманте не слышал. Лауш жениться расхотел навсегда, бобылем доработал до пенсии, но из цирка не ушел, свои две комнаты в ставшей коммуналкой квартире сдавал за небольшие деньги вечно нищим студентам ГУЭЦИ[35] и продолжал ездить с передвижкой Барского – они дружили с молодости.
И был у дяди Феди питомец, чудный попугаец породы красноголовый амазон, нарядный такой, изумрудно-зеленый, в красной шапочке и с синими перьями в хвостике.
Откликалась птичка на имя Феликс, жила на свободе, летая по всей конюшне и немножечко грабя. Лошади и ослик вынужденно делились с Феликсом овсом, медведи – яблоками, капустой и морковкой, собаки – кашей с мясом, а амазон за эту долю малую честно бдил изо всех сил за процессом их кормежки. Стоило конюхам чуть подзадержаться и нарушить, по мнению Феликса, распорядок раздачи овса и сена, как конюшня оглашалась возмущенными воплями:
– Лошадки хочут жр-ррать, лошадки хочут жр-ррать!!
Для рабочих медвежатника и псарни у попугая был заготовлен другой текст, и он немедленно рявкал басом:
– Звер-рри голодают, голодают звер-ррики! Как не стыдно, а? Как не стыдно? Лю-ююдиии!!! – надрывался попугай, если дважды в день, точно в определенное скандальной птичкой время ребята не волокли мясо, кашу и овощи медведям и собакам.
Зверей и так кормили по часам, но Феликс, понаблюдав какое-то время за процессом, повадился начинать голосить уже минут через пять-десять промедления. И ор его был отчетливо слышен не только на конюшне. Однажды даже сам директор Барский прихромал полюбопытствовать, что за гвалт и кто это тут звериков недокармливает.
Надо сказать, что птичка Феликс был пожилым горьким сироткой. Он достался Федору Михайловичу от покойного друга. Друг в молодости, еще в начале пятидесятых, бродил по югу Союза, показывая на ярмарках и в курортных городах всякие фокусы, пока его не приметил один из директоров старого Союзгосцирка, отдыхавший с семьей в Одессе. Понаблюдав за загорелым парнем, показывавшим на Ланжероне настоящие чудеса при помощи истрепанной колоды карт, разноцветных веревочек, пляжной гальки и монеток, этот человек позвал уличного артиста в Москву, оставив ему денег на билет и адрес своей квартиры. Незнакомому парню дал вполне внушительную сумму и позвал к себе жить. Мыслимо ли такое в сегодняшних реалиях? Наверное. Но боюсь, что только в мире цирковых.
И парень приехал. Приехал в выцветших штанах и стоптанных башмаках, с маленьким узелком, в котором лежал «реквизит». Больше у него ничего не было. Жена директора отдала парню одежду сына, который разбился, работая «Смертельную бочку» (аттракцион, в котором мотоциклисты носятся по вертикальной стене огромного деревянного цилиндра), гость отоспался, отмылся, и директор повел его в Старый цирк.
Гениальный самоучка четверть века проработал иллюзионистом, объездил весь мир и за несколько лет до смерти привез откуда-то из экзотической страны зеленого попугая. Это и был Феликс, перешедший к дяде Феде по наследству от друга.
Так вот, мы остались на разборку и погрузку купола. Шел сильный дождь. Шапито наше стояло недалеко от пожарного пруда. Все время гастролей в том городе близость этого прудика тревожила шапитмейстера, вообще очень осторожного и педантичного человека, что для его профессии являлось несомненным плюсом. Матвей Иванович был недоволен почвой, говорил, что в ней слишком много песка, что она рыхлая, что костыли для закрепления мачт надо было брать какие-то особые, проверял все крепления через день и гонял униформистов замерять растяжки купола. Но тогда все обошлось, к счастью, почва не подвела, шапито отстояло положенный срок.
На погрузке рабочие окапывали купол по периметру и делали отводы, чтобы вода не затекала под еще не загруженный в фуры реквизит, униформа разбирала скамейки в зрительном зале, а мы сидели на опустевшей конюшне и варили на походной плитке кофе. Амазон Феликс гордо поглядывал на нас с перекладины над пустыми лошадиными стойлами и что-то там себе тихонько приборматывал под клюв. Сашка Якубов, который тоже остался, чтоб немножко подработать на разборке и погрузке, перетаскивал поближе к фурам ящики с чем-то тяжелым. И вдруг сверху четко сказали чуть надтреснутым голосом:
– Не ходи туда, не ходи!
Мы переглянулись, а Сашка засмеялся, пожал плечами и снова поволок ящик. Попугай еще громче завопил:
– Не ходи туда, чер-ррт побери!
Теперь уже засмеялись все, кроме самого Сашки. Он поставил ящики, сделал несколько шагов в нашу сторону, и в эту минуту одна из наклонных малых шторм-балок, что были врыты в землю по периметру конюшни и держали на растяжках брезентовую крышу над ней, поехала вперед, а потом, падая, резким тычком с грохотом снесла штабель ящиков с запасным крепежом для купола, тяжелых таких ящиков с железом. Они разлетелись, как детские пластиковые кубики, тренированный Сашка успел молниеносно отпрыгнуть вбок. И вот тут-то мы офигели, осознав, что нашему Чингачгуку не показалось бы мало, если б он еще хоть на метр проволок свой груз вперед. Амазон своими воплями натурально спас ему конечности, если не спину.
Потом выяснилось, что балку подмыл никем не замеченный ручеек, стекавший все эти дни с полотнища крыши – за отсутствием шапитмейстера Матвея Ивановича бригадир его рабочей группы, человек мелочный, вздорный и нудный, но неплохой знаток своего дела, схлопотал от Давида Вахтанговича такую выволочку, что ежился до конца погрузки и даже, бедолага, совсем не портил кровь униформистам и рабочим, как это ему было свойственно.
А Феликс с того дня и до завершения гастролей объедался арахисом и печеньем «Соломка соленая», которые благодарный Якубов для него где-то добывал. И была между попугаем и нашим Чингачгуком любовь нежнейшая и трогательная: Сашка катал Феликса на широком плече, подстелив под его цепкие лапы белоснежный носовой платок, а попугай нежно перебирал внушительным клювом короткие светлые волосы за Сашкиным ухом и ворковал, ворковал, будто кроткий голубь, а не всем известный хриплый скандалист и вымогатель.
Разборка и стропальные работы по отправке купола и мачт прошли безупречно, если не считать случая с балкой, огромные фуры тронулись в путь по трассе, а мы уехали на вокзал грузиться. Путешествие в товарняке вместе со зверями и нашей маленькой дружной компанией обещало массу удовольствия, мы вовремя разместились в вагонах и вовремя двинулись в путь.
Весь первый день я провела, сидя на полу вагона, прямо в проеме открытой двери, свесив вниз ноги и обняв за мощные шеи сенбернара и дога Алдоны. Поезд шел между виноградниками и садами, в которых деревья ломились от плодов, местные жительницы выносили к железной дороге огромные ведра фруктов, прося за целую гору налитых солнцем яблок и нежнейших персиков в жемчужном пухе какие-то совсем незначительные деньги (меньше рубля, я точно помню).
Мы все время покупали эти ведра, и к ночи в углу нашего вагона образовались оглушительно благоухающие груды, между которыми ждали своего часа несколько колоссальных арбузов, которые совсем не хилые наши мужчины еле дотащили до вагона. Лошадей особенно интересовали яблоки, они тянули атласные шеи из временных денников и просительно ржали. Конюхи разрешали мне кормить лошадей с ладони, и это было прекрасно.
На каком-то из полустанков Алдона купила у аккуратной бабули в беленьком платочке целую кастрюлю горячих домашних пирожков с картошкой и несколько больших плачинд с тыквой и медом, а первая длинная остановка в тупичке среди полей, где мы застряли на несколько часов в ожидании попутного состава, дала возможность развести костер, приготовить еду животным и самим поужинать с горячим чаем. Набегавшиеся собаки уселись полукругом, как привыкли на манеже, и, пока остывала их каша с мясом и овощами, провожали блестящими глазами каждый кусок пирожка, что мы отправляли в рот. Лошади хрустели яблоками и арбузными корками в денниках, совсем тихо звучала гитара – цикады вокруг стрекотали гораздо громче.
Спали на сене, и это была лучшая моя постель на последующие двадцать лет, потому что я заснула абсолютно счастливой и проснулась такой же счастливой, когда поезд уже двинулся. Знаете, это было такое звенящее, сияющее предчувствие чего-то очень хорошего, что обязательно случится скоро-скоро, предчувствие, похожее на ощущения от привалившегося к твоей голой спине теплого собачьего бока.
Книжная, совершенно домашняя девочка, несмотря на рапиры и парашюты, я была той еще фантазеркой и, снова устроившись в проеме двери вагона, ловя ладошкой теплый ветер, воображала: вот сейчас раздастся свист, гиканье, топот копыт, и на наш поезд нападут бандиты какого-нибудь Черного Гарри или индейцы племени сиу, беспощадные к бледнолицым.
И потому мотоцикл, летевший по шоссе параллельно нашему поезду, первым заметил Женька:
– Эй, народ, вы только посмотрите, какая классная красная точила там мчится! Во дает чувак!
Все немедленно уставились на роскошный красный мотоцикл, парни стали обсуждать марку, вместимость бака, багажный короб, скорость и алый комбинезон самого мотоциклиста. И вдруг поняли, что он держится ровно напротив двух наших вагонов (конечно, они бросались в глаза, на них снаружи красовались огромные буквы «ЦИРК», и сами вагоны были темно-оранжевого цвета), хотя запросто мог бы обогнать поезд давным-давно. Вдруг алый гонщик поднял руку в приветственном жесте, помахал нам, дал газу и умчался. А я почему-то почувствовала себя покинутой, хотя где я, и где тот алый мотоциклист? Подумаешь, красивая картинка. И вообще, мой парень рядом, и нечего тут.
Первым, что мы увидели, прибыв на ближайшую станцию, был великолепный красный «Кавасаки» и улыбающийся человек в алом кожаном комбинезоне. Так нас догнал Костя Троепольский, а меня догнала взрослая, прекрасная, первая и последняя счастливо-несчастная моя любовь.
Костя, задержавшись в Главке, опоздал к окончанию гастролей, и на месте шапито нашел только очертания манежа и самого шатра. Там еще был человек из коммунальной службы города, который сказал, что последние артисты вчера уехали на вокзал вместе со зверями. Троепольский выяснил на грузовом дворе, куда именно отправили цирковые вагоны, начертил на карте линию и направился на запад догонять нас. Быстроходный мощный «Кавасаки» справился с задачей отлично и сейчас вместе с хозяином пожинал лавры: наши ребята сгрудились вокруг невиданного чуда японской технической мысли, оглаживали, рассматривали, расспрашивали Костю и явно радовались наметившейся перспективе остальной путь проделать в обществе мотоцикла.
Хозяин диковины оказался нашим человеком, не жалел новенькой дорогостоящей игрушки – на следующей стоянке парни погоняли на байке прямо по полю и проселочным дорогам, впечатлились, преисполнились уважения к тысячекубовому двигателю, но все равно с гордостью вспоминали оставленные дома «Явы», «Восходы» и «Днепры»: «Наши тоже неплохо научились моцыки делать. Пойдет для российских дорог», – резюмировал конюх Серега.
Представляясь, Костя протянул мне руку, смуглую, крепкую, теплую и сухую, и тут что-то произошло: я оказалась вдруг в тягучем прозрачном сиропе, где замедлилось само время, и могла разглядеть в деталях ссадины на тыльной стороне кисти, пыль на алой кожаной куртке, застежки на комбинезоне – в моем распоряжении была вечность. Где-то далеко слышались голоса и смех, оглушительно запахло яблоками, а я, с трудом преодолевая сопротивление этого прозрачного и невидимого, все поднимала голову, чтоб взглянуть Косте в лицо.
Лучше бы я этого не делала… Загорелая кожа, лучики легких морщинок у глаз (увы мне, увы, Косте исполнилось тридцать два), насмешливый крупный рот, вздернутые брови и удивительные глаза, сине-зеленые, цвета моря, в пушистых ресницах, таких черных и блестящих, что казались покрытыми лаком, высокий лоб, длинные, собранные в хвост густые даже на вид волосы цвета шоколада, в который добавили немного сливок – яблоки пахли все сильнее…
Какое счастье, что Алдона окликнула меня! Время вздрогнуло и двинулось в обычном темпе, как-то я смогла выговорить свое имя, пискнула «извините» и ринулась к ней, чуть ли не спотыкаясь, стала суетливо помогать, поднимать в вагон собак, воду, еду, молясь, чтоб никто ничего не заметил. Не заметили – слишком заняты все были животными, припасами и закатыванием красного «Кавасаки» по импровизированному трапу из толстых досок во второй наш вагон. Не заметил и мой Женька.
18. О любви, ненависти и внезапном повороте
А на следующий день мы добрались до Прикарпатья. И там, в очень красивом городе, самом необыкновенном из тех, что я видела за эти гастроли, в теперешней столице Буковины, мне довелось впервые в полной мере испытать самые мощные в жизни любого человека чувства: любовь и страх. Ну, и на сладкое – почувствовать, каково это, когда тебя ненавидят просто так. Ненавидят только потому, что ты – другой.
На велосипед меня в двенадцать лет посадил друг Юрка. На настоящую взрослую «Украину». Пробежал со мной рядом сто метров, крича: «Не смотри под колеса, они не отвалятся, смотри вперед!» – и отпустил. Дальше я уже падала самостоятельно. Раза три. Потом сразу как-то поехала. Много ездила. Далеко. И мне всегда казалось, что велик – нечто элементарное; понять, как люди не умеют удерживать равновесие и крутить педали, я не могла. В цирке увидела работу акробатов на велосипедах и поняла: люди только думают, что умеют ездить, а на самом деле просто кое-как передвигаются. Я бы даже сказала – влачатся. Так вот, велофигуристы, чьи выступления я видела раньше, тоже всего лишь влачились. Потому что теперь я увидела, как работает Костя.
Я уже упоминала, что пять – восемь минут вечернего праздника на манеже артист оплачивает тремя часами репетиций днем. Ежедневно, кроме «зеленого»[36] понедельника. Костя репетировал по пять часов, доводя реакции тела до совершенства, до легчайшего какого-то автоматизма.
Мощь и сила вовсе не обязательно должны представлять собой груду мышц. Костя, имея фактуру точно как у Володи Агеева, только поменьше габаритами, выглядел изумительно. Прекрасный акробат, он весил не больше семидесяти килограммов и был всего на голову выше меня. Но это были семьдесят килограммов стальных мышц, красивых, гармоничных, рельефных – идеальный треугольник спины, мощная шея, роскошные волосы до лопаток (я до сих пор люблю длинные волосы у мужчин), сильные ноги с рельефными мускулами.
А подъем! Боги, что это был за подъем! Когда Костя на репетиции стоял в стойке на руках, девки-гимнастки от зависти чуть не падали вниз со своих аппаратов – идеальная дуга узкой стопы была вызывающе прекрасна. А я пропадала от непонятной тоски, ухитрившись отыскать на круглом манеже пятый угол и забившись в него: мне хотелось, чтоб эти яркие птицы попадали со своих насестов и уже перестали бы таращиться на Троепольского. Хорошо, кстати, что пока они просто таращились. Переходить к более активным действиям наши девицы, все как одна отнюдь не робкого десятка, отчего-то не спешили, а только любовались издали. Как и я, впрочем. Только я восхищалась тайно, а они – вполне себе откровенно, не стесняясь.
Всегда доброжелательный, спокойный и улыбчивый, Костя, если не помогал кому-то по срочной надобности и не находился на манеже, носился где-то на мотоцикле или читал книги. Однажды, погибая от смущения, я набралась мужества (речь из пяти слов репетировала сутки) и попросила у него невесть откуда взявшуюся в том лохматом году, прекрасно изданную «Колыбель для кошки». Он дал, конечно. И я читала взахлеб ночами, рискуя серьезно обидеть влюбленного и напрочь теперь обойденного вниманием Женьку, который привык к вечерним совместным посиделкам и разговорам обо всем (в основном, он рассуждал о нашем совместном счастливом будущем), но не могла оторваться от книги. То была моя первая встреча с Воннегутом.
Никто из нас не знал, кем был Костя до цирка. Был ли он профессиональным спортсменом, как многие из цирковых, родился ли в опилках или пришел после училища? Он молчал, а народ не спрашивал – работало одно из негласных правил цирка, где за нетактичное любопытство запросто можно было узнать точный адрес… в общем, один малоприятный, но очень популярный адрес для чрезмерно любознательных. И тогда я совершила самое настоящее преступление.
Однажды Барский вместе с Давидом Вахтанговичем уехали по делам, а я решила сделать легкую уборку в вагончике Юрия Евгеньевича. И увидела на столе ключ от его кабинета. Кабинет вместе с малюсенькой игрушечной приемной, собственно, находились в другой половине этого же вагончика, но дверь туда была закрыта. А ведь именно там хранились специальные ценные книги, святая святых передвижного цирка № 13: бухгалтерская книга, кассовая книга со всеми расходами и приходами, административная папка с копиями авизо[37] и приказов, кадровая книга с данными об артистах, техническом персонале, временных работниках. Она-то и была мне нужна. Погибая от стыда, я открыла кабинет, тихо, как тать, прокралась к столу, достала книгу и мгновенно нашла нужную информацию: мастер такого-то спорта, и еще такого-то тоже мастер, заслуженный, год рождения – господи, ему тридцать два года! Как много-то, у меня ноль шансов, я же для него маленькая ду… Что? В графе «семейное положение» каллиграфическим почерком Барского было выведено: «вдовец».
Отлично помня, какую охоту устроили на разведенного Агеева цирковые девушки, до этого момента я была очень удивлена, что никто из них не попытался расставить силки на Троепольского, и решила, что дамы в курсе его семейного положения и соблюдают закон о неприкосновенности мужика, замечательного, но чужого – значит, Костя женат, и все тут. Мне даже стало чуть полегче, кажется. Но я должна была убедиться. Для того и пошла на преступление. Что ж, убедилась… Сияние, которым для меня был озарен этот мужчина, теперь, когда к нему прибавился глубокий оттенок сострадания, стало совсем ослепительным. Очевидно, тогда и появился очередной постоянный паттерн: с юных лет и до сих пор меня интересуют исключительно мужчины с необычной и непростой судьбой, но обязательно наделенные хоть каким-нибудь талантом.
А каким профи он был! Как виртуозно жонглировал шестью мячиками и пятью булавами, стоял на пяти катушках, легко крутил всякие сальто и нанизывал рондады с винтом по кругу манежа. Ирка Романова зауважала его за десять подряд выходов на «крест» – в тот вечер артисты традиционно собрались в курилке после вечернего представления, и Ирка, знаменитая своими силовыми упражнениями, которые не всякий мужик мог повторить, спокойно отработав несколько выходов на кольцах, которые тут же и висели, как бы шутя предложила Косте продолжить: «Троепольский, ты следующий!» Ну, и офигела, конечно. Как, впрочем, и все присутствующие, потому что Костя, едва заметно касаясь пальцами ног пола, взлетал вверх с такой легкостью, будто внизу была подкидная доска, а не деревянный настил – и так десять раз. Рекорд самой Романовой был значительно скромнее.
Очевидный универсал партера, работал Костя эквилибр[38] на моноцикле[39] (с удивлением узнала, что сейчас моноцикл называют странным, каким-то острым словом «юнисайкл». Красиво, богато, непонятно – что и говорить, но это все тот же одноколесный велосипед). Костя крутил педали ногами, одной ногой, руками, одной рукой, он стоял на сиденье, балансировал вместе с моноциклом на катушках (их подкладывал ассистент в момент, когда Костя подпрыгивал и как будто зависал в воздухе), делал сальто вместе с аппаратом – моноцикл казался продолжением точеного Костиного тела. И это было очень красиво. Многие артисты труппы ежедневно смотрели из-за форганга его номер, любой из наших парней с радостью брался помогать униформе укладывать секции пола для моноцикла. В цирке нет лучшего признания мастерства и способа выражения приязни, чем помощь делом.
В тот день я, придя сильно раньше и к моменту появления Кости уже вволю набросавшись колец и булав, восторженно таращилась с барьера на летающий по манежу моноцикл. Троепольский заметил это:
– Иди сюда, Ло, попробуй. Он совсем ручной, не обидит тебя, – и выкатил вперед самый низкий моноциклик, абсолютно не выглядевший опасным. Несколько остальных, блестящих, высоченных, огромных, внушали мне трепет.
Мгновенно стало жарко, потом холодно, потом стыдно и страшно – понятно же, что я сейчас облажаюсь по полной программе, но не было такой силы в мире, что заставила бы меня отказаться. И я полезла на моноцикл.
Угу. Это я репетировала на мягких опилках. А Костя работал на специальном круглом деревянном настиле – велосипеду, даже одноколесному, крайне затруднительно ездить по мягкому. Насколько твердый этот пол, я осознала тут же, через секунду после того, как Костя отпустил мою руку. Гадское колесо, не закрепленное никак вообще, выпрыгнуло из-под меня мгновенно, и копчик со спиной последовательно приложились к полу с метровой высоты. Хорошо, что моноцикл Костя выбрал самый маленький, прямо детский какой-то (это на нем он крутил педали руками, балансируя в стойке), потому что у меня от удара аж искры из глаз полетели, но я вскочила, выдохнула и без писка полезла снова на проклятый аппарат.
Разве я могла показать Косте, что крепко ушиблась? Да и боли не было, словно мне вкатили мягкую и мощную анестезию. Сейчас, взрослая и до отвращения честная с собой, я понимаю все о дофаминовых атаках и эндорфинных всплесках, давно научилась распознавать шаги любви, а тогда не сразу поняла масштаб бедствия, лучшего бедствия в моей жизни.
В общем, на следующее утро я рассматривала в большом прямоугольнике зеркала, подаренного клоуном Юркой, свою фиолетовую задницу и частично синюю спину и понимала, что придется, пожалуй, учиться спать на животе. Что абсолютно не помешало мне днем снова дождаться на манеже прихода Кости и снова попробовать влезть на этот пыточный насест – ровно с тем же успехом. Пол стал еще тверже, очевидно, замыслив против меня недоброе. Но зато я минут десять опиралась на Костину стальную руку и была счастлива, как слон при виде сдобной булочки. И вот этого счастья, неведомого раньше, вдруг очень испугалась.
Слишком уж оглушительным оно было и не похожим ни на что, испытанное мной до того времени. У меня же имелся в наличии будущий муж, временно немножко забытый, но такой знакомый и родной, такой преданный и надежный Женька. И по любви, по большой и единственной, как мне тогда казалось, любви, естественным путем выросшей из нашей дружбы аж со второго класса, я собиралась выходить за него замуж через полтора-два года. А значит – нечестно. Нечестно настолько сильно хотеть, чтоб тебя держал за руку посторонний взрослый мужчина. Даже не держал – просто подставил свою руку, чтоб ты не сразу шмякнулась многострадальной задницей о настил. И быть оглушающе счастливой уже от одного этого как-то неправильно. Предательством попахивает. Предательницей я не была, врать и притворяться не умела. Но что было делать, если мне отчаянно хотелось опираться на руку Кости еще хотя бы часа три? А лучше – восемь. Непрерывно. А потом вспоминать его руки ежеминутно, до следующего случая, и предвкушать его, этот случай.
После недели травматичных (во всех смыслах) подходов к окаянному моноциклу и наконец-то исполненных самостоятельно двух корявых кругов по манежу я взяла сердце в зубы, душевно поблагодарила Троепольского и, откланявшись, вернулась к своим кольцам и булавам с шариками. Тем более что Ковбой уже изошел на особо изощренные маты и грозился выдрать из Кости роскошные Костины ноги, потому что я трачу время на хрень вместо того, чтоб заниматься делом. Чем не повод? Не хуже других повод не опираться больше на его руку. Только почему он так внимательно посмотрел на меня этими невозможными сине-зелеными глазами, когда я благодарила и пятилась к кучке своего реквизита? Догадался? Заметил? Да ну, чего ему присматриваться-то? Кто он и кто я? Как же из головы все это выкинуть теперь? Мамочка-аа…
Но все стало только хуже. В ближайший выходной случился день рождения Чингачгука, Сашки Якубова. Мы решили отметить его вечерней прогулкой. Неподалеку имелся прекрасный городской парк с прудом. По прудику под плакучими ивами плавали катамараны и лодочки, а в самом прудике – местные парубки[40] разной степени подпития. Мы тоже взяли катамараны, чтоб окрестности обозреть с воды и прямо там, на них, выпить за деньрожденника. Наплавались, нанырялись в укромном местечке за островком и зачем-то решили (ну, шампанское с коньяком же!) эффектно предстать перед трудящимися. Что и говорить, это было показательное выступление. Гуляющие (и пьющие) трудящиеся получили бесплатное представление прямо на водной глади, под сенью дерев. На флагманском катамаране водную гладь рассекала живописная группа товарищей: двое крутили педали, двое стояли в стойке на руках на железных баллонах впереди и двое – сзади, на следующем катамаране педали крутили мы с Машенькой из кордебалета, а Костя и Витька стояли в роскошных «мексиканках»[41]. Цирк приехал.
Местные, однако, оказались неблагодарными и к искусству равнодушными. Восторг и визг окрестных девиц, их явные заигрывания и зазывное курлыканье: «Ой, вона, дывысь, дывысь, як артисты! Гарные мужчины, а можно с вами познакомиться?» – нехорошо возбудили некоторых аборигенов мужеска полу. Прямо до невозможности. В том смысле, что через полчаса в аллейке парка дорогу нам преградили одиннадцать гопников. Да, я с перепугу посчитала их. Наших парней было восемь, и мы с Машкой, сомнительные бойцы. Но всё равно я подняла крупный камень, а Маша нашарила в траве внушительный сук.
Судя по всему, это были первые парни на селе, все как один в модных нейлоновых майках-сеточках и в спортивных штанах с белыми и даже красными лампасами. Ситуация банальная, мат и сочные описания того, что они все вместе станут делать со мной и с Машкой, когда вырубят наших – тоже. Но когда бритый под «ноль» нетрезвый вожак стаи хряснул бутылкой с недопитым пойлом о чугун парковой скамейки и стал размахивать «розочкой», а остальные достали из-за спин железные ржавые пруты, вечер перестал быть томным.
Я и сейчас не понимаю, как большинство сеткомаечных ублюдков так быстро оказались скулящими уже на парковой дорожке, все произошло мгновенно, но зато хорошо помню, как Костя и Сашка Якубов держали двоих местных пропитых заморышей на весу и стучали ими о скамейки. И как вдруг стало тихо. Потому что Костя вырвал прут у какого-то героя, размазывающего кровавые сопли по пыльному лицу и… просто согнул железяку в бублик. Без малейшего усилия. Прямо на глазах у ошеломленного зрителя. У меня аж ноги подкосились от восторга и гордости, и почему-то захотелось сначала плакать, а сразу потом – посвятить свою жизнь служению, чистому и бескомпромиссному служению Косте.
Мой будущий муж стряхнул с себя кого-то из нападавших и громко сказал: «Ого…». И Якубов сказал: «О как… Шерлок, так это ты? Как же я не признал-то сразу?».
Местные ничего не сказали. Они как-то рассосались без остатка. Тихо и шустро. Но, как выяснилось, не навсегда.
Догадаться, кто давал гастроль в парке, труда не составляло даже для этих пьяных маргиналов. Можно подумать, у них тут акробаты с гимнастами на каждом углу трюки демонстрируют! Конечно, местные поняли, куда нести помятое самолюбие и нерастраченную злобу. Группка парней появилась в окрестностях циркового городка через несколько дней после стычки в парке. Днем они часами сидели на ящиках под деревом, которое росло в паре метров от нашего забора, а к вечернему представлению куда-то девались.
Они там курили, ели, пили что-то из бутылок, лузгали семечки, негромко переговаривались и таращились в наш двор. Я, учившая украинский язык со второго класса и имевшая «отлично» и по языку, и по литературе, свободно говорившая и писавшая, понимала едва ли каждое двадцатое слово – мы были на Западной Украине. Хотя в те советские годы венгров и румын в городе уже почти не осталось, эти парни говорили не на украинском, красивом и понятном, а на каком-то диком суржике. Впрочем, некоторые слова можно было опознать. Перевожу: «дывысь, яка срака», «вуй, то ж сучi москальскi повii», «якби ось ця бiлява так цыцькi вдома у селi заголыла, шкiру б з спыны зняв» – так местные парубки реагировали на гимнасток и акробаток в трико, разминающихся на воздухе. Было очень жарко, а о кондиционерах тогда цирковые и не слышали – внутри шатра температура днем становилась очень некомфортной, многие, работавшие в партере, репетировали во дворике, а артисты «воздуха», обреченные болтаться на своих аппаратах внутри шапито, им завидовали.
На третий день сидения непонятной компании напротив проема (дело в том, что в этом месте росли старые деревья, дававшие чудесную тень, между их стволами был зазор метра в два и сквозь тонкие железные прутья забора отлично просматривался задний двор; весь остальной обзор загораживали наши вагончики, стоявшие полукругом) Верочка, одна из артисток кордебалета, очевидно тоже понимавшая «мову», возмутилась и перевела мужу, силовому жонглеру, содержание комментариев незваных гостей. Муж Вася (сибиряк, почти два метра литой рабочей мышцы), Костя и Володя Агеев пошли поговорить. Пока мужчины открывали технические ворота, компанию «ценителей» как ветром сдуло – в воздухе остался висеть только смрад злобного мата. Два великана и казавшийся на их фоне эльфом, но опасно перетекающий, словно ртуть, Костя гнаться за шелупонью не стали. Но вернувшись, Костя сказал:
– Ребята, среди тех мужиков был бритый из парка, который нас порезать на ломти обещал, я его узнал. Надо девочкам, кто не ночует при цирке, всем сказать, чтоб в гостиницу после работы возвращались толпой, не нравится мне все это, неспроста эта кодла тут сидела.
Уборщицы вынесли из-под того дерева кучу пустых бутылок, убрали ящики, вымели объедки и шелуху. На это место директор Барский велел подогнать одну из наших фур, она отлично перекрыла обзор.
И той же ночью нас попытались поджечь. Купол шапито того времени, несмотря на пропитку, занявшись, сгорел бы за пятнадцать минут без остатка. Внутри купола – амфитеатр из деревянных скамеек (сейчас все больше пластиковые секции кресел, но тридцать лет назад было дерево), много электрических приборов, сено на конюшне и тяжелые бархатные занавесы, пластиковый реквизит, там есть чему гореть.
Мы сидели в курилке, цирк уже засыпал, когда на заднем дворе страшно закричала Рита Бакирева. Мучаясь бессонницей, она заваривала себе травяные сборы и, к счастью для всех нас, пошла набрать воды из крана во дворе. Первая бутылка разбилась прямо у ее ног:
– Пожар! Сюда! – я и не знала, что человеческое горло может издавать звуки такой силы, но нас прямо подбросило, и мы ломанулись наружу. Бутылки с чем-то горючим летели из темноты за забором, полыхая и расплескивая огонь при ударе о землю. Этих тонких водочных бутылок было много, они падали везде. Так сильно я еще никогда в жизни не пугалась, ноги на какое-то время буквально приросли к земле – горел мой дом. Горели крыши вагончиков, горели ящики с реквизитом, вспыхнула небольшая копна сена, которую не успели занести в конюшню, но до купола огонь не добрался. Пахло бензином и, кажется, гудроном, дым жрал глаза, но полуодетые артисты тушили пламя так слаженно, будто все были опытными пожарными, – бочки с песком недаром стояли по периметру двора, да и старые брезентовые полотнища, которые хозяйственный шапитмейстер держал на всякий случай, очень пригодились.
Одна бутылка разбилась о стену вагончика рядом с моей головой – я мгновенно получила от кого-то в лицо струю пены из огнетушителя и выбыла из строя, надо было срочно умыться. А когда вернулась, все уже потушили, цирковые сидели кто на чем, уставшие, грязные, как черти, но улыбающиеся – никто не пострадал. Правда, лысое пятно от ожога у меня на голове зарастало долго, зато я научилась делать интересные маскирующие прически.
Конечно, никого не поймали, хотя наши и выскочили за территорию, – твари смылись, как только поняли, что людей полон двор и пожара не будет. Гнаться за их мопедами по незнакомым улицам было глупо. Остаток ночи артисты дежурили по очереди, а утром директор Барский отправился в милицию. Из горотдела его привез на милицейском «уазике» толстомордый пузатый майор, походил по территории, поковырял пальцем-сарделькой копоть, которая была повсюду, и сказал примерно следующее: «Та дэ ж мы йых шукаты будемо? И вы шо, бачилы когось? Кого конкретно нам шукаты?»
Отдуваясь, влез в машину и уехал, зыркнув на стоящих вокруг цирковых так, что Фира Моисеевна тихо сказала Барскому:
– Юра, надо сворачивать гастроли. Нас здесь почему-то ненавидят. Что-то еще случится, Юра.
Юрий Евгеньевич, который выпил за предыдущую ночь почти весь запас корвалола и которому все равно пришлось вызывать скорую, чтоб купировать приступ, чуть отдышавшись, позвонил в Главк и о чем-то долго беседовал с начальством, плотно притворив дверь своего «кабинета». Вышел к нам, помолчал немного и сказал:
– Сворачиваемся, друзья мои. Деньги за билеты придется вернуть, в зарплате все немножко сейчас потеряют, план не выполним, о премии забываем. Скоро будет понятно, куда едем дальше, в Главке срочно перекраивают графики и решают, что с нами делать. Сейчас отмываем хозяйство от копоти, отдыхаем и начинаем сборы. Кассирам принести мне билетные книги – на завтра заказываем инкассаторов.
За несколько часов мы отмыли вагончики, пострадавшие секции забора и реквизитные ящики, радуясь, что почти все ящики оцинкованные, а крыши вагончиков покрыты железом, на котором всего лишь обгорела краска. Засыпать черные проплешины на зеленой травке двора не стали.
В девятнадцать часов, без минутной задержки, начали и очень собранно отработали вечернее представление, по окончании которого все артисты труппы в гриме и костюмах вышли в манеж, чего обычно у нас не делали. Перед тем как попрощаться со зрителем, Давид Вахтангович попросил внимания зала и объявил, что общее собрание коллектива цирка постановило прервать гастроли и покинуть город:
– Сегодня ночью нас хотели сжечь, уважаемая публика. Завтрашнего представления не будет, по радио и местному телевидению объявят о трехдневном сроке возврата денег за проданные билеты. Мы не испуганы, мы оскорблены. Артистам – с окончанием! Живущим здесь – счастливо оставаться.
Удивительно, но зрители очень быстро и молча покинули зал, ушли, как вода в песок. А в последующие три дня за деньгами явилась только часть купивших билеты, хотя по радио и местному телеканалу объявляли о возврате регулярно. И конечно, наши мужчины дежурили группами по пять человек все эти ночи, сменяя друг друга, потому что ни одной милицейской машины поблизости замечено не было. Их милиция нас не хотела беречь, видимо.
Не знаю, насколько это соответствует действительности, но мне говорили, что в течение пяти лет в том городе не было ни одного цирка-шапито – директора передвижек просто отказывались туда ехать.
19. На юг, на юг!
Мне и тогда казалось, да и сейчас я уверена, что у передвижки № 13 был особо могущественный ангел-хранитель. Ну, или Дух цирка решил, что мы достойны награды, потому что молодцы, не трясемся над дражайшим рублем, да и просто – хорошие люди. Иначе ничем нельзя объяснить тот фортель, который выкинул Главк.
Нас не заставили долго томиться неизвестностью, звонок раздался через два дня, когда зрительный зал уже был разобран, осталось демонтировать шапито и погрузиться. А пока артисты продолжали ночные дежурства и занимались текущими делами: починкой и стиркой всех рабочих костюмов сразу, мелким ремонтом аппаратуры, покраской и наладкой реквизита (это никогда не лишнее), всем тем, на что в обычной стремительной жизни цирковых времени всегда не хватает. Оркестранты наши, например, вволю наигрались в эти дни в преферанс, а мы с Женькой и Володей Агеевым осмотрели город, дивный старинный город с булыжными мостовыми, коваными решетками повсюду, домами, похожими на маленькие замки, замками, похожими на сказку, и купили Володиной дочке Анечке очень красивую шубку из мутона. Давид Вахтангович с Фирой Моисеевной попросили воздушного гимнаста Альгиса отвезти их в кинотеатр, нарядились и отбыли. Но, чем бы кто ни занимался, все мы ждали – куда? Не расформируют ли?
Костя возился во дворе с мотоциклом, я якобы читала неподалеку, устроившись на уголке свернутого запасного манежного ковра, благо темные очки позволяли любоваться Костей без опаски, что заметит, куда я смотрю. Пришел Агеев:
– Ребята, щас все решится, Барскому позвонили из Главка!
Через минуту почти все наши были тут как тут. А вон и Барский вышел из кабинета, стоит, очки снял, протирает, щурится… Специально тянет время, что ли?? О, идет к нам. Берет красный Костин шлем, задумчиво так вертит его в руках, обводит нас всех взглядом. Мы не дышим вообще, только Костя начинает насвистывать мелодию из «Крестного отца». И оказывается, что слух у него тоже почему-то идеальный.
– Троепольский, мотоцикл у тебя на ходу?
– Обижаете, Юрий Евгеньевич, ему же год всего, а «Кавасаки» вечные почти!
– Ну-ка, дай старику прокатиться… И мы следуем отсюда в Сухум, кстати. К морю, ребята! Там же остаемся на зиму, Давид поехал за билетами для труппы, премьера – через неделю.
Я недаром обожала Барского: в полной тишине он поймал брошенные Костей ключи, аккуратно прислонил свою трость к ящику, достаточно ловко для хромого немолодого человека оседлал мотоцикл, надел шлем, газанул с места и умчался. А мы остались стоять, как группа жен Лота.
Понимаете, это было все равно что получить помилование за час до казни. Мы ожидали расформирования труппы, нагоняя, проверки, в лучшем случае – возвращения в центральную Украину. Но вместо наказания нас наградили по-царски: море, солнце, горы, длинный сезон в субтропиках, где можно работать до конца ноября – тепло, доброжелательная местная публика и масса отдыхающих, которые приезжают и уезжают, а значит, обеспечат заполняемость зала. Это же просто праздник какой-то! И целых четыре месяца рядом с Костей, о чем я и мечтать не смела.
Первой очнулась Рита. Засмеялась, обняла Агеева, и они сплясали какой-то танец, больше похожий на комический номер «борьба нанайских мальчиков»[42]. А наши парни уже достали откуда-то шампанское, и все прямо из горлышка выпили, мне тоже дали глотнуть. Впервые, кстати, за все эти месяцы я не услышала от своих «нянек» их обычное заботливо-унизительное «рано тебе еще!».
Барский вернулся только к вечеру, весь пыльный и улыбающийся. Вынул из багажного кофра букет полевых цветов, вручил Фире Моисеевне. Сказал Косте: «Годный аппарат у тебя, как-нибудь еще поезжу, если позволишь», – взял трость и пошел к себе. Почти не хромая. Троепольский выглядел несколько озадаченным: судя по бензобаку, директор наездил за эти часы почти триста километров. Он же не знал, что наш седой и вальяжный шеф в юности начинал у знаменитого Петра Маяцкого и вообще пять лет отдал гонкам по вертикальной стене, был звездой смертельного аттракциона, что ему та езда по ровной земле?
Как же слаженно и быстро мы собирались, паковались, грузились! Всем хотелось как можно скорее покинуть это место и забыть то, что здесь произошло.
Мы говорили о поджоге, конечно, и никто из труппы не мог вспомнить ничего подобного. Агеев сказал, что даже в Бразилии, когда передвижной цирк однажды стоял неподалеку от фавел с их неконтролируемой преступностью, в кабинет директора программы пришел местный «папа», огромный мужчина цвета кофе, увешанный золотыми цепями и амулетами. С собой он принес увесистый мешок. Уселся в кресло и попросил пригласить шефа полицейских, которые охраняли артистов круглосуточно. Когда офицер пришел, громила обиженно сказал: «Эти люди приехали, чтоб подарить нашим детям и нашим женщинам праздник, люди работают для нас, им ничего не угрожает, дон. Уберите усиление, нам стыдно перед артистами. Пусть работают спокойно, они в гостях, а не среди врагов. А это передайте им от жителей города», – и пододвинул мешок, в котором оказались зерна знаменитого бразильского кофе. Усиленная охрана была снята, цирк доработал гастроли в обстановке доброжелательности и благодарности.
Должна признаться, что какое-то время мне снилась та ночь и горящая земля под ногами, по утрам ужасно чесался кусок лысой кожи на голове – я испугалась сильнее, чем думала. Но потом Олег Таймень, наш массажист, понажимал на какие-то точки, и кошмары вместе с зудом исчезли навсегда. Волосы, правда, отросли только через несколько лет.
Наша разнарядка в Сухум еще и потому была чудом, что Главк денежки считать умел, и цирковые коллективы за сезон объезжали только определенные области огромной страны: допустим, начало гастролей в городе К. и потом переезды в города, до которых было не более тысячи километров. И только поездами, потому что звери же с собой. Случаи, когда передвижка с запада ехала бы на глубокий юг, можно было пересчитать по пальцам, и конкретно наш объяснить нельзя было ничем, кроме невероятного везения.
Я и сейчас думаю, что это была своего рода компенсация от Невидимых Регулировщиков – почти пять тысяч километров и субтропики в качестве приза. Само шапито со всеми запчастями, шапитмейстер с командой рабочих, униформа, электрики и животные с сопровождающими отправлялись первыми. На этот же товарняк погрузили реквизит и наши жилые вагончики, не приспособленные для таких дальних переездов. Скорым поездом уехали директор Барский, Давид Вахтангович, администратор и большая часть труппы, ушли цирковые фуры – в то время не имели понятия о пробках, таможнях и границах, машины должны были через Одессу прибыть в Сухум почти одновременно с теми, кто отправился по железной дороге.
Володя Агеев, пользуясь паузой, улетел в Москву к дочке, с ним полетел и Олег Таймень, чтоб посмотреть состояние Анечки. Ковбой, Сашка-Чингачгук и Димка, третий верхний из агеевского номера, уехали в Сухум с Барским и остальными. Костя, отправив реквизит, попрощался со всеми, сказал: «Увидимся у моря!» – и умчался куда-то на красном «Кавасаки», а я затосковала всерьез. Почему я решила, что мы снова поедем в товарном вагоне и Костя будет рядом целых четыре, а то и пять дней? У него свои дела и совершенно отдельная, прекрасная жизнь – так думала я и очень хотела домой, но попросить короткий отпуск, чтоб повидать маму, стеснялась. К счастью, у меня же был пожилой мой ангел – Фира Моисеевна, которая видела все и все понимала. Она сказала Барскому:
– Юра, я навестила бы Дину. Она меня к хирургу сводит, нога что-то опять болит, а у нее отменный специалист есть в друзьях. Да, Лору беру с собой, она скучает по маме. Привезу ее к началу. Пусть домашних котлет поест, вон, одни глаза остались на мордочке.
Барский легко отпустил нас, но тут неожиданно и не очень хорошо выступил Женька. Ему совершенно не улыбалась перспектива ехать в Сухум без меня, и он попробовал было тоже попросить отпуск у Давида Вахтанговича, но тот просьбы не понял (и был прав, конечно):
– Биджо[43], а кто же работать будет? Если б ты раньше сказал, мы бы взяли человека. Теперь где мне брать руки, когда приедем? Да еще и на несколько дней всего, до твоего возвращения, кто к нам работать пойдет? Ты месяц только отработал, какой отпуск? Совесть имей, да?
Я ужаснулась: просьба Женьки звучала крайне глупо и несвоевременно, была самой настоящей подставой, и шпрех отказал совершенно справедливо. Очень было стыдно. Я уговаривала, просила, настаивала, объясняла, но доводы не подействовали. Женька психанул и демонстративно пошел собирать вещи, навсегда лишив себя таким образом возможности вернуться в цирк. Ведь если бы он вдруг захотел снова поработать на манеже, любой шпрехшталмейстер связался бы с Давидом Вахтанговичем и спросил, как проявил себя этот парень? И услышал бы правду. Кто возьмет в семью ненадежного товарища? Только не цирковые.
Заодно Женя лишился и моря с горами, и субтропиков, которые, как и я, никогда не видел. Ну, и моей компании на следующие неизвестно сколько месяцев – ко всему прочему. Очень умно поступил. Зато домой мы возвращались вместе. Он же еще и обиделся непонятно на что, в автобусе мрачно молчал и в наших с Фирой Моисеевной разговорах участия не принимал.
20. Антракт
Дома в мое отсутствие случилось неожиданное: нарисовался мой биологический папа. Внезапно. Весомо дал о себе знать родитель, как из пушки пальнул, хоть и через столько лет. Мама пребывала в недоумении, и очень хорошо, что я привезла отвлекающий фактор в лице драгоценной Фиры Моисеевны, которую нужно было в короткий срок немножечко пообследовать, а то мне могло влететь за самодеятельность по первое число.
Дело в том, что я появилась на свет весьма неожиданно. То есть очень, очень «ожиданно», но когда уже и не ждали. Мамочка, побывав дважды замужем, так ни разу и не забеременела. Врачи разводили руками: абсолютно здорова, прекрасные анализы, отличная физическая форма. Мужья мамины в этом смысле тоже были в полном порядке, а вот не получался ребеночек, и все тут (еще молодой Барский, кстати, на плече у которого моя тоже молодая мама иногда вздыхала по этому поводу, был готов жениться хоть завтра и так, без детей, я его за это теперь дополнительно любила). Испробовав все доступные в то время методы, ближе к сорока годам мама смирилась.
И немедленно встретила моего отца. Очень красивая, взрослая, утонченная, умная, с изысканным вкусом и удивительным чувством юмора, мама влюбилась так, что, как она сама однажды призналась, «прямо подгибались колени, когда я его видела». Папаша будущий тоже дурачком не был, ринулся завоевывать со знанием дела. Он считался завидным женихом, недавно отметил пятидесятилетие (никто не верил, и небезосновательно, я видела фотографии того периода), прекрасно зарабатывал, был знаменит, награжден, а еще не имел в прошлом ни браков, ни детей, а значит, и алиментов. Не давался оголтелый холостяк ни балеринам, ни певицам, коих вокруг (в силу рода деятельности папа́) было в изобилии.
Народный артист, красавец, певец (кроме шуток, оперный певец) однажды был приглашен директором неважно какого цирка на премьеру и зачем-то согласился, хоть никогда особо и не жаловал пеструю толпу цирковых – был воспитан на классической музыке и балете. Сидел в директорской ложе, вежливо хлопал и немного скучал. Пока гимнастка, только что закончившая трюк, не съехала по першу вниз и не оказалась прямо перед ним – номер завершался общим комплиментом, артисты стояли по окружности манежа. В общем, «так узнала мама моего отца».
А как узнала, так тут же с текущим мужем и развелась (это как раз и был дядя Гриша Домбровский, руководитель цирковой студии из моего детства). Роман продолжался долго, мама и отец разъезжались на гастроли в разные города и страны, опять встречались – для сохранения накала чувств нет ничего полезнее разлук, и отец, уходя в отпуск, везде ездил за своей избранницей. Любил, вроде, очень, но откладывал и откладывал предложение, а ее все и так устраивало. Потом во время совместного отпуска у теплого Азовского моря моя будущая мама как-то ухитрилась не заметить двухмесячной задержки. А заметив и решив, что это ранний климакс пожаловал, пошла удостовериться к своей подруге, бывшему военному хирургу Марте.
Шестидесятилетняя Марта, Герой Советского Союза, полковник медицинской службы в запасе, матерщинница и хохмачка, к которой женщины записывались на прием минимум за месяц, спокойно сказала:
– Двенадцать недель, Дина. Может, тринадцать.
– В каком смысле? – глупо спросила мама, уже уверовавшая по дороге в больницу в ранний климакс. – Посмотри повнимательнее еще раз!
– Да я туда двадцать лет целыми днями смотрю ежедневно! – обиделась Марта и нечаянно закурила прямо в смотровой.
Потом они поплакали на радостях, мама выкурила последнюю на ближайшие два года сигарету и сказала:
– Там девочка, Марта. И я знаю, как ее зовут.
Из больницы счастливая мама немедленно поехала на переговорный пункт звонить любимому в очередную заграницу. Услышав радостную весть, любимый помолчал там, у себя в отеле, потом еще немножко помолчал и просительно сказал:
– Дина, а давай еще поживем для себя?
Небо немедленно почернело, раскололось и обрушилось на кудрявую мамочкину голову, но она теперь была не одна, у нее уже была я. И она засмеялась:
– Конечно, дорогой! Мы же так молоды – тебе всего пятьдесят два, мне всего сорок, вся жизнь впереди, детей у меня еще будет сколько захочу, да?
Повесила трубку и вышла из кабины. Больше она ни разу не видела моего отца и ни разу с ним не говорила – кроме одного случая. Он просто не знал, с кем имеет дело: моя мама если уж вычеркивала человека из своей жизни, то раз и навсегда. Отец, как рассказывала мне потом Марта (она была моей крестной мамой и до самой смерти оберегала и лечила нашу семью – мамочку, бабулю и меня. Обширный инфаркт после труднейшей многочасовой операции отнял ее у нас, когда мне было пятнадцать. Марте стукнуло семьдесят пять, и она была полна жизни и планов), обрывал все известные ему телефоны несколько дней. Он звонил моей бабушке, он звонил Марте, звонил тем маминым подругам, номера которых знал, но все отвечали одно: Дина уехала на гастроли, обещала позвонить при первой же возможности.
Непривычный к такому пренебрежительному отношению народный артист озадачился, прилетел проверить лично – и нашел нашу квартиру запертой, потому что бабуля тоже уехала с мамой, чтоб готовить ей полезное и вкусное и вообще контролировать процесс. Народный артист позвонил в Главк, но ему не дали сведений относительно гастрольного маршрута номера – маму многие знали и с удовольствием выполнили ее просьбу о конфиденциальности любой информации. Персонально для народного артиста.
Когда февральской ночью я родилась и Марта поднесла меня к лицу измученной почти сорокачасовыми схватками мамы, то услышала:
– Ты посмотри, как она на него похожа… даже мизинчики на ножках той же формы.
Я росла только маминой и только бабушкиной. Ни после моего появления на свет, ни позже мама не взяла от отца ни единой копейки, хоть он и пытался передавать через общих знакомых пухлые конверты. И только однажды мы с ним увидели друг друга.
Почему-то моя полумладенческая память сохранила тот огромный дом на зеленой улице, куда привезли трехлетнюю меня и плачущую седую бабушку. Мама отца, уже совсем старенькая, тяжело болела и написала моей бабуле письмо с просьбой показать единственную внучку (два старших брата отца погибли на войне, оба были холосты). Анна Ивановна, известный самурай, умело надавила на маму, и мы полетели в город у Балтийского моря.
Я не помню лица, помню лишь, что этот мужчина показался мне огромным (так и было, сто девяносто сантиметров и могучая грудная клетка профессионального певца), помню много блестящей мебели на гнутых ножках и как меня поставили на пол из скользкого, но очень красивого дерева – я прыгала на одной ножке по геометрическим узорам паркета, а потом спросила у высокой бабушки с белыми волосами, почему она плачет. Бабушка заплакала еще сильнее, я испугалась, что обидела ее, и пошла вдоль шкафов. А вот то, что было дальше, как будто намертво вырезали в моей детской памяти, но на всякий случай я проверила себя, уточнив детали у мамы. И уточнения эти мне пришлось из нее добывать – она никогда не говорила об отце плохо.
Старая женщина подхватила внучку на руки и тут случилось страшное: любознательная малышка, сидя на руках у потерявшей бдительность только что обретенной бабушки, протянула ручку и схватила с полки огромного шкафа статуэтку улыбающегося пузатого божка с дырочкой в голове. А в следующую секунду гостиную, полную старинной мебели, потряс вопль:
– Пожалуйста, Дина, забери у нее! Это же нэцке! Это семнадцатый век! Уронит! Разобьет! Она что, не понимает, что нельзя? – горестно взывал папа́ к «женщине своей жизни». Мама отлично услышала перевод: «Будь добра, убери ЭТО из моего дома, оно опасно для моей коллекции!»
Конечно, я не понимала. Мне было около трех, и я думала, что смешные фигурки – это такие игрушки. Крик, исторгнутый тренированным голосовым аппаратом народного артиста меня испугал, я вздрогнула… и осторожно поставила фигурку на полку. Вздрогнула и новая бабушка. А мама вздернула бровь, молча взяла меня из рук притихшей старой дамы, подхватила наш чемодан, и мы уехали в гостиницу, чтоб на следующий же день улететь домой, в цирк. Это была моя первая и последняя встреча с отцом и той бабушкой. Очевидно, подсознание сделало какие-то выводы, потому что я потом никогда не спрашивала, где отец, почему он не с нами и что вообще произошло. Ни разу в жизни.
А тут мне исполнилось шестнадцать, я получила паспорт и считала себя совсем взрослой. Фотографии «три на четыре с уголком» получились отличные, две оказались лишними. Папа́, наверное, уже помер от старости, ему же сейчас прорва лет, но вдруг жив? Пусть посмотрит, какую дочь вырастила моя мамочка, пусть увидит, как мы похожи с ним и, может, черканет мне несколько восторженных строк, думала я. Добыла адрес из красной записной книжки, которую мама прятала в старой кожаной сумке, годами пылившейся в кладовке, вложила в конверт маленькую фотографию и листок с тремя словами: мне шестнадцать лет.
Папаня, очевидно в силу возраста, тормозил почти полгода после отправки того письма и вдруг прислал перевод. Ни единой строчки, ни буковки – только перевод на мое имя, из чего я сделала вывод: увиденное ему понравилось, и справки отец родной таки навел. В переводе он указал фамилию и отчество, которые дала мне мама при регистрации, и это были не его фамилия и не патроним от его имени.
Перевод. Огромная сумма – тысяча рублей. Много маминых зарплат. Восьмая часть стоимости новых «Жигулей» престижной пятой модели. И почти полная стоимость мотоцикла «Ява», который не «Кавасаки», конечно, но тоже ничего. Я получила деньги, положила их в свой секретер до времени икс и погрузилась в домашние дела. Мамуля не задала ни единого вопроса об этой колоссальной сумме, просто пригласила соседа, чтоб он врезал еще один замок в дверь (железных дверей в СССР не было вообще, они появились после развала страны), ей так было спокойнее.
21. На юг, на юг! (продолжение)
На вокзал мы с Фирой Моисеевной приехали в сопровождении мамы и Женьки, навьюченного припасами так, будто нам предстояло отбыть на льдину к героям-папанинцам. К отъезду я уже выдержала трудный разговор с ним, наотрез отказавшись оставить цирк, пережила увещевания и апелляции к моей маме и закрыла тему, напомнив, что теперешнее наше расставание – цена его собственного необдуманного поступка. Но осадочек, конечно, остался. Кроме того, я начала подозревать, что никогда, никогда мой парень не разделит со мной любви к цирку. Это следовало серьезно обдумать. Хотя, если честно, мысль о будущем замужестве и без того уже перестала казаться мне привлекательной. Я была рада тому, что возвращаюсь к нашим, к моей настоящей жизни.
И к Косте, конечно.
В Ростове-на-Дону была короткая пересадка, поезд «Ростов – Баку» и последние семьсот километров, из которых полтораста мы ехали вдоль моря – до самого Сухума. Какие-то парни открыли обе двери в тамбуре нашего купейного вагона, и я так и бегала с одной стороны тамбура на другую: слева поднимались небольшие зеленые горы, а справа переливалось серебряными бликами совершенно бирюзовое море. Поезд шел так близко от воды, что мы слышали смех загорелых людей на пляжах, музыку из кафешек и ресторанчиков, вдыхали дымок от мангалов с шашлыками и жаровен с чебуреками и лепешками. Было полное ощущение, что мы не возвращаемся на работу, а едем отдыхать у моря, причем по приглашению каких-то добрых людей. В гости едем.
Поезд мчался уже совсем вплотную к поросшим соснами и чем-то буйным, очень разноцветным, склонам, потом склоны вдруг кончились, и слева оказались Горы. Настоящие, даже лучше, чем суровые горы в Теберде. Огромные, темно-зеленые, они почти закрывали кобальтовое небо, а на уровне пояса у них болтались белые облачка. За первой шеренгой гор виднелась следующая и следующая, еще выше, – хотелось вопить от восторга, я же впервые в жизни видела такую яркую красоту.
Наш состав нырял в тоннели, скоро замелькали какие-то чудесные ажурные строения на станциях – прямо как в стране Оз; мы перемахнули через бурную горную реку (а справа все время было море, море!) и выкатились к вокзалу необыкновенной красоты, похожему на дворец с высоким шпилем. Вокруг здания вытянулись во фрунт огромные пальмы, группками по три росли какие-то необыкновенные деревья с пышными кронами и блестящими темно-зелеными листьями. Это были магнолии, я их видела по телевизору. Субтропики! От мысли, что это все не отберут прямо сейчас, что тут мы останемся надолго и я смогу все-все рассмотреть и потрогать, что море будет рядом каждый день, а не как в отпуске, когда мама нарочито бодро говорила: «Ничего, дочечка, еще целых десять дней», – и вправду хотелось орать, ходить по вагону колесом и кого-нибудь расцеловать. Кого-нибудь, кто вдруг приехал бы на кра… Что? Что?! На перроне стоял красный «Кавасаки», а рядом с ним вглядывались в окна вагонов Агеев и Давид Вахтангович.
Вот тут я на сто процентов поняла смысл маминых слов про подгибающиеся ноги и дрожь в коленках: насколько мне было известно, в этом поезде никто из цирковых больше не ехал. Значит, Костя (а это мог быть только его «Кавасаки») приехал встречать… нас? А я торчала в тамбуре последние три часа, на голове кошмарная жуткость, руки в саже, и переодеться не успела, выгляжу как чучело. И это катастрофа. Сзади тронули за плечо: «Детка, вот, возьми влажное полотенце, протри лицо и руки, а волосы просто собери в хвост. Бриджи и футболка почти не пострадали в дороге, сойдет, – Фира Моисеевна внимательно и ласково смотрела мне в глаза. – Он замечательный, его не стыдно любить, девочка моя, только вот…»
Она не успела договорить, поезд остановился, мы метнулись к полкам, стали доставать багаж, а сумок было много – мама же собрала припасов на год папанинской зимовки плюс мои теплые вещи. На всякий случай, потому что никто не знал, когда я окажусь дома после закрытия сезона.
Пока мы доставали чемоданы и я пыталась вытащить из багажных отделений неподъемные сумки с пакетами, Костя, оказывается, прошел весь состав, начав с первого вагона, и обнаружил нас в седьмом:
– Ага, понятно: две пары женских рук и поклажа на шестерых здоровенных мужиков. Интересно, как бы вы все это волокли до такси и где бы искали нас, если водители в городе еще не знают адреса цирка? И куда же повез бы вас таксист? Фира Моисеевна, дорогая, от вас я не ожидал такого легкомыслия! – Костя обнял пожилую артистку, чмокнул в макушку меня, легко поднял наши три чемодана и сумку, велел ждать в купе и вернулся уже с Володей, на груди которого я с облегчением спрятала пылающее лицо. Он. Меня. Чмокнул в макушку! Как будто мне пять лет, уж-жжасно… Еще бы в лобик поцеловал!
– Ну как же вы так? Я два дня на Главпочтамт ходил, телеграмму ждал! Как можно было не сообщить дату и номер поезда? А если б сегодня не закончили телефонный кабель тянуть и Барский не дозвонился бы до твоей мамы? – Агеев обращался почему-то исключительно ко мне.
Наверное, надо объяснить: в какой бы город мы ни приезжали, первое, что делал директор, наскоро разместившись в своем вагончике, это покупал местный телефонный справочник и ехал в городскую телефонную контору договариваться об отдельной временной линии, которую обычно тянули от ближайшего к шапито учреждения. В цирке телефон нужен, как воздух. Работа артистов связана с риском, в труппе есть дети, есть животные – возможность вызвать врачебную помощь должна быть обеспечена в первую очередь. Да корм для животных директор Барский заказывал по телефону – после того, как администратор коллектива объезжал исполком, где уже была получена из Главка разнарядка о прибытии цирка, мясокомбинат, овощебазы или фермы и один-два ближайших совхоза. Разумеется, чиновники исполкома, директор мясокомбината, председатели совхозов и прочие нужные цирку люди всегда могли рассчитывать на красивенькие пригласительные в директорскую ложу.
В общем, прилетело мне от Володи так, будто это я была виновата в том, что мама и Фира Моисеевна в суматохе сборов и бесконечных приготовлений съестного (закатать пять трехлитровых банок всяких вкусностей и купить еще пять трехлитровых с домашней свиной тушенкой, а потом все это загрузить нам с собой – это как?) напрочь забыли телеграммой сообщить Агееву дату, номер поезда и вагона. А мне это никто и не поручал, между прочим.
Костя и Володя выволокли остальные чемоданы и сумки, а мы попали в объятия Давида Вахтанговича, получили следующую порцию мягких упреков и наконец-то уселись в два одинаковых синих «жигуленка». Костя прыгнул в седло, машины пристроились за мотоциклом, и кавалькада двинулась по плавящемуся от жары чудесному Сухуму. Практически цугом.
День приезда, начавшийся так чудесно, чудесно же и продолжился: место, которое исполком Сухума нам выделил под шапито и прочее цирковое хозяйство, оказалось большим ровным полем с тремя пальмами, группками деревьев (магнолии! сказочные магнолии!) и кустов, очень удачно образовавших естественную ограду. Улицы с частными домами, непривычно зеленые, начинались через дорогу, а по диагонали от забора циркового городка совсем недалеко виднелось море.
Ни в одном городе мы не стояли в таком прекрасном месте. И уж точно нигде на территории цирка не рос гигантский эвкалипт с матово светившимся в солнечных лучах, голым, совсем без коры, стволом, весь в каких-то ошметках, живописно свисающих с веток, и с серебристыми листиками. И это тоже было отлично, потому что я читала: там, где растут эвкалипты, не бывает комаров. Под эвкалиптом-патриархом утвердился вагончик дирекции, около него в тени дерева сидел директор Барский и пил чай. Весьма кстати тут же пришлись беляши, которые мама упаковала в японскую сумку-холодильник, им ничего не сделалось за почти тридцать часов дороги.
А вокруг кипела работа. Купол уже установили, теперь монтировали зал, манеж, конюшню, инженер Инал, из местных (это он привез нас с вокзала, второй «жигуленок» принадлежал его брату), командовал сборкой забора, навешиванием ворот, подводкой воды на задний двор, тягачи таскали и устанавливали полукругом жилые вагончики, администратор Аркаша, которому тоже достался беляшик, умчался решать вопросы с размещением артистов в гостинице на набережной. Обнаружились Ковбой и Сашка-Чингачгук, они вместе с другими артистами, работавшими «воздух», протирали и готовили к подвеске страховочную систему нашего шапито, а массажист Олег Таймень собирался ехать к матери какого-то важного городского чиновника, страдающей тяжелым хондрозом, – за ним прислали роскошную белую «Волгу».
Подозреваю, что нашего Мастера запродал своими руками директор Барский, когда ездил в исполком по поводу места для купола и прочего хозяйства – нежно любящий свою пожилую маму завотделом тут же предложил бартер. И сделка состоялась: за месяц сеансов массажист таки облегчил страдания почтенной грузинки, а у нас все зато работало как часики, доставлялось бесперебойно, увозилось по первому же звонку, убиралось, освещалось и уважалось всеми окружающими.
К ночи все было, в принципе, готово. Те, кто жил при цирке, заняли свои вагончики, семейные артисты с детками разместились в приличной гостинице, лошадки, медведи и собаки уснули в привычных денниках, клетках и вольерах, аппаратуру и систему лонж артисты подвесили, администратор договорился с Горторгом о будках с мороженым, квасом и газировкой. Завтра начнутся репетиции и прогоны, потому что через два дня будет премьера, а мы хотим приятно удивить этот чудесный город.
И тогда настало время пойти поздороваться с морем. Я откладывала этот момент весь день, постоянно поглядывая в ту сторону, где между деревьями виднелось огромное, синее, живое, колышущееся, предвкушая, как вечером медленно войду в воду. Ночь повисла над цирковым городком, прозрачная, бархатная, теплая, пахнущая эвкалиптами и рододендронами, а до моря нужно было пройти каких-то триста шагов, но навстречу попались наши, уже совершившие некоторую разведку, и они сказали, что лучше купаться утром – напротив цирка довольно крутой спуск с пирса и не горят фонари, а вот чуть правее есть пляжик, который как раз то что надо, но как к нему пробраться сквозь заросли кустов, в темноте не видно. И лучше пошли-ка есть шашлыки, Инал с братом принесли целую тушу барана, чтоб отметить свое знакомство с коллективом.
Я посидела на пирсе, послушала шепот волны под ногами, полюбовалась россыпью огней слева, где был город, и справа, где стояли два небольших корабля, и еще раз поблагодарила Духа цирка за все, что есть, и что еще будет: кто-то говорил мне, что благодарности, как и молитвы, произнесенные ночью в месте, где рядом вечность, обязательно доходят. И это одна из причин, по которым люди ходят в церкви. Я в церковь никогда не ходила, но разве море не было самой настоящей Вечностью? А небо, с которым оно сливалось на горизонте? В моем распоряжении были целых две Вечности.
22. О Мальчике и Нарциссе, или Первое приключение на новом месте
Утром мы нашли и чудесный маленький пляж, тропинка к которому терялась в пышных зарослях рододендрона и рогоза, и магазинчики неподалеку от циркового городка, и целую толпу разнокалиберных местных мальчишек, кудрявых, черноглазых, прехорошеньких – они сбежались со всех окрестных улиц и тихо стояли за заборчиком, трогательно вытягивая шеи, когда конюхи проводили мимо лошадей на разминку или Алдона шла к колонке в окружении собак, чтоб сбрызнуть ледяной водичкой мохнатых псов. Жара в Сухуме стояла субтропическая, сенбернары категорически ее не одобряли и валялись в вольерах большими плоскими ковриками.
Помните, я рассказывала, что к нам приехала целая толпа артистов? Среди них были братья, силовые акробаты Игорь и Андрей Угольниковы. Странная прихоть природы: абсолютно непохожие двойняшки, они родились с перерывом в пятнадцать минут, но старший, Андрей, получился чуть ли не в два раза мельче брата. Общего у них было – брюнетистая масть и совсем немного черты лица. А еще фигуры, прекрасные фигуры атлетов.
Младший, Игорь, доставшуюся ему фактуру очень любил всячески демонстрировать: носил белые и черные трикотажные футболки «в облипочку», приходил разминаться к кольцам, что висели около курилки за форгангом, только во время скопления там курильщиков (сам не курил вообще, да и пил только легкие вина), крутился на кольцах всяко красиво и зрелищно, демонстрируя действительно великолепные штицы[44] или стойки на руках и мужественно дыша при этом обильным табачным дымом. Наверное, ему хотелось внимания цирковых, причем хотелось часто. Эквилибристы, гимнасты, акробаты и примкнувший к ним прочий люд смотрели, улыбались, одобрительно цокали языками по поводу бицепсов, трицепсов и прочих красот, но… все считали Игорешу пустышкой, нарциссом и позером. В лицо не говорили – оно ж безобидное и забавное, зачем обижать? Пусть себе выпендривается, может, ему так жить легче?
Андрей был другим. Чаще всего, когда не репетировал и не торчал около денников на конюшне (исступленно любил лошадей), Угольников-старший сидел где-нибудь с толстенной книжкой, иногда – на английском или французском языке. От Андрюши я впервые услышала о Кастанеде и Кроули – еще тогда, когда даже мысли о выходе этих книг на русском и допустить нельзя было. Он же подарил мне уникальную Цирковую энциклопедию 1905 года издания.
Спустя много лет эта книга помогла нам с моим скаем Гошкой выжить: букинист на Кузнецком отвалил за нее очень прилично, и мы целых три месяца нормально ели, да и съемную однушку я смогла оплатить, а там и помощь подоспела откуда не ждали.
Номер братьев Угольниковых был красивым и очень каким-то элегантным. Выходили они в черных эластичных брюках с серебряными полосами по шву, обнаженные по пояс. Номер работали в партере (то есть непосредственно в манеже, прямо на ковре), и состоял он из трюков, основанных исключительно на силе мышц. На невероятной силе мышц, доложу я вам.
Стоя у форганга во время представлений, я хорошо видела лица зрительниц, дам и девиц фертильного возраста, когда в полной темноте на манеж падали перекрещивающиеся красные лучи прожекторов и в них медленно разгибались сидящие на корточках атлеты: огромный Игорь (нижний, унтерман), с пропорциями сто восемьдесят девять на восемьдесят пять, джинсы – сорок восьмой размер, рубашка – шестьдесят второй (верный любви к себе, он как-то небрежно сообщил цифры Женьке, спросившему, как Игорь подбирает одежду на такую фигуру, а Женька, придя в совершеннейший восторг, рассказал мне), и изящный, невысокий, но широкоплечий, гибкий как лоза, Андрей (оберман, верхний). Оба были хороши необычайно, и женская часть зрительного зала громко сглатывала слюну, а некоторые мужья, тщетно втягивая пивные брюха и сверля красавцев лютыми взглядами, шипели: «Челюсть-то подбери… вытаращилась, мля…» Цирковые же уважали профессиональную подготовку братьев, отлично понимая, насколько сложные трюки те демонстрировали.
Так вот, Угольников-младший, наверное, так бы и остался для цирковых красивой пустышкой, если бы не одно происшествие. Случилось это на следующий день после нашего приезда. Главную роль невольно сыграл Мальчик, вороной жеребец наших наездников, трехлетний крупный красавец с роскошной гривой и копытами размером со среднюю тарелку. Я не знаю, почему его не кастрировали, но хорошо помню, что он был послушен берейтору и его скоро должны были ввести в номер. Андрей Угольников выделял его среди других лошадей: Мальчику перепадало без числа яблок, морковки и молодой кукурузки, а конюхи примерно через два месяца даже позволили Андрею грести за Мальчиком говно и чистить его по понедельникам. Игорь же лошадей боялся прямо-таки панически, бледнел, покрывался потом и отходил подальше, даже когда наездники просто вели коней в манеж, а во время репетиций номера никогда не сидел в зале вместе с братом. Очень этой слабости стеснялся, но фобия, видимо, была сильнее его, намного сильнее.
Полдень. Мы, сбегав на пляж, занимались своими делами. Артисты репетировали, а я присмотрела себе чудесный уголок в тени эвкалипта, рядом с вагончиком директора Барского. Направляясь туда с булавами и мячиками, увидела, как Андрей входит на конюшню с яблоками в пакете. Игорь в это время бесконечно отрабатывал возле их вагончика «мексиканку» на тростях, прогибаясь в пояснице так, что тело вытягивалось совершенно параллельно земле. Заодно Игорек загорал – кроме шляпы под «стетсон» и маленьких шортиков на нем ничего не было.
Проходящая мимо Рита Бакирева хрипло засмеялась: «Игореня, ты б уже женился на себе, таком кр-ррасавчике, а?»
Ответить Игорь не успел: на конюшне что-то загрохотало, потом еще загрохотало, потом затрясся брезент стенки, раздался короткий и страшный крик человека, опять грохнуло, истошно заржала сначала одна лошадь, а потом еще одна, и еще.
И мы побежали. Я – с булавами, Бакирева с криком: «Пипец! Кто-то под коня попал!» – коверный Юрка – с вилами, которые подхватил где-то. Игорь оказался на конюшне раньше всех нас. Когда мы влетели в угол, где стояли лошади, то увидели беснующегося Мальчика и разнесенный деревянный денник. Игорь как раз выдернул брата практически из-под брюха коня, одним движением забросил его на плечо, повернулся к жеребцу лицом – и тут Мальчик взвился на дыбы, молотя копытами воздух в полуметре от головы Угольникова…
Я ничего не смыслю в правилах обращения со сбрендившими лошадьми, не имею понятия, как именно их приводить в чувство, но то, что сделал в следующую секунду Игорь, сработало. Придерживая одной рукой Андрюшку, он сорвал с уцелевшей стены денника толстенную просмоленную веревку и с матерными воплями стал хлестать жеребца по чему придется. Прилетело по морде, груди и брюху, и, учитывая силу самого Игоря, помноженную на ужас и ярость, прилетело крепко, потому что Мальчик опустился на четыре ноги и затряс башкой. А потом тоненько, жалобно заржал.
Примчавшиеся наездники и слегка похмельные после вчерашних шашлычков конюхи занялись Мальчиком (потом берейтор объяснил, что одна из кобыл внезапно внеурочно вошла в охоту и у жеребца, видимо, рвануло крышу – просто Андрею не повезло оказаться в деннике в этот момент), зафиксировав его в дальнем углу конюшни. А Игорь ладонями пытался стереть кровь с лица брата.
Нет, все обошлось. Андрей, отброшенный жеребцом, разбил обо что-то голову и отключился. Но Мальчик запросто мог бы затоптать его – факт, Игорь успел очень вовремя.
Еще долго они оба так и ходили с отметинами: Мальчик с рубцом от веревки на морде (и шарахался от Игоря, как черт от ладана, кстати), Андрей – с зашитой головой. Проваляться на больничном неделю ему все-таки пришлось, директор Барский настоял. Брат трогательно за ним все это время ухаживал. Конюхи говорили, что Угольников заходил на конюшню несколько раз и вплотную приближался к лошадям – наверное, проверял, как там его фобия поживает.
После этой истории цирковые негласно стали считать Игоря своим и теперь приглашали на все посиделки. И он шел с радостью. Выяснилось, что младший Угольников очень славный. Неглупый, добрый и веселый. Ну и что, что кр-ррасавчик. Он же не виноват, у каждого свои маленькие слабости.
Через несколько недель мы с Алдоной взяли собак, конюхи взяли лошадок, Костя взял мотоцикл с полным багажным кофром еды (не тащить же вино и закуски на себе) и драгоценную Фиру Моисеевну, Андрей Угольников взял брата, и все мы отправились купаться и купать животных на тихий дальний пляж. С нами были двое сынишек инженера Инала и сынок Астамура, улыбчивого молодого абхаза, которого взяли в униформу на освободившееся место моего Женьки. И я своими глазами видела, как Игорь Угольников подсаживал мальчишек на мокрые спины коней, стоявших по пясти в спокойном море, – от фобии не осталось и следа. Хотя, как выяснилось, повод для ее появления в свое время был весомый.
Когда мужчины, обустроив в тени сосен наш бивак, разделись на пляже до плавок (Костя почему-то остался в футболке), почтенная Фира Моисеевна вставила в мундштук сигарету, с наслаждением затянулась и вздохнула:
– Как велик Единый, девочки, вы посмотрите на эти совершенные тела! Есть ли что-нибудь красивее человека на нашей земле?
Алдона засмеялась, с явным удовольствием наблюдая за тремя безупречными атлетами, а я с уважением оглядывала узлы мышц, рельефную лепку торсов, кубики прессов – в то время меня больше восхищал адский труд, который, как я точно знала, стоял за всей этой красотой, никаких заморочек, связанных с голосом тела, для меня пока просто не существовало. А тут еще один из мальчишек, который молча таращился на Игоря, Костю и Андрея, осмелел и пискнул:
– Дяденьки, а что надо кушать, чтоб таким вырасти? Мама говорит, чтоб я лобио кушал и курочку, тогда буду сильным. Вы тоже лобио кушаете?
Народ грохнул так, что аж кони шарахнулись. И еще долго потом у нас была в ходу рекомендация «пойди лобио поешь», если у кого-то что-то не получалось на репетиции.
Конечно, раньше никто не видел Игоря Угольникова без репетиционных трико или без рабочих брюк, потому и о шраме на бедре знать мы не могли. Здоровенный шрам, хоть и старый, даже страшно представить ту рану свежей. Поймав Костин вопросительный взгляд, Игорь махнул рукой:
– Ааа, это лошадь. Мне пять лет было.
23. Третий звонок, или Чудеса продолжаются: Королева Арабеска
Этот прелестный город у моря почему-то так завел всю труппу передвижки № 13, что мы на едином дыхании долетели до вечера премьеры. Шапито сияло, как праздничная бонбоньерка, разноцветный заборчик вокруг цирка и лавки в зрительном зале были заново покрашены и мгновенно высохли на сухумской жаре, дрессировщики перемыли и вычесали животных, артисты приготовили лучшие костюмы, и у меня тоже появилось чудесное новое платье цвета утреннего моря, которое Фира Моисеевна сюрпризом пошила за три дня. В ближайшем ателье мастера только вставили искусственные «драгоценные» камни и профессионально обработали швы. Оно долго было самым любимым, это платье.
И все вокруг было прекрасно тем вечером: на магнолиях сияли гирлянды лампочек, ветки эвкалипта, похожие на слоновьи бивни, поддерживали яркий щит с видным издали словом «ЦИРК» (разумеется, туда, на высоту четвертого этажа, лазил бесстрашный Якубов-Чингачгук), под куполом тихонечко пела труба, и ей страстным голосом вторил саксофон – там разыгрывался оркестр. Старший кассир Танечка еще днем доложила Барскому о полном аншлаге сегодня и о том, что абсолютно все билеты проданы также на ближайшие три недели, нужно заказать срочную допечатку. Ведь в городе со стотысячным населением в три раза больше курортников, и они все время приезжают, уезжают и снова приезжают, совсем рядом другие города-курорты, и в них та же ситуация, а это значит, что в цирке все время будут «битковые»[45] аншлаги.
И вот третий звонок. Мы с Давидом Вахтанговичем уже одеты, загримированы, Фира Моисеевна еще раз закрепляет прядки, маскирующие лысый след от ожога на моей голове, а я осторожно раздвигаю занавес на два сантиметра и смотрю в зал: вон в нарядной директорской ложе сидят гости Барского – горисполком и райком, хладокомбинат и рынок, горсвет и начальник порта, все со чадами и супругами, все при костюмах и галстуках, как сейчас бы сказали – соблюдая дресс-код.
Вот стоят все наши билетеры-контролеры, по одной у каждого выхода, вот улыбается из своей будки осветитель, а вон сидят на световых пушках его ассистенты, вон видна седая голова шапитмейстера в главном проходе у директорской ложи – он всегда на открытии там стоит. Все на местах, Фира Моисеевна бросает на ковровую дорожку, ведущую на манеж из-за кулис, лепестки цветов, звучит вступление к цирковому маршу, шпрех берет мои пальцы теплой и твердой рукой и… пошли!
Сколько бы лет артист ни выходил на манеж, даже в стотысячный раз его потряхивает от предвкушения и волнения, когда он стоит с этой, рабочей, стороны форганга. Как там говорил Александр Сергеич в «Письме к Чаадаеву»? Вот так и мы ждали. Буквально с «томленьем упованья» ждали, что через секунду грянет музыка, разлетятся тяжелые крылья занавеса и мы выйдем туда, в разноцветный свет, на алый ковер манежа – к нашему зрителю.
В первые мгновения я ничего не вижу, только огненный круг прожекторов вверху, на опорных мачтах, и красный круг манежа в разноцветных пятнах от световых пушек – внизу, заветные тринадцать метров, на которых и происходит наша главная жизнь. Но вот глаза адаптируются, и из темноты выступают ряды зрительного зала, проходы к зашнурованным сейчас клапанам дверей, директорская ложа прямо напротив форганга и люди. Люди, которые пришли к нам в цирк за удивлением, восхищением, волшебством и возможностью сказать «а я знаю, как он это делает», конечно. Пришли взять и отдать.
Первое отделение мы отработали блестяще: зал смеялся шуткам коверных, замирал на работе воздушных гимнастов, дружно ахнул во время штрабата братьев Путрюс, улыбался огромным сенбернарам, догам и крошечным пинчерам Алдоны, восторженно следил за Витькой-Ковбоем и Сашкой, выполнявшими трюки на верхушке лестницы, которую держал Володя Агеев, округлял глаза, когда на крошечном столике завязывалась в немыслимые узлы Надюша Сметанина. Я отлично слышала уважительный шепот мужчин, когда, закончив номер, по окружности манежа проходили, выбросив руку в комплименте, Володя, только что державший на плечах троих акробатов и лестницу; силовой жонглер Вася Клосс, на глазах у публики игравший шарами, каждый из которых приглашенные из зала мужчины едва могли оторвать от ковра (еще бы, они по двадцать килограммов), Андрей и Игорь Угольниковы, потрясшие воображение зрителя не только литыми мышцами, но и новыми костюмами цвета тусклого золота – на премьеру пришел идеальный, отзывчивый и заранее восхищенный зритель, нам очень повезло.
В антракте Барский привел за кулисы пятерых из сидевших в директорской ложе (детки и дамы ушли лакомиться мороженым и газировкой), и я клянусь, что в глазах седовласых серьезных мужиков «при должностях» был неподдельный мальчишеский восторг и интерес. С того далекого вечера я знаю, что «хулыбзиа» – «добрый вечер» на абхазском, а «гамарджоба» – «здравствуйте» по-грузински. Гости зашли на конюшню, выпили вина в вагончике у директора Барского, с заметным восхищением проводили взглядами яркую стайку воздушных девочек из кордебалета и пообещали, что «наши хлеб и вино – ваши, наш город – ваш дом, пока вы остаетесь здесь, ты, дорогой Юрий, и все твои артисты!»
Второе отделение открывал номер Кости. И на семь с половиной минут я обычно выпадала из реальности: видела только серебристый моноцикл, алую фигуру эквилибриста, разноцветные круги из мячей, булав, ножей, тростей, невероятно сложные пирамиды из предметов, на которых балансировал Костя, кружева из бесконечных сальто, фляков и рондадов – номер Троепольского отличался сложностью и необыкновенной красотой исполнения. Как аплодировал ему зал! Некоторые даже встали, и это почему-то наполняло меня гордостью, хотелось заорать: «Я знакома, знакома с ним! Это меня он вчера катал на мотоцикле!»
Кстати, о покатушках. Вчера был первый раз. После него мне захотелось немедленно убежать на край света. С Костей, конечно. И я почти передумала выходить замуж за Женьку – ощущения большей близости с мужчиной, чем испытанное мной за полчаса, которые я, ошалевшая от собственной смелости – как? сесть позади него? вот сейчас умру, все, – провела на несущемся вдоль моря мотоцикле, влипнув в широкую Костину спину и обнимая его за талию, представить было просто невозможно. И я еще когда-то считала, что поцелуи – верх интимности и что-то вроде пожизненной гарантии выполнения брачных обязательств на будущее? Ха. Дура. Была дура.
Хорошо, что следующий номер объявлял Давид Вахтангович, и он же вел репризу с коверными, потому что мне понадобилось время, чтобы стряхнуть наваждение вчерашнего вечера и слабость в коленях. Но я справилась, и номер с медведями уже объявляла вполне профессионально, шпрех меня похвалил.
И второе отделение прошло на высшем уровне: наездники, дрессировщики, тугая проволока Олечки Лапиной, иллюзия, воздушные гимнастки Ирки Романовой, акробаты в ренских колесах Риточки Бакиревой – всех чудесный сухумский зритель принял на ура. После финального поклона труппы на манеж вышел председатель Горисполкома, поблагодарил нас и пригласил чувствовать себя как дома в их солнечном городе. В общем, артисты и зрители расстались исключительно довольные друг другом.
За кулисами все поздравляли всех. «С началом!» – маркер цирковых, так говорят только в цирке. И вдруг я услышала прямо за спиной: «С началом, деточка!» – обернулась…
Интересно, многие ли знают, что такое арабеск? Нет, ничего арабского и никакой узорчатой вязи. Это одна из основных поз классического танца – с опорной ногой, стоящей на носке, и рабочей ногой, поднятой на девяносто или сто двадцать градусов вверх с вытянутым коленом. И более сложные ее варианты: с опорной ногой, стоящей на носке, с «кольцом», когда руки сомкнуты со ступней над головой.
А теперь представим, что это все выполняется не на ровном, гладком полу, а на спине лошади, мчащейся по кругу. Представили? Скорость, тряска, подвижная спина пугливого животного под ногами – вот тот минимум удовольствий, которые испытывает артистка, работающая номер. В старом цирке на спину лошади клали подушку-площадку, она хотя бы ровная была, но наездница хуже чувствовала лошадь, так что в советском цирке площадку почти упразднили. Стало намного труднее, но гораздо красивее. И опаснее.
Молоденькая Таечка работала ассистенткой в аттракционе у знаменитого Иллюзиониста. Невысокого роста, хрупкая, но очень женственная, Таечка была «звездой» номера: ее распиливали, сжигали, она изящно вылезала из сундука, волшебным образом оказывавшегося под куполом, материализовывалась в клетке, где мгновение назад яростно хлестал себя хвостом по бокам огромный лев, или в большом аквариуме, который только что был абсолютно пуст – остальные девочки аттракциона только принимали эффектные позы, да покрывали «заряженный» реквизит сверкающими парчовыми драпировками (блеск ткани отвлекает внимание зрителя от рук иллюзиониста, все просто), и двигали хитро устроенные зеркала.
Среди этих девочек были настоящие красотки, но это Таечкин отец воевал с Иллюзионистом в одном полку. Это с Таечкиным немногословным и улыбчивым папой народный артист пил на День Победы водку гранеными стаканами и негромко пел «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки…» И когда Тая закончила школу и твердо сказала, что пойдет не в институт и не замуж за Феденьку, любившего ее с младших классов, а в цирк «хоть кем», отец позвонил Иллюзионисту. Тот хмыкнул: «Хоть кем, говоришь? Ладно».
Так Таечка попала в цирк. Легкий характер, добрый нрав и сострадательная душа – ее полудочернему положению рядом со знаменитым артистом даже не завидовали роскошные цирковые красотки, ее любили и приходили к ней в гостиничный номер или в вагончик (в зависимости от того, где работал аттракцион – в лучших шапито циркового конвейера или в стационарных цирках) пить, плакать и рассказывать. Или пить, смеяться и рассказывать. Или просто помолчать-покурить.
Прошло несколько лет. Таечка побывала с аттракционом даже за границей. Иллюзиониста выпускали и в капиталистические страны – фронтовик и герой, имеющий однополчан в высоких партийных кругах, он не боялся никаких проверок КГБ. Таечка перезнакомилась с массой циркового народа, ей трижды предлагал замужество огромный силовой акробат и дважды – известный дрессировщик, обещавший немедленно бросить жену, наследницу знаменитой династии, страшную как смертный грех. Таечка мягко отказывала и ухитрялась сохранять с отвергнутыми претендентами теплую дружбу.
И вот однажды, прямо посреди номера, наездница Эва Дэль привычно прокрутила заднее сальто и вдруг сползла со спины белой кобылы на ковер манежа. Срочная операция (артистка съела перед представлением пару вкусных горячих пирожков, которые мастерски пекли в столовой Свердловского цирка, и получила заворот кишок), долгие осложнения, суровый вердикт врачей: сорокапятилетней приме не суждено было больше сесть в седло. Три лошади остались сиротками – у Эвы не было ни детей, ни мужа. Все время болезни наездницы Таечка до и после работы пропадала на конюшне, с удивлением вдруг обнаружив, что обожает конкретно этих лошадей и лошадей вообще. И что это у нее с ними взаимно.
Великий Иллюзионист, всю жизнь отдавший цирку, понаблюдал с месячишко, как Таечка возится с лошадками, да и пошел в Главк Союзгосцирка навестить работавших там однополчан. А когда он оттуда вышел, распространяя коньячные ароматы, оказалось, что три ничьих, но вполне рабочих лошади теперь принадлежат Таечке. В те далекие времена такое было вполне возможно – номер отдавали бесплатно, вместе с реквизитом, сбруей и прочим, растили новую цирковую смену.
Три лошади есть, но на репетиционный период дают всего год, а у нее никакого опыта и знаний. И что будет? Таечка поужасалась, поплакала немножко от страха, порасспрашивала бывалых наездниц да и поехала в Киев. Там она упала в ноги старому жокею, четверть века проработавшему берейтером в лучших конных номерах, ломаному-переломанному, славившемуся крутым нравом и понимавшему язык лошадей лучше человеческого. Старик сначала по-черному обматерил Таечку за то, что повесила на себя взрослых чужих лошадей, потом покормил ужином и, пока она спала в гамаке под старой грушей, собрал свой чемодан со снаряжением и упаковал набор старинных шамберьеров[46].
Через год Таечка дебютировала. Иллюзионист привез для дочери фронтового друга из какого-то капиталистического турне прекрасную ткань и аксессуары – премьерный костюм был великолепен. И главной «корючкой» номера Таечки был как раз арабеск. Шесть минут арабесков и акробатических трюков. А в финале номера наездница прыгала на пуантах по спинам трех лошадей, мчавшихся по кругу бок о бок. Это очень, очень сложно и страшно. Правда. И правда то, что трюк так до сих пор и не повторен, дураков нет.
Много лет Таисию Лурье называли Королевой Арабеска. Она объехала весь мир, она дважды была в реанимации и четырежды – на операционном столе. По этой причине ей не случилось родить, но двоих детей от предыдущего брака своего первого мужа она вырастила прекрасно, один из них сейчас преподает в ГУЭЦИ, он уже весьма пожилой человек.
Тетя Таечка была подругой моей мамы. Это она тетешкалась со мной, малявкой, и доставала меня то из реквизита иллюзиониста (не того великого Иллюзиониста, он умер до моего рождения), то из-за скамейки в курилке, то из кофра. Это она была среди тех, кто когда-то носился с мамой по пустому зданию цирка, ища меня, пока я спала в клетке пантеры Катьки. Почти пуд счастья в виде «этой маленькой сатаны» (меня, то есть) свалился на тетю Таечку, когда она приехала со сломанной в очередной раз рукой повидаться с мамой да так и проездила с нами два месяца, потому что меня невозможно было оставить без пригляда ни на минуту, а мама работала перши и вела программу, была занята каждый вечер плюс репетиции по два часа.
И если бы не тетя Тая, бабушке раньше пришлось бы стать просто бабушкой, а не солисткой церковного хора, маме – раньше оставить цирк, а я не знала бы сейчас тех чудесных старых цирковых сказок, которые буду рассказывать, дымя сигареткой, деткам моих племянниц, когда настанет время.
И вот сейчас тетя Тая стояла передо мной. Я от изумления прямо дар речи потеряла на секунду, а потом схватила ее, маленькую и худенькую, как птичка, в охапку:
– Ты откуда взялась, тетя Таечка? Почему исчезла, мама пишет и пишет тебе в Харьков, а ты молчишь! Знаешь, как мы волновались?
– Как ты выросла, девочка моя!.. Если б не представил тебя Давид (мы с Давидом Вахтанговичем в конце каждого представления произносили каноническое «программу вели…», называя фамилии и имена друг друга), я бы и не узнала. Оставляла толстенького смешного щенка, а вижу красивую взрослую девушку!
Оказалось, что за это время тетя Таечка развелась с мужем, который почти в шестьдесят вдруг решил поменять пятидесятилетнюю жену на двадцатипятилетнюю, через какое-то время познакомилась в кино с моложавым брюнетом и очень быстро вышла замуж снова. Новый муж тети Таечки оказался грузином, врачом и сухумцем, с ним она и уехала из Харькова, просто закрыв квартиру.
– Всегда хотелось пожить у моря, да и человек мой Вахтанг очень славный, надежный, с таким хоть на край света, – пояснила она радикальные перемены в своей жизни.
А тут уже и наши подтянулись. Директор Барский, Фира Моисеевна, старый коверный дядя Коля Шульгин, Риточка Бакирева, Давид Вахтангович и даже Агеев, который был значительно моложе их всех, знали тетю Таечку давным-давно. За десятилетия жизни на манеже они встречались в программах неоднократно и не могли не проникнуться симпатией друг к другу, потому что все были настоящими людьми, без фальши и понтов.
Эта хрупкая женщина прикатила на представление на «Волге» мужа, который, оставив ей большую и гулкую квартиру с высоченными потолками в старом доме на набережной, вынужден был уехать к сыну-дипломату, служившему где-то в далекой жаркой стране: у сына тяжко заболела жена, а доктор всю жизнь изучал как раз ее заболевание и был одним из лучших специалистов в стране.
И на этой же «Волге» тетя Таечка метнулась домой и привезла две корзины еды. Были там и тонкие круглые пироги с сыром – восхитительные хачапури, которые соседка-абазинка только что вытащила из духовки, и копченое мясо, и аджика, и домашний сыр, и дюжина шампанского, чтоб отметить начало. Засиделись мы далеко за полночь (комаров под эвкалиптом и вправду не было совсем), и я собралась днем пойти на переговорный пункт и позвонить маме, чтоб обрадовать: тетя Таечка нашлась в чудесном городе у моря.
Оказалось, что, найдясь, она останется в моей жизни довольно надолго. Это замечательное событие станет знаковым для некоторых из нас, но каким именно образом, я расскажу позже.
24. «Она по проволоке ходила, махала белою ногой»
Тугая проволока – штука особая. Выглядит это так: на расстоянии примерно десяти метров друг от друга стоят две мачты с площадками (мостиками) наверху, эти мачты держатся на растяжках, канаты растяжек крепятся к огромным штырям, больше всего похожим на гигантскую швейную булавку с квадратной головкой. Штыри глубоко, намертво вбиты в землю за кругом манежа. Между площадками натянут канат толщиной примерно в два сантиметра, очень туго натянут, но пружинит, конечно. Для того чтобы оказаться на канате, нужно сделать с мостика шаг вниз – канат ниже площадок. Вроде и невысоко совсем, метра четыре от манежа, и не убьешься в случае чего, но ссыкотно аж до не могу. Я так и не сумела пойти. Уже будучи взрослой, вполне способной махнуть стакан чего-нибудь крепкого, работая в Ивановском стационаре, я как-то бодро пробежала до средины такого же каната – под кальвадосом разумеется, трезвой ни за что не решилась бы. На средине пришла в себя и упала, конечно, но не повредилась, давно умела группироваться к тому времени.
Но это случится еще очень не скоро. А в том сухумском лете я стояла на шатком мостике, второй маячил где-то в тумане, кажется, на другой стороне Гудзона. Малюсенькая площадочка из никелированного металла, как мне казалось, ходила ходуном – чисто палуба корвета в девятибалльный шторм. Я вцепилась всеми руками (на тот момент рук у меня оказалось примерно дюжина) в хлипенькое ограждение мостика и отцепить меня мог только приговор Большой Тройки. Мне было даже почти все равно, что у форганга стоит и смотрит Костя Троепольский и что свидетелей моего позора недопустимо много. Я не смогла даже ступить на канат (он же – тугая проволока), хоть и совсем не была трусливой, чертова струна уходила куда-то в ничто, и поставить на нее ногу было выше моих сил.
А она плясала на этом кошмаре. Лежала на этом ужасе, как на мягчайшей перине, и все такое.
Боги-боги, что это была за девушка! Ею любовались все, начиная от старого коверного и заканчивая старшим кассиром Таней.
Натуральная блондинка с маленькой аккуратной головкой на длинной беззащитной шейке, белокожая, большеглазая, с точеным носиком, губками-бутоном, идеальной воздушной фигуркой и сиськами какого надо размера. Это я сейчас понимаю про полный третий, а тогда просто рот открывала, не в силах понять, что так притягивает взгляды мужчин – и даже влюбленного в меня Женьки. Но ими же двигал могучий инстинкт, черт подери – от такого зрелища совершенно невозможно было отвести глаза. Прибавьте к этому великолепию длинные ножки безупречной формы, с маленькой ступней (это ее чешки я таскала потом три года) и точеной щиколоткой – и вы получите оружие массового поражения.
Оленька Лапина была трепетный эльф, понимаете? И одновременно – Женщина. Ах, эти батманы-рондады, эти сальто и шпагаты, этот круглый веер в ее ручке, эти завитки белых волос на шейке – ни у одной артистки не было столько желающих подержать лонжу на репетиции, сколько у Ольги, мужчины бежали наперегонки и хватали страховочный трос еще до того, как она выходила в манеж.
Скоро лонжа удивительным образом стала оказываться исключительно в крепких руках Юрочки, вольтижера из группы наездников. Тоже та еще лепота, доложу я вам, наблюдать наездников: эти икры и бедра в трико, эта легкость и сила в тяжелых плечах, этот вскрик шамберьера в руках берейтора, эти взлетающие над крупом мчащейся лошади стремительные фигуры… красота! Мальчики были как на подбор богатыри, но Юрка – краше всех: высокий кареглазый блондин с упрямым лбом, сильным подбородком и носом отличной лепки, красивый, веселый, легкий.
А еще Олечке было ужасно много лет – аж двадцать пять, и она подумывала о муже.
Начав ухаживания еще в мае, в моем городе, Юра Королев додержал лонжу и доносил реквизит для эквилибристки Оленьки до того, что через три месяца, невзирая на увещевания друзей и руководителя, таки ушел из своего номера, в котором проработал пять лет, и сел на репетиционный период – вводиться к Ольге партнером.
Беда пришла, откуда не ждали. Вся фишка была в том, что бесстрашный акробат Юрка панически боялся тугой проволоки. Вот боялся, и все тут. Сколько тонн мата половой тематики я всосала в копилку на их репетициях – мама дорогая. Ковбой Витя с его жалким обсценным лексиконом нервно крутил за форгангом мою репетиционную булаву, одновременно отжимаясь на одной руке – тут работали настоящие мастера матерного слова!
Это для того, чтоб хоть как-то поддержать Юрку, я полезла на проклятый мостик, подозревая, что не смогу сделать и шага. Так и случилось – облом вышел жестокий. Зато я поняла Королева моментально.
Оленька, выпускавшаяся из училища именно как эквилибристка на проволоке, чувствовала себя на долбаном канате так же комфортно, как я – в любимом кресле. Три часа репетиций ежедневно, включая и выходной понедельник, – такова была ее норма. Надо сказать, что к моменту встречи с Юриком Оля была на канате одна. Партнерша, с которой они готовили и выпускали номер, залетела и решила оставить ребенка. Ха-ха, говорили девки в курилке, любая бы оставила ребеночка товарища Ф…ва (тут идет очень известная в цирке и по сей день фамилия аксакала и отца-основателя), ни в чем нужды знать не будет! Все трюки в номере, рассчитанном на двух девушек, пришлось похерить, Олька выкручивалась за счет своей красоты и необыкновенного, величественного изящества, но этого катастрофически не хватало. А тут Юра. Просто подарок судьбы. Атлет, фактурный красавец, акробат и муж в ближней перспективе. Быстро вводим в номер и работаем, работаем, все у нас получится.
Проработав столько лет в коллективе жокеев, Юрка запросто прыгал с манежа на идущую наметом лошадь и становился в пирамиду из пятерых наездников, выстроенную на спинах двух скачущих рядом лошадей, а это, скажу я вам, не в тапки ссать. Это капец как опасно, страшно даже наблюдать, но Юрке везло, он даже кости ухитрился сломать всего пару разиков – своеобразный жокейский рекорд сохранности скелета.
Но на канате его везение иссякло. Юра брал в руки вееры[47], делал первый шажок по проклятой проволоке и замирал в ступоре. Я наблюдала его мучения почти с первой репетиции, и потому знаю, сколько часов страха и сколько смен мокрых от пота маек ему понадобилось, чтобы продвинуться вперед на два метра. Два метра из десяти! На дрожащих ногах Юрик продвигался приставными шажочками «в третьей позиции» вперед, и лицо его выражало настоящую муку.
Уже в Сухуме я слышала разговор Агеева, Кости и Олега Тайменя, нашего массажиста, о Юрке и его страхах. Володя сказал тогда, что ему не нравится сама идея, Костя заметил, что ему не нравится сама Оля Лапина («Самка, причем в худшем варианте – живоедящая», – отличное определение), а Олег Яковлевич помолчал и как будто нехотя произнес:
– У нас в тайге так было: если человек боится идти на охоту, зверя боится, леса опасается, но по глупому гонору своему не признается и думает, что страха его никто не видит, другие охотники находят повод, чтоб не брать такого. Потому что совершенно точно будет беда, большая или малая, но будет. Нечего парню делать на проволоке, у него ужас во всем теле, мышцы каменеют, проволока – враг ему и его подловит, потому что слабость и страх чует.
С получением благ цивилизации мы перестали прислушиваться к своим сигнальным системам. Почти перестали. Мы верим новостям и Интернету и больше не верим предчувствиям, затыкая собственную интуицию, которая бьется в тихой истерике. Зря. Очень зря. Тех, кто прислушивается, судьба почти всегда щадит.
Королева можно понять – ведь у него была Оленька, смысл жизни, молодая жена, красавица и богиня, которая очень хотела ввести его в номер. Ей это было нужно. А он ее сильно любил. И старался ради нее.
Конечно, такому мощному и взрослому мужику было стыдно, да и некому признаться в своих страхах. Но Королев отлично понимал, что я, мелкая еще совсем девчонка, полезла на тот мостик, чтоб тоже испугаться и как-то разбавить его позор. Значит, со мной можно пооткровенничать, я не посмеюсь и не удивлюсь, не потащу на манеж со словами «старик, ты просто мето́ду не подобрал еще, я щас тебе покажу, как надо», как сделал один гражданин из номера канатоходцев, практически выросший под куполом.
Однажды мы встретились с Королевым около колонки. Я пришла охладить в ледяной воде мозоли на ладонях, а Юра сидел на траве и мазал прополисом своды стоп, растертые почти до крови. Он посмотрел на меня и вдруг как-то обреченно сказал:
– Знаешь, детка, эта проволока меня угробит рано или поздно… Я чуть ли не ссусь ежесекундно, все враждебно здесь мне, ощущаю ее как клинок, по лезвию которого иду. А представь, если нога соскользнет? Пипец, детка. Евнухом жить?
Вскоре Юра и Оля уехали – сели на репетиционный период в стационаре в Баку, и мы потеряли их из вида.
Прошло много лет, я встретила в цирке Наташу Биляуэр, она и рассказала мне финал истории борьбы бывшего жокея-наездника с тугой проволокой.
Таежный кудесник Олег Таймень оказался прав, беда случилась. Проволока победила. Номер подготовили, обкатали его немного, но на одном из выступлений нога Юры все-таки сорвалась, он не успел поймать баланс, не успел сгруппироваться, и с высоты своего немаленького роста пришел промежностью на тонкий, тугой и очень жесткий железный канат. Два месяца в больнице, иссечение тестикул, инвалидность в тридцать два года. Красавица и эльф Ольга оставила его, когда он еще лежал в Склифе. Просто собрала свои вещи и уехала из Юркиной квартиры. Выписавшись, он не стал ее искать, разумеется. Развод оформили заочно.
Наташка рассказала, что Юрик сильно пил, баловался различными веществами, дважды пытался покончить с собой. Друзья дежурили у него в доме по очереди, никто из системы Союзгосцирка не знал о беде Королева, все хранилось в тайне. А если и знали, то деликатно молчали. Потом он прошел реабилитацию, вернулся в свой номер, поработал недолго и навсегда покинул цирк. Не смог.
Но с годами у Юры получилось примириться с тем, каким он стал. И сейчас все хорошо – у него отличный партнер, состоятельный и интересный, Юра исколесил с ним мир и даже научился улыбаться заново. Несчастным он не выглядит, сказала Наташа.
Мне тоже довелось увидеть бывшего акробата-наездника Королева. В одном из московских клубов. Мы были там компанией, отмечали юбилей фирмы моего приятеля, а Юра, абсолютно седой, но все такой же красивый, сидел за столом с двумя известными в Москве телевизионными деятелями. Мы оба стали старше на четверть века, и он меня, конечно, не узнал. Зато я убедилась, что с Королевым все в порядке, а потом и уверилась в этом, долгое время наблюдая его передачу на одном из московских телеканалов. Он все-таки был очень славным парнем, Юра Королев, чью фамилию и имя я, конечно, изменила до неузнаваемости.
25. «Бархатный приход», или Как получить бонус с жуткой истории
Кажется, все родственники, друзья и знакомые артистов и технического персонала нашего коллектива моментально прознали про небывалое везение передвижки № 13 и принялись стекаться отовсюду к теплому морю, изыскивая то простенькие, то замысловатые поводы. Приезжали друзья, тоже цирковые, приезжали братья-сестры, а мама одной девушки из кордебалета приехала выгуливать наряды и голую китайскую собачку в задорной прическе и трупных сиреневатых пятнах. Цирковой городок превратился в бивак и стоянку одновременно: везде приткнулись палатки, наши фуры и тягачи потеснились под напором «Жигулей» и «Москвичей» тех, кто не достал билетов и приволокся на машинах, наша репетиционная площадка между двумя магнолиями и пальмой неумолимо сжималась под напором понаехавших нецирковых родственников и друзей, жаждавших поставить палатки именно там. Цирковые понимали ценность репетиций на воздухе, но скромно жались уже в самом центре освоенного гостями пространства.
Когда стало совсем невмоготу, мы нажаловались администрации, и директор Барский дал понаехавшим укорот. Лето подходило к концу, народ торопился припасть к морской волне и великолепным местным винам. Про чачу я уже молчу. Хорошо хоть, не было родителей с маленькими детками (наши-то артисты с малышами, которых было совсем немного, жили в гостиницах и на квартирах, что снимал им цирк), тут директор Барский строго следил за комфортом остальных, бездетных.
Следовало учитывать масштаб бедствия: сентябрь в Сухуме такой же теплый и солнечный, как август, да и октябрь, собственно, довольно привлекателен, то есть экспансия продолжится, а некоторые артисты уже ропщут – и Барский пошел к властям. Власти в лице подвижного усатого дядечки в ослепительном белом костюме, одного из тех, что со дня открытия регулярно сидели в директорской ложе и возили по ресторанам наших незамужних актрис, прикатили на «Волге», прошлись по территории и сказали: «Цудад[48]. Тесно».
И на следующий день приехала техника с рабочими, которые снесли деревянный заборчик справа от шапито. Открылась еще одна площадка с размеченным фундаментом крупного здания, уже несколько заросшим буйной зеленью. Гостям сказали: «Владейте временно», – и весь табор быстренько откочевал со двора, освободив наше жизненное пространство. У них там моментально появилась стихийная шашлычная и малюсенький рыночек, разместившийся на трех наскоро сколоченных столах, куда окрестные хозяйки с удовольствием приносили излишки сельхозпродукции, закипела жизнь. Даже с удобствами обустроились как-то – санэпидстанция поставила у палаточного городка еще один вагончик-туалет на дюжину посадочных мест, и дорогие гости перестали претендовать на наши два сортира, а это важно, как вы понимаете.
Все друзья, тоже цирковые, которые приехали к нашим артистам, остались, конечно, но их и было изначально всего с десяток – отпуск летом дают далеко не всем. Чаще всего тем, кто в этом самом отпуске не был уже несколько лет. Именно так получила вожделенные две недели сестра нашего силового жонглера Васи, работавшая врачом в одном из стационарных цирков. Выбив из руководства отпуск, тетенька примчалась к морю и к младшему брату, прихватив с собой двух дочек двадцати и четырнадцати лет. Вася нашел им флигелек у замечательной Флоры, которая снабжала цирковых свежим молоком, но сестра была тверда в желании ни от кого не зависеть и поселилась с дочками в палатке, ухитрившись поставить ее под нашей пальмой. Лучше бы Алла Семеновна согласилась на флигель, потому что тогда я вряд ли подружилась бы с Иркой.
Эта Ирка, племянница Васи, неизменно заставляла на себя оборачиваться. До встречи с ней я представляла себе студенток консерватории совсем иначе, честно говоря. Ирка ходила по улицам и даже на пляж в такой боевой раскраске, что хоть сейчас на манеж: тени до бровей, ярко-красный рот, тщательно накрашенные ресницы, от природы, кстати, длинные, подводка, румяна, осветленные и завитые волосы аж до задницы, всегда распущенные. К этому великолепию прилагались исключительно декольтированные платья, что при немалом Иркином бюсте безошибочно било прямо в глаз. Мини не носила, знала, что внутренняя сторона бедер кривовата, и я не сразу просекла, почему она никогда не загорает стоя, а сразу ложится на полотенце, скрестив ножки. Сейчас таких девушек, кажется, называют «секси», а тогда никак не называли, просто провожали взглядами.
При такой вызывающей внешности Ирка была неглупой, веселой, компанейской, дружелюбной и бесшабашной. И почему-то прилипла ко мне намертво, несмотря на три года разницы в возрасте. Она приходила на мои репетиции, она приносила мне из магазина мандариновый сок в трехлитровых банках, она ни разу ни утром, ни ночью, после представления, не ушла на пляж без меня, она искренне интересовалась моими планами на будущую цирковую жизнь и именно этим меня подкупила. Я взамен развлекала Ирку всякими историями и пересказывала Стругацких, Саймака и Брэдбери – читать моя новая подруга не любила. А еще она получила возможность ездить в выходные со мной, Володей Агеевым, Витькой и Якубовым по окрестностям и любоваться невероятной красотой Абхазии, одну ее мать не отпускала (и совершенно правильно делала, как оказалось).
Четырнадцатилетняя Маша, младшая сестра Иры, была девицей крупной и несколько угрюмой. Выше меня на голову, с личиком, местами покрытым юношескими угрями, немножко неуклюжая и похожая на щенка дога, молчаливая Машка мечтала стать ветеринаром и даже на пляже сидела с книгой. Не бог весть что, «Унесенные ветром», но для ее возраста в самый раз. Будучи моложе меня всего на два с половиной года, Машка однажды попыталась вписаться в нашу компанию, но сестра быстренько ее кышнула, порекомендовав подрасти сначала. И в этот же день к вечернему представлению Маша исчезла из циркового городка, оставив записку такого содержания: «Уехала с Грантом на дискотеку. Он меня привезет обратно».
Ее мать прибежала за кулисы, когда уже закончилось первое отделение, она только что вернулась с пляжа и обнаружила записку. Вася, довольно флегматичный, как все очень сильные люди, попробовал успокоить сестру, но тут и жена его проявила беспокойство:
– Скоро стемнеет, а девчонка неизвестно где и неизвестно с кем. Где эта дискотека? На чем он ее привезет? Ты хоть раз слышал об этом Гранте? Кто это вообще такой, и знает ли он, что девочке всего четырнадцать лет?
В общем, когда закончилось второе отделение, бедная Алла Семеновна уже отлично себя накрутила и прямо опухла от слез. Стемнело совершенно, и Агеев собрал совет, на который пригласили всех местных, которые у нас работали. Выяснилось, что Грант – племянник одного из наших рабочих, что ему двадцать один год (тут мама Машки, кажется, попробовала сползти в обморок) и что он «хороший мальчик, студент», но старенькой машинки дяди на стоянке нет, ключей в кармане пиджака тоже нет. Как и прав у Гранта (Алла Семеновна обессиленно рухнула на какой-то ящик и закурила сотую сигарету).
Костя предложил объехать город и прислушаться – дискотека звучит, и, как правило, громко, надо идти на звуки музыки и искать девчонку в районе их источника. Они с Васей прыгнули на мотоцикл и умчались, Витька с Сашкой Якубовым отправились по набережной, чтоб на всякий случай заглянуть во все рестораны, Агеев пошел кому-то звонить, а меня Ирка вызвала во двор:
– Мать в истерике, сейчас она не услышит никаких аргументов. Скорее переодевайся и поедем в сторону аэропорта, только тихо, никому не говори, а то сейчас крик поднимут. Там есть какой-то крутой дом культуры, Машка мечтала попасть туда на дискотеку. Шевелись давай, сейчас найдем ее.
И ведь я же слышала прекрасно, как за дверью Володя говорил кому-то, что Гурам вот-вот приедет, и все будет хорошо, но поспешно переоделась, стерла грим и выскочила из вагончика, идиотка…
Тут, наверное, надо сказать пару слов о Гураме. Большому другу нашего коллектива, директору Сухумского ликероводочного завода Гураму Гвазаве любое море было по колено. Во всех смыслах. В Сухуме для него не было ничего невозможного, он знал всех, и все знали его. Думаю, что его знали вообще во всей Абхазии. Мы как-то возили Риточку Бакиреву в Гагру к хирургу, так каждая машина, попавшаяся навстречу, сигналила фасонистой «семерке» Гурама, а в больнице врач ждал уже возле регистратуры.
Гурам сначала меня испугал. Довольно высокий, лысеющий, высоколобый, с мощными тяжеленными плечами и могучими бицепсами, он был похож на тираннозавра. Всегда спокойное лицо с очень холодными, внимательными светлыми глазами и крупным ртом казалось мне мертвым. Еще немного сбивала с толку его патологическая аккуратность. Он возил в машине стопку свежих футболок и пару рубашек на тремпелях, по мере надобности переодеваясь – в Сухуме было жарко. А еще упаковки новых носков, которые не стирал, а просто выбрасывал. Такого расточительства я никогда раньше не видела и насторожилась на всякий случай. Чтоб человек бесконечно мыл руки, мне тоже видеть не приходилось.
Мысль о том, что этот ледяной Гурам Гвазава – довольно близкий родственник нашего подвижного, теплого, печального и бесконечно доброго Давида Вахтанговича, никак не укладывалась у меня в голове. Меж тем, они и вправду были какими-то братьями, и выражение лица всесильного Гурама теплело на пятьдесят градусов и совершенно менялось, прямо светлело, когда он находился рядом со шпрехшталмейстером.
Много позже Давид Вахтангович рассказал нам с Фирой Моисеевной, что Гурам был единственным из всей родни, кто в тот страшный день в Домбае, когда погибли, сорвавшись в машине в пропасть, семнадцатилетний Марик, сын шпреха, и еще четверо несчастных детей, смог спуститься с милицией и спасателями в ущелье:
– Я Яночку не мог оставить, она все время отключалась, а когда в сознании была, кричала. А еще я не верил в то, что Марик там, и цеплялся за это неверие, чтоб не подохнуть сразу и не оставить Яночку совсем одну. Спасателей было всего четверо, милиционеров двое, а то, что осталось от машины, лежало на крыше, ее надо было перевернуть руками, чтоб достать… достать детей. Гурам всегда был необычайно сильным, на спор в молодости пятаки гнул пальцами, мать его, моя двоюродная сестра, сказала: «Иди, сын, твоя сила нужна», – и протянула ему бутылку чачи. Гури ее из горла выпил залпом и полез в ущелье. Тела в морг Кисловодска тоже он сопровождал, документы он оформлял, мы не могли ничего, совсем плохие были.
Гурам все сделал один, потом договорился с местными властями, и нас через горы перекинули домой на вертолете санитарной авиации, а он поехал за нашими мальчиками и привез их. После спуска в ущелье Гури и начал все время мыть руки. Психиатр сказал его матери, что это называется «синдром леди Макбет». Столько лет прошло, а бедный Гурам все никак не может отмыть с пальцев кровь наших мальчиков…
Ирка ждала меня за воротами, мы отошли за поворот дороги и решили ловить такси. И тут я обратила внимание на ее одежду: яркий желтый комбинезон из чего-то вроде бархата, декольте, разумеется, все такая же боевая раскраска и босоножки на каблуке:
– ??
– Ну, мы же в приличные места едем, не одеваться же, как анчутка. Все нормально будет, не переживай, главное – садимся в машину, только если там будет один водитель.
Первые два водителя «с шашечками» запросили дорого, и сторговаться ей не удалось, зато третья машина, красная «пятерка» с тонированными задними стеклами, устроила Иру. За рулем сидел довольно молодой парень, и он согласился везти нас к аэропорту за рубль (мне при такой низкой цене напрячься бы, но я уже заразилась от Ирки бесшабашной ее уверенностью), пригласив садиться скорее, потому что надо спешить, все дискотеки заканчиваются в 23.00.
Только я села в теплую темноту машины и захлопнула заднюю дверь, как сразу услышала щелчок – это кнопки зафиксировали все замки. И уже не удивилась, когда увидела на заднем сиденье еще одного мужчину. Подергала дверь – она была, разумеется, закрыта, а машина мчалась куда-то прочь от цирка. Но страха почему-то не было совсем, я никогда не попадала в подобные ситуации и не знала, что уже пора начинать бояться. Ирка спокойно, даже с вызовом, сказала:
– Ну, и куда это мы едем? Я так понимаю, что не к аэропорту?
– Ай, зачем так говоришь, красавица? Сейчас немножко посмотрим на ночное море из одного очень хорошего места и сразу поедем, куда вам надо, – ответил тот, что сидел за рулем.
И мы поехали неизвестно куда в полном молчании. Сидевший рядом со мной только сопел, но не издавал ни звука, водитель, представившийся Мишей, нес какую-то пошлую чепуху. Только тут меня осенило: он пытается ухаживать за Иркой! И нас везут отнюдь не любоваться морем! А молчаливому, судя по всему, предназначаюсь я. Расставаться с девственностью именно в эту ночь совсем не входило в мои планы, но страха все еще не было – я просто отказывалась верить, что все это происходит с нами и что это реальность. Ни разу в жизни я не испытывала насилия, а уж насилия в прямом смысле и подавно. Мне просто в голову не могло прийти, что нам на самом деле угрожает опасность.
Мимо мелькнул пост ГАИ, наш водитель приветственно махнул кому-то рукой и посигналил модной мелодией из мультфильма «Контакт» – мы выехали из города, но в темноте я не узнавала совершенно ничего. А может быть, мы тут и не были еще с нашими, машина много раз поворачивала, в какой мы стороне, я совершенно не представляла.
И тут запоздало включились мозги. Я вспомнила, что преступнику психологически труднее, если он знает имя жертвы, и немедленно громко представилась:
– Я Лора, кстати. А как вас зовут?
– Ал-л-ик я, б-б-брат М-мишико, – парень сильно заикался, и у меня тут же откуда-то всплыла информация о неуверенности в себе и стеснительности заик (понятие «комплексы» никому тогда не было знакомо). Я тут же решила как-то использовать сострадание. Если достучусь до парня, конечно. Особенно надеяться на такое везение не приходилось, но это хоть какой-то план.
Машина уже поднималась куда-то в гору, справа мелькал скальный массив. Ирка надменно сказала:
– Нас будут искать. Мы из цирка.
– Ага, мы тут все из цирка, один цирк вокруг. И зоопарк. Вот нас «зверями» называют, слышала? – Этот Мишико, кажется, не поверил и разозлился, машина вильнула на узкой дороге, он вдавил газ и скоро тормознул.
– Выходите, девочки. Бояться не надо, мы не обидим, а может, вам даже понравится.
Девочки вышли. «Жигуль» стоял на какой-то поляне, кажется, на опушке леса. И на горе – внизу действительно виднелось море и лунная дорожка на нем. Далеко внизу. Темень вокруг, из света – только фары машины, огней города тоже не видно, другая гора закрывает его. Абсолютная тишина, одни цикады трещат, и река шумит неподалеку где-то внизу. Алик нервно прикуривал одну сигарету от другой, Мишико тем временем вытащил из машины заднее сиденье и достал из багажника какую-то здоровенную тряпку. Покрывало, как потом оказалось. Я тихо сказала Ирке:
– Надо тянуть время, вдруг кто-нибудь проедет…
Она тут же села на траву, достала сигарету, закурила. Алик аж дымом поперхнулся, а Мишико хлопнул себя по коленям:
– Видишь? Она курит! Курит! А ты говорил, что не надо останавливаться, что никто не сядет? Сели! Да разве порядочные девушки так одеваются? Ты посмотри на ее лицо, на губы посмотри! Да у нее вся грудь видна! И что они делали в такое позднее время на дороге? Разве можно садиться к незнакомым мужчинам в машину? Приключений искали? Так вот они, приключения!
– Вт-тт-о-о-орая совсем реб-б-бенок, б-б-брат…
И тут Остапа понесло. Я вдруг разрыдалась от обиды и страха. От обиды, потому что даже эти гады считают меня ребенком, потому что о нас подумали плохо и оскорбительно, а мы не такие, мы всего лишь ищем Машку, потому что происходящее несправедливо и неправильно. Ну, и от страха, потому что им же придется нас, видимо, убить после изнасилования, бедная моя мамочка-ааа…
Сквозь рыдания я кричала о том, что они позорят народ Абхазии и эту землю, что мы здесь в гостях, а по аламысу, священному кодексу абхазов, гость неприкосновенен для хозяина, что у нас и так несчастье – мы не знаем, где искать подростка, может, и ее тоже вот так завезли и уже убили, что мы поверили словам Миши, а нас притащили в горы и что это подлость, подлость! Я спрашивала у Алика и его брата, есть ли у них сестры, предлагала представить этих сестер на нашем месте, предупреждала, что мы будем сопротивляться до последнего, и даже выкрикнула несколько слов по-абхазски зачем-то. И не заметила, как подошла к парням почти вплотную, чуть ли не заламывая руки – и отскочила, как от прокаженных.
Миша заорал тоже. Он кричал про сестру, которую с двумя детками в Ростове бросил муж и ушел к «такой же» – указующий перст на Ирку, про девушку, которая не дождалась Алика из Афгана (ага, это контузия, а не заикание, меняем тактику – промелькнуло у меня в голове) и вышла за богатого сорокалетнего старика, про то, что все красивые всегда стервы, он сбивался с русского на грузинский и смотрел только на Ирку. А она снова закурила и спокойно сказала:
– А теперь за все прегрешения других должны заплатить мы? Девчонку не трогайте, ей семнадцати нет, срока вам дадут больше, чем она весит. Имейте дело только со мной, если сможете. Только боюсь, что не сможете, слабаки. – И добавила пару словечек из боцманского лексикона.
Я обмерла, Алик, кажется, тоже, а Ирка вскочила, и в руках у нее была увесистая палка – вот для чего она села на землю, не пожалев нарядного желтенького комбинезончика. Она же отвлекает их внимание на себя! В ушах у меня зазвенело, в голове моментально пронеслись картины нашего безрадостного ближайшего будущего. И тут Мишка бросился к Ирке, я переворотом вперед покатилась ему под ноги, он споткнулся, засветив мне носком под ребра, стал валиться на Ирку, попытался удержать равновесие и ухватился за ее комбинезон, разорвав его почти до пояса, она заорала…
Но это не в ушах у меня звенит от удара, это звук двигателя мотоцикла!
– Тихо вы! Замолчите все! Слушайте! – мне надо было выиграть время, я не знала, ударит Миша Ирку или она сама вцепится ему в лицо. Действующие лица заткнулись мгновенно и уставились на меня, все трое. Я уже четко различала мощный рокот, а остальные не могли понять, что это за звук – еще бы, ведь это не они прислушивались к нему два месяца подряд. Да и вообще, по горам Абхазии не каждый год ездят японские мотоциклы, про каждый день я вообще молчу.
Красный «Кавасаки» вылетел на поляну вслед за рванувшимся из-за поворота ослепительным лучом собственной фары, за ним выскочили еще три машины. Свет залил поляну: Ирку в разорванной одежде, покрывало, расстеленное на траве, заднее сиденье «Жигулей» отдельно от машины, меня, валяющуюся на траве и потирающую бок, а также двух неосмотрительных молодых джентльменов. Двух весьма неосмотрительных джентльменов, один из которых через минуту улетел к кустам от страшного удара Кости, а второй затрепыхался в воздухе в руках Володи Агеева. Но это была только легонькая разминка, потому что из незнакомой «Волги» вышел Гурам Гвазава.
Костя уже был около меня. Присел на корточки, посмотрел снизу в лицо и спросил:
– Где болит? Почему ты бок трешь? Маленькая, эти твари ничего тебе не сделали?
А потом обнял. Он. Меня. Обнял. По-настоящему. Как взрослую.
Вы знаете, что такое бархатный приход? Так говорят, когда акробат, выполнив очень сложный и опасный трюк в воздухе, мягко и аккуратно приходит точно в руки или на плечи нижнему.
26. Месть и закон. Закон гостеприимства
Как нас нашли? Помните пост ГАИ, на котором Миша сигналил своему знакомому и махал ему приветственно? Ну и все. Этот местный обычай дружества сыграл с ним скверную шутку и помог нашим.
Когда Костя с Васей, очень быстро объехав город, вернулись с известием, что дискотека работает всего одна и никакой Маши там нет, а Ковбой и Якубов, проверив рестораны на набережной, пришли с такой же новостью, пока Агеев хлопотал около мамы Маши, прошло какое-то время. И тут они заметили наше отсутствие.
Какая-то билетерша заметила, как мы выходим за ворота цирка, и сказала Фире Моисеевне; служащая Алдоны, которая шла из дежурного гастронома с творогом для собак, видела, как мы сели в красные «Жигули» с белой полосой на багажнике (хвала освещенным улицам), и отметила, что машина рванула с места очень резво – пазл сложился. Проклиная всех молодых идиоток оптом, мужчины только приступили к разработке стратегии, тут наконец-то приехал Гурам, и настало время тактики. Гурам сразу позвонил на пульт городского ГАИ, сообщил данные машины, на которой Грант увез Машку. Сказал:
– Их найдут, не бздеть. В любом городе найдут, если они передвигаются, а не стоят где-то в лесочке. Аварий с участием такой машины не было, мне зачитали сводку, значит, живы, это главное. Ждем, сюда скоро позвонят.
Алла Семеновна, мама Иры и Маши, наконец-то перестала плакать, выпила коньячку, продышалась и спросила Якубова и Ковбоя, не видел ли кто случайно ее старшую дочь? Парням пришлось признаться, что и Ирины тоже нет в наличии, и теперь они пришли растерянные, сообщив, что Алла снова рыдает. Гурам помрачнел:
– А вот это уже серьезнее, между прочим. Вы что, совсем не контролируете ваших девочек? Тоже уехала с ухажером? Нельзя здесь кататься по ночам, козлов много, могут неправильно расценить. Всякие люди встречаются, приезжих тоже полно, не все законопослушные и порядочные тут. Кто, говорите, машину видел? Служащая? Пошли к ней.
Но они не успели выйти из вагончика Агеева, где происходило совещание. Дверь распахнулась, ворвался Барский, которому до сих пор вообще ничего не говорили, чтоб не волновать, даже звонили из директорского кабинета в отсутствие самого Юрия Евгеньевича.
– Вы мне почему не сказали, а? Звонят милицейские, докладывают о какой-то машине, которую все ищут, а теперь я узнаю, что и Лоры нет уже несколько часов? Хорошо, пусть больше часа нет, это ничего не меняет! Мне ее мать доверила, она девочка совсем, все у нее хорошие, люди сплошь братья, всем верит. Вы что, не знаете этого? А если что-то случится, как я жить буду? Давид, ты-то почему молчал? И почему мы все еще здесь, когда ночь глубокая, а ребенка уже, может, в горы завезли, надругались и убили? Валидол есть у тебя, Володя? А лучше водки дайте, нервов никаких не хватает…
В общем, очень скоро наши мужчины, сделав несколько звонков, выяснили у тех же милицейских друзей Гурама, что красные «Жигули» с белой полосой на багажнике выехали из Сухума через пост ГАИ в Гульрипше, но через следующий пост не проезжали. Тот, кому сигналил глупый и самонадеянный Миша, прекрасно разглядел на переднем сиденье блондинку с длинными волосами, о чем тут же и сообщил, когда его спросили, не было ли в машине девушек.
– Значит, свернули налево, в горы, я знаю ту дорогу, она одна всего, к военной части ведет, больше им ехать некуда. Везде люди живут, отдыхающие везде снимают жилье, оживленно повсюду очень, для их сволочных целей не подходит. Найдем. Сейчас отпущу водителя, я на служебной машине приехал, моя на профилактике, и едем. – Гурам вышел, а наши немедленно начали хором орать и выяснять, кто поедет в горы. Барского, невзирая на возмущение и протесты, исключили сразу, упомянув его больное сердце, а Давид Вахтангович так посмотрел на запретителей, что все сразу согласились с тем, что он тоже едет.
В результате на поляне оказались девять наших мужчин: Костя, Агеев, Витька Ковбой, Якубов, Давид Вахтангович, Гурам, братья Альгис и Викторас, и местный, наш инженер Инал. Прямо небольшая армия, которая вполне была способна тем не менее взять любую крепость. Милицейских Гурам не стал привлекать, сказал, что это исключительно внутреннее дело.
Мишу, отдыхавшего в отключке, достали из кустов, привели в чувство, аккуратно примотали к нему брата Алика (тут пригодилось то самое покрывало, которое Агеев просто порвал на ленточки голыми руками, без всякого ножа) и забрали у него ключи от машины. Потом обоих отнесли в сторонку и Гурам вместе с Давидом Вахтанговичем приступили к разговору. Они говорили на грузинском, но судя по тому, как абхаз Инал, отлично знавший язык, непроизвольно вжимал голову в плечи, ничего хорошего братьям и их родне не обещали. Беседу Инал перевел так: «Старшие сказали этим придуркам много очень горьких слов».
Остальные мужчины неторопливо обследовали окрестности, обнаружили, что в конце поляны есть еще поворот, а под ним – довольно глубокая расщелина с рекой на дне, подогнали машину Миши к краю и аккуратненько столкнули ее вниз. Вопль бывшего автовладельца совпал с бабахом внизу и красивым заревом.
– Ничего, мы вас подвезем до города. Или предпочитаете на свежем воздухе переночевать? – вежливо спросил Агеев.
– С такими недоделками западло в одной машине ехать, – скривился Гурам, – а придется, потому что прямо отсюда мы с Давидом повезем джигитов к их старшим. И продолжим разговор там. Их счастье, что девочки невредимы, а то совсем другой разговор был бы. Точнее, не было б разговора никакого, их бы просто не нашли никогда.
И я отчетливо поняла, что он говорит правду. Пролепетала что-то вроде «они же нам ничего не сделали, идиоты, да, но ведь не тронули?». Гурам обернулся, посмотрел на меня пристально и медленно произнес:
– Гого, ты уверена, что они просто собирались, налюбовавшись звездами, отвезти вас домой? Точно знаешь, что не хотели обидеть, унизить, надругаться? А я вот другое знаю. Знаю, что есть вещи, которые просто нельзя делать. Табу. Нарушил табу – черту перешел, ты теперь враг и должен ответить. Точка.
Мишу и Алика, так и не издавшего ни звука, – в отличие от брата, который сначала угрожал, потом извинялся, потом просил, – прямо в оригинальной упаковке из импровизированных веревок сложили в «Волгу» Гурама, Давид Вахтангович сел на переднее сиденье, и они уехали. А мы, раз уж оказались в горах ночью, развели костер и просидели до утра под огромными звездами. Завтра же выходной. И Костя остался с нами. И сидел около меня, ни на шаг не отходил. А до этого встал на одно колено и завязал мне шнурки на кедах, я и не заметила, что они волочатся по земле.
Только вот Володя несколько раз очень внимательно на нас взглянул… Думаю, именно тогда он и догадался обо всем.
Про дурынду Машку все как-то немножко забыли, но она сама нашлась, когда мы утром вернулись, выскочила нам навстречу и бросилась Ирке на шею. Оказывается, вместо дискотеки кавалер повез Машу показать Новый Афон. Там же, любуясь лунной дорожкой со смотровой площадки у пещер, узнал, сколько ей лет, благоразумно резко развернулся в сторону дома, но в этот момент их приняли милицейские. Прав-то не было у Гранта. Узнав, что Маша из цирка, дежурный, сменившись, сел за руль и привез Машку в объятия мамы, которой было что сказать дочери, ох и было! Бедная Маха еще пару дней на пляже лежала на животе, а не сидела, выпорола ее мать. И правильно сделала, между прочим. Иногда толику ума можно вложить в юную, полную самомнения голову исключительно через задницу.
27. Велька и Мцвели
Не совсем трезвого Давида Вахтанговича днем привезли двое сумрачных мужчин солидного возраста. Вместе с ним они выгрузили из машины несколько мешков и четыре огромных глиняных кувшина. Потом прошли к Барскому, пробыли у него несколько минут, вышли с чуть посветлевшими лицами, сели в машину и уехали.
Это были отец и дядя Алика и Миши, они принесли Барскому все возможные извинения и попросили забыть инцидент и похлопотать перед «уважаемым Гурамом», заверив, что «эти два шакала, позор рода» будут немедленно высланы из города к родне в Дагестан, где и просидят до того самого дня, когда старшие подберут им невест и женят остолопов. Потому что, видимо, пора. А за сгоревшую машину претензий нет, что вы, уважаемый! Никаких претензий, вот еще машина, почти новая – хотите ее? Забирайте, уважаемый, только скажите Гураму Александровичу, что нет у вас обиды на наш род, пожалейте молодых дураков. Один, между прочим, вообще контуженый, больной весь.
Барский машину не хотел. Но пообещал напуганным до смерти родственникам, что мстить наши мужчины не будут. И что Гурама Александровича он лично успокоит.
В мешках оказались два огромных гуся, вся задняя половина крупненького бычка, овощи и фрукты, в кувшинах – дивное вино и чача, которым все вечером и отдали должное. По стаканчику, не больше – завтра рабочий день.
Гурам, очевидно, обладал мощным даром убеждения: он коротко поговорил о чем-то с Иркой, и мы больше не видели ее в вызывающих нарядах и боевой раскраске. Оказалось, что обычные платьица и чуть-чуть подкрашенные ресницы делают ее даже моложе, милее и симпатичнее.
Эта история, как почти все истории, связанные у меня с цирком, имела свое необыкновенное продолжение: через несколько дней я, собираясь утром с Ритой Бакиревой, Алдоной и собаками пойти на дальний пляж, столкнулась у ворот с Аликом. В руках парень держал большую плетеную корзинку, прикрытую голубой тряпочкой, у ног стояла еще одна корзина, огромная, полная крупного фиолетово-дымчатого инжира. Синяки на лице Алика расцвели дивным цветом, кровоподтеки от пальцев Агеева на предплечьях только-только начали зеленеть, но вид был отчаянно-решительный. И он почему-то совсем перестал заикаться:
– Я пришел извиниться перед тобой. Хорошо, что тут старшие женщины – дед сказал, что чем больше людей услышат мои слова, тем скорее бог простит.
И извинился. Он говорил искренне, горько, чувствовалось, что стыд его буквально сжирает. Я мельком глянула на Риту и Алдону, а они почти незаметно синхронно обе кивнули: пусть продолжает, пока можно верить.
– Клянусь могилой матери, что никогда и пальцем к тебе не прикоснулся бы! Да, понимаю, что поздно, все уже случилось, ваш страх обернулся нашим позором. Мы уедем из Сухума завтра, а чтоб память все-таки стала хорошей, это тебе, вам – инжир от бабушки моей, не откажите, она сама собирала, пожелала, чтоб жизнь твоя такой же сладкой была. А от меня и от деда вот, – он протянул корзину, которую держал в руках. В этот момент голубая тряпочка зашевелилась, потом сползла – из корзины на меня смотрели карие внимательные глазки под трогательными бровками. Круглая меховая голова, темно-пепельная, с черной маской потянулась ко мне, из крохотной пасти появился розовый язык и лизнул мой палец. Конечно, я завизжала от восторга, конечно, я выхватила щена из корзинки и прижала к себе, рассматривая толстые лапищи в белых «носочках», розовое тугое пузо со смешной пипиркой, грудку в белоснежной манишке, широкую спинку с черным чепраком, хвостик-морковку – я никогда до этого не видела таких щенков. Он был прекрасен, он восхитительно пах теплым мехом, молоком, медом и почему-то свежевыглаженным бельем.
– Стоп-стоп, – Алдона взяла у меня малыша, осмотрела со всех сторон, – это отличнейший кобель кавказской овчарки с великолепными статями, насколько я могу судить. Где взяли щенка, молодой человек? Он больших денег стоит…
Алик аж побледнел, даже глаза заблестели подозрительно, он как-то судорожно дернул кадыком, будто проглотил обиду:
– Вы имеете право подозревать, я скомпрометирован. Щенок родился на пастбище моего деда, в горах. Документов нет, откуда? Только вам любой на Турбазе расскажет о наших собаках. За его отца люди из Нальчика, которые собачьими боями занимаются, тысячу рублей деду давали, дед не согласился! Сказал, что друзей не продает. А за щенками со всего Кавказа к деду едут, баранов везут, деньги везут, вино и чачу везут, записываются на год вперед. Они у нас громадные вырастают, умные, преданные, пастухи и охранники хорошие, дед не каждому отдает собаку, сначала разговаривает долго с человеком.
Алдона даже смутилась, вернула мне щенка и сказала, что ничего такого в виду не имела вовсе, Рита же поинтересовалась, зачем мне охранник и, особенно, пастух здесь, в цирке? Но щенка отобрать теперь можно было, только применив ко мне грубую физическую силу. И то не факт. Задыхаясь от умиления, я просюсюкала: «А как его зовут, моего холесенького?»
И тут Алик впервые улыбнулся. Оказалось, что у него хорошая улыбка, прекрасные ровные зубы и ямочки на щеках:
– Мцвели. Защитник, Хранитель, если по-русски. Можно звать Вели, Велька…
Велька?!
В нашем доме, построенном по советским технологиям вручную, по кирпичику, а не секционно или из блоков, стены были очень толстые, подоконники – широченные и слышимость почти нулевая. Можно было разговаривать, слушать музыку и все такое, но если не выйти на лестничную площадку, то ничего слышно не было. Входные же квартирные двери в середине прошлого века ставили самые обычные, деревянные, и слой дерматина, которым их квартировладельцы обивали «для тепла», звуку совершенно не мешал.
Так мы и узнали о новых соседях: из квартиры № 23 доносились восторженные мужские маты и визгливые причитания женщины: «Ой, цэ ж дви кимнаты, цэ ж у тому баку вода гаряча, це ж викна здорови яки!» Бабуля, мамочка, я и надменный белый болон Кузя жили в новой квартире уже почти три месяца, а дом продолжал заселяться, и теперь на нашем первом этаже собрался полный кворум.
И Диденко из квартиры справа, и Кондратьевы из квартиры слева помогали нам с обустройством – там в семьях были мужчины, которые могли вкрутить всякие шурупы и прибить карнизы. Взамен моя бабуля на всех пекла пироги и жарила фирменные оладушки с абрикосами, мама проверяла домашние задания по русскому у сына Кондратьевых и у Танечки Диденко, а я иногда возилась с младшим Кондратьевым, смешным годовалым Кирюшкой.
Мы жили очень дружно и с соседями по нашей площадке, и с теми, кто над нами, вплоть до пятого этажа. И только обитатели квартиры № 23 скользили мимо бурыми тенями (почему-то вся одежда тети Жени, дяди Василия и их сыновей казалась мне бурой, хотя наверняка такой не была), она и летом, и зимой в платке, он – всегда в кепке. Ни в чем они участия не принимали, ни с кем особо не общались, только к бабушке моей соседка шастала все время за хлебом, яйцами, солью, мукой, называя все почему-то с уменьшительно-ласкательными суффиксами: яэчки, хлебушек, мучичка, солька («Анна Иванна, не будете такие ласкавые занять мэни яэчка три?»). А еще тетя Женя ходила, втянув голову в плечи, и мне казалось, что она постоянно больна.
Пока я была мала и в девять вечера уже укладывалась спать, Пивневых для меня как бы не существовало – ну, живут себе какие-то бурые люди за стеной и живут. Но как только стала старше, открылось интересное: однажды вечером пятницы, возвращаясь с прогулки с Кузькой и пробегая под окнами, я услышала из форточки двадцать третьей квартиры звон разбитой посуды, грохот и женский вой. Я даже не сразу поняла, что это женщина так кричит, решила, что какой-то детектив идет и у соседей просто очень громко работает телевизор (потом я узнала, что телевизора у них никогда и не было). Прибежала домой – нет, все попытки обнаружить фильм не увенчались успехом, я зря крутила ручку. Тут за стеной отчетливо грохнуло, и опять приглушенно завыла женщина. Бабуля посмотрела на меня, потом на маму:
– Дина, придется объяснить ребенку…
– Дочечка, понимаешь, дядя Вася иногда пьет водку. А когда пьет, становится злой – так бывает, когда жизнь человека оказывается не заполнена радостью и чем-то хорошим. Представь гулкие и пыльные помещения в доме, в который даже свет не проведен. Человек пьет, а спиртное открывает двери в его внутренние черные комнаты, а там не веселье и шутки, а злоба и горечь. И эти темные чувства, поселяясь в человеке, на время превращают его во что-то другое, иногда похожее на злобного зверя. Вот сейчас за стеной хозяйничает зверь, дочечка, крушит все вокруг и делает больно тете Жене.
Так я узнала, что люди бьют других людей, бьют просто так, а не в кино, в бою или защищая справедливость и сражаясь со всякими злодеями. Однажды, когда у нас были в гостях мамины друзья, все сплошь здоровые мужики, за стеной веселились особо люто, и двое из гостей не выдержали, пошли поговорить. Буйный Василий затих, как умер, но утром мы с мамой увидели тетю Женю, мышкой выскользнувшую из подъезда, еще более согбенную, чем обычно. Лицо ее было черно-синим.
– Ой, Дина, нэ трэба бильш никого посылаты, дуже прошу! Васька мий як напьеться, вдарыть разив пять и спаты падае, а учора як сказывся, рота мени закрыв и лупцював як оту грушу… Боюся, шо вбье якось.
– Женя, да почему ж ты терпишь побои? Милицию вызывай, пусть его определят на пятнадцать суток, чтоб поостыл и подумал!
– Як це? Свого мужика ридного в милицию? Так й як выпустять його – точно вбье мэне.
Больше мама не вмешивалась в высокие отношения соседей, а там и старший сын, Витька, подрос. Подрос и стал лупцевать папашу своего героического почем зря – тот только от стен отлетал, судя по звукам. А тетя Женя ходила без синяков и гордая. Но по-прежнему во всем серо-буром, очень потертом и бедненьком. Больше не сотрясаемый побоями, ее мозг придумал способ пополнения семейного бюджета – нуждались в деньгах Пивневы отчаянно и постоянно.
В те давние времена по дворам ездили будки-звероловки. В нашем городе это случалось, к счастью, редко и появлялись они всего два раза в месяц. Был период, когда звероловы платили добровольным помощникам по рублю за каждую предъявленную собаку и по пятьдесят копеек – за кошку. Конечно, во дворе жили несколько общих собак, которых все кормили, у которых было место в подвалах (да, в наших пятиэтажках имелись отличные сухие подвалы, где жители хранили картошку, консервы и всякий хлам). Собаки рожали чудесных щенят, которых разбирали по домам, и все были счастливы. Пока на тропу бизнеса не вышла давно не битая тетя Женя.
Сначала у одного из мальчишек пропала домашняя собака, совсем щенок. Пропала бесследно. Потом у бабули из дома напротив исчезли две пожилые кошки, прожившие с бабулей чуть ли не двадцать лет. Двор насторожился, потому что раньше такого никогда не случалось. А еще через неделю исчез Велька. Велька, большой, лохматый, добрейший Велька, бабушка которого явно согрешила с ньюфаундлендом, наш всеобщий любимец. Он жил во дворе уже года два, шел ко всем, ласково махая хвостом, сопровождал наших пацанов на пляж и в посадку, а девочек охранял, когда те играли в «классы» или в «резиночку» – лежал рядом и зорко следил, чтоб все было в порядке на вверенной ему территории. И вот он исчез. Мы сбились с ног, два десятка наших обшарили всю округу, оббегали окрестные магазины, навестили кухни в двух школах и в двух детских садах рядом (там Вельку тоже знали и любили, угощали вкусными кусочками), обыскали огромную кручу, где Велька часто играл с нами в экспедицию на Марс, наревелись, но не смирились с потерей и собирались продолжить поиски в субботу.
Рано утром в дверь отчаянно зазвонили и заорали, чтоб скорее. Мой одноклассник Вовка прямо приплясывал на пороге и вопил:
– Бегом, шевелись уже! Там эта жаба, соседка ваша, Вельку живодерам тащит!
Оказывается, все эти дни предприимчивая тетя Женя прятала нашего доброго Вельку в подвале, который считался давно закрытым, дожидаясь субботнего приезда будки звероловов, и сейчас на веревке вела его в сторону пустыря – там торчала страшная зеленая машина, а около нее курили два худых мужика помятого вида. Под мышкой тетя Женя держала еще двух толстых маленьких щенков. Велька спокойно шел навстречу смерти – он привык доверять людям, а щенки радостно виляли смешными хвостиками и тянулись мордочками к суровому лицу предпринимательницы.
Мы были воспитанными и вежливыми детьми, сцепиться со взрослым человеком никому из нас даже не пришло бы в голову, но… я так толкнула ее двумя руками в бок, что тетка, крутанувшись, плюхнулась на задницу, выронив щенят. Веревку с Велькой вырвали у нее из рук Вовка и Саня Грек. Не слушая злобных матюков и проклятий, мы помчались ко мне домой, рассказали все маме и бабуле, накормили Вельку и щенков и решили пока не оставлять их без присмотра.
Странно, но у тетки хватило ума не ломиться к нам с выяснениями, мы слышали, как хлопнула дверь двадцать третьей квартиры, а потом все стихло. Только никто не собирался прощать Пивневой жестокость, жадность и бездушие: поздно вечером мы с пацанами украсили черный дерматин их двери ярко-красной надписью «ЖИВОДЕРКА, укравшая Вельку!» – исполнив ее импортной краской Вовкиного отца (он гарантировал, что никакой растворитель надпись не возьмет), а потом толстой железной проволокой накрепко примотали дверную ручку к трубе центрального отопления, которая проходила рядом, – дверь теперь можно было приоткрыть на два пальца, а дальше проволока не пускала. Глупые, мы мечтали, что зараза эта там будет сидеть и глодать свои пальцы (Василий с сыновьями уехал к матери в село), но совершенно не учли, что это ж первый этаж и путь эвакуации очевиден.
За ночь надпись отлично подсохла и нарядно заблестела, а утром дверь начала сотрясаться от ударов изнутри и диких воплей. Должна заметить, что никто из взрослых нашего подъезда, проходивших мимо, не проявил желания освободить страдалицу из плена, хоть она и взывала из щели в двери ко всем соседям. Наоравшись, тетка полезла из окна, и смотреть на это было отдельным удовольствием, много зрителей собралось. Двор уже знал историю исчезновения Вельки, и молчание, с которым соседи наблюдали за неловкими телодвижениями тети Жени, было очень напряженным. Я не знаю, о чем говорили с ней взрослые, слышала только, как рыженькая Лидочка, продавец нашего маленького магазинчика на углу, громко сказала:
– И не приходи ко мне в магазин, живодерка! Иди к школе, пусть тебя обслуживают те, кто тебя, дрянь такую, не знает. Моя Варька рыдала двое суток, когда Велька пропал, оловянные твои глаза!
Дверь простояла с проволокой и надписью несколько дней – тетя Женя предпочла уехать к мужу и сыновьям. Вернулись они все вместе, и дядя Василий долго возился с проволокой – не мог открутить. Да и дерматин пришлось весь менять, и за такой расход супруга огребла от разгневанного хозяина дополнительных люлей, а сыновья орали на мамашу в унисон с папаней.
А Велька, чудесный Велька, вскоре обрел дом – из плаванья пришел кавалер и будущий муж нашей Рыжей Сонечки, большой и добрый старпом Юра. Он и забрал к себе пса. Спасенные щены тоже нашли хозяев. Один, кстати, оказался полуспаниелем.
Это ли не перст Судьбы, скажите? Далеко на юге ко мне вот таким замысловатым путем пришел комок меха, которого звали именем главного пса моего детства. Дело в том, что домашний белоснежный болон Кузя, под благовидным предлогом сбагренный нам уже взрослым псом какой-то из маминых знакомых, нрав имел суровый, склочный и придурковатый, любил только маму, детей не жаловал никаких, а меня просто терпел, чуть ли не морщась. Я его кормила, расчесывала и гуляла с ним, а он все равно уходил под журнальный столик и там ждал прихода мамы с работы. Не получилось у нас с ним дружбы, а вот бездомный лохматый черный Велька меня любил. И теперь мне принесли Вели, Вельку-Хранителя, подаренного неизвестным стариком от чистого сердца, и он будет только моим. Как отказаться? Никак.
Алдона, однако, подошла к вопросу серьезно:
– А не могли бы мы как-то встретиться с вашим дедом, поговорить с ним, посмотреть на отца и мать этого товарища? Да хоть в ближайший понедельник? Понимаете, в цирке много животных, только у меня, например, четырнадцать собак и пять щенков. Я должна увидеть место, где ваш Мцвели родился и выкармливался, чтоб не думать потом о всяческих инфекциях. Ведь справки от ветеринара у вас нет? Этот толстый Хранитель не привит? А хотя бы родители вакцинированы?
Он был, конечно, не привит (да и рано же, малышу еле-еле два месяца исполнилось), опять загрустивший было Алик, поняв, что его лично ни в чем не подозревают, с радостью нарисовал подробный план проезда к пастбищу в горах, где жил в балагане[49] дед. Там же, сказал Алик, и вся родня маленького Мцвели службу несет. Парень пообещал предупредить деда о нашем визите, попрощался, еще раз извинился и ушел, а мы вернулись домой – какой там пляж, вот же щен!
Детеныши кавказских овчарок одним своим видом рвут сердце вдребезги и пополам: когда я опустила моего шарообразного толстолапого увальня на травку в тени магнолии, он и хвостишкой вильнуть не успел, как был подхвачен под пузо и пошел по рукам толпы пищащих девушек и улыбающихся парней, ухитряясь каждого лизнуть хоть куда-нибудь. Якубову-Чингачгуку Вели успел облизать весь выдающийся нос, прежде чем был отобран Витькой Ковбоем. Олег Таймень, выросший среди таежных собак и отлично понимающий все живое вообще, взял кутенка двумя руками, покачал, легонько щелкнул по носу. Раздалось потешное «грррррыыых» – как будто рычал мультяшный персонаж. Массажист сгреб Вели за шкирку, приподнял. Щенок извивался всем тельцем, но молчал, только сопел.
– Правильно реагирует, добрый пес вырастет, с достоинством. А уши, вижу, обрезали очень низко. Видать, работают все его родичи нешутейно так-то, при деле серьезном они, и его готовили к тому же, – одобрительно сказал Олег Яковлевич.
Восторги бушевали до самого представления, да и после тоже. Маленький Вели ужасно утомился от объятий и поцелуев, несколько раз поел принесенной Алдоной щенячьей кашки и ничком заснул на свежем воздухе, уткнувшись носом в мою старую футболку, временно назначенную подстилкой, и вытянув умильные задние лапки пока еще розовыми пятками вверх. Я сидела на ящике рядом с ним, читала книгу, когда пришел Агеев.
– Детка, скажи, ты отдаешь себе отчет в том, кого тебе подарили? Видела кавказских овчарок когда-нибудь? Нет? Так вот, этот милый пупс будет гораздо больше Алдониных сенбернаров. Выше, тяжелее, мощнее и серьезнее. Если не воспитаешь его и не внушишь, что тут навсегда главная ты, будут проблемы. Понимаешь ты это? Вижу, что не очень… Ладно, я поеду с вами, хочу быть рядом и видеть твое лицо, когда ты увидишь родню этой игрушечной собачки.
Володя сунул мне в руку огромный гранат, погладил по голове и ушел. И тут же появился Костя. Улыбнулся, присел рядом на корточки (видел или нет, как Агеев гладил меня по голове, словно дошкольницу?), погладил спинку и хвостик Вельки, легонько почесал пятку – лапка дрогнула и поджалась, а щенок смешно зачмокал.
– Совсем малыш, недавно мамку сосал… Хороший пес будет. Только тебе бы не нужно привыкать к нему, трудно будет расставаться потом. Это сейчас он пуся толстопопая, а всего через полгода ты не сможешь удержать его на поводке, понимаешь? Хотя, чего это я, сама все увидишь. Я же могу поехать в горы с вами?
У меня дыхание перехватило, а сердце прыгнуло к горлу – он еще спрашивает! Я и надеяться не смела, и попросить бы ни за что не смогла, а тут он сам предложил. Еще четыре дня, скорее бы, скорее…
28. Батоно Джамал и серый Коба
Экспедиция выдвинулась в Цебельду прямо на рассвете. Гурам договорился с гаишниками, на посту за Сухумом нас подробно проинструктировали и указали ориентиры. Альгис был занят, поэтому просто отдал ключи от машины Володе, Алдона села рядом с Агеевым, я устроилась на заднем сиденье. Быстроходный Костя поехал, как обычно, впереди.
А щенка мы оставили дома на попечении Фиры Моисеевны. Она, кстати, с появлением малыша заметно оживилась, внимательно следила за его питанием, за обходными маневрами желающих угостить щена какой-нибудь запретной вкуснятиной (добрые цирковые дети несколько раз пытались поделиться с Вели шоколадом, например, а сердобольные пожилые билетерши и уборщицы почему-то считали, что собачий младенец вообще должен есть круглосуточно), когда я была занята на манеже, выводила его погулять на пустырь и призналась мне, что всю жизнь мечтала о большой собаке:
– Ну, и куда бы я с ней в поездки? В передвижке ладно, в вагончике отлично поместились бы, а в стационере? В цирковых гостиницах нельзя жить с крупным псом, на конюшне своих зверей полно – без вариантов. Дети мои поназаводили себе мелких шибздов, каких-то левреток, шпицев, пинчеров, глянуть не на что. А твой гордый сын кавказских гор – то, что мне надо.
Сын кавказских гор в процессе разговора меланхолично жевал совсем еще детскими деснами найденную где-то старую кожаную перчатку.
О красоте дороги, ведущей в сторону Даринского перевала, о белых, голубых и бежевых домах среди садов, темно-изумрудных от листвы цитрусовых деревьев, о коровах, неспешно бредущих прямо по дороге и абсолютно не боящихся машин, об улыбающихся людях, приветливо машущих нам с обочин, о старике, который показал нам нужный поворот, но перед этим радушно пригласил посидеть у него на веранде, «покушать мяса и выпить стаканчик-другой вина», я могла бы рассказывать бесконечно.
Вдали виднелись громадные зеленые вершины, дорога неожиданно нырнула в прохладное ущелье, справа встала стена из светлых пластов известняка, а слева открылся глубокий обрыв, на дне которого шумела бирюзовая Мачара, горная река с водой удивительного цвета. Костя умчался вперед, а мы ехали медленно, любуясь видами. Машинка осторожно наматывала километры извилистой дороги, окна были открыты, и воздух, сладкий воздух гор кружил головы и заставлял нас улыбаться. На другой стороне ущелья деревья карабкались по отвесным склонам, мелькнули развалины какого-то древнего строения на вершине высокой неприступной скалы – как на такую высоту горцы затаскивали камни для постройки, ну как? Навстречу попался грузовик, загорелый водитель посигналил, остановился:
– Ваш друг на красном мотоцикле просил передать, что ждет у водопада, – и вдруг протянул круг золотистого копченого сыра в чистой тряпочке. Алдона в ответ уговорила его взять коробку зефира детям.
Костя, пока мы разглядывали красоты и плелись неспешно, успел искупаться в небольшом водопадике и ждал нас, сидя на перилах мостика, влажные волосы собрал в хвост (кстати, длинные волосы некоторых наших артистов почему-то не вызывали у кавказцев отторжения; сейчас же, часто бывая на Кавказе, я точно знаю, что здесь подобные прически не приветствуются). Он сказал:
– Вы посмотрите на это чудо!
Перед нами лежала древняя Цебельдинская долина, утопавшая в зелени, замкнутая со всех сторон горами. Наш путь лежал через нее, еще выше.
Когда мы добрались до места, солнце как раз было в зените, а мы – пыльные, уставшие от жары, но в полном восторге. Около километра пришлось пройти пешком, потому что машина проехать сюда не могла, дорога отсутствовала напрочь. Мы сгрузили подарки в багажник мотоцикла, и Костя поехал вперед. Обнаружили мы его на краю небольшой долинки, издалека выглядевшей, как ровная полка на пологом горном склоне. Он стоял к нам спиной и, когда оставалось пройти каких-то двадцать метров, предостерегающе поднял руку. Все цирковые знают этот знак: «Внимание и еще раз внимание!» А потом Троепольский громко сказал:
– Впереди собаки, остановитесь.
И мы увидели их. Трое огромных псов замерли на равном расстоянии друг от друга, преграждая дорогу, а один вышел вперед и абсолютно спокойно смотрел на нас. Изучал. Хвост его, однако, даже не шелохнулся, приветствовать нас пес явно не собирался.
Кобель был черно-серый, невероятного размера, с огромной башкой, густой шерстью и мощными лапами тяжеловеса. А на лапах красовались белые «носочки». Велькин папаня! Так вот ты какой, красавец – я чуть не кинулась обниматься, но вовремя очнулась, хотя впечатление от впервые увиденной взрослой кавказской овчарки меня, признаться, потрясло. Агеев это отлично заметил и теперь улыбался ехидно.
Сколько бы еще мы любовались друг другом, неизвестно, но из-за кустов самшита раздался свист, и вышел сам батоно Джамал. Он бросил собакам несколько гортанно-отрывистых команд, те немедленно развернулись и пошли куда-то, освободив нам дорогу. Серый гигант, правда, несколько раз обернулся: «Ты уверен, хозяин, что справишься? Их вон сколько, один здоровенный какой. Ты зови, если что, я рядом», – совершенно отчетливо услышала я беззвучный монолог.
Уже потом, когда уважаемый Джамал усадил нас за стол, вкопанный под старой шелковицей, когда были вручены подарки (Агееву пришлось уговаривать старика, тот поначалу отказывался, поминая вину внука, вину всего рода и свою персональную вину, но Володя очень мягко переубедил его), и на углях в каменной открытой жаровне зашипели огромные шампуры с бараниной, потом, когда были подняты первые стаканы – тогда старый Джамал внимательно и дружелюбно оглядел меня и одобрительно кивнул, сделав для себя какие-то выводы. А потом свистнул – собаки показались из-за сараюшки и сели на почтительном расстоянии. У ног крупной бежево-коричневой суки вились три круглых щенка. Это были братики и сестричка моего Мцвели.
– Пока мясо готовится, пойдем, сынок, – позвал Джамал Костю, – нарубим тушу, с собой барашка возьмете. И ты иди, гого, познакомлю тебя с Кобой поближе, вижу, как ты хочешь этого. Мади сейчас с детьми, ее беспокоить не будем, ты и так поняла, что это мать Мцвели.
Получив короткую команду, Коба подошел к нам почти вплотную и оказался мне ровно по место, где заканчивался кулон, что висел на шее. То есть его холка была почти на уровне моей груди, он свободно мог смотреть мне в лицо, лишь слегка запрокидывая голову. Нет, я, конечно, не великанша, ниже среднего роста, но размеры этого пса были грандиозны. Он смотрел на меня какое-то время, а потом скорчил рожу, клянусь: вывалил дурашливо язык, закатил глаза и поднял брови. Тут же получил за представление от хозяина кусок мяса, который с достоинством поймал пастью и, кажется, даже не глотал, оно просто исчезло. Я спросила позволения потрогать пса, Джамал снова что-то коротко сказал. Коба тут же сел и выжидательно уставился на меня. Мол, давай уже скорее, гладь или чего ты там хотела, и я пошел.
Руки мои погрузились в теплую шерсть по запястья, потом я, едва касаясь, провела по мощной шее и сделала шаг назад:
– Спасибо, батоно Джамал, спасибо, Коба.
Коба степенно вернулся к семье и работе, наш хозяин пошел к столу, а я пригорюнилась: пришло осознание, что Агеев и Костя, наверное, были правы. С таким псом мне не справиться, потому что нужно работать ежедневно, чтоб получить хоть приблизительно такое же уважение и послушание, а у меня времени от репетиций и работы остается всего ничего. Это пока щеночек хорошенький, маленький, спит у моей кровати на матрасике, но очень быстро он вырастет и станет гораздо сильнее и тяжелее меня (Коба весит почти восемьдесят килограммов, а Джамал сказал, что Вели будет крупнее отца), и если я не смогу стать лидером сразу, то, скорее всего, нас с ним ожидает печальное будущее. А еще дома ждет обаятельный разгильдяй Митька, любящий весь мир подобранец из чистокровных дворян, считающий нас с мамой исключительно своей собственностью. Понравится ли это «гордому сыну кавказских гор»? И вот как быть? Расстаться с моим Хранителем я была совершенно не в силах.
Сидя на одной из колод, которые батоно Джамал использовал в качестве табуреток, я печально обоняла дивный аромат почти готового шашлыка и чуть не плакала. Идти за стол в таком настроении мне было стыдно, наши тут же заметили бы, что я включила заднюю.
Понимаете, он всегда появлялся именно в тот момент, когда больше всего был мне нужен. Откуда он всё знал? Костя ведь не делал никаких попыток к сближению, у него просто не было возможности хоть немного ко мне приглядеться. Я и до сих пор не нашла ответа на этот вопрос, хотя прошло больше тридцати лет. Мне было почти семнадцать, ему – целых тридцать два (Агееву, которого я для себя назначила папой и относилась к нему как к папе, исполнилось тридцать шесть), между нами беспощадно пролегла Костина взрослая жизнь, но начинающая просыпаться женская интуиция говорила мне, что этому необыкновенному человеку я отчего-то небезразлична. Было прекрасно и страшно, и ни секунды из тех пятидесяти трех дней (да, я каждый из них отметила в настенном календаре), которые уже прошли рядом с Костей, и тех, которые были еще впереди, я не отдала бы ни за какие блага.
– Тяжкую думку думаешь, Ло? Осознала масштабы? Ничего, ты пока люби Вельку своего, расти, воспитывай и радуйся ему, а проблемы будем решать по мере их возникновения. И решим. Веришь мне?
Верю ли? После мамы и Агеева Костя был третьим человеком, который мог бы, подведя меня к краю Гранд-Каньона, предложить прыгнуть вниз, утверждая, что ничего плохого не случится, что я не упаду, а взлечу, например. И я прыгнула бы, ни на миг не усомнившись.
Именно Костя раз и навсегда поселил во мне уверенность: внимания и любви стоит только тот мужчина, который абсолютно естественно воспримет твои трудности как свои собственные и незаметно подставит плечо.
Мы еще погуляли по долинке, посмотрели на белых и черных овечек, поиграли с ягнятами, понаблюдали, как батоно Джамал что-то делает возле ульев, которые стояли чуть в стороне, в роще каштанов – а Коба издалека приглядывал за нами. Особенно за огромным Агеевым.
Наш хозяин рассказал, почему у взрослых собак и у щенков так низко купированы уши. Оказывается, в горах отару подстерегают волки и шакалы, а Коба и все остальные – настоящие грузинские волкодавы, древний род охранников и пастухов. И они сражаются с волками (шакалы трусливо убегают, им с огромными псами не справиться, мелковаты), битвы бывают и смертельные. В бою уши – уязвимое место, волк легко может вообще оторвать собачье ухо. Как останавливать кровопотерю, как в горах лечить возможные последствия битвы? Вот потому щенкам в первые семьдесят два часа жизни ушки и режут, коротко, остатки хряща зарастают и прячутся в густой шерсти, а голова собаки становится похожа на шар.
Мы уезжали уже к вечеру, нагруженные мясом, сыром, медом в сотах и в банках, молодым фундуком и каштанами. А наш гостеприимный хозяин получил приглашение на представление и пообещал приехать вместе с женой.
Дома Вели, спавший у кресла-качалки Фиры Моисеевны, кинулся ко мне так, будто я вернулась из рекрутчины и отсутствовала двадцать пять лет, а не десять часов. Он восхищенно всхлипывал, лизал мне лицо и руки, отчаянно махал хвостиком и втягивал кожаным носишкой родные запахи. Подозреваю, что я здорово пахла пастбищем, медом и даже овечками. Может, он и отца своего почуял, не знаю, но очень интенсивно тыкался мне в колени и нюхал, нюхал. Я гладила широкую спинку и думала о том, что очень скоро этот ласковый комок шерсти превратится в грозного зверя, волкодава, воина и охранника. Но это будет потом, а до «потом» мы что-нибудь придумаем – Костя ведь пообещал.
29. Пассионарии
Сентябрь в Сухуме оказался таким же прекрасным, как и август. Даже еще лучше. Солнце стало ласковым, а море по-прежнему было таким же теплым, как летом. Каждый день я просыпалась, уже согретая мыслью: мы надолго останемся в этом чудесном городе с этими гостеприимными, славными людьми. А впереди еще столько теплых дней, столько ночных купаний, столько мест, в которых мы пока не побывали, – счастье же!
В одну из суббот на вечернее представление приехал батоно Джамал с супругой. Двое сыновей почтительно высадили родителей из машины, вытащили из багажника здоровенную корзину с инжиром и фундуком, отнесли ее в кабинет Барского и уехали, а я проводила почтенную пару в директорскую ложу и побежала гримироваться и одеваться – через двадцать минут будет первый звонок.
В вагончике у себя с нежностью думала о стариках: батоно Джамал надел праздничный костюм с внушительным иконостасом из орденов и медалей на груди, до синевы выбритые щеки подпирал крахмальный воротничок белоснежной рубашки, о стрелки на брюках можно было порезаться, а его скромная большеглазая жена уложила толстенную косу в какой-то необыкновенной красоты узел (я рассмотрела это великолепие под тончайшей шелковой косынкой). На блузе калбатоно[50] Нино я заметила синий орден – «Материнскую славу II степени». Эта маленькая женщина вырастила восьмерых детей. Восьмерых! И, судя по возрасту внука Алика, его отца она родила в войну, а может, и не одного его. И такая деталька: на ногах пожилой женщины были новенькие чешские туфли, – моя мамочка хотела именно такие, но ее тридцать пятый размер почему-то не завезли, – и я порадовалась тому, что эти заслуженные люди пришли к нам в цирк, одевшись как для настоящего праздника.
Конечно же, все представление (снова полный аншлаг, между прочим) мы с Давидом Вахтанговичем наблюдали за нашими гостями. В ложе сидели уже привычные чиновники с супругами и детками, но два лучших места в первом ряду занимали Джамал и его Нино. И Джамалу, похоже, это очень нравилось. Агеев сказал мне за форгангом:
– Наши-то какие гордые сидят, ты погляди. У батоно Джамала плечи расправлены так, как будто бурка под пиджаком надета.
Как они смотрели представление! Детский восторг, неподдельное изумление, восхищение, радость, уважение – я любовалась стариками, и мне хотелось, чтоб наши работали еще лучше. Для них персонально. А уж когда сначала Володя, а потом и Костя, отработав номер, преподнесли букеты, которые вручили им зрители, калбатоно Нино, ее муж и вовсе засиял, а она зарделась словно девушка и спрятала лицо в охапку цветов.
После представления бебиа[51] Нино проводили в машину, которая уже ждала у входа, а Джамал зашел на конюшню – там играл с собаками Алдоны наш Мцвели. Старик одобрительно покивал головой и достал из кармана кулек с чем-то. Это что-то тут же было высыпано в миску Вели, и тот мгновенно слопал угощение. Мне показалось, что батоно Джамал угостил щенка очищенными семечками. Но нет.
– Это пчелиная детва, личинки, перга там еще, прополиса немножко, ну и медку чуток, сладенько ему. Они у меня все такое едят, как от материнской титьки отлепляются. Может, потому и здоровенные вырастают?
Потом Костя мотался к батоно Джамалу регулярно. Отвозил в горы лекарства, передачи от сыновей, а привозил лакомство для Вели и корзинку с гостинцами от славного старика. Забегая вперед, скажу, что Мцвели к году весил почти девяносто килограммов. Впрок пошло.
Дни стояли совершенно чудесные, и в выходной вдруг заскучавший Сашка Якубов уболтал нас поехать по всяким красивым местам, взял у инженера Инала ключи от машины, и мы стали собираться. Володя на этот раз был занят – к нему приехал друг, Ирка давно уехала, но зато Рита Бакирева пожелала составить нам компанию. А тут и ларчик сам собой открылся: к окончанию погрузки провианта и напитков Чингачгук привел прехорошенькую девочку Машу (ту самую, с которой мы катались на катамаране, помните?) из кордебалета, за которой он, оказывается, легонько так ухаживал. Может даже, и с дальней перспективой, потому что многие парни предпочитали жениться не на цирковых артистках (если не работали в одном номере с будущей женой), а на танцовщицах. Некоторые вообще брали в жены девочек «с той стороны манежа», как говорили цирковые старики. То есть к цирку вообще отношения не имевших, как Татьяна, жена дрессировщика медведей Забукаса, например.
Объяснение простое: жена ездит с тобой как хозяйка дома, пусть временного, но настоящего дома, и как мать детишек, а не уносится туда, куда забросит ее цирковой конвейер. Ты в Сочи, а она – в Свердловске, ты в Новосибирске, а она – в Киеве, видитесь вы три раза в год, когда повезет в одну программу попасть, да в отпуске еще разок встречаетесь.
Перед нашим отъездом к Фире Моисеевне приехала в гости тетя Тая, которая за столько лет жизни в Сухуме уже получила представление о почти всех здешних красотах. Она и посоветовала нам взять курс на Ткварчал, очень красивый город шахтеров. Бывшую наездницу горячо поддержал директор Барский, сказав, что вот и прекрасно, мы как раз завезем пригласительные в местный исполком, куда он, Барский, сейчас же и позвонит.
Я взяла на руки Вели, Маша села рядом с нами на заднее сиденье, Рита заняла место рядом с Якубовым, довольный Витька уселся позади Кости на «Кавасаки», и экспедиция выдвинулась на поиски приключений, как провидчески выразился Сашка.
Город оказался небольшим, но действительно сказочно красивым. Со всех сторон его окружали горы, Ткварчал, как затейливая мозаика, лежал на дне огромной зеленой чаши, куда вела единственная дорога, петлявшая между гор. Бежевые, розовые, терракотовые трех- и пятиэтажные дома с красивой лепниной террасами поднимались вверх, а на улицах росли молодые кедры вперемежку с пальмами. Мы быстро нашли монументальное здание горисполкома, отдали секретарю председателя пригласительные и спросили, чего бы посмотреть в окрестностях. Девушка посоветовала съездить в Верхний город, покататься на канатной дороге и заглянуть в Акармару, поселок неподалеку от города, – там есть целебные источники и просто очень красиво, сказала она.
Нигде больше я не видела такого количества улыбающихся лиц. Люди на улицах были веселы, очень радушны и охотно объясняли нам, как лучше всего проехать в эту самую Акармару. Было ощущение, что нас тут знают и рады нам. Мужчины абсолютно не стеснялись спросить у Кости, что это за мотоцикл, осмотреть «Кавасаки» и пощупать, справиться о характеристиках и выслушать ответ, уважительно хмыкая при сакраментальном словосочетании «тысячекубовый двигатель».
Добрались. Городок лежал внизу, напоминая россыпь разноцветных кристаллов на бархатной изумрудной подушке, вокруг нас были горы, поросшие лесом, справа – полянка. А дорога уходила куда-то дальше, туда, наверное, где слышался шум реки. Мы хотели есть, Вели хотел есть, писать и пить, потому решили сделать привал. Расстелили покрывала, ребята сложили из камней мангал, мы с Машей и Ритой накрыли стол, Ковбой разлил сухое вино из последней корзины подарков батоно Джамала (мне, как всегда, обидно налили лимонад), поставили жариться мясо. Настроение у всех было преотличным, но тут вернулся из разведки на местности Костя:
– Народ, дальше офигенно красиво! Но самое главное – там невероятный мост, который уходит куда-то в заросли. Поехать по нему нельзя, он железнодорожный, и наша дорога сворачивает в сторону от него, но какая же красота буквально в трехстах метрах отсюда…
Зерно его слов упало на благодатную почву: выпив пару стаканов сухонького, Якубов принялся уговаривать нас сходить к мосту, а потом вернуться к столу, доесть мясо и двигаться дальше. И мы согласились. Оставив сытого и уже сонного Вельку спать в машине с опущенными наполовину стеклами, затушили огонь и пошли по лесной дороге.
Они роскошно смотрелись вместе, Саша и Маша: оба невысокие, великолепно сложенные, он – смугло-загорелый, и она, вся какая-то персиково-розовая, с пышным хвостом русых волос. Мне было радостно на них смотреть, но совершенно не нравилось, что и Костя тоже смотрит на легкую фигурку Маши. Ну и что, что мы идем позади них и Троепольскому, если честно, смотреть особо некуда больше, потому что вокруг только лес? Лес – тоже красиво, почему бы не посмотреть по сторонам?
Так вот, сухое вино, солнечный денек, молодая силушка, бедовая головушка, красивая Маша рядом – пазлы сложились, адреналин смешался с допамином, и этот коктейль, видимо, бабахнул в бубен Якубову нешутейно.
Мост оказался даже чудеснее, чем мы могли представить: он едва заметно изгибался в горизонтальной плоскости над горной речкой, опираясь на три огромные арки, а на противоположной стороне ущелья скрывался в тоннеле, который виднелся в горе. Очевидно, это и был тот необыкновенный кривой мост, по которому, как нам сказали в городе, из шахт возили уголь на железнодорожный вокзал Ткварчала.
Конечно, мы пошли по нему, шагая прямо по шпалам. Все как раз были на самой середине и спорили, сколько десятков метров до камней на дне реки, – бирюзовая вода внизу была очень прозрачной, и мы хорошо видели огромные валуны, – когда я услышала обморочное «ааахххх» Машки. Сумасшедший Якубов стоял на перилах моста. И даже, дрянь такая, не покачивался. Стоял себе, как на родном манеже. Спиной к пропасти стоял, и физиономия у него прямо сияла от кайфа! Не в мягких чешках с кожаной подошвой, натертой магнезией, чтоб не скользила, а в обычных кедах стоял, гори оно все огнем…
Мне уже бывало страшно к тому моменту. Вспомнить хотя бы пожар в городе, откуда мы приехали в Сухум – проплешина от ожога на моей голове так и не заросла. Да и потом случалось всякое, но вот такого чистого, не приправленного никакими больше эмоциями – тьмой, отвращением, горем, – такого абсолютного ужаса, что парализовал меня напрочь на мосту, я не припомню и сейчас.
Все остальные тоже боялись пошевелиться и вякнуть – наша скульптурная группа из пяти соляных столбов таращилась на несчастного сумасшедшего Якубова в гробовом молчании.
А он повернулся на девяносто градусов на этих долбаных узеньких перилах и спокойно пошел вперед, балансируя руками. Я еще в первый день нашего знакомства слышала от Витьки Ковбоя, что Сашке страх неведом. Вот просто неведом, и все. Ему было совершенно наплевать на десятки метров пропасти, на валуны внизу, которые не оставили бы ему ни единого шанса, случись что. Речка быстрая, но мелкая – сентябрь, неоткуда в горах снегу взяться, а дождей давно не было, и воды, чтоб упасть в нее и выжить, тоже почти не было.
Мы приросли к шпалам, а Якубов шел себе спокойно, ничуть не напрягаясь, даже красуясь слегка, и прошел так метров десять. Потом ему надоело, и он спрыгнул на мост.
Тут мы обрели речь и способность двигаться.
Костя в три прыжка подлетел к герою-высотнику и мощной оплеухой сбил его с ног, в крайне непарламентских выражениях объясняя, кто Якубов такой, и что он может сделать со своей жизнью, но только не при нас. Витька орал, что Якубову надо лечиться, Маша разрыдалась, а Бакирева, сначала схватившись за сердце, отдышалась и выдала такое, что я чуть под мост не провалилась – Рита наизусть знала так называемый «большой Петровский загиб». Очень, очень матерный, разумеется.
Как же отреагировал наш герой? Он улыбнулся во всю пасть и растерянно протянул:
– Ну вы чего-ооо, люди?
И столько было в этом искреннего недоумения, что я сразу поверила: не врет Ковбой про него. Якубов и впрямь не знает страха. С его точки зрения, не произошло ровно ничего экстраординарного, он не понимал, почему заурядный выпендреж («трючок», как он потом назвал этот кошмар) вызвал у нас такой шквал эмоций.
– Ты безнадежен, – махнул рукой Костя. – И когда-нибудь, Сашка, это плохо закончится, потому что сейчас мы наблюдали проявление тяжелой адреналиновой зависимости. Ты хоть отдаешь себе в этом отчет, пассионарий ты чертов?
И мы впятером, как по команде, развернулись и пошли обратно, к месту пикника. Правда, у меня еще долго мелко-мелко подрагивали коленки, а Витька снял и нес в руках свою рубаху, ставшую за те минуты абсолютно мокрой на спине и груди.
Уже двадцатипятилетней, во время третьего (и последнего) своего возвращения в цирк, мне довелось встретить еще одного человека, который не представлял работы, да и самой жизни без риска, без вызова судьбе, без адреналина.
Я потом бывала знакома с женщинами того же типа, что Надя Капустина, но сначала она меня удивляла. Немногословная, очень широкоплечая, довольно короткие русые волосы со стрижкой-каре, люто смолящая исключительно молдавский «Флуэраш» в алой пачке, любой одежде предпочитающая брюки, берущаяся за любую подработку на разовых выходах и даже на уборке зала, Надя, которой было от силы тридцать, казалась мне угрюмой, странноватой и пожилой. Вдобавок я заметила, что она пользуется гримом вне манежа, и опять удивилась – неужели Капустина гораздо старше на самом деле и замазывает возрастные изменения на лице? Вроде нет, тело и походку же нельзя замаскировать, а Надя работала в открытом костюме с короткой, очень короткой юбочкой и было видно, что она еще молода.
Обычно цирковые женщины, вынужденные всю жизнь ежедневно накладывать на лица толстый слой замазки-румян, клеить метровые искусственные ресницы и рисовать алые вампирские рты (иначе в особом, смешанном из множества боковых цветных софитов, свете манежа лица видно не будет), гримировались вне манежа неохотно и только в исключительных случаях. Для похода в ресторан, например. А понятия «макияж» не существовало вообще – грим, и все дела. В принципе, так оно и есть – грим же, хоть и макияж, конечно. Так вот, Надя щедро накладывала грим натурального оттенка прямо с утра. Не то чтоб я ее разглядывала, но однажды мы столкнулись утром в цирковой столовой, и я отлично разглядела при ярком солнце толстый слой тона на ее лице. Мне даже показалось, что кое-где на скулах грим слегка треснул. Не показалось, но это были не трещины.
Надежда назначила себе аскезу в три часа ежедневных репетиций и строго придерживалась ее. Номер не требовал такой яростной подготовки – Надя была лауреатом всесоюзных конкурсов и даже двух международных, что в ее жанре довольно трудно из-за высокой конкуренции. Гимнастов и гимнасток на трапеции в Союзгосцирке было как навоза за баней. Но мало у кого в арсенале имелись трюки такой сложности.
Надя работала штейн-трапе, ее аппаратом была качающаяся трапеция, специально утяжеленная, чтоб можно было делать трюки, демонстрирующие мастерство в искусстве сохранения равновесия. Номер проходил на высоте минимум в двенадцать метров – ниже трапеции просто не опускаются. Поперечная штанга, на которой, собственно, и происходит действо, полая внутри (потому что в ней должен проходить трос лонжи), и вся эта конструкция раскачивалась под куполом со все увеличивающейся амплитудой. В процессе кача артистка поражала зрительный зал трюками: стойками на руках, копфштейнами, висом на одних пятках – вот это мне и до сих пор представить не удается. Какими должны быть ахилловы сухожилия – раз, и как она удерживалась на скользкой хромированной палке – два? Работала Капустина, разумеется, босиком, даже без чешек. А еще без страховки – некоторые трюки делали фиксацию невозможной.
«Корючкой» Нади были неполные штрабаты (без трюковой веревки и обрыва до самого манежа). Когда трапеция достигала апогея, гимнастка просто падала спиной вперед с аппарата под дружное «а-а-а-а!» зрительного зала, в последнюю секунду цепляясь носками за углы трапеции – и так несколько раз за четырехминутный номер. Она прямо нанизывала трюки один на другой с каким-то яростным азартом.
Номер Капустиной проходил на ура. Всегда. Очень уж он был эффектный. И опасный.
А потом наступил этот день.
В той программе работал со своей женой Андрей Угольников (помните историю про Нарцисса и черного жеребца Мальчика?), и я иногда приходила в цирк днем к тому времени, когда заканчивалась их репетиция. Мы вместе шли попить кофе или просто прогуляться-поболтать, бесконечно вспоминали события восьмилетней давности, своих друзей, живых и уже ушедших, то золотое лето, Игорешку Угольникова (женился на иностранке и стал иностранцем – по любви, между прочим, не по расчету), Барского и остальных – а там уже и время вечернего представления подходило.
Мои друзья пошли принять душ и переодеться после репетиции, а я решила подождать их в курилке. В стационарном цирке это довольно большое помещение за форгангом, вмещает кучу народа. Но сейчас там сидела только Надя. Выглядела она, мягко говоря, не очень. Зябко поеживалась, растирала щиколотки и запястья, куталась в толстый махровый халат, лицо ее казалось прямо зеленоватым, наложенный грим не очень помогал.
– Надь, ты хорошо себя чувствуешь? Может, не надо работать сегодня? Сходила бы ты к шпреху, пусть снимет с вечернего представления. Опасно лезть на аппарат в таком состоянии.
Капустина вымученно улыбнулась:
– Ерунда. Ну, кости ломит, мышцы подтягивает немножко – так это я вчера холодного кваса нахлебалась, простудилась, ничего страшного. Сейчас в гримерке таблетками закинусь, полежу часок-другой и нормально отработаю. Какая тут опасность, давно все до автоматизма доведено. А вот кайф – кайф нереальный, да. Это как по краешку крыши ходить на шпильках, понимаешь? И на репетициях клево, а уж когда зал вопит от страха, то и вообще полный улет.
Через три часа Надя упала. Сорвалась на одном из штрабатов. В каче, когда трапеция только пошла назад по широкой дуге, она выполнила традиционный обрыв и… полетела в ряды. Мгновенно внизу образовалась пустота – зрителей как ветром сдуло, и кресла зала ощерились навстречу гимнастке.
Потом артисты говорили, что, скорее всего, она падала уже без сознания, и что именно полная расслабленность тела, возможно, спасла ей жизнь – Надя не погибла, а только покалечилась.
Конечно, было расследование, вместе с милицией работала комиссия из Главка Союзгосцирка, которая и выяснила одно интересное обстоятельство: у Надежды Капустиной было редчайшее генетическое заболевание, нарушающее работу височной доли мозга. Называется болезнь Урбаха-Вите. Люди с этой редкой аномалией практически не испытывают страха. А еще поражается кожа, на ней появляются плохо заживающие раны, которые оставляют обширные рубцы. Их Надя и маскировала толстым слоем грима.
Как она дожила при таких вводных до своего возраста, как успешно выступала и получала звания в профессиональном спорте до того, как пришла в цирк, осталось загадкой. Наверное, и в зале Надежда была такой же одержимой, так же рвала жилы и не щадила себя, идя к цели. Но, как говаривал мой папаша-поляк, цо занадто, то не здраво.[52]
В общем, когда мы вернулись на место пикника, с Якубовым никто не разговаривал. Даже Маша. Мы общались между собой и дружно делали вид, что Сашки тут вообще нет. Он растерянно послонялся по поляне, поиграл с Вели, принес ему свежей воды из речки, утомился молчать и решил мириться с нами. Начал с ходу как надо:
– Да чего вы все? Подумаешь, так себе трючок, ерунда, чего такого случилось-то?
Рита аж вином поперхнулась, Ковбой сжал кулаки, а Костя, достававший из углей картошку, выпрямился:
– Саш, ты действительно не понимаешь? Твоя жизнь – только твое дело. Если наплевать на родных, то можешь распоряжаться ею, как тебе вздумается, и таки погибнуть наиболее шикарным способом, в конце концов. Но ты со своим антиинстинктом самосохранения и тягой к риску у каждого из нас отнял сегодня мириады нервных клеток. Чего ты ждал, когда лез на перила? Восхищения и радости? Не получилось. Ты нас напугал и обидел, ты устроил каждому из нас отличный дистресс. Это типичное псевдогеройство, глупое и жестокое. Для тебя «трючок», а для Риты чуть ли не сердечный приступ, для Маши – истерика, для Витьки – пережитое за то время, что ты красовался на перилах, концентрированное горе от твоей, идиот, гибели, даже у девочки, – посмотри, – до сих пор нервный тик. Спасибо, мы насладились и оценили. Сполна.
Тут я с ужасом осознала, что левое веко у меня непроизвольно сокращается и мелко-мелко дрожит. Закрыла глаз рукой, но это не помогло. И так мне себя жалко стало… Это ж теперь навсегда, как я работать с дергающимся глазом буду? Неужели придется попрощаться с цирком, с Костей, с Агеевым, со всеми? Слезы сами потекли, и Якубов бросился меня утешать и извиняться. Потом он извинялся перед каждым отдельно, потом Маша его поцеловала, потом все выпили вина, и мне тоже дали полстакана, условившись, что Барскому и Давиду Вахтанговичу никто не скажет ни слова. Повод был весомый – дурацкий адреналинщик Якубов сидел на траве и улыбался, а не лежал на камнях, сорвавшись в тридцатиметровую пропасть.
Остальное время Якубов был паинькой, и мой глаз перестал дергаться уже к вечеру, но в минуты особого нервного напряжения этот странный тик напоминает о себе. До сих пор.
Больше мы в тот день никуда не поехали. Побродили по лесу, набрали каштанов и экзотических орехов пекан, искупались в ледяной речке и вернулись домой – Вели подъел все, что я взяла с собой, и явно хотел ужинать. А детский режим следовало соблюдать.
30. Светик, Марик и настоящий жрец
В нашем коллективе у меня образовалось довольно много добрых приятелей – девочкой я была контактной, открытой, легкой и неглупой, людей принимала априори как друзей, не ожидая от них никакого подвоха. Они отвечали мне неизменно хорошим отношением, хоть большинство взрослых, много повидавших, закаленных непростой и очень специфической цирковой жизнью артистов, всерьез меня, конечно же, не воспринимало. Помогали, улыбались, принимали мои небольшие услуги в ответ на свою помощь и совет, но видели во мне маленькую домашнюю девочку (кем я, собственно, и была, конечно), а не пусть юную, но артистку цирка.
Я не страдала от этого. Моя цирковая семья, мой Ближний Круг из нескольких людей, наполнявших мое существование любовью, заботой и теплом, заменяла мне весь остальной мир. Обо мне думали, и мне было о ком думать – что еще нужно для счастья? У меня была бабушка – моя Фира Моисеевна, аж два пожилых вальяжных дядьки – Юрий Евгеньевич и Давид Вахтангович, папа – Володя Агеев, тетя – Рита Бакирева и два раздолбая, претендующих на роль старших братьев – Витька Ковбой и Якубов-Чингачгук.
А чтоб я поняла, что уже есть и единственная на долгие годы любовь, должна была появиться она, Света Дулицкая. До нее мне не с кем было проговорить то, что уже произошло. Мои близкие были или слишком взрослые, или несерьезные. А сказать Володе о том, что каждую, буквально каждую секунду я думаю о Троепольском, было почему-то совершенно невозможно.
Как и везде, в цирковом мире все решают дружеские отношения (про роль денег я узнала гораздо позже, в этом мне повезло), и Свету в конце сезона прислали к нам в передвижку только потому, что тут было море и отменный воздух, а у нее часто болел маленький сынишка. Звонок-другой – и Дулицкая уже знакомится с коллективом, приехав на замену девочке из кордебалета, собравшейся замуж и убывшей в свой город. Потому что пару месяцев провести у моря – настоящий подарок, желающих было много.
До передвижки № 13 Светка ездила с коллективом знаменитого жонглера, народного артиста СССР Анатолия Марчевского. Работала в кордебалете, немножечко шила (хуже, чем моя сестра Динка, но очень здорово), воспитывала пятилетнего Стаса и не любила вспоминать о Стасовом отце. Была она очень хороша: полные губы чудесного рисунка, атласная кожа, огромные миндалевидные глаза цвета крепкого чая с медом, масса светлых волос, очень женственная фигура с тонкой талией, стройные ноги. «Канафета, а не девка, мне б годков сорок долой – так бы и съел ее», – смеялся коверный дядя Коля.
Прибавьте к этому легкий характер, сокрушительное чувство юмора, двух московских профессоров-родителей в анамнезе, низкий голос, приличную эрудицию, умение печь сказочные кулебяки с курниками и полное отсутствие матримониальных интересов – и вы получите мечту любого холостяка и прекрасную подружку для всех женщин. Холостяка того времени – сейчас иные ценности, как мне кажется.
Светик легко дружила с цирковыми мужчинами, умело не замечала обильного слюноотделения у горячих кавказских друзей нашего коллектива и отвечала необидными шутками на частые «эээ, красавица, а твоей маме зять не нужен?». Меня она как-то сразу выделила, мы быстро стали подругами, несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте – наконец-то появился человек, с которым я могла говорить на всякие настоящие женские темы, и это было прекрасно.
Наверное, только мы с Костей во всем коллективе и знали, кто был отцом кудрявого ангелочка Стаса. Одного слова этого человека было бы достаточно, чтоб Светку прямо завтра назначили хоть директором цирка на Цветном бульваре – он регулярно торчал в телевизоре, потому что был заместителем председателя одного из самых влиятельных ведомств страны. И мальчик был до изумления похож на отца – даже странно, что никто этого не замечал.
Костя сходство заметил сразу и прямо спросил у Светки как-то после очередной понедельничной вечеринки. К тому моменту Светик уже изрядно откушала водочки (пила только водку), Стас мирно спал в вагончике под присмотром Фиры Моисеевны и Вели, в которого малыш просто влюбился и всюду зачарованно топал за щенком, стеснительно пытаясь дотронуться до спинки или головы. Народ весь разошелся спать, живущие вне цирка уехали в гостиницу, мы были во дворе только втроем. Светка помолчала, глубоко затянулась и сказала:
– Да, Костя, это он. Мне было всего девятнадцать лет, а он дружил с моим отцом и часто бывал у нас в доме и на даче… Страшный человек, я потом многое узнала о нем. О рождении Стаса я ему не сказала, он и сейчас думает, что тогда я сделала аборт. Вернее, уже заливку делать нужно было, почти пять месяцев срок, а я и не подозревала, что внутри у меня Стас, месячные шли, как обычно, просто меньше дней длились, я к врачу пошла, когда Стас толкнулся в первый раз. Испугалась очень, когда изнутри меня постучали, помню.
Позвонила любимому, обрадовать хотела, а на следующий день в институт за мной приехал его водитель с тремя тысячами рублей и направлением в клинику (для справки: напоминаю, что новый «жигуленок» стоил пять тысяч). Привез меня на Севастопольскую, сдал в абортарий. Ночью соседка по палате рассказала, что такое эта заливка. Она как раз приходила в себя после такой же процедуры. В общем, утром я сбежала через окно. Хорошо, что паспорт и кошелек в палате остались, остальное все забрали ведь. В одном халате и в рубашке, в тапках больничных, даже без трусов, приехала на такси домой, побросала вещички в чемодан и через два часа села на поезд в Крым.
В Ялте стоит дом моей покойной бабули, о нем почти все забыли, семья наша – убежденные москвичи. Родители, как обычно, были в длительной командировке где-то в Африке, кажется, я им через месяц телеграмму дала, когда уже на работу официанткой устроилась, придумала для них причину отъезда. Родила Стаса – тут денежки папаши его и пригодились. Потом мама прилетела, плакала, идеалистка моя, порывалась в ЦК писать, жаловаться на совратителя, но я запретила.
А еще через год в Симферопольский цирк приехал коллектив Толика Марчевского. Они набирали девушек в кордебалет, и я поехала на просмотр за компанию с подружкой. Меня взяли, ее – нет. Стасик подрос, теперь со мной гастролирует. А сейчас мы все договоримся, что не было этого разговора, да, ребята?
Не было, да. Больше никогда мы не возвращались к теме Стасова отца, но я испытала какое-то темное удовлетворение, когда спустя несколько лет узнала о его смерти «после тяжелой продолжительной болезни». Ему на тот момент не было и шестидесяти.
Доброжелательная, веселая и красивая, Светик жила себе свободно и легко, моментально вписавшись в наш коллектив вообще и в мой Ближний Круг в частности. Мы гуляли с ней по набережной и пляжам, оставив Стаса с Ритой или Фирой Моисеевной и захватив с собой Вели, обожавшего такие прогулки, разговаривали обо всем на свете: я рассказывала о маме, о Женьке, тоскующем в моем городе (и о том, как мне это почти уже безразлично), об Агееве и Давиде Вахтанговиче, о прыжках с парашютом и о том, как попала в цирк, Света – о четырех годах цирковой жизни, о знаменитых коллективах и артистах, о легких, ни к чему не обязывающих своих романах и о Стасе, конечно.
А еще мы говорили о Косте. И чем больше мы говорили, тем отчетливее я понимала масштабы бедствия. А когда какая-то подружка, работающая в Главке, узнала по просьбе Дулицкой о том, как именно овдовел Троепольский, головушка моя совсем пропала: его жена, корреспондент одной из столичных газет, погибла в Афганистане во время атаки на русский караван. Она погибла, а он выбрался живым, прослужив уже после ее гибели три года в каких-то войсках, о которых ничего и нигде нельзя было узнать.
К адскому коктейлю моих чувств добавился еще и сияющий ореол героизма вокруг Кости, и муки совести – о Женьке я совершенно не вспоминала, смутно ощущая, что он допустил серьезную ошибку, когда испортил отношения с Давидом Вахтанговичем и, глупо фыркнув, покинул передвижку № 13 навсегда. И что я тоже допустила ошибку, думая о нашем совместном с ним будущем. Мне не хотелось ни бегать на почту, чтоб позвонить ему, ни вести длинные разговоры в письмах – то, о чем он рассказывал, когда я все-таки звонила, было малозначащим и тусклым, а слова о том, как он скучает, вызывали неловкость. И только.
Нам со Светиком было отлично вместе, но у Невидимых Регулировщиков, как мы знаем, свои планы. Неожиданно в номер воздушных гимнастов Годовых приехал артист, почти полгода восстанавливавшийся после тяжелого перелома ноги. Вернулся к работе.
Это, кстати, был дивный номер, полный риска и изящества: пять атлетов и хрупкая девушка, летающие под куполом цирка вопреки всем законам физики, очень украшали программу.
Марк был ловитором – он ловил своих партнеров, не давая им улететь вниз, в страховочную сетку. Марк Павловский, человек удивительной, какой-то опасной грации (мне нравилось окликать его: когда Марк оборачивался на зов, чудился тихий шелест клинка, выходящего из ножен), шатен со смеющимися зелеными глазами. А еще он был тезкой погибшего сына нашего шпрехшталмейстера. Может, поэтому Давид Вахтангович, мой дорогой учитель, проникся к Марику отеческими чувствами и все время приглашал его пить с нами чай и есть Светкины пироги и кулебяки? Ну и доприглашался, конечно.
Если двое краше всех в округе, как же им не думать друг о друге? Наши со Светиком совместные прогулки сошли на нет – теперь ей было с кем гулять ночами. Через месяц Марк сделал предложение. Светка, успевшая отчаянно втрескаться, сразу согласилась.
Они были дивной парой. Циничные цирковые, вообще не склонные к сантиментам, начинали улыбаться, если в курилку, держась за руки, приходили эти двое, – аура любви покрывала три метра пространства вокруг них. Мы радовались, да. И потихоньку начали готовиться к свадьбе в конце октября, потому что заявление в Сухумский ЗАГС было уже подано, а цирковых по закону обязаны расписать даже через две недели, не надо ждать три месяца. И было ли место, которое подходило бы для свадьбы лучше, чем солнечный Сухум и наше шапито, стоявшее на большой поляне в трехстах метрах от берега моря?
Тут весьма кстати случился внезапный срочный ремонт купола, подаривший труппе целых три дня без представлений. Марк улетел к родителям в Ленинград, чтоб пригласить их на свадьбу, Светины профессора опять были в заграничной командировке, но оттуда горячо поддержали дочь и попросили прилететь в Москву и забрать в банке их свадебный подарок. Света со Стасом тоже улетели на пару дней, а мы принялись составлять план закупок и писать сценарий самого мероприятия. Настроение у всех было праздничным, хотя до события оставалось еще много времени…
Светка вернулась раньше на сутки. Мы с Вели уже улеглись спать, когда дверь вагончика распахнулась и влетела Светка. Рухнула на кофр, потянула с шеи шарф и глянула на меня опрокинутыми внутрь глазами, ставшими почему-то черными:
– Лор… Я сегодня утром видела в Москве Марка. Он целовал красивую, глубоко беременную брюнетку в сквере на Пушке, Лор. Ей рожать не сегодня-завтра. Как, Лор? Что это? И на нем была рубашка, которую я у Наташки Биляуэр купила, французская-яяяаа, – Светка на негнущихся ногах пошла к холодильнику, достала бутылку (Агеев хранил свои запасы у меня) и прямо из горла выпила половину. Водку, как воду – я раньше думала, что это всего лишь образное выражение. Оказывается, нет. Буквальное.
– Погоди, ты не могла обознаться? Он же у родителей? И где Стас? – попробовала разрядить атмосферу Фира Моисеевна, которая пришла моментально, потому что жила во второй половине вагончика и отлично слышала, как Дулицкая ввалилась в комнату. Я молчала – новости меня оглушили.
– Хрен там. Я дождалась за деревом, пока они не пошли к дому, рядом совсем живут, до подъезда за ними дошла. Волосы, рост, фигура, лицо – его. Кольцо обручальное на пальце. И рубашка, понимаете? Рубашка! Он в ней улетел. Метров двадцать было между нами, я же не слепая! Стас у Риты, спит.
– Почему не подошла?
– Там же ребенок, Фира Моисеевна! У него будет ребенок. Свой собственный. И та женщина ни в чем не виновата, это я, я идиотка, а ее Павловский любит, за версту видно! – Светка не плачет, и это очень плохо.
Она пролежала, отвернувшись к стене, почти сутки. Не говорила, не вставала. Мы ходили на цыпочках, абсолютно пришибленные. Стаса нянчили все по очереди, развлекали и отвлекали, и он не чувствовал, что с мамой что-то не так. Светкино горе можно было черпать ведрами – оно ощущалось в воздухе, оно висело лиловым облаком, оно было беззвучным, и оно окружало нас со всех сторон. Партнеры Марка по номеру недоумевали, никто не слышал ни о какой беременной жене или подруге, никто не видел у него на пальце обручалки, но порешили не звонить в Ленинград, а дождаться его приезда.
Через сутки Светка встала:
– Он, скорее всего, не вернется, найдет причину (Годовы как раз собирались после окончания сезона в отпуск, и Марк со Светкой планировали провести его в Ялте, в том самом старом доме, вместе со всеми родителями и Стасом). Что ж, буду учиться жить заново. Зато кое-что к свадьбе вы уже закупили, да? Отлично. Устроим поминки… то есть пирушку.
Она поймала внимательный взгляд Кости (он, кстати, ни слова не сказал в осуждение Марка, только заметил, что доверять глазам можно не всегда, бывают разные случаи, иногда нужно еще и выслушать человека), сразу вскинулась:
– Кость, даже не думай, все нормально будет – у меня ребенок, не распоряжаюсь я своей жизнью. Хотя сдохнуть прямо щас хочется мучительно, конечно.
– Ну, ты себе не принадлежишь, да. И я бы взял все-таки паузу, Свет. Хоть самую короткую. Ребенка не пугай. Постарайся выдохнуть. И давайте к морю сходим прямо сейчас?
Пошли. Светка, еле переставляя ноги, – вы видели, как ходят смертельно больные люди? Она шла точно так же, – потащилась к их с Марком любимой скамейке, что скромно пряталась под кустами олеандров, рухнула на нее и судорожно принялась искать по карманам сигареты. Костя сел рядом с ней и обнял за плечи, а я, не зная, куда себя деть, пошла к парапету. Море всегда меня успокаивало и умиротворяло, я хотела посмотреть на волны. На душе было гнусно. У ступенек, ведущих на пляж, стоял и глядел на воду пожилой мужчина в кителе без знаков различий и каракулевой серой папахе. Он опирался на посох, очень красивый резной посох из какого-то красноватого дерева, и вдруг уронил его, когда я проходила мимо.
Конечно, я тут же подняла посох и протянула мужчине (ох, какие там змеи вились вокруг самой трости, змеи среди цветов), а он, поблагодарив на прекрасном русском языке, сказал вдруг:
– У той молодой женщины горе? Я его чувствую, большое горе, да. Вера в сердце всегда тяжело умирает. Пойди, дочка, и скажи ей, что некоторые вещи оказываются совсем не тем, чем выглядят. Ее горе – всего лишь недоразумение. А на самом деле то, что произошло с ней, находку, радость неожиданную подарит. Когда все закончится, поезжайте на гору Дыдрыпш около Гудауты, там есть святилище. Привезите мяса, фруктов и цветов. Это нужно. Так и передай вашим мужчинам, дочка.
Пока я переваривала услышанное, человек повернулся и пошел вдоль набережной, свернул в ближайшую аллею и исчез.
Постояв истуканом у парапета и пытаясь сообразить, что имел в виду этот величественный старик, когда говорил о святилище, но так и не придумав ничего, я дословно передала Косте и Светику его слова о горе, которое окажется всего лишь недоразумением. Ожидая как минимум недоверия, очень удивилась: Костя слушал крайне внимательно, а Светка перестала плакать (жуткое было зрелище: совершенно спокойное лицо и непрерывные слезы, стекающие по щекам двумя серебрившимися в вечернем свете дорожками), закурила следующую и вдруг вскинулась:
– Вы ничего не слышите? Кто-то зовет меня… зовет по имени, точно!
И тут на набережную вылетел Марк, лжец, подлец и негодяй Марк, почему-то радостно улыбающийся:
– Ааа, я так и знал, что вы все тут, сразу сюда побежал, когда Ритуля сказала, что вы в эту сторону ушли! Странновато как-то она со мной разговаривала, между прочим… Светуль, что случилось?? Свет, не молчи! Лора, все живы?
Павловский повернулся ко мне и вопросительно-тревожно заглянул в лицо. Я онемела, испытывая сложную гамму чувств: смесь ужаса и почему-то радости. Глянула на Костю – он улыбался.
А Марк плавно отодвинул нас, шагнул к Светке, присел на корточки, обнял ее колени… Костя тут же взял меня за руку и потащил домой.
Избавлю вас от описания дальнейшего разбирательства, слез, клятв, счастья примирения и всеобщей радости. Конечно, Марк был у родителей в Ленинграде. Конечно, он не обманывал свою девочку. В Москве в тот черный час Светка встретила абсолютного двойника. Меня почему-то особенно потрясла вторая рубашка, точно такая же, как у Марка – синяя, с красными манжетами, «фирмо́вая», как тогда говорили. Двое одинаковых мужчин – труднообъяснимое чудо, но две одинаковые рубашки, которые можно купить только за границей, – запредельное совпадение.
Марик оказался редким умницей: уже после свадьбы, осторожно выспросив у жены все подробности и детали встречи, он нашел в Москве тот дом на Пушке, расспросил всезнающих старушек во дворе, позвонил в некую дверь и познакомился со своим двойником. А потом пригласил его с женой и новорожденной дочкой погостить в Ялту, где жили Света с сыном и приехавшие навестить сына отец и мама Марка. Он не хотел, чтоб тень того кошмара даже и краешком омрачала память Светки и их будущую совместную жизнь.
31. Древние боги и сокровенные желания
Как только купол починили, жизнь вошла в привычную колею, артисты вышли на манеж и страсти утихли. Все объяснения были получены, ни в чем не повинный Марк ответил на вопросы наших, а мы с Костей просохли от благодарных Светкиных слез (еще бы, только мы вдвоем усомнились в вине Марика!), я решилась рассказать Троепольскому о просьбе странного человека с посохом, которая по тону больше напоминала распоряжение – о каком-то там святилище и о дарах, которые нам следует туда доставить. Название места, правда, не смогла воспроизвести.
Как ни странно, Костя отреагировал очень заинтересованно. Без тени улыбки. Попросил повторить. Задумался, потом сказал, что на свете есть множество вещей, которые невозможно объяснить законами нашего научно-коммунистического мировоззрения. И предложил порасспрашивать местных стариков.
Рыночек на пустыре, с которым соседствовало наше цирковое хозяйство, продолжал функционировать и в конце сентября, несмотря на сильно поредевшее количество палаток цирковых гостей, отдыхавших дикарями. Людям, приходившим вечером на представление, было удобно покупать там фрукты, всякое печеное, свернутые в трубочку листы пастилы, вареную кукурузу, чурчхелу и все такое. Хозяйкам подспорье, нам – дополнительная, бесплатная для цирка услуга зрителям. Всем хорошо.
Среди хозяек, стоявших за импровизированными прилавками, была одна замечательная женщина, всегда приветливая, веселая и радушная – тетя Гунда. Думаю, что в молодости абхазка Гунда была настоящей красавицей, да такой, что люди оборачивались. И в свои «за шестьдесят» она сохранила стать, стройность, блеск в больших черных глазах и отличные зубы.
Фира Моисеевна, Рита Бакирева, Алдона, Давид Вахтангович и Агеев предпочитали именно у нее брать овощи, домашние компоты, чудесный сыр в кругах, мясо, копченное над живым огнем очага в пацхе[53], огромные листы душистой пастилы и огненную аджику в маленьких баночках. К этой замечательной Гунде мы с Костей и направились, благо жила она буквально через три дома от шапито, и нам уже приходилось бывать у нее.
Гунда как раз снимала вязанки перцев, которые вялились на солнце под крышей пацхи – собиралась делать аджику. Услышав вопрос, отложила перец, вымыла руки и пригласила нас за стол, стоявший под огромным деревом хурмы:
– Присаживайся, сынок. И ты, внучка, садись, мой рассказ не на минуту будет, успеем перекусить. Сейчас компот из фейхоа достану, твоя, детка, бабушка (она решила, что Фира Моисеевна доводится мне бабушкой, что уже было недалеко от истины) всегда именно этот компот у меня берет.
На столе очень быстро появилась еда, а не какие-то там закуски: хачапур, лобио, жареная форель, копченый сыр и божественный компот из фейхоа – он пах цветочными духами и радостью. Женщина села в плетеное кресло, налила себе кофе и рассказала нам вот что:
– Тебе, девочка, очень повезло. На набережной с тобой заговорил жрец. Многие всю жизнь живут, состарятся уже, а жреца так и не увидят ни разу.
– В каком смысле – жрец? Жрец кого? Богов?
Воспитанная комсомолом, я не поверила своим ушам: тут же не Древняя Греция, ха-ха-ха!
Костя больно наступил мне на ногу под столом и сделал такие глаза, что я заткнулась на полуслове. Гунда понимающе улыбнулась:
– Ничего, она молоденькая совсем, откуда может знать? Наши дети тоже узнаю́т о древней вере своего народа не в школе. Что поделать, время такое, боги ушли от людей. А когда-то давно было так: абхазы верили в Верховного Бога – Анцуа, Создателя Мира.
У Анцуа, сурового, но справедливого, есть семь апаимбаров – ангелов, посланников, представителей Создателя на земле. Все они – высшие существа, неподкупные и очень справедливые, карающие и дарующие прощение. Апаимбары рассказывают Верховному Богу обо всем, что творится на земле людей, а в свободное от докладов время наблюдают за морем, горами, домом, очагом, скотиной, урожаем, зверьем в лесах и рыбой в воде. И за людьми, разумеется.
За старшего у них ангел грома Дыдрыпш, о котором наш народ знает вот что: очень давно, на заре времен, он был человеком, жил среди людей и выделялся среди прочих разве что красотой, прекрасной речью и необыкновенно чистой и доброй душой. Божественная часть Дыдрыпша позволяла ему совершенно точно предсказывать будущее, определять судьбу новорожденного ребенка и лечить людей даже от тяжких ран, полученных на охоте.
Рассказ Гунды был торжественным, даже несколько велеречивым, потому я перескажу его своими словами.
Итак, древние абхазы быстро просекли, кто тут такой безотказный, и стали бессовестно использовать бедного ангела, толпясь у порога его дома с утра до ночи. Совершенно умученный, Дыдрыпш однажды тайком улизнул в горы и там взмолился, вопрошая Анцуа, что делать и как жить дальше? Верховный Бог к тому времени уже понял, что живым от людей с их требованиями ангелу не уйти, и сделал Дыдрыпша невидимым, дав ему в качестве компенсации за неудобства крылатого коня Араша.
Так и живет ангел грома среди людей невидимым и по сей день, а на горе с таким же названием (как раз туда велел нам приехать жрец) много веков назад построено в его честь одно из семи святилищ абхазов – аных.
С тех пор люди не смеют беспокоить ангелов-апаимбаров по пустякам. Нельзя прийти в святилище и попросить, например, машину для сына – это только разгневает ангела. Дыдрыпш не может излечить смертельно больного или помочь бездетной женщине, потому что их судьбы предопределены Верховным Богом, но вот выяснить правду, наказать виновного и оправдать безвинного может.
Посредником между Анцуа, его апаимбарами и людьми является жрец. Настоящий жрец, потомственный, все предки которого по мужской линии тоже были жрецами Анцуа.
Разумеется, партия и правительство (помним, что это было тридцать три года назад, да?) категорически не одобряют жречество. Да и в целом язычество сильно не одобряют. Как и любую другую религию, впрочем. Потому встретить жреца у среднестатистического человека примерно столько же шансов, сколько и наткнуться на улицах субтропического Сухума на прогуливающегося королевского пингвина.
Гунда подробно рассказала, как найти дорогу к горе Дыдрыпш, и дала совет:
– Вам в само святилище заходить нельзя. Да и не нужно это. Просто отдайте подношение первому, кого встретите на горе. На рынке мясо не покупайте, скоро мой сосед бычка резать будет, у него возьмете. Мясо должно быть свежайшее, и чтоб животному не больше года исполнилось. А фрукты и цветы можно любые. Чуть не забыла – щенка с собой не берите, на горе полно волков, могут сожрать, если отойдет в сторонку.
Света и Марк сразу восприняли рассказ о встрече на набережной совершенно серьезно, и когда мы пришли от Гунды, внимательно выслушали Костю. На гору решили ехать непременно, ждали только отмашки. И вот однажды утром женщина принесла тяжеленький сверток с говядиной, сказала, что сосед денег не возьмет – за все, что предназначено на подношение Дыдрыпшу, стыдно и негоже брать даже десять копеек. Можно ехать, сказала Гунда.
В этот раз Костя просто сел за руль – ради такого случая Гурам Гвазава прислал своего водителя на служебной «Волге», и тот отдал Косте ключи. Троепольский решил, что не будет ревом «Кавасаки» нарушать тишину места, которое гостеприимный абхазский народ считает священным. И мы поехали в сторону села Ачандара, около которого поднималась священная гора почти в километр высотой.
Я уже говорила, что красота гор Абхазии кружит голову и заставляет петь сердце, но эта гора была другая. Огромная, поросшая толстыми старыми каштанами, грабами, дубами, она заслонила небо, когда мы оказались у подножья. Проехать наверх было нельзя – только пешеходная тропа скрывалась в зарослях. Мы оставили машину, нисколько не сомневаясь в том, что она будет стоять на том же месте по возвращении, – вряд ли нашелся бы идиот, решившийся на угон служебной машины Гурама Гвазавы, – взяли сумки с мясом и фруктами и пошли. Света несла букет ромашек, которые нарвала в поле за маяком.
Тропинка то шла вдоль склона, то начинала карабкаться вверх, деревья сплетали над ней свои кроны, мы поднимались полтора часа, и мои тренированные друзья заметно сбавили темп, Марк уже давно снял рубашку и шел с голым торсом, Светик несколько раз устраивала перекуры, и только Троепольский продолжал легко шагать вперед. Даже дыхание у него не сбилось.
Мы выпили почти всю воду из фляжек и основательно притомились, но тут тропинка в последний раз вильнула и вывела на небольшую поляну, огороженную по кругу невысоким самодельным забором из цельных тонких древесных стволов, лежащих горизонтально на опорах. Под огромным дубом, где даже в этот яркий полдень было сумрачно, стоял небольшой домик-балаган. Тут же, в тени, мы увидели старый, очень старый стол, сделанный из куска широченной доски, потемневшей от времени, которую положили на огромный пень. Вокруг стояли удобные чурочки-стулья.
Кажется, пришли, потому что дальше дороги видно не было – за балаганом и вообще вокруг поляны сплошной стеной стояли старые деревья, а все пространство между их стволами занимал подлесок и какие-то колючие кусты. Только чуть левее в зелени виднелся просвет. Я разглядела там круги, выложенные из крупных камней, и старинные огромные кувшины внутри этих кругов. Глиняные. Много.
Тропа, по которой мы поднялись, заканчивалась здесь.
Мы переглянулись, и Марк быстренько надел футболку – место как-то очень уж серьезно выглядело. Как приемная прямо.
Старик появился из ниоткуда. И совершенно беззвучно. Только что на поляне никого, кроме нас, не было – и вот он уже идет навстречу. Улыбается:
– Садитесь, гости. Сейчас будем обедать. А то, что принесли, давайте, я к закату отнесу в аныха.
На древнем столе появилась чудесная простая еда: копченый сыр, помидоры, пучок душистого дикого чеснока, копченое мясо, хлеб, кувшин с вином. Марк достал шоколад, ситро, сырокопченую колбасу, сгущенку. Сказал:
– Это вам, уважаемый. Если можно, расскажите нам немного об этом месте.
Наш хозяин, Ахра (он так велел себя называть), отказываться не стал, тепло поблагодарил, отнес гостинцы в балаган и разлил по стаканам вино. Мне сказал:
– Цветы отнеси к тем камням, туда только старикам и юным можно ходить, женщинам, у которых есть дети, уже нельзя, – и махнул рукой в сторону кувшинов и каменных кругов.
Я отнесла. Удивительно, но отойдя на несколько метров от стола, я перестала слышать звуки. Ни разговора, ни пения птиц – у кругов стояла тишина. Не та, что бывает, когда затыкаешь уши пальцами, там хоть ток крови слышно. Здесь же тишина была абсолютной. Мигом оробев, я положила охапку ромашек на большой замшелый кусок светлого гранита и быстренько вернулась к своим.
Старый Ахра рассказал много интересного. В мой насквозь комсомольский мозг это все категорически не вмещалось, но я слушала открыв рот, а когда мы вернулись домой, быстренько записала его рассказ в специальную тайную тетрадку (да, все девочки в то время вели дневники), чтоб потом поведать маме, Фире Моисеевне и Давиду Вахтанговичу. Директор Барский у нас был ветераном войны, секретарем парторганизации цирка, я бы не рискнула делиться с ним, чтоб не нарваться на отеческое, но все-таки высмеивание и нравоучение относительно религии как таковой.
Если перевести плавный рассказ Ахры на современный язык, то получается очень симпатично, как мне кажется. Везде бы так было, как у абхазов, – воздух стал бы чище.
Люди идут на гору, когда хотят добиться справедливости. Причем справедливости высшей – от самого Анцуа, Верховного Бога абхазов.
Ангел-апаимбар Дыдрыпш, который обитает здесь, донесет слова человека до Анцуа, и тот примет решение.
Один человек жестоко обидел другого. Например, украл у него что-либо важное (буйвола, корову, ружье, мешок зерна – то, от чего зависело благополучие, а порой и жизнь семьи), обиженный просит злодея признать свою вину и вернуть украденное. Тот отпирается. Тогда обиженный человек идет к жрецу и излагает свою жалобу. Жрец просит дать ему какое-то время на обдумывание и частичную проверку слов истца, потом оглашает вердикт: да, такое могло быть.
Пострадавший, изрядно к тому времени разогретый своей обидой, решается на крайние меры – на проклятие. Жрец согласен: «Это будет справедливо, твой обидчик заслужил проклятие, нехороший человек», – говорит жрец. Обиженный берет молодого петуха, молодой сыр и чачу, несет это все на гору. И там, в аныха, в святилище абхазов, произносится проклятие.
У вора есть варианты. Он может явиться туда же и сказать: «Не виноват. Клянусь. Если лгу – пусть не покину я этого места!» При этом обидчик, если врет, то серьезно рискует: незримо присутствующий здесь же апаимбар мгновенно покарает клятвопреступника. Ахра говорил, что бывали и смертельные случаи, когда человек после произнесения ложной клятвы падал замертво прямо в святилище.
Или вор не идет никуда, а трусливо отсиживается дома. Или вообще трусливо сбегает. Тогда проклятие падает на его голову и на весь его род. Начинается череда неудач, болезней, нелепых смертей и прочих кар. Родственники или терпят пару поколений, пока хватает терпилки и стыдно признаться, что сильно виновен был предок, или сразу пинками гонят преступника к пострадавшему – валяться в ногах и просить прощения.
Если с момента проклятия прошло уже много времени, то оставшиеся в живых потомки проклятого, измученные несчастьями, идут к потомкам проклявшего, чтоб умолить их о снятии кары. Получив согласие, одеваются во все чистое и праздничное, берут «чистые» продукты: молодого барашка или теленка, хлеб, вино только из винограда, без грамма сахара, и идут всей толпой к жрецу. Там животное ритуально закалывают (мгновенно и безболезненно), мясо отваривают, а печень и сердце жрец накалывает на специальную ритуальную рогульку, сделанную из священного граба с горы Дыдрыпш.
После того как произнесены слова покаяния и прощения, все присутствующие съедают по маленькому кусочку сердца и печени жертвенного животного и садятся за праздничные столы. Оплачивает банкет родня проклятого. Возмещает потери тоже она, и в разы больше: предок украл двух буйволов – потомки отдадут четырех, украл одно ружье – отдадут пять.
И, кстати, оглашать всю вину проклятого вслух придется честно – ангел бдит, и кара за ложь неотвратима.
– И что же, неужели после того, как проклятие снято, прощенным начинает везти со страшной силой? – спросила Светка, которая все это время, кажется, даже не дышала.
– Конечно, обара[54]. Я сам был свидетелем того, как женщина из проклятого рода, тяжко болевшая несколько лет, поднялась с постели на следующие сутки после получения прощения. А еще видел, как обнищавший до крайности род другого проклятого получил от родственника-махаджира, умершего за границей, приличное наследство – через два дня после прощения и очищающих молитв, – говорит Ахра.
Я часто бываю в Абхазии. Это совсем другая страна, в ней от Абхазии моей юности остались только горы, море и невыразимая красота этой маленькой земли. Но до сих пор клятвы, произнесенные в святилище, считаются у абхазов нерушимыми. Если человека обвиняют в преступлении, а он невиновен, то произносится клятва, которая заканчивается такими словами: «А если я лгу, то пусть буду наказан и я, и мой род!» Человеку нечего опасаться – после очистительной клятвы подозрение с него снимается полностью, и никому в голову не придет усомниться в справедливости решения апаимбара. Но если человек виновен и совершает клятвопреступление, то кара ангела в первую очередь падет на самых невинных и беззащитных родственников преступника. Первыми удар примут его дети, жена, мать и только потом – он сам. И я однажды слышала, как звучит самое страшное проклятие абхазов: «Чтоб ты жил и все видел!» Сурово, но справедливо, как мне кажется.
Просидели мы под дубом несколько часов, очнулись, когда солнце почти совсем исчезло за кронами. Старик начал собираться в святилище, мы стали поспешно прощаться, и вдруг он сказал:
– Здесь очень редко бывают русские. Вы первые за много лет. Сейчас каждый из вас может уединиться в разных концах поляны и там, наедине с собой и с Дыдрыпшем, попросить ангела об исполнении желания. Но только одного. И оно должно быть искренним. Идите. И отнеситесь серьезно к тому, что вам даровано.
Конечно же, мы разошлись на все четыре стороны. И все быстро вернулись – очевидно, у каждого из нас его желание было наготове.
Я попросила, чтоб мама подольше оставалась со мной – теперь уже можно сказать об этом. И суровый ангел подарил нам с ней еще целых двадцать лет.
32. Свадьба в манеже
Накануне свадьбы Светки и Марика мы не спали вообще. Оргкомитет мероприятия носился, как потерпевший. Давид Вахтангович договорился насчет столов и стульев в дружественном соседнем кафе, администратор Аркаша и Юрий Евгеньевич обеспечили свадебный стол мясом – с мясокомбината, директор которого, уважаемый Гиви, частенько сиживал в директорской ложе (и все время с разными дамами), прислали отличную тушу свиньи и даже рубщика к ней. Агеев и Костя уже несколько дней свозили из каких-то тайных мест огромные кувшины с вином и бутыли с чачей, свозили и запирали в сарае у Гунды. Гунда готовилась печь хлеб и хачапур на свадебные столы, Ковбой с Якубовым организовали молодых артистов и с утра умотали в ближний колхоз за овощами, а Фира Моисеевна буквально переселилась в ателье, где дошивали свадебное платье невесты, никому не показывая даже кусочка подола – только счастливой Светке.
Батоно Джамал прислал с пастбища двух барашков, корзины с виноградом, свежим сыром и медом, а его жена, бабушка Нино – связку душистых домашних колбас и плетеный ларь с умопомрачительной пахлавой. Братья Угольниковы раздобыли где-то дефицитные воздушные шарики, несколько десятков, и теперь все это разноцветье мокло в горячей воде – считалось, что после кипятка шарики лучше надуваются.
Директор Барский совершил невозможное, каким-то чудом уболтав величественную даму, инспектора ЗАГСа, приехать в цирк и расписать ребят прямо там – праздник должен был начаться после вечернего представления в воскресенье, чтоб уставшая от веселья труппа могла прийти в себя за выходной день. А ЗАГСы в воскресенье не работали. Представляю, какие комплименты расточал матроне велеречивый седовласый обольститель, если она согласилась.
На дневном представлении в день свадьбы все наши работали легко, играючи и как бы с внутренней улыбкой. Мужчины, закончив номер, спешили на конюшню, чтоб помочь Олегу Тайменю (вы еще помните, что он полжизни был таежным охотником?) в разделке туш и подготовке мяса для шашлыка и люля-кебаба, женщины мыли и складывали в тазы зелень и овощи для салатов, шпиговали буженину и относили ее в соседний ресторан – в шапито ведь не было печей и духовок, – чистили лук и тащили его в импровизированный «мясной цех» на конюшне. Все были чем-то заняты, везде царила радостная предпраздничная суета.
У меня тоже было задание: Костя привез охапку разноцветных роз и попросил оборвать лепестки с цветов. Узнав, что они с Якубовым задумали, я прямо взвизгнула от восторга.
Дневное представление закончилось почти в пять, до вечернего оставалось еще два часа. Униформисты привели в порядок ковер, и манеж опустел, отдыхая. И тут настал час Сашки Якубова. Он забрал у меня пластиковое ведро, полное лепестков роз, высыпал их на большой кусок темной органзы (костюмер Полина явно была в сговоре с Троепольским и Чингачгуком) и ушел с получившимся большим узлом в зрительный зал. С ним пошли Викторас Путрюс, воздушный гимнаст, и парень из номера Годовых, коллега нашего жениха Марка. А еще Костя, который попросил меня с ними не ходить. Он сказал:
– Испортишь себе впечатление, потерпи до вечера, пожалуйста.
И вот уже вечер. Все четыре опорные мачты шапито украшены связками воздушных шаров – Андрей и Игорь Угольниковы надували их с утра и закончили развешивать прямо перед первым звонком. Слева и справа от форганга стоят ведра с живыми цветами, на доске объявлений кроме авизо – масса листочков и открыток с шутливыми поздравлениями жениху и невесте, все улыбаются, атмосфера прямо искрится и переливается, как будто в воздухе летают легчайшие радужные мыльные пузырики счастья. А Светик и Марк как будто вообще не касаются ногами пола, а парят над ним…
Когда раздался первый звонок, я уже оделась к выходу и почему-то слегка тряслась от волнения. Может, потому, что это была первая свадьба в моей жизни?
У нас со шпрехом существовала традиция: идя от своего вагончика к манежу, он всегда заходил за мной. Зашел и сейчас. И я прямо ахнула: Давид Вахтангович был в новом роскошном белоснежном фраке с атласным жилетом и атласной же бабочкой. До этого дня я видела его только в черном, и поэтому не сдержалась, вытаращилась восторженно и проблеяла:
– Какой вы красииивый, дядя Давид… И совсем не старый!
За кулисами тоже было необыкновенно: артисты в премьерных костюмах (у каждого имелось несколько повседневных и один-два лучших, премьерных, их берегли и надевали в манеж обычно не чаще раза в месяц), собаки Алдоны в ошейниках, украшенных цветами, лошадки в ярких попонах, музыканты оркестра, торжественные и трезвые, улыбающийся директор Барский в серой тройке, акробаты Годовы, все шестеро – нарядные, как именинники, и счастливый Марк среди них. А маленькому Вели и хорошенькому Стасу кто-то повязал одинаковые банты в крупный горох.
Невеста наша могла сегодня и не работать, девочки отлично справились бы и без нее, а зрителю что на шестерых красоток кордебалета любоваться, что на пятерых, но Светик сказала, что и так почти свихнулась от переживаний и хочет быть с коллективом – время пройдет быстрее.
И вот уже пронеслось первое отделение. Сегодня оно завершалось номером Кости, который в антракте сразу куда-то делся, но заметила его исчезновение, наверное, только я. Цирковые были в кураже, почти каждый номер бисировал[55], зал благодарил артистов за великолепную работу – просто праздник какой-то.
Конец второго отделение. Под куполом – воздушные гимнасты Годовы, один из лучших номеров нашей программы, сплошь состоящий из сложных трюков, некоторые из которых уникальны и не исполняются больше нигде в мире. Парни и единственная девушка в номере, Алла, летают в вышине, как птицы; Марк и второй ловитор, Олег, вися вниз головами на трапециях, перебрасывают вольтижеров; внизу, на манеже, работает кордебалет. И Светка среди девочек, конечно.
Пошли последние такты музыки. Годовы по канатам эффектно спускаются с аппарата на манеж. Давид Вахтангович глазами и легким движением головы показывает куда-то вверх. Под самой люстрой я вижу какой-то крупный предмет, опознаю тюк из куска органзы, который унес Костя. От тюка тянется к мачте тоненький трос, на самой мачте висит Якубов. Удивиться я не успеваю: Якубов тянет за трос, предмет под люстрой распадается, и на манеж обрушивается дождь из лепестков роз. Зал ахает, Марк обнимает Свету, у меня позорно чешутся глаза и щиплет в носу, а шпрехшталмейстер говорит зрителям, что сегодня у нас в цирке праздник – двое наших друзей решили пожениться.
Все артисты выходят в манеж, директор Барский под ручку выводит туда же даму из загса, она вручает Свете и Марку свидетельство о заключении брака и объявляет их мужем и женой.
И тут зрители первого и второго ряда начинают бросать на манеж розы, астры и хризантемы (вот куда исчезал в антракте Костя – раздать людям цветы и попросить их поздравить наших новобрачных), остальные бешено аплодируют. Многие плачут, но это те самые слезы, от которых становится светло.
Как только улыбающиеся зрители наконец-то покинули зал, все завертелось: артисты побежали снимать грим и переодеваться к празднику, а ребята из униформы, рабочие, обслуживающие шапито, и электрики начали носить на манеж столы и стулья.
Приехал Гурам Гвазава, привез ящики с шампанским и коньяком, элитным золотым коньяком, который присылали ему на завод для экспертизы. Выгрузил все у форганга и пошел за конюшню, где стояли мангалы, – оттуда уже потянуло дивным запахом жареного мяса, пора было возглавить процесс.
А на манеже, превращенном в импровизированный зал торжеств, уже накрывали расставленные полумесяцем столы – никто не должен сидеть спиной к алому кругу, дающему цирковым хлеб и кров. Десятки рук резали, раскладывали, сервировали, открывали и украшали, и через час все было готово.
Народ расселся за столами, оркестр тихо заиграл вальс Андрея Петрова, под который Деточкин вернулся к своей Любе после отсидки, Давид Вахтангович и Юрий Евгеньевич – два посаженых отца на этой свадьбе – широко распахнули занавес, и Света с Марком выплыли на манеж, кружась в вальсе. Сделав два круга, они остановились. Марк, фигуру которого подчеркивал серый смокинг, поклонился, а Светка, красивая, как сама Любовь, в чудесном нежно-голубом платье со шлейфом, в венке из голубых астр, посмотрела на всех сияющими глазами и присела в изящном реверансе. Рядом со мной громко всхлипнули Риточка Бакирева и мама Марка, а потом все зааплодировали – новобрачным, друг другу, нашему цирку, молодости, любви, счастью и самой жизни, наверное.
Что это был за праздник! Лучший из возможных, потому что на нем были только свои, говорившие на одном языке, любившие жизнь, которой жили, воспитанные в одних традициях. И здесь каждый знал о каждом: рядом свой.
Оркестр, честно отыграв два часа, присоединился к трапезе, а ребята включили магнитофон и устроили настоящий капустник. Агеев и Костя в образах Арлекина и Пьеро вели импровизированное представление, бесконечно срывая аплодисменты, которые тут же тонули во взрывах хохота. Уже не удивляясь все открывающимся новым талантам Троепольского, я наслаждалась вместе со всеми тонкими шутками Кости, его мягкой и деликатной манерой – веселый напор Арлекина-Агеева и нарочитая, на грани фола, его грубоватость удивительно гармонировали с изящным юмором Кости-Пьеро.
Потанцевали совсем немного – после двух представлений сил на буйное веселье уже не осталось, – люди просто отдыхали, радуясь этой теплой ночи, дружеской компании, вкусной еде и счастью Светки и Марка. Потом настало время укладывать детей, игравших во дворе цирка с Вели и добродушными, пожилыми, уже не работающими на манеже собачками Алдоны. Мамы и папы деток с сожалением простились и откланялись. Старшее поколение продержалось еще пару часов, но вот ушли отдыхать и они. Оставшиеся самые стойкие, во главе с молодоженами, быстро убрали со столов, унесли сами столы и стулья (утром их нужно было вернуть в ресторан), привели в порядок манеж и перебрались на пляж, прихватив с собой фонари, выпивку, закуску и гитары. Там и встретили утро.
И вот еще о двойнике Марка: я, однажды приехав в гости к Павловским в Ялту, видела того, второго, Дениса – они с женой и маленькой дочкой тоже гостили у Светы и Марика. Не знаю, зачем Единому понадобилось создавать двух почти одинаковых людей, но сходство между ним и Марком было просто пугающим. Конечно, когда эти двое рядом, то отлично заметно, что Павловский повыше и шире в плечах, а у Дениса чуть светлее волосы и карие глаза. Но разве влюбленная Светка могла заметить такие детали, да еще и с приличного расстояния? Да еще и пребывая в стрессе? Ну, и Марк оказался старше на полтора года, как выяснилось.
Цирковой акробат и инженер-кибернетик. Двойники.
Они вчетвером дружили потом много лет и вместе уехали в конце девяностых из измученной России. Звонили мне регулярно, каждый раз уговаривая бросить все и ехать к ним, обещали помочь увезти из страны маму… Я отказалась, и до сих пор не жалею.
Записная книжка с адресом и телефонами Светика и Марка в один из темных периодов жизни канула в бездну вместе с моим архивом. И вот это по-настоящему печально, потому что мы потерялись с моими друзьями.
33. Из жизни клоунов
С погодой совершенно точно что-то произошло за последние тридцать лет: юг засыпает снегом, а в февральской Москве поют скворцы, например.
В субтропическом Сухуме последние дни сентября и даже начало октября почти ничем не отличались от августа. На пляжах по-прежнему оставалось множество любителей бархатного сезона, а вечерние аншлаги в передвижке № 13 и не думали заканчиваться. И даже на дневных детских представлениях зал был заполнен на девяносто процентов: школьники уехали по домам, но деток дошкольного возраста имелось в избытке.
А еще той теплой осенью нас здорово выручали санатории. Вся набережная Сухума была одним сплошным двухкилометровым променадом с гостиницами с одной стороны и морем – с другой. А заканчивалась набережная величественными белыми зданиями санаториев. Больших санаториев. И они никогда не пустовали, поток гражданских и военных с семьями и детьми всех возрастов не иссякал круглый год. Как-то, еще дома, мамина соседка-коллега, забежав на минутку, с ноткой зависти рассказывала у нас на кухне об удаче, которая улыбнулась одному известному передовику производства – он получил путевку в Сухум от заводского профсоюза. На целых двадцать четыре дня!
В городе таких санаториев было несколько. В Очамчире и Гудауте они тоже были, много, и оттуда люди с удовольствием ехали на цирковые представления. И даже из Гагры: пусть оттуда и до Сочинского стационарного цирка не так уж далеко, но наши билеты были дешевле, а программа – ничуть не хуже. Я очень надеялась, что сборы не упадут и все наши еще надолго останутся в Сухуме… Судя по разговорам в курилке, артисты труппы тоже этого хотели.
Дни, наполненные солнцем, морем, теплом и любимой работой, текли ровно и неспешно. Вели рос послушным и спокойным, но обещал стать просто громадным. Мои упражнения с булавами, кольцами и мячами вызывали у Витьки Ковбоя уже одобрение, а не смех, зритель шел на представления с удовольствием, директор Барский был доволен работой коллектива и выручкой – нам регулярно перепадали премии, и я послала мамочке целых сто рублей. Дрессировщица собак Алдона еще несколько раз ездила к батоно Джамалу на пастбище и однажды вернулась с коричневым пушистым комком за пазухой – дочерью великолепного Кобы. Понаблюдав за моим Вели, Алдона собралась через годик ввести в номер несколько новых трюков с кавказской овчаркой – такого никто в Союзе еще не делал.
Я уже говорила, что директор Барский всегда набирал местных жителей на временную работу. У нас так трудились уборщицы – приятные женщины пенсионного возраста, два водителя-экспедитора, рабочие, обслуживающие шапито, осветители, помощник электрика, ветеринар и терапевт из районной поликлиники (оба на полставки) и две молодые женщины – армянка и русская, которые работали билетерами, тоже местные. Красивая армяночка Сияна, увы, уже была вдовой, после гибели мужа воспитывала маленького сыночка, а жила с пожилой мамой неподалеку от нашего бывшего пустыря. За ней безуспешно ухаживал некто усатый, молодой и, как выяснилось, горячий.
В маленьком цирковом мире все быстро становятся в курсе дел каждого. То, что Сияна очень нравится одному из наших артистов, молодому татарину Энвару, а он нравится ей, мы поняли уже к концу первого месяца гастролей в Сухуме. Энвар выпускался из училища как жонглер, номерок у него был славный, но абсолютно обычный, проходной, без изюминки и куража – просто работа, которую он выполнял на совесть. Энвар дал мне парочку дельных, сугубо математических советов относительно техники жонглирования кольцами, стало понятнее, но бросать так, как он, я бы точно не хотела.
А дело было в том, что жонглер Энвар спал и видел себя коверным. Его комната в вагончике была завешана фотографиями великих клоунов, он знал наизусть их репризы[56] и мог цитировать шутки и миниатюры часами. Можно представить себе его радость, когда наш молодой коверный Юрка Романов неожиданно предложил Энвару участвовать в древней, но любимой зрителем сценке «Кирпичи» в качестве партнера.
Сюжет незамысловат: после возни на манеже коверные бросают в зрительный зал кирпичи из пенопласта, которые на вид совершенно как настоящие – не отличишь, пока не возьмешь в руку. В ходе сценки зрители не догадываются, что на манеже вместе с настоящими кирпичами, гремящими у клоунов в ярких ведрах, используется реквизит, и когда артисты швыряют муляжи в зал, аж в самые дальние ряды, народ ахает и вскакивает с мест, бросаясь врассыпную от летящего «кирпича». Потом, конечно, все смущаются, хохочут и возвращают коверным по их просьбе реквизит обратно, бросая кирпичи в манеж. Один из клоунов (Энвар), как будто нечаянно ловит брошенный каким-нибудь мужчиной кирпич головой, смешно падает в обморок – ну, и так далее.
Сияна всегда выходила на номер жонглера и на эту репризу к центральному входу шапито и становилась у директорской ложи – оттуда лучше всего было смотреть на Энвара. А он мог видеть ее. И их обоих отлично видел молодой, усатый, горячий, но неудачливый ухажер Сияны. Понаблюдал немножко, да и сложил два и два, получив неутешительный результат.
Этот парень дружил с одним из осветителей и буквально через день сидел с ним рядом на площадке у световой пушки. Тихо сидел, а потом пытался проводить молодую женщину до дома, дожидаясь, пока она сдаст буклеты и программки старшему билетеру – нашей Фире Моисеевне. Ему это даже немножко удавалось сначала, только скоро провожать Сияну после вечерних представлений стал Энвар, а кавалер каждый раз получал очень вежливый отказ. И вот взыграл горячий нрав, а с ним проснулся корсиканский темперамент, начисто выключив товарищу голову, зато включив коварство.
Шло второе отделение. Репризу с кирпичами шпрехшталмейстер, расставляющий в программе номера, всегда пускал ближе к концу, чтоб движуха и легкий шухер слегка оживили подуставший от впечатлений зал. Мы с Давидом Вахтанговичем стояли, как обычно, у форганга, Сияна замерла напротив, у центрального выхода, Юрка и Энвар работали в манеже. И вот бутафорские кирпичи полетели в зал, тот, что бросил Энвар, как обычно – в желтый сектор, туда, где сидел рядом с осветителем усатый Отелло. Визг, хохот, суета и назад летят… два кирпича, один лидирует и достигает манежа первым. Энвар делает шаг вперед, Давид Вахтангович не своим голосом орет:
– Энвар, не лови, не лови, мляя!!
Энвар оборачивается к нему, кирпич свистит мимо и с грохотом разваливает стойку с реквизитом для следующего номера, которую униформа установила, пока коверные развлекали зал.
Он был настоящий, тот кирпич. Тяжелый и смертельно опасный. Брошенный сильной рукой с высоты десятого ряда, он запросто убил бы или сильно покалечил парня, если бы не опыт, интуиция и невероятная концентрация Давида Вахтанговича, – я ведь и извилиной пошевелить не успела, Юрка и Энвар не сориентировались тоже, а шпрех мгновенно все понял. И Сияна тоже поняла, я видела, как она подалась вперед и как закрыла лицо руками, когда кирпич врезался в стойку.
Ничего не заметившие зрители со смехом расселись по местам, коверные убежали за форганг, разноцветное колесо представления покатилось дальше. Конечно, Юрка, Энвар и кто-то еще из наших помчались ловить ревнивца, но того и след простыл. Осветитель, офигевший и весь трясущийся от ярости, предъявил преследователям оторванный рукав полосатой рубашки – это он пытался скрутить усатого, но тот вырвался, спрыгнул вниз с настила и исчез.
Домой к нему решили не ехать, хоть Гурам Гвазава и настаивал на том, что засранца надо найти и покарать, но Энвар, счастливый оттого, что Сияна впервые обняла его, да еще и при всех, махнул рукой – пусть живет себе, главное, чтоб ума хватило больше не подходить к цирку на расстояние пушечного выстрела.
Конечно, счастье делает человека великодушным, но Энвар еще и сам по себе был хорошим и добрым. Сияна, наверное, это почувствовала сразу. Они были женаты уже много лет, когда мы встретились все так же в цирке, только уже в другой жизни и в другой стране. Энвар давно стал очень приличным соло-клоуном, а младшему из их с Сияной троих сыновей только что исполнилось три года.
Но это все будет еще не скоро и в другой истории, а пока на очередном вечернем представлении Давид Вахтангович шепнул мне:
– Ты посмотри в первый ряд справа от ложи. Какая дама нас почтила вниманием… Высший класс!
Я глянула. Да, дама была что надо. В пестрой толпе зрителей она выделялась, как венценосный журавль среди разноцветных попугайчиков: длинная шея, пепельно-жемчужные волосы, собранные в высокую прическу, очень тонкое лицо с яркими губами и какие-то камни в ушах, горящие огнем при каждом повороте красивой головки (что так сверкают чистые, крупные бриллианты, я узнала гораздо позже), элегантное платье цвета увядшей розы. Рядом с дамой сидел мужчина в генеральском мундире – звезды генерал-лейтенанта я отлично разглядела даже от форганга.
Они были классные оба. Искренне хлопали, внимательно и заинтересованно смотрели номера, вернее, три первых номера. А потом на манеж выскочил Юрка Романов в гриме Рыжего клоуна. Рыжий клоун потому и рыжий, что волосы или парик у него желтого или оранжевого цвета, обязательный накладной нос и утрированный грим на лице – красный большой рот, подрисованные брови и глаза. Ну, традиция, что ли, такая в цирке, образ с незапамятных времен сложился.
Юрка не был бы Юркой, если б не разглядел мигом чудесную даму в первом ряду. А как разглядел, так и кинулся к ней, чтоб вручить огромную пластмассовую ромашку – с этого начиналась его реприза «Клоун и Принцесса». И тут случилось нечто невообразимое. Мы потом долго вспоминали этот казус в курилке, а отголоски истории, обросшие невообразимыми деталями, долетали до меня и спустя много лет.
Мама дорогая, как она заорала! Ее вопль перекрыл игривую мелодию, которую исполнял оркестр, и это не был женский изящный визг. Она кричала каким-то утробным голосом, протяжным и довольно низким, потом вскочила и ринулась куда глаза глядят, но не к выходу, а почему-то в нашу сторону, к форгангу. Генерал побежал за ней, а Юрка остолбенел прямо там, у барьера, который так и не перелез. Ромашка выпала у него из рук, но он этого, по-моему, даже не заметил.
Оркестр растерянно заиграл совсем тихо, зрительный зал тревожно зашумел, какой-то мужчина крикнул:
– Чего она так испугалась? Она знакома с клоуном? – встал с места и тоже направился к форгангу. Давид Вахтангович уже обнимал за плечи заплаканную женщину и потихоньку уводил ее за кулисы. Бледный генерал шел рядом, по его лицу было видно, что мужчина абсолютно ничего не понимает и даже, пожалуй, испуган.
– Объяви десятиминутную паузу, Лора. Этого должно хватить, – сказал мне шпрех, и я попросила зрителей дать нам немного времени, пока женщине окажут помощь. В такой обстановке продолжать представление было все равно невозможно.
За форгангом собрались ничего не понимающие артисты, крик слышали все, но никто ничего не видел. Женщину усадили на стул, кто-то сбегал за водой, кого-то Давид Вахтангович послал за нашим массажистом Олегом Яковлевичем – среди присутствующих он был ближе всех к медицине. Рита Бакирева присела перед продолжающей беззвучно плакать женщиной на корточки и взяла ее руки в свои. Генерал беспомощно топтался рядом и бормотал:
– Алечка, ну что ж ты, Алечка? Все же хорошо было… ты успокойся, милая…
И тут сквозь толпу протиснулся тот мужчина, который спрашивал, знает ли Алечка клоуна. Юрку Романова он вел под руку. Даже не вел – почти волок. Совершенно обалдевший Юрка не сопротивлялся такому унижению, хотя легко мог бы отбросить своего конвоира аж к курилке, силы у него хватало.
– Пропустите, товарищи, я следователь, вот мои документы, мне нужно задать этой женщине несколько вопро…
Но несчастная, увидев клоуна прямо перед собой, опять затряслась и замотала головой, вцепившись в Ритины руки с такой силой, что фиолетовые следы от ее ногтей Бакирева потом выводила бодягой. Давид Вахтангович повернулся к Романову:
– Товарищ следователь, вы спрашиваете не того, – голос шпреха был спокоен, но в нем звенел металл. – Юра, ты знаешь эту женщину?
– Да я ее впервые вижу, честное слово! Я вообще не понимаю, что тут происходит, Давид! – Юрка и сам уже чуть не плакал.
– А все-таки, вы знаете этого человека? – настойчивый следователь протянул даме стакан с водой.
– Н-н-нееет… – замотала она изрядно растрепавшейся прической. И прошептала: – Я очень боюсь клоунов, с детства, думала, что все прошло за двадцать пять лет… ошиблась… я не могу себя контролировать, мне очень стыдно, простите…
Странное слово – коулрофобия[57]. Этот страх и по сей день не относят к психозам, но если то, чему мы все были свидетелями, не психоз, то что? Олег Таймень увел Алю и ее мужа к себе в вагончик, следователь при всех извинился перед Юркой и куда-то слился, цирковые по очереди обнимали коверного, пытаясь хоть как-то подбодрить. Давид Вахтангович вышел к зрителям и мягко объяснил им, что у женщины был нервный срыв, что это особенность ее психики, и что сейчас ей гораздо лучше. Народ, кажется, понял. Во всяком случае, веселье пошло своим чередом.
Только дальше работали в этот вечер Энвар и дядя Коля – Юрка никак не мог оправиться от шока и на манеж выходить был просто не в состоянии. Лежал пластом у Агеева в вагончике и пил водку. Давид Вахтангович его понял. А Света Павловская после представления сказала мне:
– Уф, как хорошо, что Ирка (жена Юры) приболела и в гостинице лежит, как хорошо, что она не присутствовала при этом кошмаре. В течение хотя бы пяти минут видеть, что твоего мужа до истерики боится незнакомая красотка – поседеть же можно от всяких мыслей! Следак тот ведь сразу стойку сделал, решил, видимо, что наш Юрка маньячит в свободное от клоунады время, а Алечка эта психованная – его чудом спасшаяся жертва. Зачем Ирке эти нервы?
Олег Таймень потом рассказал Агееву, что, напоив Алю с генералом собственноручно собранным в тайге успокоительным сбором, он посадил обоих в такси и порекомендовал сразу после возвращения из санатория домой обратиться к серьезному специалисту. Оказывается, у красивой этой женщины в детстве была жуткая история, связанная с человеком в клоунском гриме, и Аля сама не знала о силе и глубине поселившегося в ней ужаса, потому что живет с мужем в далеком северном гарнизоне, а там цирков нет в радиусе двух тысяч километров.
Поздним вечером, когда Костя, Ковбой, я и Володя Агеев прогуливали Вели и немного пьяненького Юрку вдоль пляжей, Троепольский вдруг спросил:
– А вы поняли, почему наш Вахтангович психанул? Да потому, что дурак этот милицейский. Рвение служебное, конечно, штука хорошая, похвально, что гражданин следователь тащит службу, не зная отдыха даже во время отдыха, но есть совершенно очевидный факт: человека в клоунском гриме узнать невозможно.
34. Куда приводят мечты
Олег Яковлевич, продолжая пользовать матерей, жен и самих местных чиновников, выяснил у своих пациентов, что недалеко от Сухума есть замечательные природные термальные источники. Там горячая лечебная вода бьет прямо из-под земли и поднимает на ноги даже неходячих – так сказала Олегу пациентка, сама врач-хирург по специальности. Таймень немедленно съездил с инженером Иналом на эти источники, уточнил в курортной поликлинике состав и свойства воды, а вечером пошел к Агееву. Они совещались до глубокой ночи, но в конце концов пришли к консенсусу. Володя решил, что как только закончатся гастроли и передвижка встанет на зимнюю консервацию, он привезет из Москвы свою Анечку. Девочке будет очень полезно принять курс целебных ванн, Агеев возьмет один из накопившихся отпусков и тоже потешит свои растяжения и переломы в теплой водичке.
Как же я обрадовалась! Я увижу маленькую Анечку, да и Володя останется с нами еще на какое-то время, не уедет в свою далекую Москву – специфика работы циркового конвейера не позволяла даже примерно загадывать, когда мы увидимся с моим печальным великаном в следующий раз. Быть может, только в его следующем отпуске, который будет неизвестно когда.
– Тю-ю, тогда и мы остаемся здесь, да, Сашка? Ты не против, шеф? Тут в октябре уже первые мандарины будут, я должен увидеть, как они становятся оранжевыми прямо на ветках, – Витька Ковобой и Якубов, очевидно, еще не все окрестности облазили. Да и зачем им, холостым и свободным, ехать домой – ни у Вити, ни у Саши уже не было в живых родителей.
– Пожалуй, и я задержусь, потрачу на здоровье свое горемычное хоть пару неделек за последние десять лет. Мы с партнерами уже два года без отпуска, пусть и ребята мои отдохнут, пока я тут лечиться буду. – Рите Бакиревой тоже явно не хотелось уезжать из чудесного городка, где мы так славно обжились.
В общем, пока что подбиралась очень славная компания тех, кто остается на зиму, и тех, кто пробудет еще какое-то время после закрытия сезона: Риточка, Фира Моисеевна, которая на зимний период подменяла администратора Аркашу, Витька и Сашка, Агеев, Олег Таймень (Барский, конечно, не мог платить ему зарплату в отсутствие труппы, Главк никогда не утвердил бы такое штатное расписание, но массажист отлично справлялся и сам, ставя на ноги местных страждущих), шапитмейстер Матвей Иванович, старший униформист Федор Михайлович Лауш, наш мастер Михалыч и мы с Вели. Давид Вахтангович оставался с нами по долгу службы – директор Барский давным-давно каким-то образом оформил приказом Главка работу шпрехшталмейстера только в своей передвижке, и сейчас собирался ненадолго отпустить его в один из стационарных цирков, где заболел шпрех – исключительно на время, пока тот человек будет в больнице.
А вот Костя уедет. Я знала это совершенно точно, хотя ни разу нигде ни слова не говорилось о его планах, о том, есть ли у него отпуск, о том, куда он получил разнарядку – артисты труппы уже примерно знали от директора Барского, кому куда ехать после закрытия сезона в передвижке № 13. Юрий Евгеньевич раз в месяц обязательно летал в Главк с отчетами и возвращался с самыми свежими новостями. Сейчас, в октябре, он начал привозить и приказы, в которых значилось, куда потом следует тот или иной номер нашей программы. Чаще всего это были стационарные цирки в крупных городах на юге страны – дирекция умела считать денежки.
Но Костя не получил пока назначения, иначе я уже была бы в курсе. Кто-нибудь из наших непременно обмолвился бы. Только это ничего не меняло. Все равно же уедет. Точка. И лучше не думать на эту тему. Ведь пока он здесь, и целый месяц, а то и больше (если сборы не упадут, пусть не упадут, пожалуйста!) будет здесь, это огромный срок – месяц.
И я решила, что стану радоваться тому, что имею сейчас. У меня же было много всего: старшие, которые меня любили и учили, море, горы вокруг города, догорающее долгое лето, работа, о которой можно только мечтать, мой верный, веселый толстый Вели, а впереди еще и необыкновенная зимняя жизнь при затихшем шапито… И Костя пока еще здесь, рядом.
Ковбой мечтал о мандаринах в зеленой листве, а я почему-то очень хотела увидеть отстраненное, холодное море без людей в нем, пустые пляжи и пальмы под снегом. Должен же тут быть хоть какой-то снег? Что касается мандаринов, то на совершенно не похожих на все, что я видела до Абхазии, на каких-то игрушечных темно-изумрудных деревьях в саду Гунды уже висели крупные сочно-зеленые плоды. Я тайком ходила их трогать и нюхать.
Еще я побывала у Троепольского в вагончике. Совершенно случайно, вообще-то я обходила этот красненький вагончик десятой дорогой – мне казалось, что там алтарь, кромлех, священное место. Он же там спит, иногда ест, там его вещи, книги и все такое, как можно туда просто взять и зайти? Да земля немедленно разверзнется и поглотит за такое святотатство (напоминаю: мне не было еще и семнадцати лет)!
И тут Костя, идя на репетицию, забыл баночку со специальной присыпкой для тапочек. Их кожаную подошву натирают чем-то вроде талька – тогда кожа не скользит на педалях моноцикла и на поверхности реквизита, который сделан из легкого металла, сцепка лучше.
Конечно же, я сидела неподалеку на барьере и старательно перематывала изоленту на больших кольцах – у меня до сих пор отлично получается придумывать поводы быть рядом, еще тогда я хорошо научилась. Якубов, что-то чинивший в блоках под куполом, крикнул сверху:
– Лор, будь другом, принеси масленку, тут совсем лебедка забилась пылью, смазать нужно, а масленка у Агеева в ящике.
– Ну, если ты все равно идешь в ту сторону, то загляни ко мне, там на кофре стоит зеленая банка, квадратная такая, захвати ее, пожалуйста, – добавил Костя.
Ха. Если бы он попросил меня принести пресловутый цветочек аленький, я б тут же стартанула за пять морей. И горе Чудищу, если б оно попыталось тот цветочек не дать – заодно я принесла бы Косте его шкуру.
Масленка с машинным маслом нашлась мгновенно, и вот я уже открываю дверь вагончика Троепольского («Стой, сердце, стой!»). Дом очень многое может рассказать о хозяине. Если внимательно смотреть, то дом расскажет даже то, что человек предпочел бы скрыть. Бывают дома, в которые хочется возвращаться опять и опять, несмотря на тесноту, беспорядок, стопки книг повсюду, попадающуюся местами пыль, на детей, собак и кошек, путающихся под ногами, на разномастные чашки, незатейливое угощение – в них тепло и светло, в этих домах, в них ты свой. А бывают дома чистые и приличные, упорядоченные и ухоженные, переступив порог которых ты понимаешь: ты здесь лишний, здесь чужой и чуждый мир, обитатели которого тебя сейчас просто терпят. И пусть хозяева улыбаются и машут, потом ты будешь обходить их жилище по широкой дуге, как Гримпенскую трясину.
У Кости царил упорядоченный хаос. В маленьком пространстве вагончика он ухитрился создать целый мир: на полках, которые в два ряда висели по всем стенам, толпились какие-то фигурки – особенно хорош был сиреневый единорог с большими глазами и золотым рогом, смешные разноцветные игрушки, множество книг (торопясь, я разглядела только огромные словари да толстые тома «Ножи мира» и «Оружие мира»). На столике лежала стопка: Юрий Визбор, «Я сердце оставил в синих горах», сонеты Шекспира и двухтомник О. Генри – все они были и в нашей домашней библиотеке, все читаны не один раз, я очень обрадовалась совпадению вкусов. Свободное пространство стен занимали смешные и страшные маски из каких-то явно южных стран, а над кроватью висел большой портрет красивой женщины, нарисованный прозрачной акварелью.
Костина жена на рисунке обнимала длинную, похожую на лохматую гусеницу, собаку с короткими ногами и темными стоячими ушами, и смеялась, чуть запрокинув голову. У нее были зеленые глаза и светлые волосы, собранные в длинный хвост. И она выглядела очень счастливой. И очень живой.
Место для портрета было выбрано так, чтоб лежащий на кровати мог смотреть на него. Смотреть каждый вечер. Там и светильник был прикреплен, не у изголовья, а у рисунка…
Как я взяла с кофра банку, как вышла из вагончика, как отдавала Косте и Сашке принесенное и каким образом оказалась сидящей на берегу моря с Вели на поводке – неизвестно. Но в тот вечер я впервые узнала, что испытывает человек, которому вынесли приговор. Неважно кто – доктора, судьи, какие-нибудь враги, или он сам себе его вынес. Тогда мне казалось, что этот приговор – смертный. Организм отреагировал должным образом и оперативненько собрался откинуть копыта: долго просидев на пляже и окончательно уяснив абсолютное и бесповоротное отсутствие даже одного процента возможности стать для Кости не просто «нашей Лорочкой», я вернулась в цирковой городок, аккуратно закрыла за собой калитку и рухнула без сознания прямо на руки Агееву, который как раз шел меня искать. Очнулась уже в своей кровати, но в каком-то тумане, а к вечеру выдала температуру под сорок.
У меня ничего не болело, я ни на что не жаловалась, просто лежала тряпочкой и не могла даже пить. Представление Давид Вахтангович на следующий день отработал без меня, а вечером тетя Тая Лурье уже привезла знаменитого местного доктора, друга ее мужа. Седовласый доктор протиснулся между Агеевым, Фирой Моисеевной, Олегом Тайменем и Ритой, которые прочно заняли позиции около моей кровати, по очереди отлучаясь только на время работы и репетиций, и приступил к расспросам, но мне нечего было ему сказать. Да и сил совсем не осталось даже на простые ответы, наверное, их сожрал жар. Доктор сделал несколько инъекций, и директор Барский увел его. Уплывая в какое-то серое горячечное марево, я слышала удаляющийся голос Юрия Евгеньевича:
– Доктор, сделайте что-нибудь, девочка горит вторые сутки… любые деньги, любые лекарства, доктор, мы все достанем! Сообщить ее матери? Зачем?? Да чем и где она могла заразиться, я вас умоляю? Вчера днем была совершенно здорова же…
Ночью Олег Таймень по капельке вливал в мой пересохший рот какую-то жидкость, и мне казалось: именно горькая эта влага, чья-то рука, державшая мое запястье, и горячий собачий язык, что лизал мои щеки и лоб, не дают окончательно провалиться сквозь кровать куда-то вниз – я плавно падала туда все это время.
Говорят, под утро начался бред, но я этого не помню. Зато отлично помню и по сей день, как та женщина с портрета вошла и села на пуфик около кровати. Кроме нее, в комнатке почему-то никого больше не было, и я удивилась: как же она смогла их всех разогнать? То, что Костина погибшая жена сидит в полуметре от меня, удивления не вызвало. Она смотрела на меня, грустно улыбаясь, губы не шевелились, но я ясно услышала:
– Он много думает о тебе, девочка. И очень хотел бы забрать тебя с собой, но не сможет. У тебя другая судьба, тебя ждут в другом месте. Подожди немного, и все поймешь.
А потом как будто выключили свет – я спала без видений и снов почти сутки и проснулась ранним утром с нормальной температурой. На том самом пуфике сидя спала Светка, у открытой двери вагончика дремал Вели – войти, не разбудив его, было невозможно. На столике нежно мерцал здоровенный букет перламутровых бежевых роз, а рядом с ним стоял большеглазый сиреневый единорог.
Как, как он узнал про единорога?
Дулицкая-Павловская, конечно, была настоящей подругой. Не стала ни радостно вопить, будя всех вокруг, ни расспрашивать, что это было, – просто обняла и поинтересовалась, смогу ли я дотащиться до душевой. Помогла встать, оглядела всю и вытащила из-под кровати весы. Присвистнула – за три дня я лишилась двенадцати килограммов. Зеркало небрежно закрыла собой, сделала вид, что не расслышала просьбы отойти. Ведя меня в душ, несколько натужно балагурила:
– Сегодня ночью Агеев сдал Марку дежурство у твоего, так сказать, хм… одра и сразу пошел к Троепольскому. Мы с Велькой как раз с прогулки возвращались, шли мимо Костиного вагончика, тихо было очень. Я расслышала первую фразу, Лор. Вовка спросил: «Что ты ей сказал?» – а потом закрыл за собой дверь. Ой, не так резво, погоди, прислонись вот тут, тебя мотает же… дурочка какая… Сейчас я водичку сделаю потеплее, а ты пока снимай это все, я потом простирну. Олег не дал тебя переодеть, сказал, что нельзя трогать. Господи, одни кости остались, что ж такое-то!
Я видела, что она испугана. Наверное, пока я лежала, картина не выглядела такой душераздирающей, зато теперь… К тому же милосердная моя подруга не учла, что в душевой тоже висит отличное большое зеркало. Сейчас оттуда на меня смотрело взъерошенное полупрозрачное существо с большой головой и острыми плечами – тут и я слегка испугалась тоже, расплакалась и все Светке рассказала про портрет, но промолчала о визите мертвой Костиной жены. Подруга точно приняла бы меня за психопатку, а у меня как раз все встало на свои места: Косте я небезразлична, а что он там сможет или не сможет, поглядим. Я была готова ждать.
Все-таки она была на восемь лет старше, гораздо опытнее и уже отхлебнула горьковатой женской мудрости. Совсем недавно из-за удивительного, невозможного совпадения Света чуть не отменила собственную свадьбу, едва удержалась на грани отчаяния и теперь, став счастливой женой любящего мужа, была полна сострадания. Она смогла сказать словами то, для чего у меня не было определения: в сердце Кости не могло найтись ни кусочка свободного места, потому что там жила она, ушедшая молодой, любимой и безупречной. Совершенной. Все живые проигрывают ей всухую. Точка. Именно так я и думала, сидя на берегу, но теперь-то кое-что изменилось…
– Ты отлично держалась все эти месяцы. Я уверена, что среди наших только Фира Моисеевна и Агеев в теме, остальные даже не догадываются, что всехняя любимица, хорошая девочка Лорочка чуть не померла от нервной горячки на почве несчастной любви. Потому что за время пути собака могла подрасти. И подросла как-то незаметно, да-с. Настолько подросла, что выбрала лучшего из всех возможных. Кстати, не удивлюсь, если и объект не в курсе, что он – объект. То есть, был не в курсе, пока Вовка к нему не пошел выяснять отношения. Имей в виду: розы и игрушку Костя принес уже после их разговора. Смотрел на тебя от двери, долго там стоял, а ты уже спокойно спала, не металась больше, температура упала как раз.
Тут меня снова качнуло в отчаяние. Лучше б я умер вчера, как говорил герой известного анекдота! Будь у меня чуть больше сил, я обязательно попыталась бы побыстрее убраться из цирка, придумав благовидный предлог, и гори оно все огнем! Костя, единственный во всем коллективе ни разу не назвавший меня «деткой», «малышкой», «маленькой» или даже «дочкой» (дочкой – это все больше рабочие нашего шапито так меня называли), теперь, конечно, уверен, что я и есть глупая «детка», да еще и психованная, падающая в обморок из-за мужчины почти вдвое старше себя, любящего свою жену. А жена мне могла просто привидеться в горячке, кстати. Какой позор… Как бы исчезнуть незаметно?
Но меня шатало от слабости, очень хотелось пить и просто зверски – есть, потому позорное бегство я решила пока отложить.
Не успела Светка, усадив меня на пуфик, перестелить постель, как началось. Мигом набежала толпа, все радовались, тискали меня, тащили бульоны, колбасу, сладости, каши, даже пирог с мясом девушка из номера Риты Бакиревой принесла, здоровенный кусман. Он так благоухал! Я бы, конечно, налопалась с голодухи, но тут на пороге возник наш приходящий цирковой доктор, выгнал всех, велел унести еду и начать с чашки бульона с сухариками.
А потом пришел Агеев. Молча сгреб в охапку, посидел так немножко и глухо сказал куда-то мне в макушку:
– Никогда больше, слышишь? Никогда! Ни один мужчина не стоит этого. И ни одна женщина.
Я запомнила, но, конечно, не поверила моему печальному великану. Юность никогда не соглашается с чужим опытом, особенно с горьким опытом.
Костя? На Костю я наткнулась, когда, проснувшись под вечер, попыталась спуститься по трем ступенькам деревянной лестницы из вагончика и добрести до одного укромного местечка рядом с душем – бульон Фиры Моисеевны и бесконечные отвары, которыми поил меня Олег Яковлевич, настоятельно требовали выхода. Костя сидел на ящике около моего вагончика, уже в костюме для работы и в гриме – представление шло как обычно. Без меня.
– Опппачки… ну-ка, иди сюда, скелетик. – Я не успела и мяукнуть, как он подхватил все, что от меня осталось, на руки и понес по маршруту. Еще три дня назад я умерла бы от счастья, а сейчас просто прислонила голову к его плечу и почему-то чуть мгновенно не уснула, вместо того чтоб трепетать. Жаль, путь был короток, но и обратно в постель он тоже меня отнес. И носил, неизменно оказываясь у двери, когда я выбиралась из кровати, все три дня, которые понадобились моему организму на восстановление.
Несколько раз за день моя голова лежала на его плече, я дремала в течение тех секунд, за которые Костя медленно доходил до душа или туалета. Теперь я знаю, почему так быстро вернулись ко мне силы, дурацкий кукольный румянец и восемь из потерянных двенадцати килограммов. Он делился со мной своей энергией, своим спокойным теплом и еще чем-то, чему нет названия, но оно бесценно. И делился щедро.
Никто не обращал на нас с Троепольским внимания. Цирк жил своей жизнью, здесь не принято было лезть с расспросами или делать скоропалительные выводы. Все были рады, что я поправилась (в прямом и переносном смысле), и на четвертый день смогла приступить к работе.
Я отсутствовала всего неделю, а людей в зрительном зале стало меньше, в рядах, всегда плотно забитых народом, уже появились свободные места. Дневные представления по субботам и воскресеньям директор Барский приказом отменил – деток тоже поубавилось. Заканчивался теплый октябрь.
35. Где зимуют шапито?
Агеев попросил у Барского вторник, присоединил его к выходному – понедельнику и улетел в Москву, чтоб привезти дочку Анечку. Они с Олегом подготовили все для лечения девочки термальными водами: договорились с местными детскими хирургами-ортопедами, неврологами и травматологами, разработали график поездок к источнику, нашли транспорт. Вернее, свою машину дал всемогущий Гурам Гвазава, его все равно ведь возил персональный водитель, могучий чеченец Али.
И вообще, нам здорово подфартило: тетя Тая Лурье весьма кстати экстренно собралась к мужу, который тосковал-тосковал в одной очень жаркой стране, да и прилетел за женой, чтоб забрать ее минимум на полгода. Огромная квартира с окнами, выходящими прямо на набережную, оставалась пустовать, и прекрасная подруга моей мамы перед отлетом принесла нам пять комплектов только что сделанных ключей:
– Четыре комнаты и здоровенная кухня. Владейте. Это гораздо лучше, чем ставить обогреватели в вагончиках, когда все-таки наступит осень. Зима тут тоже, представьте, бывает, хоть и с плюсовой температурой. Володиной девочке гораздо удобнее будет в теплой квартире с ванной и горячей водой. А то знаю я вас, поселите ребенка в спартанских условиях, оглашенные. Да, и собаку заберите, ему уже тесновато в вагончике.
Мы всем коллективом счастливцев немедленно пошли оглядеть неожиданное счастье, и некоторые (Ковбой, я, Якубов), жители провинций, никогда не видевшие потолков под пять метров, обалдели: большая квадратная прихожая, коридор, ведущий к кухне, по которому Рита Бакирева могла бы спокойно прокатиться в своем ренском колесе, пятнадцатиметровая кухня-столовая и четыре раздельных комнаты. Балкон, увитый виноградом, и два окна выходят на море, остальные три – на сквер. А еще большая ванна, газовая колонка и горячая вода постоянно.
Ковбой улегся на диван, который стоял в столовой и абсолютно терялся в ее габаритах:
– Вот тут жить буду. У меня вся родительская двушка-хрущевка целых двадцать пять метров, а тут одна эта комната – пятнадцать, хоромы!
Якубов сказал, что поставит себе раскладушку здесь же, у окна, и обещал всем варить кофе по утрам. Остальные комнаты достались Фире Моисеевне, Володе с дочкой (прилетит – обрадуется, мы же интенсивно искали для них с Анечкой жилье), нам с Вели и Риточке Бакиревой. До цирка от нашего замечательного дома идти каких-то четыреста метров – опять везение, потому что Олегу Тайменю будет удобно ходить к девочке.
Володя вернулся из Москвы на следующий день после отъезда тети Таи, и Альгис Путрюс сразу отвез их с дочерью на квартиру, где Фира Моисеевна хлопотала с ужином. Вовка оставил Анечку на ее попечении и примчался в цирк как раз к началу репетиции своего номера – двое суток вне манежа надо было компенсировать усиленной нагрузкой, и он выложился так, что вечернее выступление прошло как по маслу. Всю неделю с маленькой Анечкой днем занимался Олег Яковлевич, начавший сеансы массажа незамедлительно, а вечерами в дом на набережной мчались отработавшие свои номера артистки, сменяя друг друга, чтоб с ребенком все время кто-то был. А потом вообще все прекрасно устроилось: присутствия Фиры Моисеевны как старшего контролера больше не требовалось, зрителей становилось все меньше, и остальные женщины отлично справлялись без своей начальницы, которая теперь все вечера проводила дома с дочкой Агеева.
Кудрявая, очень хорошенькая и смышленая Анечка оказалась просто чудесной девочкой, покладистой, доброй и веселой. Мне, как самой юной и мало повидавшей, поначалу было тяжело смотреть на тоненькие неподвижные ножки и искривленную спинку малышки, но Анечка так естественно вела себя, так верила в исцеление и так мечтала о том, как придет в цирк и вручит папочке цветы, что и я расслабилась и перестала внутренне корчиться от сострадания и жалости. Мы подружились.
А в понедельник, не откладывая в долгий ящик, все поехали на источник. Кресло-каталку Анечки закрепили на багажнике Костиного мотоцикла, Олег Таймень взял девочку на руки и сел на заднее сиденье, я отлично поместилась там же, Рита Бакирева заняла место рядом с Володей, и процессия отправилась в путь, на восток.
Небольшое мегрельское село Киндги обнаружилось среди огромных эвкалиптов на самом берегу моря. Издалека мы увидели мощные столбы пара, поднимающиеся к небу – это и был источник, целое озеро прозрачной воды, почти кипятка, возникшее из недр земли. Слегка пахло сероводородом, стекая по широким трубам, опущенным в озеро, горячая вода мощными струями падала в большой котлован. Там местные жители поставили широкие деревянные лавки – по одной под каждой трубой – и просто в грунте выкопали два бассейна-купальни для целебных ванн. Очевидно, местные давно уже принимали тут процедуры – стены котлована были укреплены и увиты плющом, повсюду выросли деревья, и даже маленькое кафе имелось, там можно было заказать кофе, чай, пирожок или хачапури. Все это хозяйство было никак не огорожено и абсолютно бесплатно для любого желающего.
Костин мотоцикл произвел обычный фурор, собрав вокруг себя немногочисленных посетителей источника, так что мы спокойно, не привлекая ненужных взглядов, пересадили Анечку в кресло и направились вниз. Олег Яковлевич велел Агееву взять дочку на руки и для начала опуститься с ней в теплую воду купальни. Через десять минут (все строго по часам) массажист выбрал струю нужной температуры, уложил Анечку на лавку и в течение еще десяти минут аккуратно разминал ей ножки и спинку. Мы с Костей и Ритой тоже отлично провели время под горячими струями.
Сначала Бакирева с некоторой опаской подставляла падающей воде то многострадальные ноги, то спину, но потом расслабилась и, кажется, задремала на лавке. А я украдкой разглядывала Костю, стоявшего в потоке воды в трех метрах от меня. На пляже он обычно стремительно нырял в море, заплывал далеко, превращаясь в точку, а выйдя из воды, сразу надевал футболку. И теперь я поняла, почему: по широкой спине наискосок змеился огромный шрам, предплечье и бедро с правой стороны я хорошо рассмотрела (осмелела, предчувствуя скорую разлуку, а ведь все эти месяцы ни разу не позволяла себе таращиться на солнце в упор), им тоже основательно досталось на той войне, которая отняла у Троепольского жену… я опять усилием воли заставила себя не думать, а просто радоваться тому, что есть сейчас.
После волшебной воды источника тело стало каким-то невесомым, мысли – ясными, а настроение сделалось приподнятым. У меня ничего никогда не болело, а вот все остальные сразу отметили уменьшение хронических болей в переломанных костях и решили ездить на источник ежедневно. Да и Анечка отлично спала ночью и проснулась с улыбкой – даже первая процедура пошла впрок малышке, которая страдала от ночных приступов болей в спине.
И стали мы ездить в Киндги каждый день. Иногда нас сопровождал Якубов, иногда – Костя, иногда – Витька Ковбой. Рита не пропустила ни одного дня, ей стало настолько лучше, что и заветная фляжечка с коньячком в качестве болеутоляющего появлялась все реже.
Через две недели директор Барский получил приказ из Главка: передвижной цирк-шапито № 13 заканчивает гастроли и становится на зимнюю консервацию. Теперь только в начале мая снова оживет цирковой городок, приедут другие артисты, будет сформирована новая программа, а мой первый коллектив уже очень скоро разбросает по городам и весям кочевая судьба цирковых…
Тогда я еще не знала, что со Светой и Марком мне суждено дружить до самого их отъезда из страны, что Володя Агеев и его Анечка останутся в моей жизни надолго, что и Олег Таймень сыграет в ней довольно важную роль, что Давид Вахтангович таки лишится партнерши по конферансу, собственными руками выпихнув меня в манеж уже в качестве артистки, что многие из людей, с которыми предстояло сейчас проститься, будут появляться в моей жизни, меняя ее так или иначе. И даже третье мое возвращение в цирк спустя много лет случится исключительно из-за человека, который вон там, за конюшней, проветривает и чистит кофры – ему скоро в дорогу…
День закрытия выдался солнечный и теплый. Вообще-то, даже местные удивлялись: уже средина ноября, а дождей нет, и погода совершенно июньская, и купающихся много еще на пляжах.
Уже с полудня начали приезжать городские чиновники, ставшие нашему коллективу настоящими друзьями. Они привозили щедрые дары прекрасной абхазской земли: виноград, апельсины, мандарины, киви, фейхоа стояли в ящиках буквально везде, вино в канистрах и небольших бочках ждало своего часа, прозрачная огненная чача в огромных пятилитровых бутылях покоилась в холодильниках, потеснив мясо для собак. К вечеру уже и горячие лаваши в белоснежных тряпицах оглушительно пахли за кулисами, и очередная свиная туша от председателя одного из колхозов в горах, куда наши артисты ездили с шефской программой, была разделана на шашлык для прощального застолья.
– Сколько раз мы закрывались в разных городах, а не припомню, чтоб так грустно было расставаться с шапито, с городом, с людьми, – печально курит во дворе Андрей Угольников. Игорь Угольников согласно кивает. И вздыхает.
– А мы-то остаемся, отдохнем, вдумчиво насладимся этими горами и морем, наконец-то разглядим все вокруг, – радуется Витька Ковбой, тут же пришивающий крючок к колету.
За сезон я ни разу не видела столько цветов сразу. Ни одна артистка не ушла с манежа с пустыми руками, ни один артист. После парада-эпилога[58], которым артисты прощались со зрителем, манеж завалили букетами. И нам с Давидом Вахтанговичем перепало по охапке чудесных астр и хризантем, и директору Барскому вручили розы, когда шпрех пригласил его на манеж. Правда, и закрытие труппа отработала просто великолепно, на бешеном кураже и драйве – всем очень хотелось показать, насколько мы благодарны городу за эти месяцы дружбы, тепла и гостеприимства.
Все заканчивается когда-то. Закончилось и последнее представление этого сезона в передвижке № 13. Артисты убрали в кофры костюмы, сняли грим, принарядились и собрались за столами во дворе цирка – погода снова улыбнулась нам, было очень тепло и совсем безветренно. Все сидели какие-то торжественные и немножко грустные. Даже важные гости из администрации, подняв (и выпив) благодарственные тосты за коллектив, директора Барского и дружбу навеки, пообещав всемерную помощь в обустройстве зимовки для шапито и остающихся сотрудников, откланялись печальные, что грузинам и абхазам почти не свойственно.
– Да, тысячи закрытий было, тысячу раз прощались мы с друзьями, с цирками, с городами и странами, но так не щемило в душе никогда и нигде. Юра, ты обратил внимание, что за полгода работы этой труппы ни разу даже малейшей склоки не возникло в коллективе? Когда такое было-то? У нас же все трепетные и нежные, артисты же, вспыхивают и взрываются мгновенно, а тут прямо ангелы подобрались какие-то. – Давид Вахтангович и Юрий Евгеньевич курят, прихлебывая вино, и отечески оглядывают застолье. Оба очень довольны.
А я еле сдерживаю слезы – огромный и очень важный кусок моей жизни пока еще медленно, но все ускоряясь, уплывает в прошлое. А тут еще Веня, трубач из оркестра, опять выводит светлую и грустную мелодию, и саксофонист подхватывает ее… Почему-то я ощущаю снова неприкаянное сиротство и надвигающуюся пустоту.
Все, что еще в мае казалось мне важным и нужным, отсюда, из этого теплого ноябрьского дня, выглядит зряшным, пустяковым и надуманным: какое-то там раннее замужество, семья в 18 лет (зачем??), будущие детки, неизбежные дачные сотки, школьные подружки с их полудетскими разговорами и смешными проблемами, те, кого я считала друзьями, не зная, что такое настоящая дружба, собственно дружба, которую я принимала за любовь, пустяковые обиды, планы, казавшиеся серьезными, – все это поменяло цвет и стало микроскопическим. Девочка стремительно повзрослела, увидев и испытав настоящее: труд – до кровавых мозолей, радость от сопричастности – до солнца в голове, любовь – до потери сознания, восторг – до благоговения перед силой и мужеством человеческих существ, счастье – оттого, что ты важен и нужен взрослым людям, необыкновенным, чудесным людям цирка.
Через неделю шапито совсем опустеет. Разъедутся в разные концы страны мои друзья. Они, конечно, еще не раз встретятся в разных программах – мир цирка невелик относительно огромного внешнего мира, но вот когда увижусь с ними я и увижусь ли вообще – вопрос. Еще какое-то время останутся со мной Агеев, ребята, Рита, но уедут в свои жизни и они.
До весны всего пять месяцев. Целых пять месяцев. Скоро уснут зимним сном и огромный купол, и пустые вагончики, и пестренькая, нарядная касса. Рабочие поставят внутри шапито тепловые пушки, включат дежурные прожектора, почистят и уберут алый ковер с манежа, снимут и сдадут в химчистку толстые бархатные чехлы с барьера и занавес форганга. И только Федор Лауш, наш мастер Михалыч и сам шапитмейстер будут жить в цирковом городке – они остаются при шапито на всю зиму.
Что же, Александр Сергеевич сказал очень точно: «И здесь героя моего в минуту, злую для него, читатель, мы теперь оставим…» Но ненадолго и не навсегда.
Уже в апреле приедут Барский, Давид Вахтангович и Олег Таймень, да и мы с Фирой Моисеевной вернемся в передвижку № 13. Барский, как обычно, улетит в Москву, чтоб проконтролировать формирование новой труппы и заполучить хорошие номера, а мы все станем ждать его в Сухуме, волнуясь и предвкушая новые встречи. И сюрпризы таки случатся, уверяю вас.
История эта будет иметь продолжение – вплоть до сегодняшних дней. Еще приедет Костя, еще я выйду на манеж в ином качестве, еще случится вся моя жизнь – под куполом и вне его, жизнь, о которой совсем недавно один хороший и очень умный человек сказал: «Это ж просто цирк какой-то!» Только это будет совсем другой цирк, конечно.
Я обязательно расскажу ее.
Начинаться она будет так: «Художник приехал в этот городок у моря из суетной и шумной столицы на пленэр…»
Москва – Сухум, 2017 год
«Дух цирка поселяется в ком захочет и смотрит глазами своего избранника, думает его сердцем, движет его рукой. И получается книга-хроника, полная любви к отважному сильному племени цирковых – туда нет хода посторонним, но если Дух цирка будет к ним благосклонен, то у них в руках окажется эта книга, и с ней – доступ в особенный мир». Лара Галль
«Цирк – это не просто шоу. Это всегда немножко сказка – иная реальность, где краски ярче, а тела гибче, где люди летают, а лошади танцуют, где богатырь держит на плечах небесный свод, а красавица растворяется в воздухе как видение. Из таких сказок состоит любой древний эпос – истории про борьбу и победу, про любовь и настоящую дружбу, про игру страстей и игру Судьбы. Лора Радзиевская в своей книге показывает читателю изнанку этой сказки. Или, скорее, ее продолжение. Да, это истории про летающих людей, богатырей и красавиц, но происходят они не только на манеже и складываются у Лоры в другой, отдельный, эпос. Это притчи о пути к себе, о верности и предательстве, о низости и о благородстве, о празднике и тяжелом труде, и страстей в них не меньше, и игра судьбы еще причудливей». Малка Лоренц
«У нас мало пишут про цирк. Подозревают, что вокруг его и так много. Лора Радзиевская заполняет этот недопустимый пробел. На ее арене – во всей красе – bloody цирк нашей жизни. Поздравляю, у вас лучшие места в директорской ложе». Юрий Васильев, Lenta.ru
«Цирк – волшебное место. Медведи здесь танцуют, как люди, люди впахивают как лошади, лошади качают перьями на шляпах и умеют считать. Дети и любят цирк за волшебство. Взрослые цирк тоже любят, просто не признаются, потому что как бы знают: волшебство не настоящее, а у цирковых трудная судьба. Но кто устоит перед соблазном ускользнуть в радостной суете антракта, тайком пробраться за кулисы и подсмотреть, как волшебство устроено? Заглянуть в позабытый цилиндр фокусника, найти говорящего тигра или хоть красивую девушку в трико? Вдохнуть дикий звериный запах, запах свободы и странствий? Убежать с цирком в далекие края, стать жонглером, жениться на девушке, а с тигром играть в шахматы и вести долгие ученые беседы? Но униформисты всегда начеку и любого – будь то взрослый или ребенок – вежливо оттащат за уши подальше от опасного счастья, вернут в семью. Эта книга – шанс узнать наконец всю правду о трудной судьбе цирковых, говорящих тигров и танцующих медведей. И будьте уверены, от нее вас за уши не оттащишь». Глория Му
Примечания
1
Тремпель – то, что сейчас называют плечиками или вешалкой.
(обратно)2
Перш (фр. perche – шест) – цирковой снаряд длиной до 10 метров для гимнастических трюков.
(обратно)3
Форганг – очень плотный занавес, отделяющий манеж от внутренних помещений цирка, часто бархатный.
(обратно)4
Кофр (фр. coffre – сундук, ящик) – большой деревянный сундук для хранения одежды и реквизита.
(обратно)5
Парнус (муз.) – дополнительный неофициальный доход.
(обратно)6
Шпрехшталмейстер – ведущий цирковой программы. Кроме объявления номеров, он подает реплики клоунам, ассистирует во время исполнения особо сложных и ответственных номеров, следит за работой униформистов.
(обратно)7
Парад-алле – торжественный выход на манеж всех артистов труппы перед началом представления.
(обратно)8
Коверный – амплуа клоуна, которое получило свое название из-за специфики выступления. Коверный работал в паузах между номерами программы, пока расстилалось или убиралось покрытие манежа (ковер).
(обратно)9
Даико – сестра (груз.).
(обратно)10
Швило – дитя мое (груз.).
(обратно)11
Чеми гого – моя девочка (груз.).
(обратно)12
Рондад (от фр. rondade) – вид акробатического переворота с поворотом на 180° вокруг продольной оси.
(обратно)13
Держать лонжу – работать во время исполнения номера на страховке, удерживая продетый в лебедку страховочный трос, закрепленный на поясе артиста.
(обратно)14
Разовые – оплата за работу на страховке, начисляемая сверх основного оклада.
(обратно)15
Униформа – рабочие, убирающие манеж в паузах между номерами, устанавливающие клетки, гимнастические аппараты и т. д. Два-три дежурных У. помогают артистам и во время репетиций.
(обратно)16
Шапитмейстер – руководитель и организатор работ по установке, эксплуатации и разборке конструкций передвижного цирка-шапито.
(обратно)17
Парфорская езда (франц. par forse, «через силу») – сложнейший конный номер, исполняемый артистом, стоящим на лошади, перепрыгивающей на быстром ходу через различные препятствия.
(обратно)18
«Выбросить» партнера – сильным движением рук, чаще всего – раскачав, придать его телу определенное направление.
(обратно)19
Тырса – специальная смесь песка и опилок, которой засыпают манеж перед тем, как положить ковер.
(обратно)20
Штрабат (нем. Abfall, т. е. срыв) представляет собой довольно эффектную концовку воздушных номеров. Это трюк «на уход» от снаряда вниз, к манежу.
(обратно)21
Арабеск (фр. arabesgue) – арабский. Поза в классическом танце или акробатике: положение туловища, при котором тяжесть тела переносится на одну ногу, а другая отводится далеко вперед или назад.
(обратно)22
Ренское колесо – цирковой снаряд, применяющийся в акробатике и эквилибристике, колесо, внутри которого находится артист.
(обратно)23
Шибболет – библейское, слово-пароль, идентификатор, по которому можно отличить своих от чужих.
(обратно)24
Дзмао – брат (груз.).
(обратно)25
Берейтор (нем. Bereiter – объездчик, наездник) – дрессировщик, который проводит всю предварительную работу по подготовке лошадей к работе на манеже.
(обратно)26
Кантемировы – известнейшая цирковая династия осетинских джигитов-наездников, основана Алибеком Кантемировым, представители этой семьи работают в манеже уже более ста лет.
(обратно)27
Вольтиж (от франц. voltiger – порхать) – термин, имеющий в цирке несколько значений.
(обратно)28
Зубник – кованый язычок с утолщением в средней части по конфигурации полости рта, приспособленный для выполнения различных упражнений: виса в зубах, удерживания партнера, стойки.
(обратно)29
Солнце – гимнастическое упражнение, большие обороты вокруг турника на выпрямленных руках.
(обратно)30
Крафт-жонглер (от нем. Kraft – сила) – атлет, жонглирующий тяжестями: гирями, ядрами и другими предметами.
(обратно)31
Тринка – название специального устройства, на которой артист лежит с поднятыми ногами при исполнении номеров антипода, икарийских игр, балансировании перша или лестницы на ногах.
(обратно)32
Колет – элемент циркового костюма, короткая и плотная приталенная куртка без рукавов.
(обратно)33
Кикс – бильярдный термин, обозначающий неудачный удар по шару, синоним слова «промах».
(обратно)34
Репетиционный период – время, за которое артист подготавливает и сдает комиссии Главка новый номер.
(обратно)35
Государственное училище эстрадного и циркового искусства.
(обратно)36
На цирковом сленге – выходной день.
(обратно)37
Авизо – (от ит. avviso) извещение, уведомление. Расписание репетиций, обычно вывешивается на специальной доске за форгангом.
(обратно)38
Эквилибр (лат. aeguilibris – находящийся в равновесии) – цирковой жанр, демонстрирующий искусство сохранения равновесия в различных условиях, усложненных применением специального реквизита и снарядов.
(обратно)39
Моноцикл (греч. mono – один, zicle — колесо) – одноколесный велосипед.
(обратно)40
Парубки (укр.) – парни.
(обратно)41
Мексиканка – стойка на руках, сильно прогнувшись назад в спине.
(обратно)42
При исполнении этого номера один человек надевает костюм-куклу, изображающий двух борцов в национальной нанайской одежде.
(обратно)43
Биджо – парень (груз.).
(обратно)44
Штиц (нем. Stutze – опора) – силовой подъем из виса на руках в упор, выполняемый на гимнастических снарядах: турнике, кольцах, трапеции.
(обратно)45
На цирковом сленге это означает, что все места в зрительном зале заполнены и приходится устанавливать дополнительные.
(обратно)46
Шамберьер (фр. сhambrière) – манежный бич. Длинный хлыст на гибкой рукоятке, с помощью которого дрессировщик управляет лошадьми.
(обратно)47
Веер – приспособление, помогающее канатоходцу балансировать на тугой проволоке.
(обратно)48
Цудад – плохо (груз.).
(обратно)49
Балаган – деревянное строение в горах или в лесу, где живут пастухи и охотники.
(обратно)50
Калбатоно – уважительное обращение к старшей женщине (груз.).
(обратно)51
Бебиа – бабушка (груз.).
(обратно)52
«Что слишком, то уже не хорошо» (польск.).
(обратно)53
Пацха – в Абхазии – небольшое строение, плетенное из лозы, нечто вроде отдельно стоящей кухни.
(обратно)54
Обара – женщина (абх.).
(обратно)55
Бисировать в цирке – повторять некоторые трюки номера по просьбе зрителей.
(обратно)56
Реприза (фр. reprise – возобновление, повторение). В цирке – словесная шутка или смешное действие в выступлении коверных.
(обратно)57
Коулрофобия – боязнь клоунов.
(обратно)58
Эпилог (греч. epi – после, logos – слово, речь) – заключительная часть представления, в которой участвует вся труппа.
(обратно)


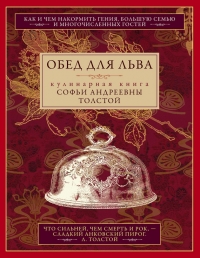
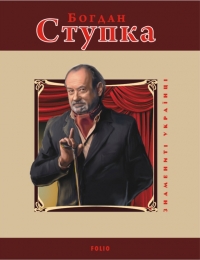




Комментарии к книге «Это просто цирк какой-то!», Лора Радзиевская
Всего 0 комментариев