Сергей Николаевич Театральные люди
Посвящается Нине
Хочется начать легко и бравурно
С чистого листа. Жил-был мальчик на Кутузовском проспекте. Родился, учился… – кому это интересно? Правильно, никому! Надо знать свое место. Не стоит привлекать к своей персоне слишком много внимания, не обязательно размахивать руками и говорить чересчур громко. Так мне втолковывали в детстве. Так и не втолковали. Говорю громко, размахиваю руками часто… “У вас посыл”, – сказала мне однажды Рената Литвинова. Оказывается, “посыл” есть далеко не у всех актеров. Этому специально учат в театральных вузах. А театральному критику “посыл” ни к чему. Совсем не обязательно, чтобы на тебя глазели и узнавали по одному звуку голоса. Критик должен держаться в рамках отведенной ему роли летописца, историка, аналитика. Это всё очень достойные роли. И каждую из них в разные годы я постарался на себя примерить. Что-то выходило лучше, что-то хуже, что-то не получалось вовсе.
В юности мне нравилось быть экскурсоводом в Театральном Бахрушинском музее. Может, потому что любая экскурсия тяготеет к формату моноспектакля? Никогда не знаешь, кто придет к тебе, кто захочет тебя слушать. Да и захочет ли? Со школьниками старших классов еще можно было сладить. Тут на страже был кто-нибудь из педагогов. Но взрослые группы были абсолютно неуправляемые. Самое ужасное, когда посетители начинали тихо отваливать и разбредаться по залам, а с тобой оставались одна-две сердобольные тетеньки, внимающие скорее из жалости. Не оставлять же тебя одного со всеми этими музейными раритетами! И как себя вести тогда? Что делать? Как заставить слушать равнодушных, вялых, ни в чем не заинтересованных, случайных посетителей, для которых ты никто, просто говорящая голова, которую мог бы с успехом заменить голос в наушниках. И вот тогда на помощь приходил “посыл”: я начинал играть за всех, импровизировал на ходу, придумывал смешные и грустные истории, рассказывал театральные анекдоты. Что-то, конечно, подвирал для красоты и стройности сюжета. Моим реквизитом становились мемориальные вещи великих артистов, а партнерами – их фотографии и портреты. Обращаясь к ним, я сторонним зрением видел, как публика потихоньку подтягивается, как вокруг меня образуется круг из тех, кто поначалу и не собирался меня слушать, как дружным гуртом они идут за мной от витрины к витрине, от экспоната к экспонату. В такие моменты я чувствовал себя кем-то вроде Крысолова с дудочкой. Тут главное не терять темп и вовремя закончить на правильной ноте. В финале своей экскурсии я обычно ставил запись Шаляпина, исполнявшего с цыганским хором романс “Очи черные”. “Вы сгубили меня, очи черные…” – трагически рычал Федор Иванович. А горластые цыганки ему подпевали, бренча монистами: “Очи черные, очи жгучие”…Народ ликовал. Я тоже. Иногда мне даже полагались в конце аплодисменты и благодарственная запись в книге отзывов.
Позднее, когда в моей жизни началась эра журналов, я страстно полюбил работу редактора – главного сочинителя и режиссера номера. Это тоже по-своему увлекательно: придумывать тему, распределять статьи среди авторов, как роли в будущем спектакле, заказывать фотосъемки, уже зная заранее, кто в какой манере будет снимать, колдовать над макетом, бесконечно переставляя буквицы и подбирая шрифты. Моими университетами, а точнее курсами повышения квалификации стали мемориальные выпуски журнала Paris Match, хранившиеся тогда в спецхране Ленинской библиотеки. Раньше во Франции, если кто-то из знаменитостей помирал, то ему обязательно полагался один номер Paris Match с обложкой и подборкой фотографий внутри. Что-то вроде семейного альбома. Листаешь, вспоминаешь, роняешь слезу, будто с родней прощаешься. Выбросить потом такой номер – рука не поднимется. Главная задача редактора – добиться эмоции, какой-то внутренней дрожи, душевной вибрации в такт переворачиваемых страниц. И это тоже своего рода Театр. Журнальный, бумажный театр, творимый по наитию и вдохновению, где так важен первый кадр и последний. Чтобы перехватило дыхание, чтобы вдруг бешено застучало сердце: финальное объятие, прощальный взгляд в объектив, удаляющийся силуэт… Теперь уже так не умеют – ни снимать, ни верстать, ни любить. Цифра всех развратила. Великих кадров становится все меньше. Слезы, если они и случаются, теперь падают не на бумагу, а на экран айпада. Никто ничего не хранит. Никто ничего не помнит. Все куда-то скачано, куда доступа нет и возврата тоже. Черная дыра интернета поглотила мой бумажный Театр. Поехали дальше.
Студия в полуподвале старинного дома в Петровском переулке. Наверное, тут раньше дворники хранили свои лопаты и метлы. Но на экране телевизора не видно, какая это маленькая комната, как в ней тесно с двумя камерами. Раз в месяц ко мне в программу “Культурный обмен” на ОТР приходят разные замечательные люди. Они рассказывают про свою жизнь. На самом деле человеку нельзя наскучить, если спрашивать его про детство, про маму, про то, что ему самому интересно. Я стараюсь быть по возможности приветливым и просвещенным собеседником. Мне совсем не хочется выводить своих героев на чистую воду. Знаю, что за меня это сделает телекамера. Она, как правило, беспощадна. К тому же на свете так много ток-шоу, где только и занимаются тем, что разоблачают и низвергают. Я не люблю такой театр. В нем нет артистизма, нет радости. А без радости какой может быть театр?
У Беллы Ахмадулиной, которою я немного знал лично, нахожу схожее размышление: “У меня вошла в поговорку фраза о том, что человек призван быть театром для другого. Он должен быть увлекательным, как хозяин застолья, и просто гостеприимным человеком. Это все равно есть некий театр, высшая доблесть – говорю не о себе, а о лучших избранниках. Наиболее прелестные характеры, встреченные мною в жизни, обладали этим чудесным свойством. Лучезарным, замечательным обаянием, доброжелательностью и артистизмом. Не вычурность, не преднамеренная игра со слушателем, а артистизм, потому что если вы заунывны, это невежливо по отношению к тем, кто вас слушает. Да и слушать никто не станет”.
Я тоже не о себе, а об избранниках, ставших героями моей книги.
Все они были и остаются Театром для меня. С кем-то удалось сохранить отношения надолго, кто-то промелькнул и исчез с горизонта, с кем-то неожиданно и жестоко развела жизнь. Но они все здесь – мои театральные люди.
Для начала, чтобы обозначить место и время действия, хочу пригласить вас на прогулку по Кутузовскому проспекту. Именно с него начался мой театральный роман.
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧИгорь Николаевич. Гавана, 1967.
Игорь и Эсмеральда Николаевичи. Улан-Батор, 1963.
Майя Плисецкая в фильме “Фантазия”. 1976.
Майя Плисецкая. Париж, 2005.
Алиса Коонен. Конец 1920-х.
Александр Таиров. Середина 1920-х.
Анатолий Эфрос. 1976.
Наталья Крымова. 1960-е.
Ольга Яковлева и Николай Волков. 1976.
Лев Новиков. 16.10.1989.
Роман Виктюк с актерами спектакля “М. Баттерфляй”. 29.12.1993.
Виталий Вульф в фильме “Крылья”. 1966.
Виталий Вульф. Гент, 14.06.1998.
Ангелина Степанова и Анатолий Кторов. “Милый лжец”, МХАТ им. М. Горького, 1965.
Ангелина Степанова. Москва, Дом Актера, 20.09.1999.
Алла Демидова. “Вишневый сад”, Театр на Таганке, 20.05.1976.
Алла Демидова. 1997.
Белла Ахмадулина с дочерью Лизой Кулиевой. 1974.
Владимир Осипчук. 06.03.1989.
Данила Козловский. Париж, 2013.
Данила Козловский и Елизавета Боярская в костюмах из спектакля “Король Лир”. МДТ – Театр Европы, 07.04.2006.
Елизавета Боярская и Данила Козловский в костюмах из спектакля “Король Лир”. МДТ – Театр Европы. Фотограф Валерий Плотников.
Лев Додин с актерами. Репетиция “Вишневого сада”. МДТ – Театр Европы, 2014.
Елизавета Боярская в роли Вари. 2014.
Сцена из спектакля “Вишневый сад”.
Ксения Раппопорт в роли Раневской. МДТ – Театр Европы, 2014.
Инна Чурикова. “Аудиенция”, Театр Наций, 2017.
Инна Чурикова. Пробы на главную роль в фильме “Начало”. 1969.
Михаил Барышников. “В Париже”, Baryshnikov Arts Center & Лаборатория Дмитрия Крымова, 2011.
Михаил Барышников и Алвис Херманис. Новый Рижский театр, Рига, 2016.
Изабель Юппер. 2008.
Сцена из спектакля “Федра”. Театр “Одеон”, Париж, 2016.
Сцена из спектакля “Федра”. Театр “Одеон”, Париж, 2016.
Рената Литвинова. Париж, 2013.
Рената Литвинова. Париж, 2013.
Андрей Могучий. 2018.
Алиса Фрейндлих в спектакле “Алиса”. БДТ, 2013.
Сцена из спектакля “Алиса”. БДТ, 2013.
Валерий Ивченко. 17.06.1985.
Светлана Крючкова с мужем Юрием Векслером и сыном Митей. Каменный остров, 17.10.1982.
Нина Усатова. 2019.
Евгений Миронов. 2014.
Олег Меньшиков и Павел Каплевич. 1998.
Сцена из спектакля “N (Нижинский)”. В главной роли – Олег Меньшиков. Театральное агентство “Богис”. Москва, 08.04.1993.
Владислав Наставшев. 2017.
Сцена из спектакля “Форель разбивает лёд”. Гоголь-центр, 2017.
Сцена из спектакля “Форель разбивает лёд”. Гоголь-центр, 2017.
Сцена из спектакля “Маленькие трагедии”. Гоголь-центр, 2017.
Сцена из спектакля “Нуреев”. Большой театр, 2017.
Сцена из спектакля “Нуреев”. Большой театр, 2017.
Сцена из спектакля “Нуреев”. Большой театр, 2017.
Кирилл Серебренников. 2015.
Кутузовский Театральный разъезд
Для меня всегда было загадкой, почему тут такой сквозняк. Буквально переезжаешь мост, как тебя начинает пробирать холод и ветер сшибает с ног.
– Ну, это же хорошо. Значит, воздух чище, – убеждает меня мама.
Она вообще считает, что жить на Кутузовском – это какая-то невероятная удача. Для нее это как Беверли-Хиллз и Сен-Жермен-де-Пре вместе взятые. Фетиш престижа и успеха, за который надо держаться во что бы то ни стало. К тому же она живет здесь уже больше пятидесяти лет. “Привычка свыше нам дана, замена счастию она”. Один и тот же вид из окон на шпиль гостиницы “Украина”, которая давно уже и не “Украина”, а Raddisson Moscow Palace. Один и тот же маршрут троллейбуса № 2, который с прошлого года поменяли на автобус. В час пик намаешься ждать на ветру…
Но за столько лет я, конечно, привык к имперской прохладе, к этой звенящей тишине и пустоте перед тем, как ее прорежет насквозь президентский кортеж, несущийся по Кутузовскому со сверхзвуковой скоростью, как по оккупированной территории.
Это действительно особая территория на карте Москвы. Державное предместье, по которому со сталинских времен проходила главная правительственная трасса, ведущая прямиком в Кремль. Ни хороших ресторанов, ни нормальных магазинов тут с самого начала никогда не было. Они как-то тут не приживались. На Кутузовском не полагается жить. Тут надо все время стремиться или вперед, или назад: в Кремль или на Рублевку. Третьего не дано. Стеклянные небоскребы Калининского, которые угадываются вдали, выросли только к концу 1960-х – запоздалый оммаж эпохе оттепели и архитектурных утопий, вдохновивших Хрущева и его сподвижников на уничтожение и перестройку старого Арбата. А Кутузовский со своими могучими фасадами в мраморе и граните и нереальными по тогдашним градостроительным меркам четырехметровыми потолками был задуман как выставка достижений предшествующей эпохи. Задумал его Сталин, но поскольку строили его при Хрущеве, то он получился почему-то с сильным украинским акцентом: тут и памятник Тарасу Шевченко, и бульвар Леси Украинки, и Киевский вокзал…
Я застал те времена, когда в гастрономе “Украины” торговали кругами жирной украинской колбасы, а русские продавщицы были одеты в нарядные вышиванки. Как потом мне объясняла бабушка, которая знала все, Хрущев хотел великой дружбы и любви с Украиной: вначале отвалил им Крым, потом поставил памятник Шевченко, а теперь все должны есть эту колбасу и “Паляницу”. Хлеб хрустел и крошился под ножом. Его лучше было отламывать большими кусками, но бабушка не любила непорядок на кухне. Колбаса призывно скворчала на сковородке и пахла чесноком, томясь в собственном жиру. Употреблять ее в сыром виде у нас дома не полагалось. Вообще, весь этот малороссийский декор, напоминавший провинциальные постановки каких-нибудь “Черевичек”, воспринимался как нечто бутафорское, не имевшее непосредственного отношения к государственной твердыни Кутузовского. Ему гораздо больше подходил ассоциативный ряд, связанный с войной 1812 года, заложенный уже в самом имени знаменитого фельдмаршала, в непосредственной близости Поклонной горы, где мы сдавали зачеты по физкультуре, а также в присутствии панорамы “Бородинская битва”.
На мой вкус, панорама было довольно странным сооружением. Учеников младших классов из окрестных школ там принимали в пионеры, а потом в качестве бонуса водили смотреть на муляжи трупов и обгорелые знамена. Считалось, что их вид поднимает патриотический дух, но на меня гораздо большее впечатление произвела первая серия широкоформатной цветной картины “Война и мир” С. Бондарчука. Там тоже были знамена и трупы, но все-таки их сильно разнообразили сцены из старинной, дворянской жизни, всякие охоты и балы, снятые с невиданным размахом и мощью. Мне это казалось вершиной мирового кинематографа, хотя некоторое странное несоответствие возраста исполнителей своим героям бросалось в глаза. Ну разве этому Пьеру может быть двадцать четыре года, думал я, глядя на полноватого стриженого Бондарчука в круглых очках. И неужели эта немолодая дама в жемчугах и есть та самая умопомрачительная “голая” красавица Элен, от которой все в романе сходили с ума? Но камера неспешно плыла по бальным и оперным залам, врывалась на зеленый простор, с высоты птичьего полета следила за движением разных человеческих множеств на Бородинском поле, чтобы потом устремиться еще дальше в какие-то заоблачные выси, откуда доносился бархатный баритон Сергея Федоровича Бондарчука, озвучивавшего какие-то вечные истины классика. Ни одну из этих истин сейчас не вспомнить, но кадры, увиденные впервые на экране кинотеатра “Россия”, врезались в память навсегда.
Теперь я понимаю, что мое отрочество и ранняя юность пришлись на ностальгическую эпоху “ретро”. В почете была разнокалиберная классика, которую без конца экранизировали и инсценировали на разный лад. Во всех президиумах восседали почтенные старцы, которые постоянно друг друга награждали разными орденами и медалями. Любимый формат – юбилейный вечер. Любимый праздник – День Победы. На самом деле эти старые люди были не такими уж старыми. Помню, как по телевизору Константин Симонов с модным бобриком и еле заметными седыми усиками рассуждал, приятно картавя, что людям, прошедшим войну, сейчас не больше шестидесяти. То есть они в самом расцвете, хорохорился автор “Жди меня”, а по мне, конечно, это была такая пенсия и древность. Впрочем, в их морщинах и рассказах иногда просвечивало что-то человеческое. Комсомольские активисты мне не нравились совсем. В их невыносимо дружном пении песен Пахмутовой и Добронравова, в этой беспрерывной пропагандистской брехне про БАМ и Вьетнам была сосредоточена вся советская фальшь и пошлость. Кто-то бежал от них в академические штудии Гельдерина и Клейста. Кто-то выбирал себе судьбу диссидента с дворницкой в придачу.
Я же уходил в кинотеатр “Иллюзион” или в его филиал клуб “Красные Текстильщики”, располагавшийся напротив шоколадной фабрики “Красный Октябрь”. От Кутузовского туда надо было добираться на троллейбусе № 2 или автобусе № 89 до библиотеки Ленина, потом пересаживаться на троллейбус, который ехал через Большой Каменный мост к кинотеатру “Ударник”, а там уже рукой подать до красного кирпичного здания. Там в фойе висели черно-белые портреты Ингрид Бергман и Вивьен Ли, Кларка Гейбла и Генри Фонды, Марлона Брандо и Бэтт Дэвис. Их лица, их судьбы, их фильмы и были содержанием моей настоящей жизни, подменявшей скучную реальность сияющим иллюзионом, куда я устремлялся со всем безрассудством юности. Ради этих сеансов счастья я готов был часами стоять на морозе в каких-то нескончаемых очередях, отмечаться на перекличках, сбегать с уроков, рискуя нарваться на большие неприятности. Нас было много в этом обществе тайных и явных киноманов, которые особенно активизировались во время московского кинофестиваля. Их легко было узнать по очкам, как правило, с сильной диоптрией, лихорадочному, безумному блеску в глазах и сбивчивой речи, в которой то и дело мелькали родные имена Рене, Трюффо, Годара, Висконти. Это было эсперанто для посвященных, язык богов, а точнее, их служителей, к которым мы себя причисляли.
Верховными отправителями культа считались лекторы “Иллюзиона”. Они выступали перед фильмами. Я их всех помню. Степенный, с профессорской бородкой, Владимир Дмитриев, госфильмофондовский начальник, хранитель запретных богатств фестиваля “Белые Столбы”. Утонченный и нервный Владимир Утилов, адвокат вышедших в тираж западных звезд, специалист по фильмам и психическим недугам Вивьен Ли. Ироничный Валерий Басенко, умевший в двух-трех фразах убийственно точно сформулировать особенности авторского стиля любого из классиков мирового экрана. В том, что они нам рассказывали, не было ни капли лекторского занудства или тени идеологических штампов. Великое кино дарило иллюзию свободы, интеллектуальной игры, жизни “поверх барьеров”, без железного занавеса. И не только нам, зрителям, но и им, умудренным профессионалам, культуртрегерам, просветителям в подлинном смысле этого слова.
А потом, когда сеанс заканчивался и мы выходили из “Красных Текстильщиков” на Болотную набережную, воздух был пропитан какой-то приторной, карамельной сладостью. Это шоколадная фабрика “Красный Октябрь”, тогда дымившая всеми трубами на соседнем берегу, производила свой “сладкий” и, с точки зрения экологических норм, полагаю, не слишком полезный выброс. Но разве кто-нибудь думал тогда об экологии? Мы думали о “Виридиане” Бунюэля, или о Жанне Моро в “Любовниках”, или о Дирке Богарде в “Слуге”. Насколько же это было важнее, чем вся мышиная возня с оценками, экзаменами, переаттестациями. И не то чтобы я демонстративно игнорировал их. Вовсе нет! Я учился в престижной английской школе, отчаянно скучал на обязательных собраниях, в качестве общественной нагрузки рисовал какие-то стенгазеты и участвовал в конкурсах чтецов, но у меня были они. Они! Мои звезды, мои дивы, мои герои. Помню, как в первый год после школы, когда я не поступил в институт, мама, чтобы меня утешить, купила сразу три абонемента на ретроспективы фильмов Греты Гарбо в “Иллюзионе”, и я смотрел их два месяца подряд. Это было счастье!
А еще книги. В нашем доме на первом этаже располагался магазин издательства “Советская Россия”. Среди моря макулатуры, которой были забиты все полки под самый потолок, одиноким утесом возвышался стеллаж, где были выставлены книжки по подписке. Томас Манн, Диккенс, Чехов. Их благородные корешки сводили меня с ума. Однажды папа притащил домой собрание из девяти темно-вишневых томов сочинений Маяковского. Тыча в карандашный портрет Лили Брик, он сказал мне: “Она живет в нашем доме”. Какая-то грустноглазая женщина с небрежной прической смотрела на меня из сумрака штрихов и теней, набросанных собственноручно Владимиром Владимировичем Маяковским в приступе эпохальной любви. Много лет спустя я увижу этот портрет на стене гостиной Василия Васильевича и Инны Юлиусовны Катанян, тоже наших соседей.
Лилю я несколько раз встречал на улице. Ее всегда кто-нибудь вел под локоть. Чаще – старик в пижонской жокейской кепочке, смотревший по сторонам с вполне еще бодрым мужским любопытством. Это был Василий Абгарович Катанян, последний муж и спутник ее поздних лет. Обычно для выхода на Кутузовский Лиля была размалевана как клоун Олег Попов – с каким-то невероятным вишневым румянцем в пол-лица, бордовым ярким ртом и нарисованными бровями прямо по напудренному лбу. Я запомнил, что на ней всегда был яркий шелковый платок Hermes, из-под которого выглядывала задорная рыжая косичка, какие носили в начальной школе. Зимой она была закутана в какие-то баснословные меха, в которых утопала, как в сугробе. Чаще всего это была необъятная шуба насыщенного ярко-зеленого, травяного цвета. “Крашеная зеленая норка, – авторитетно заметила мама. – Наверняка из Парижа”. Такой шубы на Кутузовском больше ни у кого не было.
Однажды я стоял в очереди в кассу гастронома “Украина”, когда Катанян пришел с Лилей, заботливо посадил ее на мраморный подоконник, а сам пошел пробивать сырки и кефир. Вся очередь, в основном состоящая из женщин среднего возраста и старше, растерянно замерла при виде старухи, словно явившейся в гриме и костюме из оперы “Пиковая дама”. Лиля делала вид, что не замечает этих взглядов. Под их прицелом она провела всю жизнь, и, похоже, ей действительно было плевать, кто и что о ней подумает. Уставившись в одну точку, она что-то тихо насвистывала, покачивая ногой в черном лаковом сапоге. Когда Катанян вернулся, голосом маленькой девочки потребовала себе сырок в шоколадной глазури и, развернув его хищными пальцами с алым маникюром, стала быстро-быстро уплетать, словно белочка орехи. Кажется, она даже почти пропела от удовольствия: “Какой свежий!” Вся очередь смотрела, как жует Ли-ля Брик. “Из-за этой еврейки стрелялся Маяковский”, – кто-то тихо произнес за спиной, и я буквально кожей почувствовал ожог ненависти.
В “Советской России”, кроме подписных изданий, был букинистический отдел, куда я время от времени наведывался, как в буфет за запретным вареньем. Именно оттуда я извлек всех своих “Виконтов де Бражелонов” в сиреневых переплетах и прекрасный неподъемный том “Мертвых душ” с иллюстрациями Боклевского. А когда имена Ива Монтана и Симоны Синьоре были уже под запретом из-за их недружественных антисоветских выступлений по поводу пражских событий 1968 года, я там обнаружил книгу мемуаров Монтана “Солнцем полна голова”, изданную со стихами Жака Превера и чудесной графикой Бернарда Бюффе.
Библиотечная душа, я был записан сразу в две районные библиотеки – им. Софьи Перовской на набережной Т. Шевченко и им. Алексея Толстого на Дорогомиловской улице. Однажды вместо подготовки к экзаменам, о которой я гордо объявил всем, отправляясь в библиотеку, я читал там несколько часов подряд “Дом на набережной” Ю. Трифонова. За окном летний дождь то начинался, то прекращался, то снова начинал хлестать с особенной силой. Люди бежали по лужам, боясь не успеть на автобус, а я все читал и читал, не в силах оторваться от номера “Дружбы народов”, и только боялся, что библиотека закроется, а я так и не узнаю, чем закончится эта история. Стоит ли говорить, что учебники за это время я так ни разу и не открыл.
Вообще о семидесятых, в противовес оттепельным шестидесятым, принято говорить с оттенком высокомерного презрения: застой, Афганистан, ссылка Сахарова, изгнание Солженицына, повсеместное закручивание гаек, разгон “Метрополя”, какой-то общий упадок в умах и нравах. А как символ всего этого – черные правительственные ЗИЛы, везущие старцев всё по тому же Кутузовскому проспекту. Тогда, впрочем, скорости были другие, чем теперь. Я даже успел однажды разглядеть Леонида Ильича Брежнева в профиль, сидевшего вопреки всем законам государственной безопасности рядом с водителем. Жил он, как известно, неподалеку от нас, в доме № 26, чей фасад выходил на Кутузовский, а тыльная часть смотрела на Москву-реку, еще не загроможденную небоскребами Сити, и крутой склон, на котором сейчас стоит Театр П. Н. Фоменко, выглядел вполне идиллически. Летом там даже можно было загорать, лежа с книжкой и дыша пряным разнотравьем, а зимой – кататься почти по отвесной ледяной горе. О существовании сноубордов еще никто не подозревал, а выпуск пластиковых ледянок наша легкая промышленность не успела наладить, поэтому довольствоваться приходилось старыми санками или просто куском картона. Последний был даже предпочтительнее. Забавная деталь: на непосредственную близость с местом прописки генерального секретаря ЦК КПСС указывал чисто вычищенный кусок набережной как раз в том месте, где находился брежневский дом. Всюду сугробы и лужи, а тут девственный асфальт, который посыпали песком ежедневно, на тот случай, если дорогому Леониду Ильичу вдруг взбредет в голову здесь прогуляться. Но, кажется, такая отчаянная мысль его ни разу не посетила. Старожилы рассказывают, что за все время его жизни на Кутузовском генсека видели лишь однажды в овощном. Якобы он зашел туда поинтересовался: какие есть в ассортименте орехи? Орехов, как нетрудно догадаться, не было никаких – это же Кутузовский! Но это обстоятельство Брежнева не удивило и не опечалило. Покупать он все равно ничего не собирался, а интерес у него был явно академического свойства. Стоит ли говорить, что на следующее утро все прилавки были буквально завалены отборным миндалем, фундуком, лесными и грецкими орехами. Но больше Леонид Ильич туда не приезжал.
А вот его жену Викторию Петровну, тихую сановную даму, моя мама лицезрела более или менее регулярно в парикмахерском салоне гостиницы “Украина”, когда та приходила делать укладку перед государственными визитами. Однажды накануне приезда президента Никсона ее не пустили в гостиницу. “Женщина, вам сюда не положено”, – отрезал охранник, бдительно охранявший подступы к закрытому интуристовскому объекту. Непритязательный вид жены Брежнева и ее неуверенный тон не внушали доверия. Какое-то время Виктория Петровна промаялась около вертящейся двери в надежде, что кто-нибудь ее узнает и проведет, а потом вернулась к своему персональному водителю одалживать две копейки (двушку!) позвонить из автомата мастеру. Не могла же она остаться без прически накануне президентского визита!
Меня в “Украину” пускали всегда. И в парикмахерскую, и в книжный киоск, где две старушки, похожие друг на друга, как сестры-близнецы, торговали дорогими глянцевыми альбомами про иконы и музеи Кремля на английском языке. Иногда там попадались и качественные книжки по искусству на русском. Как правило, они стоили вполне осязаемые деньги, сильно превышавшие мой карманный бюджет. Но каким-то загадочным образом родители всегда узнавали, что мне больше всего хочется, и покупали эти альбомы без всяких моих просьб и напоминаний. Много позднее, когда книжный киоск в “Украине” ликвидировали, я случайно встретил одну из старушек на улице. Она меня сразу узнала: “Ваш папа всегда к нам заходил после вас и обязательно спрашивал, какие книжки вы смотрели, а потом их тут же покупал, даже не глядя. Только просил никогда об этом вам не говорить. Но теперь-то уже, наверное, можно?”
В парикмахерской на втором этаже царил дух советской цирюльни. Иностранцы шарахались от шибающего в нос запаха “Шипра” и робели при виде суровых дам в белых халатах, которые, разумеется, не знали ни одного иностранного языка, а на русском владели немногими общеизвестными терминами, которых им хватало для карьеры в интуристовской “Украине”: “бокс”, “полубокс”, “полечка” и стрижка “молодежная”. К этому небогатому ассортименту еще прилагался вопрос: “Височки какие будем делать, прямые или косые?”
Несмотря на то, что у каждой из них была своя непростая женская судьба, стригли они более или менее одинаково, то есть плохо. Во время моих походов в парикмахерскую “Украины” меня не покидало ощущение собственного бесправия, пришибленности и какого-то заведомого уродства, на которое я сам себя обрекаю, когда сажусь к ним в кресло. Эти женщины в белых халатах умели вызвать трепет и даже чувство вины. “У тебя очень жесткий волос”, – говорили они тоном выговора, не терпящим обжалования, а после этого так тяжело вздыхали, будто за мою стрижку их ждал штраф или, может быть, даже увольнение. Единственным утешением в моих страданиях служило то, что аналогичной процедуре у меня на глазах подвергались не только бесправные иностранцы, но и великий Чапаев – актер Борис Бабочкин, и кумир шестидесятников поэт Евгений Евтушенко, и звездный фигурист Александр Горшков. Все они обретались по соседству все в той же “Украине”, только в ее жилых секциях, отведенных под высокопоставленные квартиры. Конечно, с ними парикмахерши вели себя чуть любезнее, но результат их трудов был таким же, на мой взгляд, ужасным. В какой-то момент одна из мастериц, не стерпев моей несчастной физиономии, недовольно фыркнула: “В следующий раз иди в «Чародейку»”. Я и пошел.
В брежневском доме № 26 располагался Дом пионеров, куда я записался на занятия изостудии. Нашего педагога звали Семен Семенович. Когда он хотел похвалить мои скромные художества, то говорил задумчиво и как бы даже с восхищением: “Посмотрите, как он заливает!”
– Ну, конечно, рисуют только Рембрандт и сам Семен Семенович, – обижался папа, – а Сережа у нас только “заливает”…
Почему-то он искренне считал, что у меня есть талант художника. Его убедили в этом рисунки, на которых я в пять лет, наглядевшись западных журналов, изобразил убийство президента Кеннеди. Эту страшненькую графику долгое время демонстрировали родне и гостям в качестве наглядной иллюстрации моей несомненной одаренности. Больше этих детских каракулей, конечно, всех удивлял серьезный подход к теме: президентский лимузин был четко синий, костюм Джеки – розовый, а половина головы Кеннеди закрашена красным.
– Это кровь, – деловито объяснял я собравшимся за столом, – а это пули, несущиеся из книжного склада, где сидит Освальд.
Гости теряли дар речи. Папа наслаждался произведенным эффектом. Сын – гений. Это то, чего как раз ему не хватало для полноты счастья, в придачу к его черной “Волге”, квартире на Кутузовском и обожаемой жене.
Но по мере своего взросления я все чаще ловил на себе его разочарованный и грустный взгляд. Я рос не-спортивным. Учился средне, не играл в шахматы, не плавал кролем, не мог подобрать на слух ни одну мелодию на пианино. То есть все то, что у него всегда получалось легко и даже как бы совсем без усилия. Но самое ужасное, меня совсем не интересовали машины и разные технические прибамбасы, которые папа обожал. “Ты представляешь, Сережа за все время нашей поездки в Ленинград ни разу не попросил у меня руль!” – говорил он маме почти с обидой. Ему, генеральскому сыну, с двенадцати лет профессионально водившему отцовский “паккард”, такая моя индифферентность в этих вопросах была непонятна и даже подозрительна. К тому же я все время изводил его идиотскими вопросами, которые на самом деле были не такими уж идиотскими. Например: когда, наконец, захоронят Ленина? Или: кто из большевиков персонально ответственен за расстрел царской семьи? Почему сбежала в Америку Светлана Аллилуева? Чем однопартийная система лучше многопартийной? И почему медицинские заведения 4-го Управления настолько лучше обычных районных поликлиник? Где равенство, справедливость, социальная ответственность? – вопрошал я, изображая Демулена с Кутузовского проспекта. По воспоминаниям мамы, после прогулок со мной по набережной мимо Бадаевского пивоваренного завода и обратно папа неизменно приходил с сердитым лицом и в подав-ленном настроении. Причина, конечно, была во мне. Что-то со мною было не так. Мои взгляды, интересы не только не совпадали с его собственными, но в них присутствовало что-то откровенно враждебное, опасное, непонятно откуда взявшееся, не объяснимое ничьим влиянием, никакими “вражьими” голосами. И единственным оправданием моего существования, как и плохих отметок, были мои рисунки. “Зато он рисует”, – с надеждой говорил папа. Именно в них он видел мое будущее художника-иллюстратора детских книжек. Пусть скромное, но достойное, приличное.
– Почему нет? – говорил он, протягивая мою очередную акварель маме, в надежде услышать слова одобрения и похвалы.
– Да, совсем неплохо. Кстати, говорят, иллюстраторы неплохо зарабатывают, – успокаивала она себя и его.
Это, конечно, была не та перспектива, которая подходила их единственному сыну, но все-таки это лучше, чем ошиваться по кинотеатрам с сомнительной публикой или тем более упражняться в антисоветской риторике. Впрочем, никаким художником-иллюстратором становиться я не собирался. Насмотревшись великого кино, я, конечно, хотел быть актером. До поры до времени я не спешил объявлять о своем намерении, заранее зная, что это только расстроит родителей. Для начала я поступил на актерские курсы все в том же Доме пионеров на Кутузовском, 26. После того как я выучил десяток скороговорок, меня даже утвердили на главную роль в какой-то советской пьесе про Васю Ванина или Ваню Васина. Но, походив на репетиции, я убедился, что не в состоянии запомнить даже нескольких реплик из этого текста. Память отказывала, руки-ноги не слушались, все во мне болело и восставало против советской тюзовской драматургии. С курсов я позорно сбежал, так и не дотянув до премьеры.
Тем более что дома вдруг разом стало не до ролей. Серьезно заболел папа. Резкие подскоки температуры, вечером из носа кровь. Обследования ничего толком не показали. Мама обложилась коричневыми томами Большой медицинской энциклопедии и целыми днями пыталась сама установить диагноз. Все сходилось на опасном, но не смертельном “гепатите С”. Впрочем, легче от этого никому не стало. Когда энциклопедия перестала служить источником надежды, мама пошла к профессиональной гадалке, жившей где-то в районе Киевского вокзала. В подробности этого визита меня она не посвящала, но известно только, что тогда прозвучала обнадеживающая фраза: “Из больницы ты его забере́шь”. Папа действительно вернулся на Кутузовский, но ненадолго.
В его последнюю больницу на Пироговку мы ездили на 132-м автобусе. Это было сравнительно близко от нашего дома. Путь проходил через Плющиху и клуб “Каучук”, где в лучшие времена мы все втроем смотрели “Спартака” и “Такова спортивная жизнь”. Как большому начальнику, ему полагалась отдельная палата. На белую стену он прикрепил кнопками мой рисунок зимнего катка, где я изобразил их с мамой на коньках.
– А где тут ты? – поинтересовался он.
– Ты же знаешь, я не умею кататься.
– На следующий сезон мы купим тебе коньки.
На том и расстались. Потом была реанимация. И последние слова, которые он сказал маме на нелюбимом им немецком языке: “Gott mit uns”.
– Почему по-немецки? – допытывался я потом.
– Наверное, он стеснялся посторонних, находившихся рядом в боксе. Хотел, чтобы поняла только я.
– И что ты поняла?
– Что он умирает.
Все эти дни, как водится, я торчал в кино. В том числе в кинотеатре “Призыв”. Его уже давно нет на Кутузовском. Там сейчас Театр кошек Куклачева. Тогда на экраны вышел фильм Витторио де Сика “Подсолнухи” с Софией Лорен и Марчелло Мастроянни. Фильм более чем средний, но тогда я умудрился посмотреть его раза три. Мне понравилась красивая и заунывная музыка Нино Рота. Но особенно – эпизод, где София стоит на перроне где-то, кажется, в Мытищах и пронзительно смотрит на Марчелло, идущего ей навстречу в замызганной кепочке. Потом, не выдержав его виноватых глаз, она вскакивает буквально на ходу в уходящую электричку и там уже выдает мастерскую истерику с криками и стонами, заполнив весь кадр своими слезами, разметанными волосами и запрокинутым, как у хищной птицы, острым профилем. “Ой, как женщина убивается”, – звучит сочувственный голос какой-то бабушки. София громко и отчаянно рыдает. Кто-то, кажется, протягивает ей воду. Слышится перестук колес. В окне электрички проплывают “необъятные просторы нашей Родины”. Какое это имело отношение к смерти моего отца – не знаю. Наверное, просто совпало по времени и настроению. Но знаю точно: каждый раз, когда я слышу музыку Нино Рота, во мне тоже что-то “убивается” безнадежно и навсегда.
Что было потом? Мама сдала в букинистический магазин многотомную Большую медицинскую энциклопедию. Потом продала его “Волгу”. Ей было важно, чтобы мы “сохранили уровень”. Для этого она уезжала в долгие и, как я теперь понимаю, совсем не безопасные зарубежные командировки переводчицей. Куба, Перу, Бразилия, Никарагуа, Мозамбик, Ангола. “Такие все дыры”, – устало говорила мама, но не жаловалась. Оттуда она возвращалась осунувшаяся, похудевшая, с чеками Внешпосылторга, которые бездумно тратила в “Березке”, скупая мне какие-то пальто, куртки, костюмы. Деньги довольно скоро кончались, и она уезжала снова. Больше всего ее пугало, что мы станем бедными и придется разменять Кутузовский. Но тут она ошиблась. Наша жизнь была не бедной и не богатой, а более или менее, как у всех. Некоторые из тех вещей, ни разу мною не надетые, по-прежнему висят в шкафу на Кутузовском. Квартира, конечно, давно требует ремонта. Но когда я завожу об этом речь, мама небрежно отмахивается.
– Только после меня.
И смеется.
2017Майя навсегда Майя Плисецкая
Я много писал о ней. К каждому ее юбилею, в каждый бук-лет. Сейчас эти захлебывающиеся от восторга тексты читать невозможно. Но она, как воспитанный человек, потом звонила, благодарила, окрыляла… Это ведь мы притворяемся, что нам все равно, что скажут другие. Что скажет Майя Плисецкая, мне было отнюдь не все равно. И когда она звонила из своего Мюнхена без всякого повода или дела, просто поговорить, я воспринимал ее звонки как сигналы свыше. Позывные с небес. “О, куда мне бежать от шагов моего божества!” Что-то очень похожее испытывал я, когда на экране айфона высвечивалось ее имя. Но я никуда не бежал, а радостно и мгновенно отзывался, где бы в этот момент ни находился: “Здравствуйте, Майя Михайловна!” А вот самому звонить мне было всегда мучительно неловко. Обычно она никогда не подходила к телефону, а в трубке долго звучал автоответчик с голосом Щедрина, который наговаривал свой текст на немецком языке с сильным русским акцентом, типа нас нет дома, оставьте сообщение, если есть что нам сказать. Все, что я хотел бы сказать Майе Михайловне, написано в этой статье, опубликованной в журнале “СНОБ” в год ее девяностолетия, до которого она не дожила.
Четвертый ярус
В детстве я очень боялся, что никогда не увижу ее на сцене. Все-таки ей уже было немало лет, и все ее ровесницы давно сидели по домам или вели кружки бальных танцев при домах культуры. А она продолжала танцевать Одетту-Одиллию, Кармен и другие заглавные балетные партии. Случалось это, правда, довольно редко. Бо́льшую часть сезона она проводила где-то далеко, на гастролях, за границей, откуда то и дело доносились победные фанфары, и программа “Время” подробно рапортовала об очередной победе советского балета и его главной звезды, народной артистки СССР, лауреата Ленинской премии и т. д. Отсюда и стойкое ощущение, что она не здесь, не с нами. Что в любой момент может улететь, исчезнуть, истаять в воздухе, как виллиса из третьего акта “Жизели”. Ведь танцевала же она Мирту, повелительницу виллис. И, говорят, гениально. Только никто этого уже не помнил, кроме старичков балетоманов, – так давно это было. В общем, надо было ловить момент.
Я ходил мимо белых простыней театральных афиш, расклеенных по Кутузовскому проспекту, вчитывался в списки действующих лиц и исполнителей (тогда за месяц вывешивали все балетные и оперные составы). Как правило, не находил ее имени и со спокойной душой отправлялся в школу, утешая себя, что наша встреча просто откладывается на неопределенное время.
Но однажды произошло то, на что я уже перестал надеяться: афиша извещала, что 6 апреля 1972 года состоится спектакль “Анна Каренина”. В главной роли – она! Первая мысль – попрошу денег у мамы и сам поеду к кассам КДС и Большого.
Как-то я уже стоял в длинной очереди, извивавшейся по подземному переходу к станции метро “Библиотека им. Ленина”. Вполне себе была приличная и, я бы даже сказал, одухотворенная очередь. Не за паласами стояли пять часов – за билетами в Большой. Правда, когда наконец меня допустили к заветному окошку, выяснилось, что большинство названий из списка вычеркнуты. Осталась одна только “Иоланта”. “Но это же опера!” – взвыл я. “А на балет билетов нет, – срифмовала кассирша. – Кончились! Приходи в другой раз”. Так я и ушел с ненужными мне билетами на “Иоланту” и чувством, что хоть ночь напролет стой у этих дверей, никогда ничего тебе тут не обломится.
В общем, теперь я понимал, что ехать туда бессмысленно. Знакомых в театральном мире у нас с мамой не было. Оставался один-единственный шанс – пострелять лишний билетик перед самим спектаклем. Это потом я овладел этим нехитрым искусством: посмотреть весело, улыбнуться дружелюбно и, придав голосу самый вкрадчивый и нежный обертон, спросить: “У вас не будет лишнего билета?” Но в тринадцать лет я стоял около обезвоженного бронзового фонтана в своей куртке на вырост, дубина дубиной, и смотрел, как мама носится по пыльному скверу, приставая к незнакомым людям с просьбой о билете на “Анну Каренину”. Теперь я понимаю, что в этой сцене было что-то от Достоевского: тень бездомной Катерины Ивановны Мармеладовой витала над нами, пробуждая то надежду, то отчаянье, то вызывая истерический хохот. Колонны Большого театра еле удерживали неистовый людской поток, рвавшийся к парадным дверям. Тогда еще не было металлоискателей и такого количества полиции, как сейчас. Стояли одни бывалые капельдинерши с программками. Но пройти мимо них незамеченным было невозможно.
В какой-то момент рядом с нами как будто из воздуха материализовался некий господин в котелке и в длинном пальто с барашковым воротником-шалькой.
– У вас есть билет? – спросила мама и вцепилась в его рукав.
– Нет, но я могу вас провести в театр, – сказал господин, понизив голос до шепота.
– Не меня, сына, сына! – не веря своему счастью, взмолилась мать.
– Давайте сына.
– Сколько?
– Десять.
Мама достала розовую десятку с Лениным и отдала господину.
– Иди с ним, – скомандовала она.
Я пошел. Впереди маячило серое пальто и импортный котелок. Людские волны то прибивали меня к нему, и тогда я слышал запах его сладкого одеколона, то разлучали, и мне казалось, что он сейчас исчезнет с нашей десяткой навсегда.
Господин оглянулся на меня только один раз, когда мы подходили к барьеру, отделявшему счастливых обладателей билетов от бушующего безбилетного моря. Невидимый кивок седой капельдинерше. Колючий взгляд в ответ. Она сделала вид, что меня не видит.
– А теперь марш на четвертый ярус, – прошептал одними губами господин и исчез так же, как появился.
Я буквально взлетел на последний ярус. Но там меня поджидало дикое разочарование. Краешек сцены, открывавшийся моему биноклю, был не больше спичечного коробка. Мамина десятка терзала меня: вот так выбросить деньги, чтобы в конце концов ничего не увидеть! Нет, с этим примириться было невозможно. Я спустился в бельэтаж в надежде пристроиться в одну из лож. “Ваш билет?” – спрашивали меня служительницы с ключом наготове. Все двери были наглухо закрыты. Звучал уже третий звонок, и опоздавшие зрители пробирались на свои законные места, а я все тыркался в запертые двери. Потом меня долго преследовал один и тот же сон: я в пустом театре, звучит увертюра, а я никак не могу попасть в зал, где сейчас должен начаться главный спектакль в моей жизни. И всё, что мне дано увидеть, – это только гаснущие огни люстры в какой-то полуоткрытой створке немедленно захлопнувшейся двери.
Я поднялся на свой четвертый ярус. Там было душно и тесно. Я бросил на пол тряпочную сумку, которая была со мной. А когда совсем потушили свет, встал на нее на колени, чтобы не испачкать свои единственные выходные брюки. Теперь я мог видеть не только оркестровую яму и край сцены, но и кусок золотого занавеса, подсвеченного огнями рампы. Потом все погрузилось в кромешную тьму, под музыку занавес торжественно двинулся в разные стороны, открывая вид на пустоватую сцену с падающим бутафорским снегом, железнодорожными фонарями и группой артистов, которые что-то старательно выделывали ногами, изображая светское общение на вокзальном перроне. А потом я увидел ее.
Огонь на площади
Когда спустя тридцать четыре года в парижском кафе De La Paix я рассказывал Майе Михайловне Плисецкой о том, при каких обстоятельствах я впервые увидел ее, она почему-то совсем не растрогалась и не умилилась. Мне даже показалось, что мой рассказ ее немного расстроил. Полагаю, что за свою жизнь она слышала что-то подобное не один раз. Все эти чужие инфантильные переживания оставляли ее в лучшем случае равнодушной. В худшем – раздражали. То, что я так долго и любовно описывал, принадлежало ее давнему, глубоко спрятанному и уже почти забытому прошлому. А прошлое ее совсем не интересовало. Вот ни в каком виде! Она никогда им не жила, не дорожила и, похоже, не очень-то его любила.
Как все звезды, вышедшие на пенсию, она отдала ему дань, написав свою страстную и пристрастную исповедь “Я, Майя Плисецкая”, а спустя тринадцать лет даже присовокупила к нему что-то вроде обличительного постскриптума “Тридцать лет спустя”. Но это было вынужденное занятие от невозможности чем-то еще занять себя, идущее от этой ее извечной жажды справедливости и чувства собственной правоты, которую уже никто не пытался опровергнуть, но и не спешил подтвердить.
Всей правды она сказать не могла, но и та, что была выдана в писательском запале, задела многих. Обиделась родня, которую она не пощадила, особенно девяностолетнюю тетку Суламифь Мессерер. Обиделись бывшие товарки по Большому театру за небрежный, насмешливый тон. Обиделось семейство Катанянов за отсутствие ожидаемого панегирика в адрес Лили Брик. Точнее других резюмировала балерина Наталья Макарова, поклонница и почитательница М.М.: “Ей не надо было писать эту книгу. Понимаете, до этой книги мы думали, что она – богиня. А теперь знаем, что она такая же, как и мы”.
И все-таки нет! Другая. Непредсказуемая, изменчивая, пристрастная, заряжающая всех вокруг своей неистребимой энергией. Где бы она ни появлялась, все взгляды прикованы к ней. Что бы ни говорила, всегда воцарялась какая-то предобморочная тишина, будто это не балерина, а пифия пророчествует и колдует прямо перед телекамерами.
Сама М.М. относилась к любым проявлениям массового психоза без всякого трепета. Мол, ну что опять от меня все хотят? “Мы, балетные, чуть лучше цирковых” (ее фраза!). В смысле, не ждите от нее каких-то философских прозрений и открытий. Любые восторги в свой адрес мгновенно гасила иронией или находчивой шуткой. Из всех слышанных комплиментов чаще всего цитировала слова академика П. Капицы, сказавшего ей после “Кармен-сюиты”: “Майя, таких женщин, как вы, в Средние века сжигали на площади”.
Ей нравилось играть с огнем. Она сама была огонь. И ее непокорные кудри, полыхавшие в молодые годы рыжим костром, способны были опалить любую самую скучную классику, поджечь самый рутинный спектакль, озарить самую унылую жизнь. Может быть, поэтому ее любили так, как не любили никого и никогда из наших балетных звезд. Она была нашей свободой, гордостью, enfant terrible, даже когда стала пенсионеркой всесоюзного значения.
До последнего часа в ней оставалось что-то неисправимо девчоночье, делавшее смешными и прелестными ее кокетливые эскапады, ее гримасы, ее шутки на грани фола. И даже в том, как она ела, ловко помогая себе пальцами, было что-то очень трогательное и милое.
Ну да, конечно, до нее была Галина Сергеевна Уланова. Знаменитая молчальница, балерина безмолвных пауз и выстраданных поз, окруженная беспримерным поклонением и почитанием. Первая из советских балерин, познавшая на себе “бедствие всеобщего обожания” (Б. Ахмадулина). Но там всё другое: загробная тишина, молитвенно сложенные руки, взгляд, или устремленный в небо, или опущенный долу, как на портретах средневековых мадонн, с которых она копировала свою Джульетту.
А Майя – это всегда взгляд в упор. Глаза в глаза, как в “Кармен-сюите”, когда кажется, что она сейчас прожжет белое трико тореро, танцующего перед ней свой любовный монолог.
Видела всех насквозь. Даже сама этого дара немного пугалась. “Ну, зачем Z мне врет и думает, что я этого не понимаю?” – говорила она об одной нашей общей знакомой.
Обмануть ее было невозможно, юлить перед ней – бессмысленно. И даже когда делала вид, что не понимает – возраст, проблемы со слухом, нежелание обижать, – все видела, слышала, обо всем имела свое мнение. И не слишком церемонилась, чтобы высказать его вслух.
Финальный жест из “Болеро” – нате вам, берите, всей пятерней вперед прямо в зал – это тоже Плисецкая, не привыкшая ничего скрывать, никого бояться. А сама больше всего на свете любила дарить, одаривать, отдавать. В балетной истории навсегда останется эпизод, когда она пришла за кулисы к Сильви Гиллем, тогда еще юной, нескладной, но безоговорочно гениальной. Вынула из ушей бриллиантовые серьги и отдала их ошеломленной француженке.
– Это бижу? – пролепетала Сильви, не сразу сообразив, что держит в руках увесистые шесть каратов.
– Бижу, бижу… Носите на здоровье, – улыбнулась Майя.
На самом деле у этих бриллиантов был серьезный провенанс. Их получила на свою свадьбу с Осей Бриком в качестве подарка от свекра юная Лиля Каган. Не носила никогда, хранила про черный день. Бог миловал, день этот Лилю, похоже, при всех разнообразных ужасах нашей жизни миновал, а вот у Майи был совершенно отчаянный период, когда ее не выпускали за границу, день и ночь под ее окнами дежурила гэбэшная машина, и настроение было такое, что прям хоть сейчас в петлю. В один из таких дней Лиля Юрьевна достала из потертого бархатного футляра заветные брюлики и подарила их Майе с тем же напутствием: “Носите на здоровье”.
– Если честно, я дорогие украшения никогда не любила, – признавалась она мне много позже. – Во-первых, это вечные нервы. Положила, спрятала, перепрятала. Куда? Забыла. А уже пора на сцену. Возвращаешься – кольцо исчезло. Где кольцо? Нет кольца. Это ж театр! Какие замки ни ставь, каких охранников ни заводи, а если кому-то очень надо, все равно упрут. Во-вторых, меня это как-то психологически угнетало. Вот сидишь на каком-нибудь приеме и думаешь только о том, что сейчас на тебе надета половина квартиры, или новая машина, или какая-нибудь крыша для дачи, которая протекает и ее пора ремонтировать. И как-то от этих мыслей не по себе становится. Вот Галя Вишневская разные бриллиантовые люстры в ушах обожала. И носила с видимым удовольствием, насверкалась ими всласть. А мне недавно Щедрин купил самые простые пластиковые часы с черным циферблатом и большими белыми цифрами, чтобы глаза не ломать, и счастливее меня нет никого.
Вкусы, надо сказать, у нее были самые демократические. Могла гулять по Парижу с дешевой пластиковой сумкой Tati (“А почему нет? Я там кучу всего полезного покупала и себе, и в дом”). Могла бесстрашно признаться, что набрала лишние два килограмма (“Друзья из Испании прислали нам целую ножищу хамона. Просто не было сил оторваться! Так вкусно!”). Из всего российского глянца предпочитала “Gala Биография”, которую регулярно покупала в Шереметьеве (“Очень познавательный журнал. Мы там с Родионом Константиновичем столько про себя нового узнали!”).
Мне нравилось в ней это отсутствие всякой претензии. Она, которая как никто умела принимать самые красивые позы на сцене, в жизни их старательно избегала. Точно так же она легко обходилась без нарядов haute couture, парадных лимузинов, дорогих интерьеров – всего того, что ей полагалось по праву планетарной звезды и дивы. Единственная роскошь, в которой Майя не могла себе отказать, – это духи. Вначале любила Bandit Piguet и долго хранила им верность. Потом, когда духи перекупили американцы и, как ей показалось, изменили классическую рецептуру, перешла на Fracas той же марки. Пронзительный, тревожащий, драматичный аромат с душной нотой туберозы. Я отчетливо слышал его, когда она приглашала меня на свои чествования в разные посольства, где ей вручали очередные правительственные ордена. Можно было не видеть, где она находится, но нельзя было не уловить аромат Fracas. Она была где-то близко, совсем рядом. По заведенному ритуалу все приглашенные, покорно внимавшие речам послов и других начальников, напоминали мне тот самый кордебалет из первого акта “Анны Карениной”, который предварял своим танцем выход главной героини на заснеженный московский перрон. Собственно, мы и были этим самым кордебалетом, уже не слишком молодым, но приодевшимся и приосанившимся по случаю праздника нашей Королевы. А она, как всегда, была самой молодой и красивой.
В Большом
В начале восьмидесятых у меня с Плисецкой была еще одна встреча, о которой мы никогда с ней не вспоминали. Для нее это был слишком незначительный эпизод, но для меня он значил много. К этому времени я уже успел закончить ГИТИС, писал про театр, где-то печатался. Моя подруга Катя Белова, сотрудничавшая с журналом “Радио и ТВ”, предложила подготовить репортаж со съемок балета “Чайка” в Большом театре.
– Заодно возьмешь у Майи интервью. Ты же хочешь с ней познакомиться?
Я согласился. Время было мутное, странное, неопределенное. Никто не верил, что эти старчество и ветхость, которые нами правили, когда-нибудь кончатся. Кто не исхитрился уехать по израильской визе или фиктивному браку, те пили по-черному, кляня на своих кухнях советскую власть и престарелых начальников. Лишь изредка всеобщую апатию и мертвенную скуку взбадривали новости на культурном фронте: то очередной скандал в Театре на Таганке, то бегство премьера Большого театра Александра Годунова, то санкционированные отъезды писателя Василия Аксенова и дирижера Кирилла Кондрашина, то разгром книги балетного критика Вадима Гаевского “Дивертисмент”. Но все это были новости что называется “для узкого круга”. А так – озимые взошли, урожай убрали, план перевыполнили, погода на завтра… В дурной бесконечности одних и тех же новостей, озвученных официальными голосами Игоря Кириллова и Веры Шебеко, главных дикторов программы “Время”, было что-то даже завораживающее, иллюзорное и изнурительное. “Жизнь есть сон”. Почти по Кальдерону!
При этом повсюду бушевали страсти, которые спустя семь лет вырвутся наружу и снесут всю эту помпезную, но шаткую и гнилую конструкцию. Главным сюжетом в Большом была, конечно же, война, которую с переменным успехом вели его знаменитые солисты против своего худрука Юрия Григоровича. Если не вдаваться в тягостные подробности, то суть конфликта заключалась в следующем: Григорович, как прирожденный советский диктатор, хотел безоговорочного подчинения всех и вся. Никаких других хореографов, никаких рискованных экспериментов, никаких импровизаций и отступлений от заданного им канона. В середине 1970-х он решительно делает ставку на молодых исполнителей, оттеснив от главных ролей своих признанных и постаревших звезд. Звезды, как им и полагается, взбунтовались и пошли ходить по кабинетам Старой площади, благо у каждого были свои высокие покровители. Конфликт удалось на какое-то время замять: кому-то бросив кость в виде обещания собственной постановки, кому-то разрешив индивидуальные гастроли на Западе, а от кого-то откупившись новой жилплощадью. Разные способы были утихомирить обиды и творческую неудовлетворенность. Но было понятно, что все это ненадолго и впереди всех ждут новые битвы и бои.
Плисецкая была в самой гуще этих сражений. Григоровича ненавидела люто. Даже имени его спокойно произносить не могла. Список его преступлений был нескончаем, но ничего конкретного припомнить сейчас не могу. Думаю, больше всего ее терзало то, что именно она когда-то была главным инициатором перехода Григоровича из Кировского балета в Большой. Своими руками она привела его к власти, резонно рассчитав, что в качестве благодарности получит все заглавные партии в его балетах. И поначалу так все и было: Хозяйка Медной Горы в “Каменном цветке”, Мехменэ Бану в “Легенде о любви”, Аврора в новой версии “Спящей красавицы”… Ершистый ленинградец до поры до времени честно платил по счетам. Но справедливости ради стоит признать, Плисецкая не была его балериной. Для пластического языка Григоровича требовался другой женский тип. Ему не нужна была prima-assoluta с апломбом, характером и харизмой. Ему больше подходила самоотверженная техничка, готовая разодрать себя на части, чтобы угодить ему, выполняя все головоломные комбинации. Такой была Нина Тимофеева, ставшая эталонной исполнительницей всех главных женских партий в его спектаклях. К тому же балеты Григоровича в большей степени были ориентированы на мужской состав труппы. По своей природе они были предельно маскулинны, и женщине там отводилась вспомогательная, служебная роль. А потом появилась Наталья Бессмертнова – балерина с иконописным лицом послушницы, железной волей и стальным носком. Она завладеет вакантным местом жены и музы.
С последним обстоятельством Плисецкой, похоже, смириться было труднее всего. Особенно когда на премьеру новой редакции “Лебединого озера” – главного русского балета, который она танцевала больше двадцати лет подряд, – поставили не ее, а Бессмертнову. И хотя начальство спектакль не примет, обвинив Григоровича в упадничестве и повелев переделать финал, это был первый сигнал, что расстановка сил изменилась и непререкаемая позиция Майи как абсолютной примы и хозяйки отныне недействительна.
За ней оставались ее балеты, ее мировое имя, ее престижная гримерка рядом со сценой. Ее нельзя было выгнать из Большого: позолоченная медаль с профилем Ленина, которую она нацепляла, когда надо было идти к начальству, и звание народной СССР еще какое-то время будут служить ей защитой. Но она знала, как легко соорудить из всего этого почетную ветеранскую резервацию, где лишь изредка – не чаще одного-двух раз в месяц – ей бы позволяли выходить на сцену, где ветшали бы ее спектакли, на которые никогда не звали бы западных продюсеров и директоров фестивалей, куда под страхом увольнения не пускали бы молодых перспективных артистов. Расчет был один: рано или поздно она сама задохнется в душном, спертом воздухе такой резервации, сама уберется из театра под смешки недругов и шепот штатных балетоведов: “Плисецкая кончилась”.
Она сопротивлялась. Билась, скандалила. Пыталась спастись то в хореографии Ролана Пети, то в свободном танце Мориса Бежара. Кидалась на защиту балетов, которые ей посвящал Родион Щедрин, как будто речь шла о детях, которых у них никогда не было. Эпопею с “Анной Карениной” я мог наблюдать в бинокль с четвертого яруса, история “Чайки” разворачивалась у меня на глазах.
На съемках «Чайки»
В феврале 1981 года по распоряжению самого С. А. Лапина, всесильного председателя Гостелерадио, было принято решение сделать телевизионную версию нового балета и показать его в прайм-тайм, хотя, кажется, таких слов тогда не знали. Можно лишь догадываться, чего стоило М.М. выбить это разрешение. В ход пошло все: и имя Чехова, и авторитет Щедрина в качестве председателя Союза композиторов России, и ее собственная юбилейная дата. В результате к Большому театру подогнали автобус, напичканный аппаратурой, в зале расставили камеры, а в центре партера на три съемочных дня воцарилась серьезная дама по фамилии Мачерет. Мне ее представили как опытного режиссера. Хотя, кажется, достаточно было одного взгляда на ее крашенную хной шевелюру и скучное выражение лица, чтобы сразу догадаться: “Чайка” с этой дамой никуда не полетит. Но это было понятно мне, притаившемуся в десятом ряду, а вот что видела Плисецкая на сцене, недовольно жмурившая глаза от направленных на нее софитов, не знаю. Может, как всегда, понадеялась, что ее энергия и страсть пересилят любую серость и мрак? Что музыка “Чайки” заставит воспарить даже самых безнадежных? Что ее руки, ее божественные руки удержат хрупкий спектакль от бездны забвения, куда кануло уже столько ее гениальных балетов?
А может, как всегда, ей было просто некогда вглядываться в чьи-то физиономии, просчитывать чьи-то козни, ждать удара в спину. Уже много позднее я понял, что, несмотря на все разочарования и обиды, Майя была доверчивым и даже в чем-то очень наивным человеком. Пусть каждый занимается своим делом, рассудила она. Она не будет диктовать, давить, лезть, указывать, как надо. Ей бы сейчас Нину Заречную станцевать и не сбиться.
Осознание надвигающейся катастрофы пришло, когда она села у монитора, чтобы посмотреть отснятый материал. Я видел только ее спину. Вначале – как у первоклассницы в предвкушении первого сентября. Потом спина стала испуганно-недоуменной, словно ее окатили ледяной водой. Потом – гневной, готовой к немедленному резкому отпору. И наконец – сломленной, сдавшейся, несчастной.
“Это ужасно!” – скажет Майя и бессильно уронит голову на сложенные локти. Какое-то время все испуганно молчали, хотя на экране кто-то продолжал мельтешить и прыгать.
– Да ладно вам, Майя Михайловна, не так уж там все и плохо, – попытается вступиться за телевизионщиков исполнитель роли Тригорина Борис Ефимов. – Они там подмонтируют, подрежут, и будет красота.
Майя подняла голову, обвела всех присутствующих невидящим взглядом больных, воспаленных глаз и медленно произнесла: “Нет, Боря, красоты тут уже не будет”. Надо было видеть, как она молча поднялась по служебному мостику, соединявшему зал со сценой, как запахнулась в черный карденовский халат, как пересекла сцену с видом трагической героини, провожаемая нашими испуганными взглядами. При чем тут Чехов? Федра, Медея, Антигона – вот ее репертуар, вот подлинный масштаб. Только сейчас я начинаю понимать, как она мучилась от несоответствия, несообразности собственного дара и той реальности, которая предлагалась ей в качестве ежедневных обстоятельств, представлений о том, как надо и должно быть, и той картинки, которую увидела на мутном экране монитора.
Потом действительно всё как-то смонтировали, затемнили, где надо, подложили музыку. Получилось прилично. Сама Майя в красивом платье выступила перед началом, объяснив, почему она выбрала “Чайку” для балета. Откуда взялась эта странная, размытая пластика, которую она придумала. Оказалось, что всё из детства, из военной юности. Это память о тех беззвучных диалогах, которые велись через стекло вагонов на бесконечных перронах и полустанках. Когда слова не значили ничего, но в запасе оставались два-три заветных жеста, улыбки, взгляда, способных выразить и радость, и горе, и надежду. Ими тогда и обходились.
И Майя их тут же показала. Эту забытую азбуку разлук, встреч, прощаний, которую помнила только она одна.
…Незадолго до окончания съемок я все-таки набрался смелости и подошел к ней за кулисами с просьбой об интервью. Она устало отмахнулась. Не сейчас!
– А когда, Майя Михайловна? Мне же материал в редакцию надо сдавать.
– А мне кости пора сдавать, – отрезала она в своей неизменной “гомерической” манере.
С этим аргументом спорить было бессмысленно. Репортаж про съемки “Чайки” ушел в печать без интервью с Плисецкой.
Аудиенции у королевы
Мне так и не удалось взять у нее интервью. Даже когда спустя двадцать лет мы познакомились и подружились. Такая мысль мне не приходила в голову: прийти к Плисецкой с диктофоном, сесть напротив и начать задавать вопросы про жизнь и творчество… Сама мизансцена казалась нам обоим какой-то фальшивой и глупой. Мы просто разговаривали без оглядки на будущую книгу или непременную публикацию. Ни одного ее слова без ее согласия я бы все равно не стал печатать. И она это знала. Поэтому общаться было легко. Мы сидели у них в гостиной на Тверской улице среди ваз и банок с увядающими букетами и хохотали, как школьники на перемене. Иногда к нам заглядывал недовольный Щедрин, герр учитель, и мы оба испуганно замолкали. Если он был особенно не в духе, мог даже изречь что-то вроде: “На сегодня аудиенция у Майи закончена”.
В том смысле, что мне пора валить. И тогда, давясь от смеха, мы шли прощаться в полутемную прихожую к лифту, где еще долго продолжали говорить задушенными голосами заговорщиков. Вообще музыка Щедрина и все, что с ней связано, были главным содержанием жизни этой пары. Все остальное просто не заслуживало внимания или шло каким-то беглым постскриптумом к его концертам, сочинениям, выступлениям, премьерам.
Где-то на сорок пятом году их совместной жизни он наконец ощутил себя полновластным хозяином и господином и наслаждался этим статусом, как кронпринц, получивший свою долгожданную корону. На моей памяти Майя никогда ему не возражала. При всей своей природной строптивости и, как считалось, невыносимом характере она была на редкость послушной, кроткой женой. По крайней мере, в то последнее десятилетие, которое я застал. Другое дело, что по своему легкомыслию и простодушию она все время попадала в какие-то несуразные истории, которые Щедрину приходилось разводить, решать, улаживать. Она была классической trouble woman. То она не глядя подмахивала свою подпись на контракте, из-за которого потом несколько лет приходилось судиться. То ее кидали очередные доброхоты-спонсоры, и Щедрин судорожно собирал деньги, чтобы расплатиться с кредиторами. А то на радость бульварным СМИ вдруг объявлялась некая лжедочь из Израиля. С ней тоже надо будет судиться, тряся разными экспертизами и справками, что Плисецкая никак не может быть ее матерью. Все это Щедрину приходилось брать на себя, доказывать, спорить, нервничать, срывать голос, нанимать адвокатов. Не говоря уже о практических и финансовых заботах, связанных с их непростой жизнью на три дома и фактически на три страны.
Мюнхен стал их главным прибежищем. С его педантизмом, страстью к порядку и четкому расписанию, этот город подходил Щедрину идеально. А Майе? Однажды я спросил ее, почему из всех городов они выбрали именно Мюнхен.
– Там лучшее в мире нотное издательство, – с нескрываемой гордостью ответила она.
– Что ж получается, вы там живете из-за… нот?!
– Но это так важно для Родиона Константиновича.
Конечно, ей самой больше бы подошел Париж. Она его обожала. Несколько раз ее звонки заставали меня во французской столице, и, когда я говорил, где нахожусь, она, которая никогда никому не завидовала, вдруг начинала звонко вибрировать: “Как же это красиво! Вы в Париже!”
На rue de Seville
Париж нас в свое время и сблизил. Тогда я работал в журнале ELLE и в честь ее юбилея решил, что надо обязательно осуществить модную фотосессию: Плисецкая как воплощение классического гламура. Особого энтузиазма у начальства эта идея не вызвала. Разумеется, смущал солидный возраст модели, который противоречил всем законам маркетинга и российским представлениям о том, что возможно в глянце. Никакие аргументы про мировое имя и национальную гордость не действовали. То есть “нет” впрямую никто не говорил, но и “да” – тоже. По счастью, нашелся еще один энтузиаст “вечных ценностей” и давний поклонник Майи Михайловны, тогдашний вице-президент Альфа-банка Александр Гафин, который взялся профинансировать эту затею. “От всего Советского Союза только два имени, может, и осталось: Юрий Гагарин и Майя Плисецкая, – бушевал Саша, – как же можно пропустить такую дату!”
В общем, деньги были. Дальше встал вопрос: а кто фотограф? Хотелось, чтобы это имя можно было поставить в один ряд с легендарными Ричардом Аведоном или Сесилем Битоном, которые снимали Плисецкую в эпоху ее славы. Сошлись на Беттине Реймс, прославленном фотографе 1970–1980-х годов, чьей специализацией долгое время были женщины с прошлым. Впрочем, в ее портфолио имеются и серьезные государственные мужи, и транссексуалы Булонского леса, и проститутки Пляс Пигаль, и тайные притоны Шанхая, и священные места Палестины. Сама Плисецкая никаких условий не выставляла, о райдере, которым так любят хвастать звезды нашего шоу-бизнеса, слыхом не слыхивала. Попросила только взять что-нибудь в бутике своего старого друга Пьера Кардена. Стилистка Мартин де Ментон, конечно, слегка поморщилась: ну при чем тут Карден? Но спорить не стала. Причуды звезды – закон.
Мы приехали в студию на Рю де Севилль в квартале Маре. Какие-то переходы, тупички, маленькие комнатки. У Беттины – бесконечные помощники, ассистенты, агенты. Она – звезда. Один из самых высокооплачиваемых фотографов в мире. Она умеет себя подать. Выучка и осанка бывшей манекенщицы, свитер грубой вязки прямо на голое тело или рок-н-ролльная майка, кожаные брюки байкерши. При виде нас она картинно распахивает руки и громко восклицает: “O, Maya!” Теперь я знаю, что у нее такая манера приветствовать каждую модель на пороге своей студии.
Майя отзывается на эти приветствия довольно прохладно, давая сразу понять, что ее экстатическими вскриками не возьмешь. Деловито интересуется, где гримировальный стол, и, кажется, даже не замечает приготовленного для нее огромного букета бледно-зеленых роз. Беттина переключается на Щедрина.
Нет, нет, никого постороннего не должно быть на съемке. Это таинство, это обряд. “Но я муж этой женщины уже сорок восемь лет”, – притворно возмущается Щедрин, которому на самом деле совсем не улыбается проторчать здесь восемь часов подряд.
– Да ладно, иди лучше погуляй, – примирительно говорит Майя. – Чего здесь сидеть!
Щедрин удаляется, заручившись моим обещанием, что вечером я верну Майю Михайловну в целости и сохранности.
Мы остаемся втроем: она, гримерша по имени Бекки Пудр и я – должен же был им кто-то переводить. Приглядываюсь к Бекки. Хорошенькая, вертлявая. С гривой крашеных волос, рассыпанных по плечам. Почему-то босиком. Пятки розовые, как у младенца. А профиль мужской. С тяжелым боксерским подбородком. Так это же мужик и есть! Типичный транс, к тому же, как выясняется, еще и страстный балетоман.
Майя смотрит на себя в зеркало хмуро. Про свое лицо она знает все. И могла бы сама быстренько загримироваться (что, кстати, предлагала, пока мы ехали в такси), но покорно подчиняется Бекки. Та порхает вокруг нее. Они понимают друг друга без перевода. Стоит Майе приподнять строгую бровь, как Бекки бросается ее подрисовывать и удлинять. А если та подожмет недовольно губы, гримерша тут же предлагает на выбор с десяток разных тюбиков с помадой. И все так четко, слаженно, точно, будто всю жизнь только и делает, что гримирует народную артистку Плисецкую.
Дальше – примерка.
– Что же у вас все такое мрачное? – раздраженно спрашивает она, перебирая платья, висящие на кронштейне. Тут и Сhristian Dior, и Chanel, и Louis Vuitton, и Jean-Paul Gaultier. Все хиты грядущей осени. Вместе с Мартин мы на два голоса пытаемся объяснить, что в нынешнем сезоне основные цвета самые упаднические. На их фоне яркими пятнами выделялись только платья от Cardin. Плисецкая рассеянно погладила их, как старых боевых подруг, но для съемки выбрала другое – бушлат от Dior, кепку Hermes, свитер Miu Miu. На винтажные драгоценности даже не взглянула. Но в конце концов дала надеть на себя бриллиантовое ожерелье от Van Cleef&Arpels.
Спустились на первый этаж в студию к Беттине. Целая процессия – Мартин, Майя, Бекки, парикмахер. Там уже все готово к съемке. Таинственная полутьма озвучена трагическим голосом Марии Каллас. За месяц до фотосессии я написал Беттине, что Плисецкая – это Каллас в балете. И вот теперь оперная дива надрывается во всех динамиках, чтобы создать нужную атмосферу.
– А можно убрать это верещание? – с порога спрашивает Майя.
Каллас тут же вырубили.
– Может, она хочет рок или джаз? – волнуется Беттина. Она уже поняла, что модель не из легких.
– Нет, лучше Малера. Адажиетто из пятой симфонии, – советую я. – Она когда-то танцевала под эту музыку.
Пока выверяли и корректировали свет, нашли Малера.
Плисецкая не умеет позировать, то есть сидеть на одном месте, намертво вперившись в объектив фотокамеры. Она живет, движется. Ей надо много пространства. Ее руки, не находя себе места, сами подчиняются музыке. Ей абсолютно все равно, какие ракурсы у нее получаются более выигрышными, какие – менее. Похоже, ей нет дела и до невольных зрителей, обступивших пятачок, залитый ярким студийным светом, усиленным экранами из фольги.
Было даже что-то мистическое в нестерпимом серебряном сиянии и этой странно, неправдоподобно помолодевшей женщине, которая танцевала одними руками. Ни одной минуты покоя, ни одной неподвижной секунды. Жесты как оборванные лепестки или кружащие листья. Один, другой, третий… Я же помню, как она танцевала все это в балете “Гибель Розы” с Александром Годуновым. Как билась и затихала ее La Rose Malade, превратившись в невесомый розовый лоскут. И как ее руки метались, ощупывая пустоту в предсмертном усилии последних объятий. И звук, звук мертвой тишины, когда было слышно только, как липкие от пота тела бьются друг о друга в безмолвной схватке, после которой наступит конец света. Собственно, он и наступал, когда закрывался золотой занавес с советскими гербами и обалдевший зал еще долго не мог прийти в себя, не веря, что все это ему привиделось не во сне. Ни одна самая тонкая фотография, ни одна кинопленка в мире не смогут этого передать. И даже сейчас, в полутьме парижской фотостудии, где не было ни сцены, ни оркестра, а вместо публики – лишь группа случайных зрителей, Плисецкая продолжала этот свой танец-судьбу, танец-ворожбу, танец-гипноз. Она станцевала для нас и “Розу”, и своего неумирающего “Лебедя”, и бежаровскую “Аве Майя”, и что-то, чему нет названия. И лишь короткие вспышки блицев да яростные вскрики Беттины время от времени возвращали нас к реальности: “Maya, you’re great”, “Maya, you’re queen!”, “Maya, you’re beautiful”…
Рядом со мной тихо стонала Бекки: “Нет, я этого не переживу. Это нереально. Она великая, просто великая!” А стилистка Мартин в какой-то момент даже расплакалась и, чтобы скрыть слезы, незаметно выскользнула из студии.
Снимали часа три с коротким перерывом на ланч. Под конец лицо Беттины стало пепельного цвета, а на ее майке с затертой надписью Rolling Stones выступили темные круги. Она впивалась в глазок фотокамеры так, будто перед ней проплывал синий линкольн со смертельно раненным Кеннеди или падали башни Trade Center. В ее стонах и криках была какая-то ненужная экзальтация, которая Плисецкую раздражала. Она не любила нервных женщин с громкими, командирскими голосами. Не любила противоречивых указаний. Не любила, когда в сотый раз спрашивают: удобно ли ей, хорошо ли ей?
– Ну конечно, нехорошо и неудобно, – цедила она сквозь зубы. – Хватит задавать вопросы, давайте работать.
А когда все закончилось, она, смыв грим и переодевшись в свой черный плащик Zara, достала из сумочки несколько старых фото: Одетта, Одиллия, Кармен.
– Как вы думаете, подарить им на память?
– Они будут счастливы.
Аккуратным почерком отличницы она поставила на каждом снимке свой автограф специально для таких случаев припасенным серебряным фломастером и раздала фотографии всем участникам съемки. Больше всего переживала Бекки. Пока Плисецкая подписывала фото, она ходила кругами по комнате и жестами показывала на себя.
– Можно только, чтобы там было два слова, только два: “To Bekky”.
Да, можно, все можно… Майя даже приписала по-английски: “With Love”. От избытка чувств Бекки целует подаренное фото, а потом опускается на колено и, как предписывает балетный ритуал, едва касаясь, подносит руку Плисецкой к своим губам, сопровождая поцелуй долгим страстным взглядом.
Мы вышли на предвечернюю Рю де Севиль с нагруженными сумками. Накрапывал парижский дождик. Заказанное такси поджидало нас на соседней улице, где можно было припарковаться. Пришлось довольно долго скользить по брусчатке. Майя ее побаивалась. Один раз в Риме каблук застрял между булыжниками – все закончилось для нее тяжелым переломом и двумя операциями. Поэтому мы идем очень осторожно. Наверное, со стороны наш променад похож на какой-то медленный, церемонный танец, что-то вроде гавота. Уже в машине по дороге в отель она вдруг спросила:
– Вы знаете, когда я поняла, что это был он?
– Кто?
– Ну эта… Бекки.
– Когда?
– Когда она встала на одно колено и поцеловала мне руку. Так женщины не могут, только мужчины.
Лебеди в море
Последние годы в Москве они бывали короткими наездами. И даже чаще – в Петербурге, где в Мариинском театре с завидной регулярностью шли новые произведения Р. Щедрина: и оперы, и балеты. А в родном Большом ничего. Одна только “Кармен-сюита”, да и та лишь в бенефисы Светланы Захаровой, которые случались очень редко. Обида на Большой не давала ей покоя.
– Я могу пережить, когда унижают или обижают меня. Могу этого даже не заметить. Но когда речь идет о Щедрине, меня начинает душить ярость.
По странной ассоциации вспоминала в такие моменты Лилю Брик, как та тиранила Щедрина, заставляя его то быть личным водителем, то писать музыку для фильма о Маяковском, хотя это совсем не входило в его планы и т. д. На этом и поссорились, как потом выяснилось, навсегда. Щедрин эту тему никогда не поддерживал, а только напряженно молчал. И вообще разрыв с Лилей, не первый и не последний в череде других разрывов и расставаний, был, похоже, и для Щедрина, и для Майи особенно мучителен.
Так и с Большим. Мы никогда не говорили с ней о том, как она пережила день, когда узнала, что вместе с группой солистов ее вывели на пенсию. Майя приняла удар стойко. К счастью, ее тогда же позвали возглавить “Театро Лирико Националь” в Испании. Боль и обиду глушила работой. Лучшее средство от всех депрессий.
Потом были все ее грандиозные юбилеи, концерты, получасовые овации, президентские награды и речи. Но когда я предложил записать телевизионную программу в обновленном Большом театре после ремонта, наотрез отказалась.
– Это давно не мой театр. Я к нему не имею никакого отношения. Лучше где-нибудь в другом месте.
…О грядущем юбилее она старалась не думать. ЕБЖ – любимая присказка многих лет. Если будем живы! Единственное и непременное условие, которое поставила перед дирекцией: если хотите устраивать чествования, должен быть какой-нибудь балет Щедрина. Без этого даже в Москву не приеду. Сговорились на “Даме с собачкой” – маленький, компактный, изящный балет, посвященный ей когда-то Щедриным и недолго продержавшийся в репертуаре Большого. Для постановки выбрали главного хореографа Балета Монако Жана-Кристофа Майо. А дальше показания путаются: то ли француз не смог или не захотел, то ли Большой театр не был слишком настойчив? В любом случае репетиции “Дамы” так и не начались. При этом подготовка к юбилею вовсю уже шла.
Майю это бесило. Когда мы говорили с ней в последний раз, моя телефонная трубка была раскалена до предела. В таком гневе я никогда ее не видел. Она готова была испепелить всех начальников, и жен начальников, и весь Большой театр. Я утешал ее, что директор Владимир Урин, которого знаю давно, опытный дипломат и профессионал, найдет оптимальное решение, как выйти из этой ситуации. И, кажется, решение было найдено, когда Майя и Щедрин встретились в Петербурге, куда Урин специально прилетел, чтобы уладить конфликт. От этого визита остались чудесные фотографии Сергея Берменьева. Он ее и раньше снимал. Но с Щедриным, кажется, впервые. Сейчас гляжу на них и думаю: ну почему я тогда не сорвался и не поехал в Питер? Она звала.
2 мая я был в Юрмале, когда получил СМС из “СНОБа”: “Сегодня умерла Плисецкая. Напишите некролог”. Первая реакция: это ошибка, они что-то перепутали. Ну как же, две недели назад… В тупом оцепенении я все ждал, что сейчас начнут поступать опровержения. Но их не было. Наоборот, новостную ленту переполняли соболезнования, траурные сообщения, ее портреты. В какой-то момент я не смог их больше читать, захлопнул крышку компьютера и вышел на улицу, к морю. На берегу было пустынно. Серая гладь холодного Балтийского моря сливалась с хмурым, пасмурным небом. И на этом бледном, пепельном, чуть подсвеченном закатным солнцем фоне плыли друг за другом лебеди. Никогда их раньше здесь не видел. Но я знаю, кто их прислал.
2015Книга о камерном театре Александр Таиров и Алиса Коонен
Театр – это традиции, прошлое, память места. Если ничего этого нет, то речь идет скорее об арендуемом помещении: играть спектакли можно, но что-то очень важное, ради чего люди ходят в театр, безнадежно исчезает. У Московского театра им. А. С. Пушкина с прошлым всегда были сложные отношения. На фасаде, выходящем на Тверской бульвар, до сих пор остался след от другого названия (и названия легендарного) – Московский Камерный театр. Была там и эмблема – конструктивистский профиль Федры, один из главных театральных символов XX века. Все, конечно, давно сбито, стерто, замазано, замуровано. Но утраченная аббревиатура – МКТ – то и дело магически проступает. Нынешний главный режиссер Театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев в отличие от своих предшественников не стал устраивать покаянные молебны, вешать мемориальные доски и бить поклоны перед портретами Алисы Коонен и Александра Таирова. Как истинный человек театра, он знает, как надо общаться с призраками. Для начала он поставил спектакль о трагической судьбе Камерного театра. Он прошел один-единственный раз, но с участием всей труппы пушкинского театра. Это был поступок. Акт покаяния и признания собственного прошлого. Тогда же, в юбилейном 2014 году, была учреждена памятная медаль с формулировкой “За продолжение традиций Камерного театра”. Кто их и как продолжает – конечно, большой вопрос. Тем не менее таировская Федра, пусть и уменьшенная до размеров ювелирного украшения в красивом бархатном футляре, все-таки вернулась на законных правах в наш театральный обиход. В 2018 году своей “Федры” удостоился и я. За что мне такая честь, можно узнать из статьи, написанной когда-то для сборника “Камерный театр. Книга воспоминаний”.
1.
Она жила в коммунальной квартире, окна которой смотрели на служебный вход Театра им. А. С. Пушкина. Каждое утро она могла наблюдать, как артисты идут на репетицию, а вечером возвращаются после спектакля. Рядом стояла церковь Иоанна Богослова. Собственно, из-за нее в свое время Таирову долго не давали разрешения открыть Камерный театр. По закону увеселительное заведение должно было отстоять от храма на сколько-то там аршин. А дом братьев Паршиных, где обосновался Таиров со своими артистами, был ближе положенного. В общем, обычная канитель, которая чуть не сорвала им премьеру “Сакунталы”. Тогда, в декабре 1914 года, им удалось отбиться. Кажется, по русскому обычаю дали взятку кому надо. Спустя семьдесят лет церковь продолжала стоять на своем месте. Хотя, кажется, там было что-то вроде склада: держали старые декорации, реквизит.
…Я поднимался на второй этаж, звонил в дверь условленным звонком, на который хриплым лаем отзывалась старая собака, эрдельтерьер Долли. Впрочем, она сразу замолкала, как только я переступал порог квартиры, понуро брела к себе, чтобы, забившись под диван, стать чем-то вроде мохнатой оттоманки или скамейки для ног. В двух маленьких комнатах царила та уютная теснота, которая бывает в антикварных лавках. Всего слишком много: мебели карельской березы, потемневших картин вполне музейного качества, театральных плакатов и фотографий. Помню фотографию Ф. Г. Раневской с пушкинской строчкой “Мой первый друг, мой друг бесценный”. Она висела прямо над обеденным столом. Фаина смотрела печально, будто предчувствовала грядущее фиаско нашего предприятия. Был там и огромный, до потолка, якуловский портрет Алисы Коонен, который я уже видел на выставке “Москва – Париж” в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Легендарная дива сидела, вовсе повернувшись к нам спиной. А в мутном зеркале мерцали ее безмятежная улыбка и серая шляпа, отливавшая сталью. Еще я любил разглядывать белоснежный гипсовый портретный барельеф Б. Л. Пастернака скульптора Сарры Лебедевой, висевший над бюро. Борис был юный, беззащитный, с этими своими несчастными глазами пойманной косули.
Это был крошечный уголок другой Москвы, которая ко времени моих первых визитов в Богословский переулок почти уже исчезла, но каким-то чудом продолжала существовать: вести разговоры по телефону, выгуливать вечерами собаку по Тверскому бульвару, пить чай из бездонного китайского чайника-термоса и даже принимать гостей на скудных коммунальных метрах.
Хозяйка этого дома, Нина Станиславовна Сухоцкая, была представительницей уходящей породы московских гранд-дам. Язык не поворачивался назвать ее старухой, хотя лет ей было немало. Осанка, благородная седина, живые, насмешливые глаза, немного рассыпчатой пудры и неяркой помады. Было в ней что-то от екатерининских статс-дам с портретов Левицкого и Боровиковского. Порода, сказали бы мы сейчас.
Всех видела и знала, со всеми была знакома или даже состояла в родстве. Имена Цветаевой, Пастернака, Мейерхольда, Рихтера, Улановой возникали в разговоре с ней как-то поразительно естественно и легко, как будто речь шла о добрых знакомых или о ее соседях по квартире. В этом не было снобистской натуги, как, впрочем, и бесцеремонной фамильярности. Просто это был круг людей, знакомый ей с детства и юности, которому она принадлежала по праву своего рождения и московской прописки в Богословском переулке. И было бы странно, если бы она говорила о них с придыханием, как о героях каких-то мифов и легенд. Почему-то врезалась в память интонация, с которой она меня спросила: “Вы слышали, Светлана вернулась?” Я сразу понял, что речь идет о С. И. Аллилуевой, которая как раз в те дни совершила свой безумный и бессмысленный comeback на родину. Но этот вопрос у Нины Станиславовны прозвучал с интонацией Бетси Тверской из “Анны Карениной”. В нем звенело эхо классического table-talk, искусство которого теперь уже потеряно и забыто. С той же безупречно светской интонацией она вспоминала свои встречи с Ахматовой или рассказывала, как виновата перед Б. Л. Пастернаком, когда отказалась во время войны везти в эвакуацию тяжеленный мольберт и краски для его первой жены Жени.
Собственно, о самой Н.С. я знал немного. Она не любила распространяться о своей личной жизни. Со своим покойным мужем жила, как я понял, врозь. Но был сын (видел один раз) и внук Саша (иногда он забегал к нам на чай). Гораздо важнее было то обстоятельство, что Н.С. приходилась родной племянницей Алисе Коонен и являлась ее единственной законной наследницей. Отсюда особая близость к Камерному театру, где она даже какое-то время служила. Был в ее жизни и эпизод, связанный с кино, – роль монахини в экранизации мопассановской “Пышки”, на съемках которой она познакомилась и на всю жизнь подружилась с Фаиной Раневской. Но актерская карьера у Н.С. не задалась. Долгие годы она преподавала на режиссерском факультете во ВГИКе, вела курс вместе с М. И. Роммом. Впрочем, когда мы познакомились, она уже давно вышла на пенсию.
Поводом для знакомства стала моя курсовая работа, посвященная трилогии А. Я. Таирова по пьесам Юджина О’Нила – “Косматая обезьяна”, “Любовь под вязами” и “Негр”. Вполне ученическая и ничем не примечательная. Но Нина Станиславовна отнеслась к ней благосклонно и даже предложила включить ее в книгу воспоминаний о Таирове, которую она составляла по заказу издательства “Искусство”. Так я узнал о существовании этого многострадального труда, на который была уже изведена тонна бумаги и потрачена куча денег за перепечатку текстов. Ведь это была докомпьютерная эра. Все печаталось на машинке под копирку. Потом вносилась правка, соответственно менялась нумерация страниц, возникали какие-то уточняющие и поясняющие подробности. И опять экземпляр отправлялся к машинистке. И снова возвращался, чтобы в какой-то момент быть подвергнутым новой правке.
В редакторских делах Н.С. была не слишком опытна. И почему-то искренне полагала, что идеальное состояние рукописи гарантирует ее незамедлительный успех в издательстве. Как показали последующие события, это было совсем не так. Со временем у моих визитов даже сложился свой ритуал. Вначале мы обменивались последними новостями: кто что видел, где были и вообще, что происходит “в этом городе”? Потом пили чай из чайника-термоса. И только после этого Н.С. доставала канцелярскую папку на завязках. Мы начинали перебирать статьи для сборника. А вместе с ними, точнее, поверх всех этих бумаг и правок шел нескончаемый поток воспоминаний о Таирове, о Коонен, о гастролях Камерного театра в Европе и Латинской Америке, о дебюте Фаины Георгиевны Раневской в “Патетической сонате”, об уходе Николая Церетелли, о скандале с “Богатырями”… Не буду сейчас пересказывать. Обо всем этом Н.С. написала сама. Живо, увлекательно, энергично. У нее была собственная интонация неисправимой оптимистки, какой она продолжала оставаться и в свои восемьдесят. Всегда на подъеме, бодрая, громкая. По-королевски щедрая и прямодушная. При этом неизменно доброжелательная к своим бывшим коллегам по Камерному театру, и даже к тем из них, кто, как потом выяснилось, вел себя далеко не безупречно по отношению к Таирову и Алисе. Я понимал, что ее целью было не покарать виновных в закрытии театра, не отомстить мертвым и безгласным, но восстановить справедливость.
Н.С. была убеждена, что заслуги Таирова замалчиваются и принижаются, что вредоносная концепция “театра одной актрисы”, придуманная недалекими поклонниками Алисы, была подхвачена врагами театра исключительно для дискредитации его основателя. Что в табели о рангах имя Таирова должно стоять где-то рядом со Станиславским и Мейерхольдом, в чем ему официальное советское театроведение упорно отказывает. И этот сборник воспоминаний должен был послужить, собственно, единственной цели – “восстановлению в правах”. При этом, если всерьез вдуматься, на таировские права никто особенно и не покушался. Все полагающиеся церемонии соблюдались: какие-то книги выходили, диссертации защищались, свой уголок в экспозиции Бахрушинского музея у Камерного театра всегда был. А в 1985 году даже открыли мемориальную доску в фойе Театра Пушкина. Довольно вычурную, с нелепо-гигантским профилем Федры-Коонен и тщедушным, лысеньким Таировым, нервно прижимающим к подмышке карандаш.
– Кажется, он ставит себе градусник, – недовольно сострила Н.С.
Она-то хотела, чтобы доска висела на фасаде театра. Но городские власти не разрешили – якобы из опасений, что мелкие бронзовые фигурки, украшавшие доску, будут тут же демонтированы неленивыми театралами с Тверского бульвара. На самом деле в этой диспозиции видится даже некий символический знак: не полагалось Таирову с Коонен быть доступными случайным, посторонним взглядам. Они, конечно, люди известные, но какие-то полулегальные, теневые, неофициальные. Да и зачем смущать добропорядочных граждан вопросами: что это был за Камерный театр да почему его закрыли? А если закрыли его правильно, то тогда зачем вешать мемориальную доску его основателям? В общем, постановили, что в современном черно-белом окружении портретов актеров Театра им. Пушкина Таирову и Коонен будет спокойнее и комфортнее. А главное, налицо преемственность традиций, “возвращение легенды” и т. д. “Градусник” в руке Таирова фиксировал нормальную посмертную температуру: собственно, возможно было только так и никак по-другому.
Всё это мы прекрасно понимали, но по дурацкой интеллигентской привычке надеялись проскочить “меж струй”, сделав такую книжку, которая, с одной стороны, подошла бы издательству “Искусство”, а с другой, за которую не было бы стыдно.
Понятно, что многое тут решал текст вступительной статьи, а точнее, имя, стоявшее под ней. Имя Константина Лазаревича Рудницкого сомнений ни у кого не вызывало. Доктор наук, автор эпохальной монографии о Мейерхольде, знаток театра 1920-х годов, серый кардинал отечественного искусствоведения, крепко державший в своих руках все приводные ремни важных связей и высоких знакомств, обеспечивавших его тайное и многолетнее могущество.
Раза два он заходил в Богословский переулок. Один раз – при мне. Попыхивал своей трубкой, быстрым жестом профессионального картежника пролистывал рукопись, не обнаруживая, впрочем, ни малейшего интереса к ее содержанию. С ледяным любопытством поглядывал на эскизы Павла Кузнецова к “Сакунтале” и якуловский портрет Коонен и откровенно скучал, когда Н.С. заводила свою неспешную мемуарную сагу. В итоге Н.С. принять отношение Рудницкого к Таирову и то, что он написал, не смогла.
Я хорошо помню ее звонок и голос в трубке, звучавший непривычно глухо, как будто у нее ангина или кто-то помер.
– Я прочла статью Кости.
– Ну и…?
– Катастрофа. Приезжайте.
Через полчаса я был в Богословском переулке. На круглом столе лежала увесистая белоснежная пачка свежеотпечатанной рукописи. Мы молча погрузились в чтение, передавая друг другу страницы. Так актеры читают рецензии на следующее утро после своей премьеры. Ничего ужасного в этой статье, конечно, не было. Все было разумно, четко, профессионально. Собственно, это было официальное заключение о месте Таирова и Камерного театра в той системе координат и репутаций, которую Рудницкий собственноручно выстраивал на протяжении почти сорока лет. Разумеется, центром этого мироздания был Вс. Мейерхольд. Все остальные были более или менее второстепенными планетами, интересными лишь тем, в какой степени и как они соотносились с главным светилом и божеством. Впрямую этого не было сказано. Но подтекст был очевиден. Как, впрочем, и некая прохладная отчужденность автора от предмета его исследования. Таиров Рудницкому был не особо интересен. Скорее его занимала опасная игра двух режиссеров с властью за эстетическое лидерство, за главный мандат на большой государственный стиль, игра, которую оба безнадежно проиграли МХАТу и его основоположникам. Причины этого поражения не давали покоя Константину Лазаревичу, заставляя бесконечно просчитывать и анализировать сложную, многоходовую комбинацию, приведшую в итоге Мейерхольда в застенки Лубянки, а Таирова – в психиатрическую больницу Соловьева. Читатель, натренированный на эзоповом языке времен брежневского застоя, мог все это легко прочесть между строк. Но Н.С. ни на шутку разгневалась и в сложные комбинации исторических построений вникать не захотела.
– Где Жан-Ришар Блок? – бушевала она. – Где Кокто и Бернард Шоу? А Цвейг… Я собственноручно дала ему Стефана Цвейга. Где он?
Действительно, восторженной цитаты из Цвейга на “Египетские ночи” в статье Рудницкого не было, как, впрочем, и многих других свидетельств гениальности Таирова и его первой актрисы.
– Нет, нам такая вступительная статья не нужна, – объявила Н.С., перейдя на царское местоимение “мы”, выдававшее высшую степень ее волнения. – О Таирове надо писать по-другому. И мы знаем, кто о нем напишет.
– Кто же? – спросил я, растерянно перебирая в памяти имена вакантных историков театра.
– Это будете вы!
2.
Я не люблю перечитывать свои старые тексты – “заметки”, как принято было говорить в Издательском доме “КоммерсантЪ”, где я проработал больше семи лет. Наверное, мой тогдашний опус о Камерном театре был не хуже и не лучше того, что полагалось сдать для кандидатского минимума в отечественном театроведении 1980-х годов. С той существенной поправкой, что ни одного таировского спектакля я никогда не видел. Слабым утешением служило то, что можно назвать целый ряд вполне уважаемых и заслуженных историков театра, которые выбирали в качестве темы своих исследований эпохи и явления куда более далекие и по времени, и по географии, к тому же несравненно более скудно документированные. А в моем распоряжении были и архив Камерного театра в ЦГАЛИ, и огромный таировский фонд в Бахрушинском музее, и разные раритеты в доме Н.С. Так что бери, сочиняй, пиши! Но только теперь я понимаю, что все мои попытки проникнуться духом таировского театра были скорее реконструкцией собственных снов и фантазий. Для серьезного труда этого мало. Да и методичным сбором сохранившихся свидетельств нельзя ограничиться. Должно быть что-то еще. Но что? Ощущение времени, чувство судьбы, внутренняя связь с героями, которая приходит вместе с непрерывным погружением в обстоятельства их жизни, с умением мгновенно разбирать их почерк, даже с самим звуком их имен: Алиса Георгиевна, Александр Яковлевич…
За время моих визитов в Богословский переулок и поездок на “Речной вокзал” в ЦГАЛИ они стали для меня чем-то вроде родственников. И, когда Н.С. предложила мне написать вступительную статью, у меня не возникло ни минуты сомнений. Ну конечно! А кто же еще? Хотя было нетрудно просчитать роковые последствия этого шага и невольной конфронтации с одним из самых влиятельных историков отечественного театра. Забраковать или отодвинуть Рудницкого до этого никому не удавалось. Таких обид он никому не прощал. В этом Н.С. и мне очень скоро пришлось убедиться.
Ну а пока я бродил по Тверскому бульвару, пытаясь представить, как здесь гуляли молодые Коонен и Таиров в поисках здания для будущего театра. Как спешили потом по этим аллеям на репетиции, как строили планы на будущее. Как терзались, когда эти планы рушились под натиском разных враждебных сил.
Известно, что после закрытия Таиров избегал проходить мимо театра, каждый раз находя предлог, чтобы свернуть куда-нибудь в обход, в сторону – только чтобы не видеть чужое название и афиши на любимом фасаде. А Коонен, напротив, каждый вечер в любую погоду отправлялась на свою обязательную ежевечернюю прогулку. Закутанная в платки и шали, непроницаемая, с решительным и сердитым лицом женщины, которую может остановить только смерть. Она была сильнее его. В своих письмах называла его “малыш”, о себе часто писала в мужском роде (“видишь, какой я!”), а подписывалась “Маленький Малыш”. Несмотря на всю ее прославленную женственность, в ней было много мужского. Собранная, стремительная, непреклонная, она терпеть не могла дамские рюши и оборки ни в жизни, ни на сцене. Еще когда они репетировали в Свободном театре первый совместный спектакль “Покрывало Пьеретты”, Таиров набросает ее очень точный портрет – “соединение девочки с мученицей”, со “стремительными движениями, удивленными, раскрытыми на мир глазами, мечущимися от ужаса руками”. “В этой кукле, казалось, был заложен заряд страсти, и с ним она была пущена в самую мрачную и нереальную трагедию, где чередовались только удары судьбы, но никак не ее радости”.
Трагическая кукла – первоначальный сценический образ Коонен, придуманный от начала и до конца Таировым. Актриса-автомат, чей каждый жест, взгляд, интонация просчитаны и продуманы до малейших деталей. Другой вопрос – откуда у автомата может быть страсть? Но тут нет противоречия. По своим вкусам и повадкам Алиса Коонен принадлежала к тому редкому для русской сцены типу актрисы-дивы, который был фактически отменен мхатовской реформой и чеховской драмой. Из зрительного зала было видно, как она неприступна, как умеет владеть собой, как прекрасны ее глаза в приливах гнева или веселья. Правда, никто не может припомнить цвет этих глаз. “Они могли быть черными; карими, темно-синими. Однажды они показались… даже голубыми. Они как бы меняли свой цвет в зависимости от роли” (А. Гладков). Но все говорят о странном треморе Коонен – эту дрожь ресниц, придававшую ее глазам загадочную, тревожную вибрацию, которую так любили имитировать тогдашние абитуриентки при поступлении в театральные училища.
И, конечно, все помнят, какими бесслезными были глаза Коонен в трагические моменты ее и Таирова судьбы, как умела она нести крест и скрывать свою тайную муку.
Их союз продержался больше тридцати пяти лет, был испытан многим. Но и в последний сезон Камерного театра в 1949 году, когда все уже, казалось, позади, он напишет ей: “Алиса, любимая! И все-таки вопреки всему в добрый час! В наш 35-й сезон – нашей жизни и работы! Обнимаю! Верю. Верь и ты! Твой А.Т.”.
Записку эту Алиса носила потом с собой в сумке больше двадцати лет и не расставалась с ней до самой смерти. Когда Н.С. достала ее мне, бумага на сгибах буквально просвечивала. В этом доме ее берегли как величайшую ценность, как главную и неоспоримую улику: да, любовь была.
На самом деле нет ничего более увлекательного для исследователя, чем изучать материю творчества, состоящую из тонких волокон и невидимых нитей личных отношений и связей. Конечно, свести всё к ним тоже нельзя: получится бульварный беллетр. Но и исключить их начисто, как предписывали пуристские правила советского театроведения, тоже неправильно. Тем более когда речь идет о театре, где все так причудливо и странно перемешано. Камерный театр очень телесный, “физический”, чувственный. Особенно в ранних спектаклях, где было много обнаженного тела, где жест значил неизмеримо больше, чем слово. Если попытаться сформулировать смысл таировской идеи “эмоционального жеста” – это сближение балета и драмы. Если попытаться нафантазировать ее образ – это Айседора Дункан в драматическом спектакле. “Дункан, – считал Таиров, – сбросила с тела все оковы, она раскрепостила тело и, наблюдая природу, наблюдая движение морских волн, чувствуя ритм этого движения, вбирая его в себя, передавая его своему телу, изучая античность, изучая античную скульптуру, вернула человеку тот характер движения, который был ему свойственен на заре его блестящего утра”.
Как и Дункан, Таиров видел будущее театра в синтезе искусств, с той разницей, что американка считала основой будущей реформы свободный танец, а режиссер – пантомиму. Как и Дункан, Таирову были близки языческие мотивы эстетики Рихарда Вагнера и мысль, что человек искусства должен испытать “невыразимую радость перед физическим миром”.
Что это был за мир, окружавший Таирова и его артистов, можно легко представить по воспоминаниям первых лет военного коммунизма. Голод, холод, разруха, террор… Зрители, угрюмо сидящие в шубах и шинелях, а на сцене – полуголые артисты, согревающие своим дыханием стылый воздух наравне с чугунной печкой-буржуйкой, топившейся тут же за кулисами.
“Как мы рассуждали? – вспоминал Таиров. – Революция разрушает старые формы искусства. Следовательно, мы – революционеры. И можем идти в ногу с революцией. Это было, конечно, иллюзией, но мы искренне считали себя революционерами”.
Так хочется сейчас стряхнуть с его легендарных спектаклей музейную пыль и мусор поздних “реконструкций”, взглянуть, как это было на самом деле, на что больше всего похоже. Балет – не балет, театр – не театр? Какая-то другая реальность, вся насквозь вымышленная, придуманная, перекрашенная в странные, неестественные цвета, озвученная не бытовыми, не естественными голосами. Камерный театр начисто отрицал и даже упразднял реальность, которая оставалась за порогом здания по адресу Тверской бульвар, 23. Причем тут не было политической подоплеки или какой-то осмысленной фронды. Напротив, Таиров, как человек, хорошо понимавший, что к чему, спешил присягнуть новой власти и продемонстрировать всяческую лояльность. Но при этом художник в нем был намного сильнее политика, а неистребимое стремление к “чистой красоте” в конце концов побеждало коньюнктурные расчеты и планы.
“Лишь на любовь надо смотреть”.
Эти слова уайльдовской Саломеи могли бы стать девизом раннего Камерного театра. И в них не только оправдание легендарной язычницы, какой ее играла Алиса Коонен – в них заключались главный смысл и содержание искусства Таирова. Всю жизнь он хотел “смотреть на любовь”, а точнее, на женщину, которую любил, воплощавшую его художественный идеал. Всю жизнь он не уставал придумывать для нее новые роли и спектакли.
В этой зависимости режиссера от своей актрисы, тем более являющейся его женой, нет ничего особенно оригинального. Это сродни зависимости художника от красок или музыканта от своего инструмента. Другое дело, что в случае с Камерным театром эти “особые” отношения приобрели характер некоей вполне законченной эстетической доктрины. Уже одно присутствие Коонен на сцене как бы сразу переводило спектакль в другую плоскость, отрывало его от земли, от всего житейского, бытового, будничного. То, чего от других артистов Таиров добивался долгой муштрой и неустанным тренингом, Коонен давалось с поразительной легкостью. Два-три жеста, долгий взгляд куда-то вдаль поверх всех голов и глаз, этот ее виолончельный, глубокий, неповторимый звук голоса, служивший своего рода камертоном, по которому Таиров каждый раз настраивал “оркестр” своего спектакля. Никто не знает, почему и каким образом это происходило, откуда бралась эта магия и как сегодня описать ее волнующую красоту. Но все мемуаристы сходятся в убеждении, что это и был настоящий театр в своем самом наивысшем воплощении.
Из ближней нам истории на память приходят творческие тандемы Николая Акимова и Елены Юнгер, Анатолия Эфроса и Ольги Яковлевой, Игоря Владимирова и Алисы Фрейндлих. Театралы старшего поколения не могут забыть явления ослепительной Татьяны Дорониной в спектаклях Георгия Товстоногова. А разве вечный таировский оппонент и соперник Вс. Мейерхольд не пытался утвердить в статусе первой актрисы своего театра совсем неопытную и уже сильно немолодую Зинаиду Николаевну Райх, сознательно провоцируя конфликт в труппе и язвительную критику в свой адрес?
Роль женщины в театральной истории – особый сюжет. Но Таиров знал, на что шел, выстраивая репертуар с учетом индивидуальности и возможностей своей первой актрисы. Теперь-то можно признать, что они были не так уж безграничны. Неудач в блистательной биографии Коонен тоже хватает. Не получилась у нее в свое время Джульетта, провалилась “Наталья Тарпова”, с которой Таиров связывал большие надежды по освоению советской драмы, неудачей обернулась и ее последняя роль на сцене Камерного театра, эта “жрица войны” актриса Анна Мартынова в спектакле “Пока не остановится сердце” по пьесе К. Паустовского. Со временем театральный идеал, который Коонен воплощала своим голосом, обликом, актерской манерой, все больше уходил в прошлое, становясь раритетом былых времен. Все это создавало известное напряжение как внутри самого коллектива Камерного театра, так и в его отношениях со зрительным залом. Об этом вспоминали многие артисты, тяжело переживавшие неуспех последних сезонов. За это они склонны были осуждать не столько Таирова или свирепых начальников от культуры, сколько самоуверенность Коонен, бравшейся не за свои роли.
Вообще они относились к нему лучше и как-то сострадательнее, чем к ней. Я это чувствовал не только по мемуарам, которые собрала Н.С., но и в те моменты, когда случайно заставал кое-кого из авторов в гостях в Богословском переулке. “Камерники”, как они себя называли, держались подчеркнуто вежливо, но немного отчужденно и даже, как мне показалось, испуганно. Все, что связано с Таировым и Камерным театром, продолжало жить в них тайной болью, тщательно и опасливо скрываемой, к которой, может быть, примешивалось чувство вины. А может, давила гигантская якуловская Коонен в золоченой раме? И разговор каждый раз был такой осторожный-осторожный. Как по тонкому льду в суконных ботах или стоптанных старых ботинках, которые они, смущаясь, прятали под стул, чтобы не привлекать внимание к своей пенсионерской советской бедности. Только один раз хрупкая и невесомая, как засушенный листик из гербария, старушка Хеся Бояджиева позволила себе возразить Н.С., когда та в своей обычной неспешной манере стала рассказывать, как актеры Таирова были нарасхват во все столичные театры.
– Ну что ты, Нина, такое говоришь, – пронзительно воскликнула она, – нас никуда не брали. После того как театр закрылся, люди шли работать в горячий цех.
И этот невероятный “горячий цех”, вдруг полыхнувший посреди мемуарной идиллии каким-то адским, обжигающим огнем, заставил взглянуть на драму Камерного театра совсем в новом свете.
То и дело всплывали всё новые подробности. Например, я и не знал, что Таиров первым браком был женат на своей двоюродной сестре, что у него была дочь, которая всю жизнь тихо прослужила библиотекаршей в Камерном театре, никак не обнаруживая своего родства. Или что с самого начала между красавцем Николаем Церетелли и Коонен шла беспрерывная война за премьерство, в которой, как нетрудно догадаться, Церетелли был обречен. Он уйдет, громко хлопнув дверью, потом на какое-то время вернется и снова вскоре уйдет. Будет пытаться найти себя на других сценах. Переедет в Ленинград. Чтобы чем-то себя занять, напишет книжку о народных промыслах, в частности, о дымковской игрушке. Смерть от дистрофии настигнет его в лазарете по дороге из блокадного Ленинграда в эвакуацию. В свой день и час покинут Камерный театр Михаил Жаров и Фаина Раневская. У каждого были на то свои мотивы, но незримая тень Алисы Коонен, как потом выяснилось, тоже угадывалась в подтексте их заявлений об уходе по “собственному желанию”.
Впрочем, сводить всю историю Камерного театра исключительно к конфликтам из-за его первой актрисы было бы несправедливо и неправильно. Прежде всего это был режиссерский театр с большой труппой, с потрясающей постановочной частью, с огромным репертуаром, которого ни у кого в Москве тогда не было. Практически в одиночку Таирову удалось отладить и запустить в работу сложнейший театральный механизм, работавший как часы и бесперебойно выдававший премьеру за премьерой.
Причем это были сложные, многонаселенные, многоактные спектакли, которые сегодня были бы под силу только большим государственным коллективам ранга МХАТа или Малого театра. За счет чего это удавалось и какого неимоверного напряжения сил это стоило Таирову, можно только догадываться. Важно зафиксировать одно: Камерный театр, несмотря на свое название, никогда не был камерным ни по сути, ни по форме. Это был театр большого стиля и больших страстей, не признававший комнатных голосов и скромного, малого метража.
Таировская установка на грандиозность гениально срабатывала, когда речь шла о Расине или об “Оптимистической трагедии” Вс. Вишневского, но начинала очевидно буксовать, как только Камерный заходил на территорию русской классики или пытался приблизиться к современной советской драматургии. Не здесь ли кроется причина трагической судьбы театра и его основателей? Сам Таиров, сознавая очевидную уязвимость своей театральной программы, был склонен винить в этом только самого себя, собственную невосприимчивость к русской национальной традиции, изначальную ориентированность на европейскую культуру и даже свои еврейские корни.
Он был космополитом по духу, по вкусам, по художественным установкам. И театр, который он построил, был точно таким же. Может быть, самым иностранным и самым космополитичным за всю историю русской сцены. Отсюда и его невероятный успех за границей. И очень прозападная репертуарная афиша, где значились пьесы О’Нила, Брехта, Шоу. Да и вся эта влекущая, особая аура, окружавшая Камерный театр и его актеров как аромат парижских духов Mitsouko, которые Алиса любила наносить на себя перед выходом на сцену.
Я видел пустые флаконы в бюро у Сухоцкой, упрятанные в изящные темно-коричневые коробочки с японскими иероглифами и рисунками под слоновую кость, похожие на маленькие гробики.
– Таких сейчас уже не делают, – говорила она, протягивая мне флакон с янтарной каплей, застывшей на дне.
От него тоскливо пахло лесным мхом и, кажется, немного валерьянкой. Запах совсем угас, но давал простор для разных фантазий и театроведческих экзерсисов. В облаке этих полынных, пряных духов я мог представить себе и мадам Бовари, мечущуюся по провинциальному Ионвилю. И величественную Кручинину, удаляющуюся в белоствольную березовую даль, как на эскизах Вадима Рындина. И Нину Заречную в вечернем платье на фоне концертного рояля и чучела чайки. Нечто похожее я испытывал, когда рассматривал в запасниках Бахрушинского музея обгорелые эскизы к таировским спектаклям братьев Стенбергов, Александры Экстер, Якулова. По ним тоже можно было лишь догадываться, что это были за спектакли. Правда, яркие, звонкие краски казались сильно пригашенными из-за черной, траурной каймы, которая обрамляла большинство эскизов. Как мне объяснили, в начале 1950-х музейщики были вынуждены формально подчиняться министерским приказам по уничтожению единиц хранения из фонда Камерного театра. Для этого даже устраивались что-то вроде публичных аутодафе во дворе с участием чиновничьей братии. Но при этом старались сжигать обычный музейный мусор, а подлинники лишь чуть подпаливали для конспирации, а потом прятали в свои тайники до лучших времен.
Они наступили в конце пятидесятых, когда в СССР стали приезжать первые западные гастролеры. И стало понятно, как много мировой театр взял у Таирова. Импульсы, посланные его спектаклями, стали вдруг возвращаться в виде отдельных мизансцен, сценических образов, световых партитур. О Таирове вспоминали на спектаклях Жана Вилара, особенно тех, где играла замечательная Мария Казарес. Просвещенные театроведы подмечали сходство декоративных установок у Дж. Баланчина в “Блудном сыне” и у Ю. Григоровича в “Легенде о любви” со сценографией легендарных спектаклей Камерного театра. Таировское начало, никем официально не поддержанное, не санкционированное, пробивалось с трудом, но каким-то образом все равно продолжало резонировать смутным эхом на театральных подмостках 1960-х – 1970-х.
Погружаясь в этот контекст, стараясь уловить пере-кличку далеких голосов, мне хотелось понять: почему европейский эстетизм и космополитизм Таирова так и остались чужеродными для русского театра? Почему к его многочисленным открытиям были более восприимчивы хореографы, чем театральные режиссеры? И чем объяснить то обстоятельство, что даже во времена оттепели и всяческого идеологического послабления Таиров оказался на периферии актуального театрального процесса, где доминировали имена его соперников? Наверное, будь у меня больше времени и терпения, я бы довел это исследование до конца, но перспективы нашего таировского сборника с каждым днем становились все более смутными, почти не оставляя надежд увидеть результаты этих трудов в напечатанном виде.
3.
Вначале случился облом с письмами. Кроме разных знатных иностранцев, состоявших в переписке с основателями Камерного театра и взятых больше для солидности, имелась подборка писем Таирова и Вишневского. Надо сказать, весьма проблематичная, поскольку в ней “друг Всеволод”, автор эпохальной “Оптимистической трагедии”, выступал как трусоватый предатель, говоря современным языком, “кинувший” Таирова, благодаря которому он пробился в орденоносные классики советской литературы. К концу 1940-х, когда тучи над Камерным театром сгустились, Вишневский не только не заступился за своего благодетеля, не только не протянул руку помощи и поддержки, но поспешил публично отмежеваться от своих друзей, которым совсем недавно клялся в вечной любви. Этот банальный для того времени сюжет прослеживался в письмах довольно рельефно, вызывая весьма однозначные чувства по отношению к сталинскому лауреату и официальному певцу Краснознаменного флота.
Впрочем, у нас с Н.С. была смутная надежда, что эти письма, утопленные в патоке иностранных комплиментов и восторгов, пройдут мимо внимания редактора из издательства “Искусство”. Увы, нет! Напуганные выговорами и увольнениями после выхода книги Вадима Гаевского “Дивертисмент”, редакторы дули на воду и прозревали крамолу в самых невинных высказываниях и текстах. Даже письма Коонен были возвращены с пометками “слишком личные”. Советская цензура не дремала. В конце концов блок с письмами пришлось снять. Дальше Н.С. была вынуждена признаться, что отвергла вступительную статью К. Л. Рудницкого и заказала ее писать безвестному аспиранту ГИТИСа, т. е. мне. Подробностей этого разговора я не знаю, но по напряженному лицу всегда бодрой и неунывающей Н.С. можно было догадаться, что она наконец поняла все последствия своего опрометчивого шага. Поссориться с самим Рудницким, да именно в тот момент, когда вся хрупкая постройка висела на волоске! Нет, пасьянс с таировской книгой решительно не складывался.
Какое-то время мы продолжали встречаться в Богословском, обсуждали варианты выхода из постигшего нас кризиса. Где-то у меня сохранился даже текст письма с мольбой о спасении книги, которое должны были подписать разные на тот момент еще живые народные артисты. Помню, как я сам звонил Ангелине Осиповне Степановой, тогдашнему парторгу МХАТа, и та с превеликой охотой согласилась. А вот Галина Сергеевна Уланова прошелестела что-то едва слышное про 16-й подъезд, где я должен оставить для нее конверт, но, кажется, так ничего и не подписала. В этом моем хождении по знаменитым, старым и по большей части довольно больным людям было что-то от деловитых визитов коммивояжера в богадельню. И наше письмо, которое они читали с недовольным видом, нацепив себе очки на нос, воспринималось ими, наверное, как привет с того света, как напоминание, что может произойти с ними самими в самом недалеком будущем. Перспективы эти явно не радовали, и свою закорючку-автограф они ставили с какой-то судорожной поспешностью, не слишком вникая в суть нашего воззвания, чтобы только отвязаться от меня. Впрочем, самые воспитанные из них не забывали передать привет Н.С. Магия имен Таирова и Коонен все еще продолжала действовать. Обитые кожзаменителем тяжелые двери быстро захлопывались, а я снова оказывался в грустном одиночестве среди серой слякоти и грязного снега зимней Москвы. Шел 1984 год, где-то на Красной площади хоронили очередного генсека, и казалось, что этим панихидным очередям и траурным церемониям не будет конца. Но конец этот наступил, и довольно быстро. В какой-то момент исчезла собака Долли, потом – якуловский портрет Алисы Коонен (Н.С. продала его коллекционеру Семенову), а потом и Н.С., вдруг разом сильно постаревшая, перебралась к сыну на Хорошевку, где я однажды ее навестил. Про книгу мы больше не заговаривали, но она продолжала связывать нас, как преступление, которое нам удалось скрыть.
– Я хочу, чтобы у вас осталось что-то на память об Александре Яковлевиче, – вдруг посреди довольно светского и пустого разговора ни о чем сказала Н.С.
На мои попытки отмахнуться, мол, я столь мало для этой памяти сделал, она протянула мне маленький портфельчик из свиной кожи с золоченым замком. На потертой шелковой подкладке значилось название бренда Laurige.
– Это был подарок Алисы после их первых гастролей во Франции. Он там хранил ее письма и поздравительные открытки. Впрочем, их было немного. Ведь они почти никогда не расставались.
Спустя много лет я буду стоять перед витриной магазина кожгалантереи и письменных принадлежностей на площади Дофина на острове Ситэ в Париже, где мое внимание привлекут ежедневники и разные симпатичные мелочи из почти той же по колеру и текстуре нежной кожи, что и таировский портфель. Приглядевшись, я узнал знакомое название фирмы – Laurige. Кто знает, может быть, когда-то на моем месте была Алиса Коонен, выбиравшая подарок для Таирова? Круг замкнулся. И это был знак, что пора завершить начатое дело.
От Камерного театра осталось немного. Нынешний главный режиссер Театра им. Пушкина Евгений Писарев показал мне старинные напольные часы, которые когда-то стояли в таировском кабинете. Там было какое-то хитрое устройство для подзавода, которым надо было пользоваться с предельной осторожностью. Но в какой-то момент эти меры не были соблюдены и часы сломались, исторгнув страшный, неземной звук “лопнувшей струны”. Так они и стоят черным, мертвым обелиском в кабинете главного режиссера как напоминание о жизни и театре, чье время давно закончилось.
…Как и всех театралов, меня волновал один вопрос, который я долго не решался задать Н.С. Прокляла ли Алиса Коонен Театр им. Пушкина на века вперед, как царица Евдокия – Северную столицу (“Быть сему месту пусту”)? Ведь столько несчастий и смертей обрушилось на этот переименованный театр, а удачи случались так редко. Один только мартиролог имен главных режиссеров чего стоит.
– Ну что вы, Сережа, – возмутилась Н.С. – Алиса была православный человек. Как она могла проклясть своих товарищей!
– Но они предали Таирова, – не унимался я, – лишили его и ее Камерного театра. Фактически убили его.
– Его убило время, которому его театр был больше не нужен.
– А правда, что в последние месяцы он ходил по Москве и искал афиши Камерного театра на театральных тумбах?
– Да, так начиналась болезнь. Мы не сразу это поняли. Думали, что депрессия. Просто надо ему отдохнуть, подлечиться. Она повезла его в Цхалтуб. Но там ему стало только хуже.
– От чего он умер?
– Алиса запретила делать вскрытие после смерти Александра Яковлевича. “Хватит его мучить”. Но врачи настаивали и мне пришлось дать согласие, поскольку они не могли определить причину смерти. Как выяснилось, это был скоротечный рак мозга. Организм не в силах был справиться со всеми нервными перегрузками. И потом, он всё всегда держал в себе. Алиса почти ничего не знала. Ни про заседания Комитета по делам искусств, ни про коллективные письма актеров и сотрудников театра. Перед тем как Александра Яковлевича положили в больницу, у него был страшный приступ. Вдруг посреди ночи он встал, надел парадный костюм, нацепил ордена и сказал, что ему надо репетировать, что его ждут в театре. Алиса стала его удерживать, но он отпихивал ее с какой-то нечеловеческой силой и все рвался в театр. Спасло только то, что дверь, ведущая в театральные помещения, была намертво заколочена по приказу В. Ванина. С дверью он не смог справиться. Вот после этого он согласился сдаться врачам и рассказал ей все, как было на самом деле.
– И вы хотите сказать, что после этого она не прокляла этот театр?
– Нет, она просто никогда не переступала его порога. Никогда.
…Снова звонят колокола на колокольне храма Иоанна Богослова. И так же, как во времена Таирова и Коонен, люди в любую погоду идут по Тверскому бульвару. А в декабре 2014 года с фасада Пушкинского театра кричала Федра посреди черно-белых фотографий из таировских спектаклей. Был столетний юбилей Камерного театра. Все проходит, но что-то и остается.
2016Конец театрального романа Анатолий Эфрос и Наталья Крымова
В этой истории все связалось в один бесконечный, нераспутываемый узел обид, проблем, самолюбий, амбиций, опрометчивых жестов и злых слов. Ни до, ни после жизнь не ставила нас перед выбором с такой безоговорочной, необъяснимой жестокостью, не давая возможности сохранить позицию стороннего наблюдателя. Приход Анатолия Эфроса в Театр на Таганке в 1985 году и все, что за этим последовало, – одна из самых трагических страниц в истории русской сцены. Мы не были знакомы лично с Анатолием Васильевичем. Но я так любил его спектакли и фильмы, для меня так много значили его книги “Репетиция – любовь моя” и “Профессия: режиссер”, что у меня было полное ощущение даже не знакомства, а какой-то необъяснимой духовной близости, почти родства. Я знал про его человеческие слабости и недостатки, но это ровным счетом не имело никакого значения. Он был Гений. Причем его гениальность нисколько не подавляла, не заставляла стоять по стойке смирно. Наоборот, была начисто лишена всякой официальной торжественности. Не представляю себе Эфроса в парадном пиджаке и галстуке. Никогда не видел его в первом ряду разных президиумов. Если он там и оказывался, то всегда где-то сбоку, притулившимся на случайном стуле, с которого его могли согнать в самый неподходящий момент. Может, от этого никогда не покидало тревожное чувство какой-то временности, непостоянства, связанное с ним и его спектаклями. Все ненадолго, все легко может оборваться в любой миг. “Скажи мне что-нибудь”, – тихо просил Тузенбах в спектакле “Три сестры” на Малой Бронной. “Что, что сказать?” – нервно переспрашивала Ирина, задыхаясь от страха. Его сейчас убьют, и она это знает. Надо что-то делать. Но что? “Пусть приготовят мне кофе”. Когда Эфрос умер, все люди театра испытали чувство вины. Так бывает, когда уходит близкий человек, а ты ничего не предпринял, чтобы его уберечь, спасти, помочь… С годами это чувство вины только усилилось.
Она
Я не помню, предлагала она мне переобуться или нет. Кажется, были какие-то тапки, которые ждали всегда у входа. Квартира была большая, но принимали меня всегда исключительно на кухне. Так было удобнее. Вошел, переобулся и сразу налево. Да и статус мой не предполагал каких-то особых церемоний. Я даже не знаю, сколько там у них было комнат. Впрочем, это меня не слишком занимало. Я знал, что переехали в Сильвестров переулок они недавно и, наверное, еще не до конца обжились. Тень какого-то неуюта чувствовалась во всем: и в этом полутемном коридоре со всегда плотно закрытыми дверьми, и в этих ее коротких валенках, в которых она как-то старушечьи скользила по паркету, и даже в чае, к которому не полагалось ничего, кроме двух сушек. Кстати, ей тогда было совсем немного лет. Даже могу точно сказать – пятьдесят семь. У нее день рождения как раз 13 января. А я был у них накануне.
Итак, зима, метель, кружка дымящегося чая на краю стола.
– Вам с сахаром? – спрашивает она с той же торжественной интонацией, с какой задавала вопросы в своей телевизионной программе “Любите ли вы театр?”.
Седая челка, испытующий, строгий взгляд, серебряный перстень. Я его мгновенно узнал. Много раз видел на телеэкране, как он благородно посверкивает у нее на руке. Хотя она почти не жестикулировала, когда говорила. Мне потом Рустам Хамдамов объяснил, что настоящие актрисы никогда не позволяют себе говорить руками, а только паузами, взглядом, молчанием. Наталья Анатольевна Крымова не была актрисой. Она была театральным критиком. Самым известным и самым влиятельным из всех, кого я тогда знал. За ней были ее репутация, ее статьи и книги, ее телевизионная слава и ее муж Анатолий Эфрос. К тому времени, когда мы познакомились, их имена, спаянные более чем тридцатилетним браком, воспринимались как символ блестящего и равноправного союза двух незаурядных личностей, аналогов которого в отечественной культуре не так-то легко найти. Ну, может, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович или Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Но там артистки, исполнительницы, а тут критик, писатель, признанный интеллектуал. Все слова, заметьте, мужского рода. В Крымовой тоже чувствовалось что-то очевидно мужское. Или уж точно неженское. Какая-то строгая категоричность и непреклонность. Если бы ее взяли в артистки, она была бы гениальным Комиссаром в “Оптимистической трагедии”. Ей так шли черные кожанки, полувоенного покроя куртки, безрукавки. После смерти Эфроса она долго донашивала его пиджаки. В этом был ее стиль и даже некий statement: не хочу никому нравиться, ничего не знаю и знать не хочу про вашу моду. Никакой там пудры, оборок, дамского рукоделия. Хотя, как потом выяснилось, все прекрасно умела делать по дому и даже неплохо готовила. Но не любила. Это было совсем не ее. А что любила? Повелевать и властвовать. Ей нравилось быть Хозяйкой. Именно с этим чувством она входила в кадр своих телевизионных программ. Именно так ощущала себя в редакции журнала “Театр”, когда заведовала там отделом критики. Именно так вела себя на многочисленных обсуждениях в ВТО и круглых столах, куда ее приглашали сказать свое веское слово. Есть Крымова и все остальные. Есть немногословная Королева и некая галдящая массовка рядом. И даже те, кто никак к этой массовке себя не причислял и даже позволял себе не соглашаться с ее мнением, все равно воспринимались как эпизодические и случайные персонажи в прекрасном театральном романе, который она сама же и сочиняла, расчетливо возвышая одних, безжалостно изничтожая других и в упор не желая замечать третьих. Стоит ли говорить, что главным героем этого романа был Эфрос. По негласному уговору она, разумеется, никогда не писала ни о нем, ни о его спектаклях. Но они всегда незримо присутствовали в ее размышлениях о театре, о судьбе культуры, о миссии художника.
Все это звучит сейчас невыносимо высокопарно, но Крымова умела взять какую-то очень правильную, правдивую ноту, завораживавшую своей искренностью и прямотой. Так раньше хорошие мхатовские артисты играли разных секретарей райкомов или честных следователей. Со сложным подтекстом, с неизбывной печалью в глазах и чуть усталой надтреснутостью в голосе. Все знает, все ведает, все прошла и даже побывала там, откуда не возвращаются (в середине 1970-х Крымовой диагностировали рак – и это все в театральных кругах знали), но вернулась.
…И вот сейчас она сидит напротив меня и, надев очки, медленно читает текст своей статьи о драматурге Викторе Сергеевиче Розове. Она так и не овладела машинописью и свои заметки сдавала исключительно в рукописном варианте. Под предлогом, вдруг я чего-то упущу или не пойму, предложила мне почитать вслух (“Пока вы пьете свой чай”). Деваться некуда, пью и внимаю. Наверное, со стороны наша мизансцена напоминает чеховский рассказ “Преступление”. С той лишь разницей, что на месте моей визави – не графоманша Мурашкина, “разродившаяся драмой”, в исполнении Фаины Раневской, а сама великая Крымова. Но когда женщины так самозабвенно упоены собой и собственным творчеством, они все похожи. А может, дело в трагическом отсутствии всякой самоиронии? В этом абсолютном, непререкаемом ощущении своего права и правоты, в котором Крымова жила и с которым писала? Или в какой-то наивной и по-своему даже трогательной глухоте, которая настигает всякий раз, когда оказываешься один на один с собственным текстом, и все, что тебе необходимо, это чье-то живое слово, заинтересованные глаза, немедленная реакция, чтобы убедиться: тебя слушают, тебя слышат, ты кому-то можешь быть еще интересен.
Я слушал, как читает Наталья Анатольевна, и с досадой думал о том, что у меня так много к ней вопросов, а всё полагающееся мне время мы потратим сейчас на эту декламацию заметки про малоинтересного мне и ей Розова. Но что делать? У того юбилей. С его пьес когда-то началась режиссерская судьба Эфроса в Центральном Детском театре. И она не смогла отказаться. К тому же после прихода Эфроса на Таганку вокруг них образовалась какая-то ледяная пустыня. Многие бывшие друзья-соратники сами собой отпали, отошли от их дома, дав понять, что не одобряют этого шага. А Виктор Сергеевич, которого, к слову сказать, на Таганке сроду не жаловали, встал на сторону Эфроса, продемонстрировав свою приязнь и поддержку. Грех было не написать в его честь что-то заздравно-юбилейное. Впрочем, просто заздравное Крымова писать не умела. Ей надо было самой увлечься, найти отклик на свои мысли и чувства, услышать что-то родственное, созвучное ее тогдашнему мироощущению, довольно-таки безрадостному и мрачному, но все еще цепляющемуся за какую-то необъяснимую надежду, что все было правильно или, по крайней мере, не напрасно.
Чтение прервал чей-то телефонный звонок.
Разговор был недолгим, но последние несколько ее фраз врезались в память: “Нет, ничего устраивать не будем. Толя что-то последние дни неважно себя чувствует. Наверное, давление”.
Она продолжила с той же строчки, на которой ее оборвал звонок. Казалось, что ее ничто не может завести в тупик, сбить с поставленной цели или заданного маршрута. Мне рассказывали, что Крымова могла позвонить всесильному председателю Гостелерадио С. Г. Лапину и сделать строгий выговор секретарше, когда та не спешила подзывать своего начальника. Сам видел, как она нисколько не смутилась, а продолжала насмешливо улыбаться, когда Ф. Раневская с виртуозной непринужденностью отбивала все ее попытки выведать какие-то там фирменные секреты актерского мастерства. И даже убийственный вопрос “За что вы меня так ненавидите?”, заданный самой М. И. Бабановой после просмотра крымовской программы в свою честь, не смог ее всерьез задеть или обидеть.
“Актеры – не люди”, – любила повторять она афоризм своего мужа. Он-то знал, о чем говорил. Крымова тоже.
Мы медленно приблизились к финалу. Метель за окном утихла. Прочитанная рукопись, тщательно собранная листок к листку, была торжественно вручена мне как посольские верительные грамоты.
Уже в прихожей Наталья Анатольевна предложила созвониться в ближайшие дни, когда будет готова верстка.
– Хочу еще раз прочитать. Давайте сразу после 13-го.
И зачем-то добавила напоследок, как мне показалось, не без некоторой веселой игривости, так ей шедшей:
– Я хорошо знаю корректорские знаки.
Но корректуру мне пришлось читать самому.
13 января умер Эфрос.
Он
Мы не были знакомы. Так бывает, когда о ком-то много и сосредоточенно думаешь, а он все никак не материализуется в твоей жизни. Дорога длинная, а карты не сходятся. Эфрос так и остался в моей жизни фантомом. Человеком, чью фамилию я до сих пор не знаю, как правильно надо произносить. Э́фрос или Эфро́с. С ним все время было что-то не так. Какая-то чеховская нескладица. “33 несчастья”. Когда вышли первые некрологи, почему-то там было написано не “Анатолий Васильевич”, а “Анатолий Исаевич”, а потом и вовсе стало известно, что он по паспорту Натан Исаевич. Зачем было ему скрывать свое настоящее имя? Ведь времена “безродного космополитизма” давно канули в лету. То есть, конечно, “пятый пункт” никогда не красил анкету советского отдела кадров, но чтобы так радикально… А впрочем, кто их не заполнял, кто не жил в те самые “сороковые роковые”, не имеет права ни о чем судить и рядить. Поменял, значит, так было надо. Как отнеслись к этому его родители, правоверные евреи, спросить уже не у кого, да и зачем? В смене имени есть всегда акт высшего своеволия и даже какого-то вызова уготованной судьбе. Ветхозаветного библейского Натана сменил вполне себе деловой Анатолий в кепи и макинтоше, как на фотографии, где они с Н. Крымовой сняты вместе перед тем, как отправиться в Рязань, куда его назначили главным режиссером. Молодые, веселые, полные надежд и планов. Но какая-то тайная, тоскливая, тревожащая нота навсегда поселится в его спектаклях. Даже непонятно, откуда вдруг возникала она и в Чехове, и в Мольере, и в Радзинском, и даже во вполне проходном “Человеке со стороны” Дворецкого, в котором ничего особо хорошего, кроме названия, не было.
Просто этим “человеком со стороны” был сам Эфрос. Его сверстники-режиссеры рвались в главные, сражались за свои театры, выпускали премьеры к партийным съездам, целеустремленно бились за звания себе и своим артистам, заседали в каких-то бесконечных президиумах. В таких ситуациях Эфрос лишь растерянно улыбался и пожимал плечами, будто наехал на клумбу с тюльпанами и не знал, что делать дальше.
Он умел только ставить спектакли. Для него это было самое необходимое. Как воздух. И поэтому более или менее все равно где, с кем, на каких сценах. Лишь бы не очень мешали. Лишь бы не хамили. Хамства он на дух не переносил. Как никто был уязвим к грубодушию и бестактности. Он даже в чеховских “Трех сестрах”, которые ставил дважды, переживал по поводу первой реплики Ольги в связи с платьем Наташи. “Розовое с зеленым – это нехорошо, милая”? Как она могла такое сказать при всех? Молоденькой девочке? Переживал, когда грубили актеры. Попросил однажды на репетиции своего бывшего Ромео, Александра Грачева, говорить чуть громче (“Саша, вас не слышно в зале”). В ответ: “Я вам не Карузо”. Вся репетиция насмарку.
Потом дома ночью он писал им письма. Иногда отсылал, иногда нет, рвал или оставлял себе на память. Некоторые из них опубликованы. В этих письмах и дневниковых записях он раскрывается даже больше, чем в спектаклях. Это всегда лирические исповеди. Читаешь и слышишь, как человек заговаривает боль, как пытается утешить других, успокоить, рассмешить, объясниться, чтобы простили, чтобы поняли, чтобы не держали зла.
“Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь”.
Этой тоской по красоте и несбывшемуся счастью были проникнуты все его спектакли, вся его жизнь. В любой пьесе он умел услышать какой-то ломкий весенний хруст, от которого в зрительном зале начинал пробирать непонятный озноб. Надрывное повизгивание скрипок еврейского оркестра в “Вишневом саде”. Нервное стаккато последнего объяснения Ирины и Тузенбаха в “Трех сестрах” (“Скажи мне что-нибудь?” – “Что сказать, что?”). Задыхающиеся монологи Натальи Петровны в “Месяце в деревне” (“Я себя не узнаю. Что сделалось со мной? Словно яда дали”). Перечисляю по памяти, не сверяясь со своими и чужими писаниями. Больше тридцати лет прошло, а было будто вчера.
Я не застал ленкомовского периода Эфроса, но Малую Бронную помню хорошо, ну и Таганку, конечно. На Бронной ему было жутко тесно. Физически и морально. Непередаваемое ощущение от репетиционных комнат, коридоров, общепитовских запахов буфета, непосредственной близости сцены, голосов за любой стенкой. Коммуналка! А чем еще был этот маленький театр при двух-то режиссерах? К тому же главным был не он, а А. Дунаев. Спокойный, незлой, усталый человек, без особого шума ставивший свои спектакли, не претендовавший на чужую славу и пространство. Как-то сосуществовали вместе. Старались соблюдать дипломатию, с начальством вместе и порознь договаривались. Но пространства явно не хватало. И артисты были одни и те же много лет, сильно постаревшие и подурневшие, особенно по сравнению со своими молодыми портретами, висевшими в зрительском фойе. Почему они в какой-то момент так страстно возненавидели Эфроса? Почему так дружно сплотились с новым директором И. Коганом, чтобы изгнать его и Дунаева с этих жалких коммунальных метров? За что?
Похоже, Эфрос никогда не задавался этим вопросом. Про себя он знал за что. Он был виноват, что разлюбил их. Актеры этого не прощают. Ни женщины, ни мужчины. Он перестал их хотеть, занимать их в своих спектаклях. Он стал звать на Малую Бронную других. Более успешных, ярких, звездных. Олег Даль, Станислав Любшин, Елена Коренева, Михаил Ульянов… Гастролеры, отбивавшие у них главные роли, отбиравшие у них его, Эфроса. Что делали раньше брошенные, нелюбимые жены? Шли в местком и партком. Что сделали актеры с Малой Бронной? Побежали в Управление культуры, стали заседать, постановлять, писать коллективные письма. Читать их сейчас страшно и стыдно. Но за всем этим слышится один только даже не крик, а вой “женщин всех времен”: “Полюби нас снова”.
А он не мог. Не хотел, не получалось. Театр – сложный процесс. Это всегда любовный акт. В тесноте и обиде мало что может получиться путного. Поэтому когда Эфросу представилась возможность ставить на других сценах и с другими актерами, он радостно на это повелся. Ему хотелось новых впечатлений, нового опыта. Хотелось свежих лиц, какой-то очаровательной легкости, которая давно ушла из его многотрудной жизни на Малой Бронной. Он удивлялся другому укладу, западной улыбчивой обходительности и деликатности без совкового подобострастия. Он не мог надивиться на японку Комаки Курихару, Комаки-сан, которая привычно оставляла свой “мицубиси” за два квартала от театра в Токио, где они репетировали, и шла пешком, чтобы только никто из актеров не видел, на какой дорогой машине она подъехала. Он удивлялся западной точности, подтянутости, готовности исполнить любой его приказ, любое его самое безумное предложение. Он мгновенно усвоил, что на Западе время – это деньги. И быстро научился расходовать отпущенное ему время на репетиции и выпуск предельно четко, разумно и экономно. Эфрос всегда работал быстро, но этот деятельный ритм западной жизни только подхлестывал его и бодрил. Значит, и он может соответствовать, значит, его советский background и незнание иностранных языков – совсем не помеха для профессиональной работы. Значит, можно начать новую жизнь в пятьдесят шесть лет!
Судя по некоторым страницам из его книг “Профессия: режиссер” и “Продолжение театрального романа”, он приглядывался к западной жизни с восторженным и трогательным любопытством человека, которого полжизни продержали взаперти. И вот теперь он ошалело ходит по чужим улицам, смотрит на витрины, бессмысленно улыбается встречным женщинам, а потом садится где-нибудь на открытой террасе кафе, заказывает пиво, а пока не пришел официант, подставляет лицо весеннему солнцу. И счастливее его нет никого на свете. Вот таким я вижу Эфроса во время его заграничных вояжей начала 1980-х. Разве это могли ему простить коллеги?
А вот о том, чтобы остаться на Западе по примеру других соотечественников-“невозвращенцев”, он, конечно, всерьез не думал никогда. Для этого, наверное, надо было быть более смелым и бесчувственным. К тому же дом есть дом. Его ждали престарелые родители, Наташа, сын… И даже эти перессорившиеся артисты с Малой Бронной – они ведь тоже ждали, втайне до последнего на что-то надеясь. Но когда Эфрос возвращался в Москву и хотел устроить для них что-то вроде лекции с показом слайдов и видео о своем новом спектакле, они демонстративно делали вид, что это их не касается. И он сидел в полутьме один со своими ненужными слайдами и афишами, как на собственном дне рождения, на который никто не пришел, кроме нескольких девочек-театроведок с тетрадками. Он, конечно, делал вид, что все в порядке. Ничего страшного, пришли те, кому действительно интересно. Но на душе было темно.
“Если не смотрят свои, то кажется, что и спектакля нет”.
И, конечно, актеры Малой Бронной не могли простить самую главную его измену, самую непереносимую и ревнивую их обиду – Ольгу Яковлеву.
Его актриса
Собственно, мое увлечение театром Эфроса началось с нее. “Чтобы был театр, нужна актриса”. Такая актриса у него была. В ранних письмах он называл ее “Тигренок” и на “ты”. Потом – все более чинно и церемонно, на “вы” и “милая, всегда смешная Оленька”. Роман, о котором шепталась вся театральная Москва, быстро закончился, но отношения остались. В них были и нежность, и теплота, и грусть, и та подлинная, выстраданная близость, которая связывает уже не очень молодых, много чего переживших людей, преданно держащихся друг друга. Таких дуэтов в истории нашей сцены было не так много: Таиров и Коонен, Мейерхольд и Райх, сильно позднее – Владимиров и Фрейндлих. Исключительное положение первой актрисы в этих парах подтверждалось и официальным статусом жены.
У Яковлевой и Эфроса была другая модель, свободная от дополнительного прессинга матримониальных обязательств и прав. У каждого из них была своя семья, своя неприкосновенная территория личной жизни. Их связывал только Театр. Но и этого было достаточно, чтобы создавать неповторимое ощущение какой-то нервной вибрации, невидимого, но вполне ощутимого электричества, возникавшего при одном ее появлении на сцене. “Мы провода под током”, – сказано совсем по другому поводу. Но и про Яковлеву тоже. Она не сразу загоралась. Что-то тянула, кусала губы, невпопад качала головой, подолгу всматривалась в темноту зала невидящими серыми глазами. И в эти моменты выглядела манерной и даже странноватой. Такой же странной казалась Белла Ахмадулина, когда стояла у микрофона и читала свои стихи. Женщины одной стаи, почти одного поколения, одной высокой ноты. Но когда Яковлева, внутренне собравшись, эту ноту каким-то сверхъестественным усилием брала, то чувство было такое, что спектакль, который до того неспешно полз, буквально на глазах обретал дыхание, ритм, новый смысл. Что-то начинало тут же происходить, двигаться, так же неумолимо, как свадебная процессия в “Женитьбе”, или раскручиваться с дикой скоростью, как безумная беседка-карусель в “Месяце в деревне”. И в центре была она, “милая, всегда смешная Оленька”.
Впрочем, смешной она бывала, только если это требовалось по роли, да и то, на моей памяти, не слишком часто. А вот милой – так просто почти никогда. Все партнеры в один голос жаловались на ее трудный характер. Костюмерши рыдали от ее бесконечных придирок и переделок. Своими костюмами и париками она была хронически недовольна. В дни, когда Яковлева играла, за кулисами полагалось не дышать. Все знали, что в приступе ярости она выбирать выражения не будет. Могла, как фурия, прямо во время спектакля вбежать за кулисы и вырвать с мясом телефон, чтобы уже больше никогда не звонил. Могла актеру прямо перед выходом на сцену прошипеть: “Бездарность”, – и тут же сыграть проникновенную любовную сцену, да так, что зрительный зал, как по команде, начинал тянуться за носовыми платками. Была гневлива, резка, нетерпима. За Эфроса могла убить. Но и ему, бедному, тоже от нее доставалось. Она неистово ревновала его к другим актрисам. Не могла даже слышать имени Комаки-сан. И, кажется, до сих пор не может простить Эфросу, что “Вишневый сад” он поставил не с ней, а с Аллой Демидовой.
По своей природе он был, конечно, “женский режиссер”. Ни до, ни после никто не чувствовал женской природы и психологии с такой обостренной зоркостью, как Эфрос. Он знал о женщинах все. Легко расшифровывал их сны, терпеливо выслушивал их рассуждения о системе Станиславского, великодушно прощал обманы, не уставал восхищаться их способности подчиняться и забывать. Был щедр и заботлив, каким может быть только еврейский муж. И первым бросался помочь какой-нибудь уборщице, если видел, что та тащит тяжелое ведро с водой. Это с его-то больным сердцем! Недаром он готов был пересматривать “8½” Феллини бесчисленное количество раз только из-за одной сцены “гарема”, где герой Марчелло Мастроянни собирает вместе под одной крышей жену, любовницу, всех женщин, с которыми он спал или которых просто хотел. Гарем как воплощение безмятежного мужского рая. Все рядом, под боком. И молодые, и вышедшие в тираж. Никто не страдает от измен и угрызений совести, а просто живут и радуются. Но все заканчивается плохо. Рая нет, бабы скандалят и ненавидят друг друга, счастье невозможно ни у Феллини, ни у Эфроса.
Мне рассказывали, как однажды заболела его помощница, ассистентка. Не Бог весть как они были близки и даже знакомы. “Таня, принесите… Таня, передайте…” Не более того! Тихая, незаметная женщина. Очень ответственная, исполнительная, молчаливая. Эфрос, заметив ее отсутствие, специально разузнал, в какой она больнице, купил банку икры и поехал куда-то в Фили. Когда она увидела его на пороге своей многоместной палаты, остолбенела. Ну, это как если бы Марлон Брандо появился в районной московской больнице. Смущенные женщины в байковых халатах, весь этот нищий больничный уют – и тут Эфрос со своей икрой, неловко притулившийся на краю казенной кровати. Просидел он на удивленье долго. Что-то рассказывал про себя, про детство, про родителей. А когда замолкал, видно было, как его что-то гнетет, как ему нехорошо. Когда он ушел, соседки по палате спросили: “Это был твой муж?” Чтобы долго не объяснять, кто да что, Таня ответила: “Нет, это мой начальник”. И тут же получила в ответ: “Не ври, девка, таких начальников не бывает”.
Эфрос действительно совсем не умел и не хотел быть начальником. Театр приучил его лавировать, ускользать от неприятных прямых ответов, избегать категоричных “нет” и “да”. Он “думал”, он “советовался”, он бесконечно переигрывал одну и ту же ситуацию и все равно в результате делал все по-своему. Вот история, которую я знаю сразу от нескольких ее участников, а точнее участниц. После успеха телевизионной “Фантазии” Майя Плисецкая предложила ему сделать новый проект с собой, разумеется, в главной роли. Чего хотите, Анатолий Васильевич? О чем мечтаете? Мечтаю, говорит, о “Гедде Габлер”. Майя пьесу не читала, но краем уха что-то о ней слышала. И название красивое. Почему нет? Как человек деятельный, не любящий ничего откладывать на потом, она развернула активные действия и добилась личной аудиенции у председателя Гостелерадио С. Г. Лапина. Так, мол, и так, хочу сыграть-станцевать Гедду Габлер. Эфрос поставит, Щедрин сочинит, Левенталь нарисует, Карден сошьет… Устоять перед напором и обаянием Плисецкой, как известно, было невозможно. Лапин на все дал добро. Согласие главного телевизионного начальника получено, бюджет обещан, приступать к работе можно хоть завтра. Окрыленная победой, Майя звонит Эфросу. А дальше выясняется, что он за время ее хождений по начальству к телевизионному замыслу остыл, что “Гедду” хочет ставить в театре и не с ней, а с… Инной Чуриковой.
Спустя много лет Майя Михайловна пересказывала мне их телефонный разговор в аэропорту испанского города Авьедо, где мы вместе ждали вылета в Мадрид. Обида на Эфроса осталась у нее на всю жизнь, как шрам, который начинает ныть, как только до него дотронешься. Даже спустя много лет после его смерти она наотрез откажет Крымовой принять участие в готовившейся книге воспоминаний. На вопрос Н.А., почему, выложит сюжет с Геддой. Та только тихо ахнет: “Если вы об этом напишете, я умру”.
Но на этом история “Гедды Габлер” не закончилась. С Чуриковой в Ленкоме по каким-то причинам ничего не сложилось, и многострадальная пьеса Ибсена перекочевала в репертуарные планы Театра на Таганке. По словам Аллы Демидовой, Эфрос предлагал Гедду ей, но с оговоркой: “Правда, Оля просит”. Яковлева ничего не просила и об этих переговорах не знала. Во всяком случае, когда мое интервью с Демидовой было опубликовано летом 1991 года, Ольга Михайловна была просто вне себя от гнева. “Я памятью мамы клянусь, – выговаривала она мне, – я отказывалась от этой роли. Считала, что не имею права в сорок пять играть Гедду Габлер. Но Анатолий Васильевич настаивал, убеждая меня, что суть тут другая и возраст совсем не важен”. Потом было распределение ролей и, конечно, на Гедду была назначена Яковлева. Начались застольные репетиции. И только Алла Сергеевна, никогда внутренними театральными делами не интересовавшаяся и никакие объявления не читавшая, еще какое-то время продолжала изучать творчество Генрика Ибсена, чтобы быть во всеоружии своей просвещенности и знаний о норвежском драматурге.
А придумал тогда Эфрос красиво. Его интересовала история жертвы, женщины, которая попала в западню. У нее нет будущего. Но есть выход – два отцовских пистолета, которые она приберегла, чтобы уйти от всех, ненавидящих, любящих, равнодушных. От всех! И уйти красиво. Она сама срежиссировала свой уход. Наверное, это то, о чем он думал последний год неотступно. “Зато у меня есть мои пистолеты”, – повторял он с какой-то детской интонацией, показывая Яковлевой, как она будет умирать в финале.
Впрочем, я забежал сильно вперед. Ему еще предстояло прожить два года на Таганке.
Не его театр
В 1985 году стало окончательно ясно, что жизни для него на Малой Бронной не будет. Надо уходить. Но куда? Было несколько вариантов. Один из них предложил Лев Додин – поставить спектакль у него в Малом драматическом театре. Можно было попроситься к Ефремову во МХАТ. Тем более там с успехом шли два его спектакля – “Тартюф” и “Живой труп”. Но Олег Николаевич был поглощен грядущим разделом театра, и не факт, что в новой труппе нашлось бы место Эфросу. К тому же было ясно, что даже при благоприятном решении Яковлеву ему взять с собой не удастся. Мхатовские актрисы ее возраста годами сидели без работы. Оставаться на Малой Бронной после всех скандалов она тоже не могла.
Третий вариант был озвучен управляющим отдела культуры г. Москвы Валерием Ивановичем Шадриным и свелся к одному предложению: “Берите Таганку”. Вот уже два сезона легендарный театр дрейфовал по воле волн без главного режиссера. Новых спектаклей никто не ставил, актеры бегали по халтурам или беспробудно пили. Перспективы возвращения на родину Юрия Петровича Любимова, лишенного советского гражданства и делающего одно заявление отчаяннее другого, казались почти нереальными. Кто-то должен был взять на себя его обязанности и усмирить таганскую вольницу, чреватую неизбежным закрытием театра. Для этого нужен был режиссер с именем, с опытом и авторитетом. Такова версия начальства. Таился ли в ней иезуитский ход одним ловким приемом расправиться сразу с двумя главными театральными оппозиционерами? Сомневаюсь. Власть была так неуклюжа и так растерянна перед лицом надвигающихся перемен, так стремилась любыми способами погасить очевидный очаг напряженности в центре столицы, что о последствиях своего маневра, похоже, не задумывалась.
В своей книге “Если бы знать” Яковлева описывает, как Эфрос позвал ее на семейный совет решать, что ему делать. Дома были только Наталья Анатольевна и Дима. Идею “взять Таганку” Крымова безоговорочно поддержала (“Я двумя руками «за»” – это цитатно). Она видела, как мучается Эфрос без своего театра, и знала, что такие предложения не поступают каждый день. Яковлева знала это не хуже нее, но была “двумя руками против”. Ее аргументы – “хамский, пьющий, бандитский театр”, где ни он, ни она не смогут работать, после которого Малая Бронная покажется курортом. В тот вечер окончательное решение так и не было принято. Алла Демидова, случайно узнав, что с Эфросом активно ведутся переговоры о переходе на Таганку, в не свойственной себе манере тоже попыталась вмешаться и предостеречь его от рокового шага. “Все равно они будут ждать Любимова, – предупреждала она. – Никакая творческая работа в этой ситуации невозможна. Вы попадете в ловушку, из которой невозможно будет выбраться”.
Наивно думать, что Эфрос ничего этого не предвидел. Или что его смогли бы остановить женские советы, мольбы или даже угрозы. Для него речь шла не о перемене места работы или о каком-то новом статусе. Это была судьба, когда уже невозможно вернуться назад или свернуть в сторону, а можно двигаться только в одном направлении, сквозь бесконечный туннель Садового кольца в сторону мрачного кирпичного здания, похожего на крематорий. Таганская площадь, д. 2. Говорят, когда строили новое здание театра, то обнаружили целое кладбище кошек. Плохая примета.
Есть историческая фотография первой встречи Эф-роса с актерами Таганки, на которой черно от спин и затылков. Напряженные лица в президиуме. Кажется, уже прозвучал вопрос из самой гущи зала: “Почему вы пришли с начальством?” Эфрос пытается что-то ответить. Вроде, что таков протокол. Ведь должен же его кто-то представить труппе. А лицо при этом растерянное и несчастное. До последнего он верил, что сумеет изменить ситуацию враждебности и недоверия, что новая работа всех сплотит, заставит встряхнуться, забыть обиды, перестать жить прошлым, пусть даже таким славным, как у Театра на Таганке.
Первым делом он возьмется восстанавливать и приводить в порядок сильно обветшавшие спектакли Любимова. Ни разу не посмеет переступить порог легендарного кабинета основателя театра. Все два года будет ютиться в какой-то проходной комнате. Всё наспех, на бегу, без расчета обосноваться надолго, чтобы воспользоваться полагающимися привилегиями главрежа. В сущности, перейдя на Таганку, Эфрос получил только одну привилегию – репетировать с утра и до ночи. Для своего первого спектакля выбрал пьесу М. Горького “На дне”. Метафора читалась однозначно. Все мы тут на дне, в прямом и переносном смысле. В ночлежке с выбитыми окнами, глядящими в беспросветную ночь. И что остается? Только переругиваться злыми голосами и ждать в сгущающейся тьме, когда наступит конец. Он хотел, чтобы на сцене был хор из разных голосов и судеб. Чтобы в какой-то момент он грянул с неистовой вердиевской мощью, чтобы до нас дошел наконец смысл давно заезженных слов классика: “Человек! Это звучит гордо”. Но слаженного хора не получилось. Трагической музыки эфросовской режиссуры актеры Таганки не слышали. Или не хотели услышать. Каждый пел в свою дуду. В память зрителям премьеры врезался один эпизод, когда Настя, которую играла Яковлева, запустила туфлей в Барона (Вениамин Смехов), но промахнулась и угодила ею прямо в известного критика и влиятельного начальника Е. Суркова, сидевшего в первых рядах партера. Сигнал со сцены Таганки прозвучал вполне недвусмысленный: спасайся, кто может! Новых жертв не избежать.
Только Крымова продолжала хранить королевское спокойствие. Впервые за многие годы она ощутила себя Хозяйкой Театра. Она распоряжалась, кого и с кем сажать, кого из критиков звать или не звать. Она контролировала ситуацию не только в партере, но и вокруг, стараясь повлиять на общественное мнение, а главное, убедить всех, что Таганке необходим Эфрос, что фрондеров и скандалистов не надо брать в расчет, что театр ждут в ближайшие сезоны небывалый расцвет и подъем. Но общественность реагировала на крымовский пиар недоверчиво и прохладно. Кто-то, как, например, Майя Туровская, вообще отказался переступать порог Таганки. Кто-то вел себя менее демонстративно, давая, однако, понять, что не одобряет приход Эфроса в любимовский театр.
Крымова старалась беречь мужа от неприятных слухов и разговоров, тем более что во время выпуска “На дне” у него случился микроинфаркт. Но после исторического визита Горбачева на премьеру “Мизантропа”, похоже, почувствовала, что земля уходит у нее из-под ног. Новый генсек рассыпа́лся в комплиментах Таганке, вспоминал любимовские спектакли как главные театральные переживания своей жизни, потом переключился на только что снятый с полки фильм “Покаяние” Абуладзе и при этом дал понять, что не одобряет практику запретов, гонений и преследований по политическим мотивам. Слова Горбачева можно было истолковать по-разному. Но Крымова и Эфрос поняли однозначно: Любимову разрешат вернуться, если на то будет его добрая воля. Собственно, именно такую приписку от себя сделает Эфрос на коллективном письме актеров Таганки: “Присоединяюсь к просьбе учеников Ю. Любимова помочь ему вернуться, если сам того желает. А. Эфрос”.
Как и предсказывала А. Демидова, все помыслы ее коллег по театру были теперь сосредоточены на операции “Возвращение”. Шли бесконечные переговоры с Вашингтоном, где тогда жил Любимов, подготовка коллективных писем и прошений. Никому не было дела ни до спектаклей, которые шли на сцене, ни до репетиций Эфроса. Актеры то приходили, то исчезали на неделю-две, то возвращались снова. Кто-то запивал горькую, кто-то где-то снимался. Общая атмосфера разброда и внутренней несобранности чувствовалась теперь и на сцене Таганки. Жизнь на сквозняке, когда не за что зацепиться, когда нет даже самого необходимого – какого-то своего места, угла, чтобы спрятаться от всех.
“Понимаете, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда человеку некуда больше идти?”
Что-то от Достоевского, от пьяных вопрошаний Мармеладова слышалось в коридорах Таганки, в гулких интерьерах кирпичной кладки, в неуютных актерских уборных, пропахших перегаром и дешевым гримом. Тоскливая жизнь накануне, которая должна была вот-вот прерваться или повернуть совсем в другую сторону, – это тоже было в спектаклях, которые поставил за два года Эфрос. Они не считаются его удачами. Критика о его последнем периоде пишет скупо и как бы сквозь зубы. “У войны не женское лицо” по прозе С. Алексиевич, “Прекрасное воскресенье для пикника” Т. Уильямса, “Полтора квадратных метра” по повести Б. Можаева. В первых двух спектаклях он нащупывал какой-то свой новый стиль, не обремененный привычной “душевностью” или “психологией”, свободный от декоративной установки или постановочных изысков. В противовес тягостной и грустной жизни вокруг ему хотелось какой-то ослепительной джазовой легкости, импровизационной непрерывности актерского существования. Но как ее было добиться от актеров, натренированных совсем в другой манере, привычно откликающихся только на свирепый режиссерский ор или мигающий фонарь из зала: громче-тише, быстрее-медленнее… Наверное, и это бы Эфрос преодолел. Уговорил, увлек, обольстил, как он это умел всегда делать даже с самыми безнадежными и беспомощными. Кстати, те немногие из актеров Таганки, кто действительно хотел работать, были заворожены его репетициями, его внутренней сосредоточенностью, которую не могли поколебать никакие внешние обстоятельства, никакие проколотые шины его машины или порезанная бритвой в служебном гардеробе дубленка. Обо всем этом узнали уже после его смерти. Эфрос продолжал работать истово, упорно, будто обретал свое единственное спасение в репетиционном зале. А когда репетиция подходила к концу, глотал пригоршню самых разных таблеток и шел заниматься организационными делами, которые ненавидел, но кому-то ведь надо было брать их на себя.
Роман Виктюк рассказывал мне, как однажды зашел к Эфросу с какой-то просьбой. Застольная репетиция пьесы И. Дворецкого “Любители общества кактусов” подходила к концу. У Эфроса было черное от усталости лицо. Ему надо было дать хотя бы немного передохнуть, но в комнату ворвались люди с неотложными бумагами. Пока он с ними разбирался, Виктюк подошел к окну и в тот же миг отшатнулся. Внизу он увидел странного вида женщину, которая стояла на снегу в свете одинокого фонаря и угрожающе трясла кулаками, задрав голову вверх. Ему даже показалось, что он услышал слова ее проклятий, типа: “Жид, убирайся в свой Израиль и т. д.”
– Вы это видели, Анатолий Васильевич? – оторопело спросил Виктюк.
– Да, она стоит тут целыми днями, – безучастно ответил Эфрос, не отрываясь от принесенных документов.
– Но, может быть, стоит вызвать милицию?
– Чтобы потом обсуждали, как Эфрос засадил в каталажку бедную городскую сумасшедшую. Нет уж, избавьте меня от этого. Пусть там стоит и кричит, что хочет. У нас же теперь свобода!
Он успеет выпустить “Мизантропа” – свой последний спектакль. Символично, что режиссер, начинавший путь постановкой пьесы, которая называлась “В поисках радости”, закончил мольеровским “Мизантропом”. Все было черным-черно на сцене и в зале, как будто пеплом посыпали или огнеметом прошли. Только редкие вспышки света, только редкие диссонансы саксофона и рояля. Три старинных кресла – все, что уцелело от давно случившегося пожара, – вот и весь салон Селимены. И какой-то бесконечный, утомительный поток слов, который несет всех непонятно куда и зачем. Все говорят, и говорят, и говорят, как будто бегут наперегонки свой унылый мольеровский кросс по пересеченной местности. Половину слов из зала не было слышно. Но, похоже, Эфросу не было до этого дела. Мы не в Комеди Франсэз, будто говорил он, пожимая плечами. Пусть так, лишь бы не теряли темп, не теряли нить и хотя бы как-то дошли до финала.
Я помню финал “Мизантропа”. Этот убывающий теплый луч света, в последний раз скользнувший по неподвижному лицу Селимены и угасший вместе с ее улыбкой. Прощай, дорогая! Ты, как всегда, победила. И время, и Альцеста. Ты останешься сидеть в своем кресле, недвижима и грустна, как кукла наследника Тутти, которую уже больше не оживит доктор Гаспар Арнери. Еще одна театральная сказка подошла к концу.
…А потом Эфрос умер.
Его похороны на Таганке – это тоже веха в истории советского театра. Можно сказать, что ими по сути этот театр и закончился. Какой-то вагнеровский мрачный хор в зимних пальто и дубленках неуклюже толпился у гроба, стоявшего на фоне выбитых окон из декорации “На дне”. В одной из глазниц висел черно-белый портрет Анатолия Васильевича, улыбавшегося вполне миролюбиво. Но не было успокоения, не было скорби и примиряющей благости. В наэлектризованном воздухе чувствовалась атмосфера скандала, которую по обоюдной договоренности всем приходилось гасить нечеловеческим усилием воли. И опять что-то было от Достоевского, от похорон Мармеладова в этом последнем явлении Эфроса на сцене Таганки. Очередь двигалась медленно. А потом и вовсе перед нами закрыли дверь. Там, в зале, остались только близкие. Яковлева кричала над гробом: “Волки!” Все это происходило за закрытыми дверьми.
В фойе набилось много народу. Никто не разговаривал. Кажется, даже не было траурной музыки, как принято. Никакого Шопена. Только тишина. Душная, пред-обморочная. Мы просто стояли и ждали, когда вынесут гроб. Двери открылись, из зала стали выходить люди, а потом появилась Крымова. В какой-то серой растянутой домашней кофте. Все с той же серебряной челкой. Но это была другая женщина, совсем не та, которая читала мне накануне у себя на кухне статью про Виктора Розова. Сказать, что она была сломлена или убита горем, – неточно. Ее просто не было. Боль, растерянность, немой вопрос, застывший в заплаканных глазах: “Почему? Почему?”
Кажется, впервые в своей жизни она не знала ответа. Наверное, это были самые страшные мгновения, которые ей дано было пережить. И оставшиеся пятнадцать лет жизни она с маниакальным упорством будет возвращаться к этому вопросу, пытаясь объяснить себе и всем вокруг, как это могло произойти, кто виноват и почему, почему ей не удалось его тогда спасти. Никто не зааплодировал, когда вынесли гроб. Все-таки шел январь 1987 года, и мы все были очень зажатыми советскими гражданами, непривычными к чересчур аффектированным жестам.
Эпилог
…На кухне в доме на Сретенке я очутился снова несколько месяцев спустя, когда пришел договариваться с Натальей Анатольевной о специальном выпуске “Театральной жизни”. Тогда в разгар перестройки была создана молодежная редакция и было принято решение посвятить наш первый номер памяти Анатолия Васильевича. Мы пили чай с принесенным мною печеньем, взглянув на которое она сказала: “Такое раньше привозил наш папа”. Почему-то эта фраза врезалась в память непривычной для Крымовой интонацией беззащитности. Идея спецвыпуска ей понравилась. Мы тут же набросали список предполагаемых авторов, придумали структуру. Она пообещала сделать выписки из дневников Анатолия Васильевича. Мне казалось, что ей будет больно касаться всех этих записей, воспоминаний, фотографий. Так мало еще времени прошло. Но ей это было нужно. Она как будто снова проговаривала свои монологи, обращенные к нему, она снова что-то хотела доказать и кого-то переспорить. Люди из молодежной редакции, и я в том числе, были не участниками этого диалога, а только сочувствующими зрителями, безликим хором, подававшим иногда невпопад свои малозначащие реплики. По-своему это был пронзительный спектакль, в котором она была и обвинителем, и обвиняемой, и жертвой, и адвокатом. Все вертелось вокруг одного: надо ли было Эфросу переходить на Таганку, кто виноват в том, что произошло на Малой Бронной, почему его предали ученики и что она, Крымова, сделала не так, в чем ее вина?
Наталья Анатольевна была не из тех, кто готов делиться своими сомнениями и печалями. В присутствии посторонних она оставалась строга и непоколебима: на Таганку переходить было надо. Более того, с жаром, ей вовсе не свойственным, она каждый раз бросалась меня убеждать, каким свободным Эфрос почувствовал себя там, как восхищался любимовскими актерами, называл их “артелью”, “артельщиками” и как они в конце концов его полюбили.
У меня не находилось слов ей возражать. Наверное, так чувствует себя свидетель, по воле случая оказавшийся на месте преступления, истинные причины которого ему так и остались неизвестны.
Наш номер между тем собирался довольно быстро. Что-то по нашей просьбе вспомнил Валерий Золотухин. Алла Демидова дала куски из своего дневника, посвященного репетициям “Вишневого сада” в 1975 году. Небольшой мемуар написал Давид Боровский. В большинстве этих текстов были боль, жалость, раскаянье. Но главное ощущение, что за всем этим скрывается нечто большее, чем просто фатальное совпадение обстоятельств, включая отсутствие злополучного дефибриллятора у бригады скорой помощи, которая приехала спасать Эфроса от сердечного приступа. Тут было что-то другое. Какая-то своя режиссура судьбы. Этот финал был напророчен его спектаклями. Похоже, Эфрос знал, что будет после. И что случится с той женщиной, которая до последнего не выпускала из рук своего воздушного змея, пока не пришел рабочий сцены и не отобрал его у нее, как это было в финале его “Месяца в деревне”.
Наш мемориальный выпуск “Театральной жизни” и был для Н.А. чем-то вроде этого воздушного змея, за который она цеплялась, как еще за одну нить, связующую ее с прошлым, с Эфросом. И то, что их сын, Дмитрий Крымов, будущий знаменитый театральный режиссер, придумал оформление, и то, что там было так много портретов Анатолия Васильевича, – все это делало наш номер чем-то большим, чем просто еще один театральный журнал. К тому же, пока мы его готовили, случились другие несчастья. Вначале умер Андрей Миронов, потом – Игнатий Дворецкий. Оба были нашими авторами, успевшими написать по нашей просьбе об Эфросе. И было бесконечно грустно обводить их имена траурными рамками.
Я совсем не помню реакцию Крымовой на выход номера. Кажется, никаких особых восторгов или благодарностей. Были планы встретиться и скромно отметить это событие. Но и это как-то не сложилось. Новая жизнь очень быстро набирала свой темп. Декорации менялись, главные действующие лица – тоже. И все, что было связано с эпохой Эфроса, его театра и героев, становилось красивым преданием, одним из мифов нашего общего прошлого.
Потом время от времени мы виделись с Натальей Анатольевной в театрах и на эфросовских годовщинах. Все помнили, кто она, но в последние годы, даже еще до своей болезни, Крымова резко перестала писать. Некуда, да и незачем. В одну из наших последних встреч я предложил ей взяться за воспоминания об Анатолии Васильевиче.
– За эти тринадцать лет не прошло и дня, чтобы я не думала об этом, – сказала она. – Но я не знаю, с чего начать. Не знаю, кому, кроме меня, это может быть интересно.
– Да не думайте вы ни о ком! Пишите ему, пишите для него, – настаивал я со всем своим редакторским пылом.
Крымова помолчала, как будто мысленно прикинула все за и против, а потом сказала такую фразу:
– Толе это не нужно. Но я надеюсь, что он все узнает от меня при личной встрече.
2017Doggy box, или пища богов Роман Виктюк
Он помог мне пережить тяжелое время – начало девяностых. Даже не знаю, что бы я без него делал. Журнал, который я выпускал, закрылся. В “Огоньке” платили сущие гроши, на которые нельзя было прожить. Работа пиарщика в Театре Романа Виктюка, подвернувшаяся совершенно случайно, оказалась очень кстати. Это был первый частный театр Новой России. На самом деле Роман Григорьевич не очень-то нуждался в моих услугах. Если кто-то и владел искусством self-promotion, то, конечно, он. Журналисты и телевизионщики обожали Виктюка и слетались на него, как пчелы на мед. Мне оставалось только регулировать их прилеты, отслеживая дальнейшую траекторию публикаций и выходов в эфир. Это была эра первоначального накопления капитала, корпоративных кафе и самодеятельного глянца. “Служанки” и “М. Баттерфляй” – главные хиты Виктюка – идеально вписались в разномастный контекст нового времени, оставаясь в топе самых востребованных столичных спектаклей. Сам маэстро откровенно наслаждался успехом и свалившимся на него достатком, но “золотой дождь” продлился недолго. Вначале разорился главный спонсор – Кредо Банк, потом, как водится, стали разбегаться актеры. Виктюк и тогда устоял. Не сдался, набрал молодых. Всему обучил, поставил с ними множество новых спектаклей. Добился от правительства Москвы здания для своего Театра – помещение в ДК им. Зуева в Сокольниках. И даже сумел изгнать оттуда ненавистный ресторан “Бакинский дворик”, считавшийся абсолютно неприкасаемым. Всех победил великий Виктюк. Говорят, сегодня ему стало трудно выходить на поклоны после спектаклей. Немудрено, все-таки уже за восемьдесят! Но если окажетесь в его Театре, советую хлопать громко, до упора: он обязательно появится.
Что такое doggy box, я впервые узнал от Романа Виктюка. А дело было в 1982 году. На мхатовскую премьеру “Татуированной розы” ждали самого автора, классика американской драматургии Теннесси Уильямса. Времена были глухие, застойные, темные. Брежнев еще не умер, но, кажется, уже был не очень жив. Знатные иностранцы не спешили идти на контакт с русскими, подозревая всякого, кто мало-мальски говорил по-английски, в сотрудничестве с КГБ. Сам Олег Ефремов со смехом рассказывал, как он, случайно узнав, что Уильямс остановился в том же отеле в Вашингтоне, что и делегация советских театральных деятелей, стал добиваться с ним встречи. И добился! – надо знать Олега Николаевича. Но что из этого вышло? Одно расстройство.
В оговоренное время к нему в номер тихо постучали и на пороге возник маленький старичок с усиками, в очках и с блуждающей полубезумной улыбкой. В сопровождении двух молодых людей атлетического сложения он боязливо вошел в ефремовский люкс. Пальто снимать отказался, присел на предложенный стул, терпеливо выслушал пламенную речь Ефремова и ее пространный перевод в исполнении приставленного сотрудника посольства. А потом, не сказав ни единого слова, с той же блаженной улыбкой тихопомешанного поднялся и вышел вон.
Ефремов и драматург Михаил Рощин, специально позванный познакомиться с классиком, на какое-то время онемели: приснился им, что ли, их гость? Или правда это был автор “Трамвая «Желание»”?
“Вот и поговорили”, – вздохнул флегматичный Рощин и стал разливать “Столичную”. Не пропадать же добру!
На премьеру своей пьесы в Москве Уильямс ехать отказался, а вместо себя прислал своего агента, пожилого господина в клубном блейзере с золотыми пуговицами, делавшими его похожим на привратника “Метрополя”. Он и держался соответствующе, как большой начальник. Так что когда в финале артисты стали ему аплодировать и всячески выражать свою радость по поводу его присутствия в зале, зрители были в полной уверенности, что это живой Уильямс и есть.
Старик расчувствовался от такого приема, даже смахнул слезу и во всеуслышание заявил, что теперь его очередь отблагодарить театр. И тогда по мхатовским коридорам и гримеркам шаровой молнией пронеслось заветное слово “банкет”. И не где-нибудь, а в “Сакуре”! В единственном московском японском ресторане, где никто не был, потому что к оплате там брали исключительно кредитные карты и доллары. Закрытый ресторан для богатых интуристов в Хаммеровском центре на Краснопресненской набережной – если кто не знает или уже не помнит!
Тут же секретарь Ефремова подготовила и напечатала список, куда были включены члены руководства парткома МХАТа, профкома, зав. постановочной части, зав. литературной части. Разумеется, Ефремов с Анастасией Вертинской (они тогда всюду выходили вместе), разумеется, Ирина Мирошниченко с Виктюком (все-таки исполнительница главной роли и режиссер-постановщик), ну и кто-то там еще…
Список отнесли к лже-Уильямсу. Он долго его изучал, шевеля губами, будто силился произнести имена, написанные кириллицей. Потом оторвал мутный взгляд от списка и произнес по-русски коротко, но абсолютно понятно: “Пять”. Что пять? Почему пять? Откуда пять? Он может пригласить только пять гостей от театра.
Список медленно выпадает из его рук, а точнее, отправляется в мусорную корзину, а вместе с ним и планы ведущих деятелей МХАТа закусить и выпить на халяву в дорогом валютном ресторане. “Так гибнут замыслы с размахом”….
Но Виктюк не унывает. Он знает одно заветное иностранное слово – doggy box. Банкет состоится, обещает он артистам и постановочной части. “Каким это образом?” – недоверчиво спрашивают его бывалые мхатовцы, всей своей нелегкой жизнью приученные не доверять режиссерам и их обещаниям. “Ну, это уже моя забота!” – восклицает Виктюк и удаляется в сторону Краснопресненской набережной.
Когда он шагнул в ресторан на четырнадцатом этаже Хаммеровского центра, гости в полном безмолвии церемонно вытирали руки влажными салфетками и пили теплый саке. Их безмолвие оказалось вынужденным. Английским языком из мхатовцев владел только Виталий Вульф. Предполагалось, что он и будет переводчиком. Но он высокомерно игнорировал свои непрямые обязанности, оставляя без перевода и речи агента Уильямса, и колкие реплики Насти Вертинской, и даже тост Ефремова.
Впрочем, содержимое тарелок, которые с ловкостью жонглеров метали официанты, интересовало гостей гораздо больше, чем светская беседа с малоинтересным агентом Уильямса. Не говоря уже о том, что после нескольких чашек саке русская речь полилась легко, без принуждения и оглядки на иностранца, скучавшего во главе стола в полной изоляции и одиночестве. Кажется, что о его присутствии забыли и вспомнили лишь в тот момент, когда он произнес: “Check, please!”
На секунду повисла неловкая пауза, какая бывает, когда никто из участников ужина даже не пытается ощупывать свои карманы и изображать готовность поучаствовать в расплате. В воздухе на мгновенье сверкнула Visa Gold. Старик окинул притихших гостей орлиным, хищным взором. Еды оставалось на столе много.
Виктюк уже предвкушал, как после отбытия иностранца он попросит официантов завернуть все эти суши и сашими в отдельные пакеты, как повезет их в Камергерский, тогда еще проезд Художественного театра, как закатит пир для актеров. И они будут славить свою “Татуированную розу” и драматурга Уильямса, который хоть и не доехал до Москвы, зато прислал вместо себя достойного джентльмена с золотой кредиткой. Да здравствует doggy box! Лучшее изобретение американской демократии и общепита. С ним никто не будет голодным и обиженным. Всем достанется кусочек счастья на этом празднике жизни. Что-то подобное собирался произнести Виктюк своим артистам, но сильно поддавший Ефремов захотел сказать напоследок что-то про Теннесси Уильямса, которого “русские люди любят и понимают, как никто в мире”, и потребовал, чтобы Вульф переводил его спич слово в слово. И пока Виталий Яковлевич мучительно подбирал английские слова, старик-агент подозвал официанта и, ткнув пальцем в неубранный стол, коротко скомандовал: “Doggy box!”
– Я не поверил своим ушам, – вспоминал Виктюк, – зачем ему эта недоеденная еда? Что он собирался с ней делать в самолете? Неужели он собирался все это сам съесть?
Все так и произошло: прощальные рукопожатия, поцелуи в ручку-щечку с дамами, два больших кулька “на дорожку”. Goodbye, my dearest! O, это было незабываемо! И doggy box’ы отправились прямиком в Шереметьево-2.
Что касается Виктюка, то он сразу после “Сакуры” поехал в Елисеевский гастроном, чтобы хоть как-то загладить свою вину перед поджидавшими его артистами.
Мораль: никогда не рассчитывайте на щедрость богатых и знаменитых. У Романа Виктюка сотни подобных историй, приключившихся с ним в разные времена. И наверняка было бы лучше, если бы он рассказал их сам. Но в своих бесчисленных интервью он этого не делает, предпочитая говорить о чем-то трансцендентном и мистическом, на что особенно падки юные создания, представляющие себе театр как некое сакральное место и совершенно не готовые к тому, что их там поджидает.
Во всяком случае, я не был готов, когда переступал порог Театра Романа Виктюка летом 1991 года, хотя мне было уже за тридцать и в театре я успел повидать много разного. Но одно дело, когда ты сидишь в зале, и другое, когда оказываешься за кулисами в непосредственной близости от всех этих разгоряченных тел, раскрашенных лиц, когда слышишь разговоры в гримерных и курилках. Тогда театр открывается тебе своей самой непарадной и непраздничной стороной. Но, так или иначе, это был Театр. Именно так – с прописной буквы.
Во главе него стоял Роман Виктюк, главный театральный ньюсмейкер эпохи перемен. Многоликий, изменчивый, лукавый, непостоянный. С этими своими театральными вскриками и картинными жестами. В пиджаках самых невероятных фасонов и расцветок. В дымчатых очках, закрывающих пол-лица. Всегда в облаке каких-то знойных, душных ароматов, по которым можно было легко догадаться, что он уже в театре. Вообще метаморфозы в облике самого Виктюка впечатляли ничуть не меньше, чем его спектакли. Тем более что я хорошо помнил разговорчивого провинциала из Львова, долго мыкавшегося без своего угла по Москве, и единственную стоящую вещь в его небогатом гардеробе – кожаный пиджак, в котором он снят на большинстве фотографий того периода.
Кстати, пиджак этот часто выступал в качестве участника отвлекающего маневра. В те годы Виктюк имел обыкновение репетировать и выпускать спектакли сразу в нескольких театрах и даже городах. Поэтому для успокоения чересчур нервной администрации он не раз оставлял свою кожанку на видном месте, а сам удирал в неизвестном направлении. Знал наверняка, что его хватятся не раньше, чем на второй-третий день. А где Виктюк? Вот его пиджак висит на спинке стула, значит, скоро вернется. Тогда не было айфонов, и с ходу определить геолокацию “летучего львовянина” было довольно сложно. Кажется, это удавалось только одной Гале Боголюбовой, завлиту “Современника”. Она запасалась пачкой сигарет и, дымя как паровоз, начинала яростно накручивать диск телефона, без устали звоня по всем театрам Москвы, Киева, Ленинграда, Вильнюса, где предположительно мог режиссировать Виктюк. И если на его несчастье находила, то трубка раскалялась от потока “великого и могучего”, которым Галя владеет в совершенстве.
С самого начала в Виктюке жила какая-то простодушная вера, что он всегда всех сумеет уговорить, обольстить, обмануть, очаровать. Что вся наша жизнь – сон, и никогда не стоит придавать слишком много значения словам. Что в театре все можно и ничего не стыдно, если помыслы чисты, а в сердце живет любовь…
Слушать Виктюка можно было бесконечно, как смотреть на “Умирающего лебедя” Майи Плисецкой. Казалось, еще немного – и он начнет заговаривать воду, как Алан Чумак, или гипнотизировать, как Кашпировский. Конец 1980-х – время экстрасенсов. Все хотели чуда, все жаждали откровения. Обычные люди в партикулярных костюмах и с казенной речью партаппаратчиков уже не могли повести за собой. А Виктюк мог.
У него были запал и кураж настоящего иллюзиониста, творящего свой Театр прямо у нас на глазах: без своего здания, без постоянной труппы, без всякой господдержки.
Театр на сезон, как злопыхали завистники. Театр на час, как пророчили театральные сивиллы. Но вот ведь выжил! И уже непонятно какой по счету актерский состав играет “Служанок” Жене. Мне тут случайно попались на глаза фото новой редакции спектакля. “Всё как прежде, всё та же гитара…” Позы, гримы, выражение глаз – порок и истома образца конца восьмидесятых. Наверное, так воспринималась “Адриенна Лекуврер” в день закрытия Московского Камерного театра в 1949 году. Надо сказать, что ассоциация эта отнюдь не случайна: по легенде, пути актрисы и режиссера однажды пересеклись в конце 1960-х. Произошло это историческое событие, когда Коонен позвали возглавить дипломную комиссию ГИТИСА. Именно тогда юный Рома Виктюк удостоился царственной улыбки и автографа примы Камерного театра в собственном дипломе.
Самым примечательным в спектаклях Театра Романа Виктюка остаются финальные поклоны. В них вся детскость его натуры, вся непоколебимая уверенность, что театр – это прежде всего наслаждение, и наслаждение чувственное. И загадочные пассы руками, как будто он хочет попробовать на ощупь воздух сцены, и распахнутые объятия, когда он со своими артистами бросается в последнем рывке к зрителям и замирает перед линией рампы, у самого края сцены, под счастливые аплодисменты зала. Простодушные зрители, радостно включившиеся в эту игру, могут ее длить бесконечно. “That’s not theatre, – сказал мне прибалдевший от такого приема драматург Дэвид Генри Хуан, автор пьесы “М. Баттерфляй”, – that is rock-concert!”
Конечно, кто-то обязательно поджимает губы: что за дурной тон – ставить под музыку аплодисменты себе самому! Серьезные люди так себя не ведут. Но в том-то и дело, что понятия “хороший тон” или “безупречный вкус” к Театру Виктюка совсем не подходят. Он существует по своим правилам. И вкус у него тоже свой. Very special, как говорят англичане.
Считается, что он первым стал прививать к могучему древу русского театра ядовитые цветы гей-эстетики. Слова эти редко произносились впрямую, но словно бы подразумевались с многозначительной улыбкой: “Мы же тут с вами понимаем, о чем речь”. При этом сам Виктюк, хорошо владеющий тактикой уклончивых ответов и туманных намеков, никогда не вступал в открытые дискуссии о правах гей-сообщества, никогда не претендовал на позицию неформального лидера ЛГБТ, не делал декларативных заявлений. Его влекла тайна, но не грубые подробности, его волновала Красота (именно так, с прописной буквы!), а не физиология с анатомией.
С самого начала у его Театра был свой шифр, своя система кодов, на которую легко отзывались те наши соотечественники, кто в детстве не пропускал по родимому ТВ “Мелодии и ритмы зарубежной эстрады”. Кому были не чужими имена Висконти и Фассбиндера, Греты Гарбо и Марлен Дитрих. Кто почитал Марию Каллас и одновременно любил зажигать под Фредди Меркьюри и Донну Саммер. Из всего необъятного пантеона западного культурного мейнстрима Виктюк безошибочно выбирал как раз тех артистов, которые были давно канонизированы как “гей-иконы”.
Почему именно на них падал его выбор – это вопрос для отдельного исследования. Важнее то обстоятельство, что для конца восьмидесятых это был абсолютно новаторский взгляд на театральную природу, моделирование абсолютно новой, непривычной реальности, с которой наш зритель никогда не имел дела. И даже более того – стеснялся иметь дело, объясняя это все теми же понятиями “вкуса”, “морали”, “хорошего тона” и чего-то еще, о чем в приличном обществе говорить не полагалось. На самом деле речь шла об эстетической нетерпимости, в равной степени свойственной и отечественной культуре, и советскому сознанию.
Но Виктюку крупно повезло: расцвет его Театра пришелся как раз на финал 1980-х – начало 1990-х годов, столь усердно проклинаемых теперь. Рухнули все табу и запреты, исчез Главлит, распался МХАТ, развалился СССР. И вот на этом дымящемся фоне четыре классных парня в юбках a la Марта Грэм отплясывали под хит Далиды “Тiko-tiko”. Великолепная в своей завершенности формула театра на поверженных руинах, театра смутного времени, которую уловил и вывел с математической точностью Виктюк.
Нет, это не был трагический “Пир во время чумы”. Высокопарные пророчества и проклятия, соответствующие историческому моменту, практиковали другие режиссеры, используя при этом безусловную классику, будь то “Электра” в камуфляже у Юрия Любимова или “Орестея” по европейской моде у Петера Штайна. Но на эпос особого спроса не было. Зато на “Служанок” публика валила валом. Два часа сладостного гипноза, эротического сна, возбуждающих “криков и шепотов”, а в финале – убойная дискотека и раненые крики Далиды “Je suis malade”, которые не могли заглушить громовых аплодисментов.
Наверное, главная заслуга Виктюка, что он наглядно показал: театру вовсе не обязательно быть мужским или женским. Актеры – это всегда “третий пол”, а то, чем они занимаются на сцене, – это игра воображения и природы, “сон золотой”, чья цена резко возрастает, когда деньги перестают что-либо стоить, а на сахар и хлеб вводят талоны.
Демонстративная асоциальность спектаклей Виктюка в сочетании с их несколько болезненной сексуальностью и создавали тот эффект, который безотказно действовал на зрителей начала девяностых годов. При этом нелишне помнить, что в русском театре предшественников у Виктюка нет. Конечно, при известной доли фантазии в этой роли мог бы выступить Александр Таиров и его теория “эстетического реализма”. Но все это скорее театроведческие домыслы.
Театр Виктюка – явление в нашей культуре оригинальное, самостоятельное и абсолютно самодостаточное, не обремененное ни идеологическим базисом, ни интеллектуальной надстройкой, ни даже попытками обрести хоть какой-то социальный статус. С самого начала он был задуман и существовал как частный театр. Первый театр Новой России, никаким образом не претендовавший на государственную поддержку. Это многое может объяснить и в его последующей судьбе.
Формально деньги на содержание Театра Виктюка какое-то время давал Кредо Банк. Не слишком щедро, потому что основные спонсорские средства предназначались для Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Театр Виктюка шел “в нагрузку” к классической музыке.
Я это знаю от продюсера Татьяны Сухачевой, которой и принадлежала идея создать на базе двух спектаклей-хитов – “М. Баттерфляй” и “Служанки” – Театр Романа Виктюка. Хрупко-прозрачная, с надтреснутым голосом Мальвины, очень упрямая, она принадлежала к поколению особых людей, допущенных до “новых денег”. Она их как-то добывала, крутила, вкладывала, вынимала, обналичивала. Тайны ее отношений с Кредо Банком никто толком не знал, кроме, наверное, бухгалтера, прекрасной и всегда невозмутимой Марины, восседавшей рядом с сейфом в маленьком офисе на Спиридоновке.
Как отличалась эта компактная конструкция с двумя женщинами по бокам и сейфом в центре от громоздких дирекций московских театров! Все вопросы на удивление решались быстро. Никакой волокиты, никакой театральной бюрократии. От залихватской легкости, с которой принимались любые решения, и от количества кэша захватывало дух.
Это тоже был своего рода Театр, который оставался невидимым для широкого зрителя, но без него не было бы Театра Виктюка.
Как женщина практичная, Сухачева понимала, что без собственного помещения Театру не выжить (аренда сжирала большую часть бюджета, выделяемого Кредо Банком). Была у нее и другая забота – обеспечить самого маэстро жилплощадью. Культовому режиссеру культовый адрес – под этим лозунгом прошли первые сезоны существования Театра. И надо признать, с этой задачей продюсер справилась блестяще. В результате сложной цепочки обменов, договоров и доплат Виктюк вселился в бывшую квартиру Василия Сталина на Тверской улице с окнами, из которых видны кремлевские звезды. Увы, с новым зданием для Театра все складывалось не так гладко. На том уровне, где принимались решения, ни имя Виктюка, ни деньги Сухачевой не срабатывали. Думаю, что была у этой истории и какая-то подловатая гомофобская подоплека. Под разными предлогами начальство не спешило предоставить здание Театру с сомнительной репутацией и странным репертуаром.
В конце концов от щедрот Московского правительства Виктюку досталось полуразвалившееся здание ДК Русакова в Сокольниках, которое можно было использовать в лучшем случае как репетиционную базу. Но и это было невозможно, поскольку у здания был еще один арендатор – ресторан “Бакинский дворик”, с которым у театра сразу началась война, продлившаяся почти шестнадцать лет.
Все эти малоприятные эпизоды из истории не вычеркнешь, но это был уже другой период, когда Виктюк покинул лигу театральных хедлайнеров, переместившись в ряды завсегдатаев разных телешоу. Как персонаж он вызывал теперь больше интереса, чем те спектакли, которые он продолжал исправно ставить. В массовом сознании он продолжал оставаться автором “Служанок” и “М. Баттерфляй”.
Уход от их нарядной и пряной эстетики сразу дал о себе знать. Публика настороженно отнеслась к “Лолите” – спектаклю, решенному подчеркнуто бесстрастно, аскетично и строго. Не получилась история “Двоих на качелях”, где дебютировала в качестве драматической актрисы балерина Наталья Макарова. И даже “Рогатка” Николая Коляды, которая могла бы прозвучать как первый театральный манифест ЛГБТ, была встречена довольно прохладно. Это был уже другой Виктюк, который никого специально не возбуждал, не завораживал, не ублажал. Спектакли, поставленные на сложной игре светотени, подчеркнуто черно-белые в безликой цветовой гамме, с резкими и грубовато взятыми эмоциональными аккордами. Поначалу отпугивала и раздражала какая-то нарочитая небрежность фанерных декораций, слишком громкий звуковой ряд, эскизность актерского существования. Потом все привыкли, что это может быть так и никак иначе. И ажиотаж как-то сам собой спал.
Но это случится уже несколько позже. Я же застал период наивысшего успеха, когда никаким “Бакинским двориком” и не пахло. Когда каждый спектакль становился событием, когда Эрик Курмангалиев в подражание Марии Каллас мог в последний момент отменить “М. Баттерфляй”, но никто не спешил сдавать билеты в надежде, что все-таки услышит когда-нибудь, как он поет сцену смерти Баттерфляй. Потому что это были те мгновения, ради которых только и стоит ходить в театр.
В начале девяностых ни у кого не было таких аншлагов и такой публики, как у Виктюка. Я помню, как заглядывал в притихший зал Театра имени Моссовета и различал в полутьме рыжий полубокс Анатолия Чубайса, и выбритый под панка затылок Эдуарда Лимонова, и седую укладку Ирины Александровны Антоновой. Помню, как сражался за стул, который хотели выдернуть из-под Аллы Демидовой, как не нашлось места для Геннадия Бортникова, который покорно простоял весь первый акт “М. Баттерфляй” со студентами ГИТИСа. В какой-то момент Театр стал чем-то вроде клуба, причем без всяких организационных усилий со стороны Виктюка или его помощников.
Вообще миф о “гей-тусовке”, которая как-то особенно поддерживала Театр, на мой взгляд, был придуман недоброжелателями. Никакой такой группы поддержки, кроме разновозрастных тетенек в мохеровых кофточках, я что-то не припомню. Да и за кулисами, на мой сторонний взгляд, “порока” ни в каком виде не наблюдалось. Жизнь была тяжелая, сложная, трудовая. Спектакли сильно выматывали артистов и постановочную часть. К тому же многие старались совместительствовать, предусмотрительно оставаясь в штате в других театрах. Там казалось надежнее, чем служить у Виктюка.
Все исполнители в “Служанках” были мужчинами, как говорится, “с обременением”. Жены, разводы, дети от предыдущих браков, квартирный вопрос и т. д. Но весь этот банальный бэкграунд куда-то вмиг исчезал, как только до их лиц и торсов дотрагивалась кисточка стилиста Левы Новикова, как только они надевали костюмы Аллы Коженковой и начинали произносить текст Жана Жене в переводе Елены Наумовой. Что-то менялось в их пластике, в выражении глаз, в тембре голоса. Какая-то другая жизнь, о которой они сами, может быть, и не подозревали, вдруг вспыхивала, как бикфордов шнур, чтобы, оттрепетав, незаметно угаснуть в финале под аплодисменты зала.
Потом они все разойдутся кто куда: Сергей Виноградов (Мадам) – в режиссуру, Николай Добрынин (Клер) – в сериалы, Владимир Зайцев (Соланж) – в другие антрепризы, а Леонид Лютвинский (Месье) – в бизнес. Наши пути теперь редко пересекаются.
И Романа Григорьевича я тоже вижу очень редко. А когда встречаемся, не очень понятно, о чем говорить. Впрочем, всегда можно произнести заветные слова “Doggy Box” и улыбнуться друг другу.
2013Без вины виноватый Лев Новиков
Еще одно имя ушедшей эпохи. Кажется, с него в русском театре началась профессия художника-стилиста. До того были только гримеры и парикмахеры – профессии незаменимые. Без них театр непредставим, но именно Лев Новиков сумел тут достичь высшей степени искусства. При этом его никогда смущало, что он “калиф на час”, что человеческая кожа не идет ни в какое сравнение с холстом или мрамором, что все его многочасовые труды и усилия смываются каждый раз после спектакля водой и мылом. Но сизифов труд, похоже, был ему только в радость. Он снова брался за свои кисточки, снова “перерисовывал” лицо или, как он любил повторять, “подновлял фреску”. Лёва был резким, остроумным, смешным, мудрым, щедрым, очень добрым, а под конец своей недолгой жизни – очень несчастным. Он много фотографировал и рисовал, но работ почти не осталось. Мы пытались что-то найти для этой книги, но, увы, никто не знает, где они.
Он умер 7 ноября. В день бывшего главного советского праздника, который никто уже не отмечает. И его смерть тоже никто не заметил. Некрологов не было. О том, что его не стало, я узнал месяц спустя. Последний раз я видел его в конце сентября. Случайно, из окна машины. Дорогу на Страстном бульваре перебегал шустрый небритый старичок в клетчатой кепочке и в старомодном коричневом пыльнике. И сам он был тоже какой-то серо-коричневый. Казалось, что старичок разговаривает сам с собой отрывисто и сердито. Только потом я увидел, что за ним плетется, не поспевая, маленькая пожилая женщина, таща за собой сумку на колесиках. И весь его сердитый монолог предназначался ей. Машина проехала вперед еще несколько метров, пока меня не осенило: Лёва!
Да, это был Лев Новиков. Первый российский стилист, любимец Романа Виктюка и соавтор его легендарных “Служанок”, “М. Баттерфляй”, визажист, придумавший имиджи чуть ли не половине звезд нашей эстрады – от Лаймы Вайкуле до Кристины Орбакайте, конфидент и друг великих актрис – от Галины Улановой до Аллы Демидовой. Они доверяли ему свои лица, свои прически, свои дамские секреты. Он знал про них все. Он обожал их. Он дарил им какие-то милые пустяки, а главное – надежду, что все обойдется, что они прекрасны, что все будет хорошо.
Вмиг в памяти пронеслось: Лёва за кулисами. Хрупкий блондин, затянутый в черный бархат. Принц-парикмахер, красиво встряхивающий густой еще, бело-снежной челкой. Надменный, колкий, опасный, как ножницы, которыми он поигрывает, стоя вполоборота у зеркала. Этакий цветок зла. К нему так просто не подъедешь! У своих знаменитых клиенток он перенял манеру глядеть сквозь тебя невидящими глазами, говорить медленно и лениво, чуть растягивая слова, вести себя как звезда и ощущать себя звездой даже в жалкой грим-уборной какого-нибудь захудалого дома культуры. И эта его походка – так ходят профессиональные манекенщицы по подиуму, чуть вихляя узкими бедрами, затянутыми в супертесные джинсы от Armani. Все напоказ. Вызов всем скучным, банальным, нормальным, трусливым. Этот парень из Саратова, похоже, ничего не боялся – ни кривых усмешек, ни сплетен, ни обидных кличек, ни 76-й статьи Уголовного кодекса РФ. Господа, не забывайте, на дворе стоит зима 1988-го! Еще могут грянуть любые морозы, запреты, приказы… Но Лёве на них плевать. Он идет без шапки, придерживая у горла воротник тонкой модной замшевой курточки, как будто сошедший с картинки модного журнала, словно вокруг не грязный снег и соль Тверского бульвара, а вылизанный асфальт Фобур-Сент-Оноре. И его нежный загар, какого ни у кого в Москве не бывает, – это не пудра от Helen Rubinstein и не гэдээровская кварцевая лампа, привезенная с каких-то гастролей, а весеннее солнце Ниццы или Сан-Ремо, где он никогда не был и никогда не будет, но всё про них знает.
Откуда у него это знание? Мама – учительница литературы. Папа – военный. Саратовское художественное училище. Был я однажды в его городе. Река, церкви, драматический театр, дискотека прямо у причала. Красивый скромный провинциальный город. Но именно здесь должна висеть мемориальная доска: “Здесь родился, учился и вдохновлялся первый стилист российского гламура”. Из Саратова Лёва бежал в Москву. А куда же еще? Здесь было всё: загибающиеся от нехватки импорта магазины “Березка”, где еще можно было купить флакон “Diorissimo” и швейцарский шоколад “Toblerone”, Хаммеровский торговый центр на Красной Пресне с японским рестораном “Сакура” и первым ночным клубом для западных фирмачей, налаженная система фарцовщиков, спекулянтов, гэбэшных проституток. Еще был спецхран Ленинской библиотеки с подшивками запретных Vogue и Paris Match; закрытые просмотры последних фильмов Лилианы Кавани и Фассбиндера в залах Госкино. Все это было, было… За какими-то железными дверьми, замурованными подъездами, свирепыми охранниками. По спецпропускам, спецномерам, в спецраспределителях. Как и весь Советский Союз, эта полулегальная индустрия люкса постепенно приходила в упадок, то и дело давая течь и сбои. Какие-то крохи перепадали и людям из обслуги, как Лёва, – кто-то привозил импортную косметику, у кого-то втридорога он покупал новые диски и джинсы, у кого-то выпрашивал новые журналы. Сам он был бесконечно щедрым. Любил красивые вещи, но еще больше – красивые жесты. Никогда ничего не копил, не коллекционировал. Раздавал всё, что ему дарили друзья. Знал всех.
На стрижку к нему надо было записываться за месяц. Прическа от Лёвы Новикова – это как знак высшего отличия и принадлежности к элите. В сущности, он из любой советской гражданки мог сделать и вамп, и Лолиту, и Одиллию, и Одетту, и Любовь Орлову, и Грету Гарбо. Он отважно жонглировал образами и именами классических героинь, он порхал вокруг них со стрекозиной легкостью, невесомо касаясь их лиц и волос своими кисточками и карандашами. Он взбивал вокруг них невидимую пену лент и кружев, укутывал в нереальные шелка и меха. Он влюблял в них все зеркала и пространства, всех официантов, таксистов, фирмачей и партийных работников. К нему приходили валютные проститутки, громко жаловались на жизнь, рассказывали что-нибудь свое горестное вроде: “А у моего хрена встает только на восьмиклассниц с косами”. А Лёва в ответ: “Ничего, лапуля, я сейчас из тебя такую девочку сделаю, мама не узнает”. И делал. И утешал, и мыл волосы дорогим шампунем. А потом прикалывал к вороту ее белой кофточки какую-нибудь бабушкину камею, чтобы она выглядела чистой и непорочной библиотекаршей, какие раньше водились только в родном Саратове.
Женщина от Лёвы Новикова – королева восьмидесятых. Примадонна перестройки и гласности. Последние идеологические бастионы рухнули, последние запреты отменены и забыты: все можно. И ничего не страшно. Хотя на самом деле страшно, даже очень. Потому что непонятно, что дальше. Как жить? На что жить? Закрылся клуб в Хаммеровском центре, а Лёва удержался. Закачался и рухнул интуристовский люкс – куда-то растворились все эти дамы, а у Лёвы заказов по-прежнему завались. Потому что есть профессия. Его ножницы, его вкус, его глаз. Лёву даже на Бродвей звали в цирковое шоу Валентина Гнеушева, но в Америке ему не понравилось. Дома было интереснее.
В конце 1980-х он ушел в театр. Конечно, там не платили таких денег, как в ночном клубе на Красной Пресне или Бродвее. Но это был его мир, его территория, его любимые героини. И сразу успех. Грандиозный! “Служанки” Виктюка в театре “Сатирикон”. Он придумал тогда их гримы за час. Просто сел и набросал на бумажках – Клер, Соланж, Мадам. Птицы из одной стаи, а точнее, из одной клетки. Страшные лики любви, притворившиеся то ли античными масками, то ли масками китайского театра но. Впрочем, это был Театр Романа Виктюка – единственный в своем роде, возникший на сломе двух эпох, впитавший в себя дух распада, безумия и надежды девяностых. Откровенное эстетство, доведенное до абсурда и самопародии, гейский пафос, возведенный в ранг программного манифеста, самодостаточная красота раскрашенных полуголых тел, душный мрак текстов Жана Жене, исступленный крик Далиды, хрустальный контратенор Эрика Курмангалиева – вот что такое Театр Виктюка. Он завораживал и будоражил, шокировал и обольщал. Каждая премьера – событие, каждый выход Мадам в “Служанках” – овация.
Лёва редко выходил с Виктюком на поклоны. Он вообще был не из тех, кому непременно надо торчать в кадре перед камерой и кричать на всех углах: “Это я, это я!” Он знал себе цену (“100 рублей за голову”, – шутил он, имея в виду свой гримерский тариф), но держался с гордой отдельностью, которую многие принимали за манерную заносчивость. Но те, кто его любил, знали: это только маска ранимого и, в общем-то, одинокого человека. Он по-прежнему жил с мамой и сестрой в крошечной квартирке с видом на Смоленский мост, где принимал своих знаменитых клиенток. Он колдовал над их волосами и лицами, выслушивал их истории, а мама на кухне пекла пирожки, чтобы потом одарить его див “на дорожку”. Дивы, как правило, сидели на жесткой диете, но перед пирожками устоять не могли. Уплетали их прямо в прихожей.
У Лёвы был редкий талант дружить с самыми трудными актрисами и самыми сложными женщинами. Он сумел уговорить надеть лысый парик Лию Ахеджакову в “Мелком бесе”, он умудрился для спектакля “Квартет” превратить Аллу Демидову в бердслеевскую дьяволицу, а то, что он делал с Ириной Метлицкой в “М. Баттер-фляй” и “Лолите”, – это шедевр, арт-объекты, достойные музеев Гуггенхайма или Людвига. Виктюк рассказывал, как в Нью-Йорке он пришел к Михаилу Барышникову договариваться о постановке “Анны Карениной” с Ирой в главной роли. “Покажите мне ее”, – попросил легендарный невозвращенец. Виктюк протянул фотографию – одну из проб грима, сделанную Лёвой. “Можно мне ее себе оставить? Это чудо!” – воскликнул Барышников.
Художник Алла Коженкова, которая свела Лёву с Виктюком и поддерживала его до последних дней, вспоминает, как однажды он пригласил ее в ночной клуб на мужской стриптиз: “У меня был тогда скверный период. Я расставалась с очередным мужем. А развод – это всегда больно. Лёва понимал мое состояние, но клуб, куда он меня позвал, был ужасный, и стриптиз этот был ужасный, и настроение отвратительное. И вдруг в середине шоу он неожиданно повернулся ко мне, обнял и поцеловал в губы настоящим, долгим поцелуем. Это было так странно и так прекрасно. В этот момент я особенно почувствовала всю тонкость его души. Как будто в этом объятии были заключены все не сказанные им слова поддержки, сочувствия, какой-то очень мужской заботы и защиты. Я тем более это оценила, что это был жест человека, глубоко равнодушного к женщинам, и к тому же к женщинам старше него”.
Лёва влюблялся в тех, кого гримировал. Все они – от Натальи Сац до Сережи Виноградова – становились его Галатеями. Он не просто придумывал им грим, но – какую-то особую звездную судьбу, какой ни у кого из них не было и не могло быть. Только в его мечтах, только в спектаклях Романа Виктюка, только на фотографиях Валерия Плотникова и Владимира Фридкеса. Лёва никому никогда не подражал, не копировал, но во всем, что делал он, чувствовалась неопровержимость подлинника. При этом он сам не стеснялся быть заложником легенд прошлого. Например, когда на роль Мадам в “Служанках” вводился Сергей Виноградов, Лёва притащил в гримерку большой портрет Греты Гарбо, а потом несколькими уверенными взмахами карандаша, как по холсту, прямо на Сережиной физиономии наметил структуру лица божественной шведки.
Он терзался, искал, каждый день придумывал что-то новое, но все его шедевры были рассчитаны не больше чем на один вечер, на один выход, на одну фотосессию. А что дальше? “И душ смывает все следы…” В какой-то момент его стала тяготить эфемерность его художеств. После ухода Ирины Метлицкой – вначале от Виктюка, а потом и из жизни – оборвалась его связь с театром. Он продолжал что-то делать по старой дружбе, помогал своим давним привязанностям (например, придумал акварельные одухотворенные гримы для “Горя от ума” – режиссерского дебюта Олега Меньшикова), но все его интересы были обращены к другой сфере – это была чистая мода. Так в жизни Лёвы Новикова начался “период Чапурина”.
“Ты должен с ним познакомиться. Вот увидишь, он обалденный парень”, – кричал мне в трубку Лёва. Его не интересовало мое мнение о парне, но ему нужна была публикация о первой чапуринской коллекции. Я уже не помню, что это было: какие-то корсеты, фижмы, бюстье а la Gaultier… Помню, что потом было много соломы, торчавшей из-под подолов и рукавов платьев. Это было смело и по-своему красиво. Помню пухлощекого, застенчивого мальчика в круглых оксфордских очках, похожего на студента филфака, испуганно протянувшего мне руку: “Игорь”. А рядом распевал соловьем Лёва в лучшем своем бархатном пиджаке. Он был тут и звездой, и хозяином, и промоутером, и продюсером, и, разумеется, автором всех гримов для отборных московских манекенщиц. Он сам обзванивал и приглашал знакомых звезд, общался с журналистами, придирчиво отбирал моделей для шоу и ткани для новых коллекций. Он был вездесущ, неутомим и, кажется, абсолютно счастлив. Впервые он почувствовал себя не исполнителем чей-то воли или заказа, а полновластным творцом, автором своего лучшего и главного мифа о первом дизайнере Новой России маэстро Игоре Чапурине.
Наверное, в смутных мечтах ему виделся российский вариант дуэта Ива Сен-Лорана и Пьера Берже или Валентино и Джорджо Джакометти. Один творит на подиуме, другой – за кулисами. Один весь в творчестве, другой – в цифрах, финансовых схемах, рекламных бюджетах и деловых переговорах. Но оба вместе идут по жизни, дружно взявшись за руки, преодолевая неизбежные препятствия и празднуя долгожданные триумфы. Не рассчитал Лёва одного: никакой он не финансист, не продюсер. Тут нужна другая хватка, другой опыт, другие локти. На самом деле он тоже был нежным артистом, ранимым художником. Все, что он мог, – это броситься в ноги какой-нибудь бывшей разбогатевшей клиентке и умолить ее дать денег под мифические прибыли. Собственно, так и произошло с Зоей Барбаруновой, ставшей первым директором Дома “Igor Chapurin”. К тому же Лёва явно претендовал на художественное руководство и влияние. И если на первых порах Игорь готов был с этим смириться, дальше терпеть Лёвино присутствие становилось все труднее. Плюс общеизвестно чудовищный характер, совершенно не подходящий для выстраивания серьезного бизнеса, для сложных отношений с инвесторами, поставщиками, прессой. Плюс болезнь… То, что Лёва инфицирован, Игорь знал с самого начала. Но СПИД не был причиной их разрыва – скорее, тягостным фоном, на котором развивались их отношения, особенно омрачившиеся в последние годы.
Лёва чувствовал, что его стесняются, переводят на какие-то вторые-третьи роли, к которым он не готов. Он устраивал истерики, впадал в затяжные депрессии. Целыми днями сидел в своей квартире и ждал Игоря. Вся его жизнь в конце концов свелась к этому ожиданию и беспрерывным выяснениям, кто кому сколько должен. Он начал пить. Вокруг шла уже совсем другая жизнь. Открывались один за другим глянцевые журналы. Рекламные билборды и витрины модных бутиков совершенно преобразили облик столичных улиц. Народилась и рвалась в бой новая армия стилистов, визажистов и дизайнеров, многие из которых и не слышали имени Льва Новикова. Ему не было места среди них. Никому не было дела до его былых заслуг и обид. Он безнадежно проиграл этот раунд. Особенно остро Лёва это почувствовал, когда ушел Игорь.
Накануне их разрыва, еще не ведая о драме, которая у них происходила, я попросил обоих сфотографироваться вместе для одного своего журнального проекта. Они согласились и покорно встали под фотообъектив у какой-то кирпичной стены с остановившимися лицами приговоренных к расстрелу. “А сниматься-то вдвоем – к разлуке”, – вдруг громко сказал Лёва.
На два года он исчез совсем. Старых клиентов растерял, новых так и не приобрел. До меня доходили слухи, что он переехал со Смоленки куда-то на Пушкинскую. Что пьет по-черному, что зачем-то полетел на Кубу, откуда вернулся совсем больной. Однажды дома раздался звонок. “Лёва! Привет, привет”. Говорим с наигранной беспечностью, как будто расстались только вчера: его знакомый суховатый смех, его язвительные шуточки, его смешные подначки, и все это ради одного: “Лапуль, приходи ко мне на показ”. Я растерялся и даже переспросил: “К Чапурину?” – “Нет, ко мне”. – “Ты стал модельером?” – “Ну да, что-то вроде того”. Я не мог отказать, хотя знал, что ничего хорошего меня там не ждет, что надо будет потом говорить какие-то фальшивые слова. А может, и не надо? Лёва тонкий, он поймет.
Я пришел в скучный, серый, казенный зал где-то в районе Балчуга. Публики набралось негусто, но вся, как на подбор, из бывших: московские львицы доперестроечного периода, постаревшие поклонники Театра Виктюка, кордебалетные мальчики и девочки, давно вышедшие в тираж. Весь этот подвядший гламур первого призыва пришел приветствовать своего любимца. Под истошное пение все той же Далиды медленно шествовали модели в тафте, шелках и стразах, как будто взятых напрокат из гардероба “Служанок” и “М. Баттерфляй”: топорщились перья, волочились шлейфы, сверкали позументы, рассыпались по подиуму плохо пришитые бусинки. К актуальной моде это не имело никакого отношения. Но это был Лёва Новиков, его прошлое, фантазии и мечты, за которые он цеплялся из последних сил. Смотреть на это было мучительно, особенно когда на подиуме появлялась хрупкая немолодая манекенщица, остриженная под ноль, явно пришедшая сюда после сеансов облучения или химиотерапии. Люда Мачерет, звезда Дома моделей на Кузнецком Мосту.
На поклоны они вышли вместе – Лёва и Люда. Я даже не сразу узнал его. Все-таки давно не виделись: он был такой же худенький и хрупкий, в том же чуть вытертом бархате, но почти лысый и совсем седой. Они стояли вместе, взявшись за руки, с вымученными улыбками. Два безволосых существа, два доблестных героя российского гламура, две его без вины виноватые жертвы. Мы поаплодировали и тихо разошлись. Больше я Лёву не видел. Если, конечно, не считать нашей “невстречи” на Страстном бульваре за месяц до его смерти.
Говорят, что Чапурин предложил родственникам оплатить Лёвин памятник. Но где его устанавливать? У Лёвы нет могилы. Как он и завещал, его тело кремировали, а прах развеяли над Волгой, в родном Саратове. Усилиями его мамы и немногих друзей в галерее “Дом Нащокина” была устроена его посмертная выставка: эскизы, фотографии, костюмы, видеозаписи – собрали все, что осталось. В общем, немного.
…Давно-давно он мне сказал: “Ну что ты все редактируешь, переписываешь чужие статьи. Тебе свое писать надо”. Ну вот, я и пишу, мой дорогой, вот и пишу.
2008Час Вульфа Виталий Вульф
Скучаю по нему бесконечно. По его звонкам, по его “Серебряному шару”, по нашим разговорам. У меня до сих хранится нераспечатанный флакон духов Habit Rouge – его последний подарок. “Разве ты не знаешь, что Марлен Дитрих дарила именно эти духи тем, кого любила?” Как это было сказано! С какой неповторимой интонацией наигранного презрения, надменной насмешки и искреннего сочувствия! Впрочем, Виталий Яковлевич великодушно прощал мне мое невежество. Тем более что я честно тянулся к знаниям. Мне повезло: моя жена и я входили в его ближний круг. За какие заслуги – не знаю. Скорее всего, ни за какие. Он иногда позволял себе такие прихоти. Близких друзей Вульфа осталось совсем немного. Иногда жизнь нас сводит, и нет другой более захватывающей темы, как снова начать обсуждать нашего старшего друга: “А помнишь, как Виталик сказал?” Помнить всего нельзя. Но Вульфа забыть невозможно.
Вначале я ему не понравился. Это же всегда чувствуешь, когда к тебе человек расположен, а когда выпускает свои колючки, как только ты оказываешься поблизости. Я даже сейчас не вспомню, что он такого мне говорил. Но всегда с подковыркой, злой ехидцей и как будто даже тайной обидой непонятно на что. Впрочем, почему непонятно? Понятно. Я был моложе его на целую жизнь. И он долго не мог мне этого простить. Но потом как-то смирился, и общаться с ним стало гораздо легче и приятнее.
Так случилось, что последние двадцать лет мы жили с ним по соседству.
У меня вообще было чувство, что он все время обретался где-то поблизости. Это ощущение усиливалось его еженедельным присутствием на телеэкране и ритуальными телефонными звонками по утрам, начинавшимися с насмешливого вопроса: “Ну и что у вас происходит?”
Мне, как правило, сообщить было ровным счетом нечего. Зато с ним постоянно что-то происходило. Виталий Яковлевич Вульф знал всех, бывал на всех московских театральных премьерах и, как правило, находился в эпицентре самых заметных столичных событий. Этот звонок у нас с женой имел кодовое название “Час Вульфа”. Потому что каждый разговор с ним длился, как правило, не меньше часа. Но он больше не старался меня поддеть, уличить в невежестве или незнании каких-нибудь театральных тайн, лордом-хранителем которых он сам себя назначил.
Тут состязаться с ним действительно было бессмысленно. Он помнил даты, имена, цвет неба в момент первой исторической встречи и последнего расставания. У него была фотографическая память на стихи и письма, из которых он мог цитировать по телефону или на камеру целыми абзацами наизусть без всякой подготовки и телесуфлера. Он был мастером монолога. Каждый его рассказ – как новелла. Каждый разговор – как одноактный спектакль. Я думаю, он бы гениально мог сыграть “Человеческий голос” Жана Кокто. И неважно, что эта монопьеса – про женщину, которая пытается удержать уходящего любовника своим горячечным лепетом и завываниями по телефону. Никто лучше него не знал этот репертуар. Никто не был способен так хорошо понять и прочувствовать эмоции человека, хватающегося за телефонную трубку как за последнее спасительное приспособление.
Впрочем, на такие смелые эксперименты Виталий Яковлевич вряд ли бы когда-нибудь отважился. Он предпочитал держать свои привязанности и личные драмы при себе. Обожал обсуждать чужую жизнь, но никогда не нарушал границы собственной privacy. Это было его любимое английское слово, жизненное кредо: никогда не выходить из образа элегантного, просвещенного господина, сидящего в неизменной позе нога на ногу в старинном кресле красного дерева. Таким он вошел в жизнь миллионов телезрителей, когда с легкой руки Влада Листьева была запущена в эфир его программа “Серебряный шар”. Случилось это, когда ему уже было сильно за шестьдесят. И жизнь, казалось, почти прожита. Но нет, она только начиналась!
В наших разговорах он любил возвращаться в какую-то вымышленную прекрасную страну своего детства: Баку, папа – знаменитый юрист, мама-красавица. Он – единственный ребенок, которого все, разумеется, обожали и баловали. Его капризы и желания были законом. От всей этой прежней жизни у него дома остался черный беккеровский рояль (ни разу не слышал, чтобы он на нем играл) и интонации противного, избалованного мальчика.
Потом была хмурая, холодная, послевоенная Москва конца 1940-х, где он отогревался на спектаклях МХАТа и Большого. Причем это не фигурально, а буквально так. В искусстве, как и в человеческих отношениях, он больше всего ценил неподдельное человеческое тепло. Но в актеры его не взяли. Да он и не слишком рвался. Послушный сын, он закончил, как ему велели, юридический факультет. Стал адвокатом. Из громких дел в его биографии мне известно только одно: развод Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской, где он защищал интересы истицы, т. е. жены. Похоже, не слишком удачно, поскольку Настя потом мне рассказывала, что осталась с годовалым Степой в пустой квартире, в которой ничего не было, кроме одного матраса на полу. А днем они ходили в диетическую столовую, где она кормила сына на 18 копеек. Большего на михалковские алименты, которые ей высудил Вульф, позволить она себе не могла.
Про свою адвокатскую деятельность он вообще не слишком любил распространяться. До телевидения он работал в разных конторах, но жил театром. Ему всегда были нужны сильные эмоции. Он вообще был страстным человеком – все-таки южанин по крови и темпераменту. Любил грузинскую кухню, красное вино, Французскую Ривьеру.
Наверное, ему должно было не хватать солнца в его московской квартире, окна которой упирались в задворки высоченных гранитных билдингов Нового Арбата, выросших буквально у нас на глазах за последние пять-шесть лет. Притом что он ценил комфорт, но по большому счету ему было все равно, где жить, что перед ним лежит на тарелке или какой там из окон открывается вид.
Помню его смешной рассказ про драматурга Эдвара Олби, которого он принимал в начале восьмидесятых в своей тогда совсем тесной однокомнатной квартирке в Волковом переулке. Американец все не мог успокоиться, допытываясь: где же Вульф живет? “Ну, я понимаю, это у тебя studio! Ты тут работаешь, пишешь. А где же твой дом?” Вообразить, что на этих малогабаритных метрах можно не только творить, но и жить, американский классик отказывался категорически.
Вульф обладал поразительным свойством всех русских интеллигентов: не замечать скучных будней. Для него их как будто и не было. Во всяком случае, они ни разу не становились предметом нашего разговора. Впрочем, когда он хотел, мог быть очень приметлив, особенно если речь заходила о редкостном антиквариате или чьей-то исключительной коллекции живописи.
– Если бы вы увидели карельскую березу, которая стояла в гостиной у Марии Ивановны, вы бы умерли, – говорил он про антикварную мебель Бабановой, перекочевавшую потом в запасники Бахрушинского музея.
– Если бы вы знали, какого я видел у Спиваковых Шагала, вы бы сошли с ума.
Почему я должен был сходить с ума или умирать при мысли о чьих-то буфетах и картинах, для меня так и осталось загадкой. Но я смиренно поддакивал ему и таращил глаза, изображая крайнюю степень возбуждения и любопытства. А иначе ему было неинтересно со мной разговаривать. Он не признавал температуру 36,6 °C ни в искусстве, ни в дружбе. Вялые, тихие, незаметные люди могли время от времени возникать на его горизонте, но довольно быстро и бесследно исчезали. Оставались только яркие, громогласные, заметные, те у кого, говоря на актерском сленге, был “посыл”. Это был его любимый круг.
Я застал время, когда этот круг составлял “Современник”, театр, который он считал своим и за который готов был перегрызть горло любому его обидчику. Имена Гали (Галины Борисовны Волчек), Марины (Марины Нееловой), Лёни (Леонида Осиповича Эрмана) не сходили с его уст. Он говорил о них как о членах своей семьи. Кажется, только Валентин Гафт был всегда только “Гафтом”. И он произносил его имя с характерным лающим звуком, как “гаф”. Раз в году я заставал всю эту компанию у него на дне рождения, где они дружно выпивали за здоровье “Виталика”, но при этом уже тогда угадывались тайные противоречия и неудовольствия, которые до поры до времени прятали от посторонних глаз.
В не меньшей степени он был связан и со МХАТом, где царил Олег (Олег Николаевич Ефремов). С ним у Вульфа тоже были свои отношения, в которых, по крайней мере с его стороны, преобладала какая-то влюбленная ревность. Так бывает у супругов, когда они давно расстались, но один из них продолжает нервно и пристально следить за жизнью другого.
– Вчера я встретил Олега, – сообщал он мне по телефону торжествующим голосом. – Он сказал, что соскучился и нам надо поговорить о том, что делать дальше со МХАТом.
– Надеюсь, вы не сразу посоветовали ему уволить Смелянского?
– Сразу. Но как вы догадались?
Ненависть Вульфа к главному мхатовскому кардиналу и идеологу раздела Художественного театра Анатолию Мироновичу Смелянскому отдавала чем-то древнебиблейским и ветхозаветным. Редкий наш разговор обходился без подробного перечисления всех его вин, проступков и преступлений, которые сводились к тому, что “он погубил Олега”. Спорить было бесполезно, как и защищать Смелянского. Вульф тогда еще больше свирепел и неистовствовал. Он любил старый МХАТ, любил Ефремова, и ему было невыносимо думать, что две ключевые константы его жизни вступили в непримиримый клинч, чреватый неминуемой катастрофой. Легче всего в этом было обвинить постороннее лицо, провинциала из Горького, не по заслугам заполучившего власть в первом театре страны. Тут он спелся в унисон с Т. Дорониной, которую всегда уважительно величал “Татьяной Васильевной”, превознося ее как великую артистку и мудрую правительницу женского МХАТа.
– А вы на спектаклях у нее были? – интересовался я.
– Был, – с вызовом в голосе отвечал Вульф.
– Ну и…?
– Спорно, но интересно.
В переводе на общедоступный язык означало “скука смертная, но высидел до конца”. Впрочем, особо восхищаться доронинским театром ему по статусу не полагалось, поскольку после раздела МХАТа он оставался в стане О. Ефремова, как и первая гранд-дама Ангелина Иосифовна Степанова, с которой его связывала долгая дружба.
Вообще его отношения с женщинами – особый сюжет. Уже после его смерти я узнал, что он был женат, но недолго. Никто не знал имени этой женщины, никогда он не рассказывал об этом эпизоде в своей биографии. Зато имена Бабановой, Улановой, Тарасовой, Степановой постоянно фигурировали в наших разговорах. К тому времени, когда он ко мне подобрел и мы стали часто общаться, большинство из них давно покинули сей бренный мир, став легендами русской сцены. Для меня это были только милые тени давнего прошлого, застывшие на портретах у него в спальне. Поразительно, но для самого Вульфа они были по-прежнему живы и ослепительно прекрасны.
– Вы помните ее бег? – мог он вскричать посредине вполне себе бытового разговора, что надо бы купить абонемент в фитнес-центр и заняться собой. И только посвященные догадывались, что речь идет о Галине Улановой, о знаменитой сцене бега Джульетты в развевающемся черном плаще.
А если темой беседы становился чей-то развод или семейный разлад, он обязательно сворачивал на Аллу Тарасову в “Анне Карениной”.
– Аннушка, что мне делать? Что мне делать? – вдруг начинал причитать Вульф, закатывая глаза и как-то по-простонародному раскачиваясь из стороны в стороны, показывая, как это делала мхатовская прима, и вновь проживая эти театральные мгновения.
С Марией Ивановой Бабановой они тоже долго и страстно дружили. Уже после ее смерти были даже опубликованы ее письма, где фигурирует “Виталик из Баку”. Он часто бывал у нее дома на улице им. Москвина (теперь Петровский переулок) и на даче в Малеевке. Именно он принес ей пьесу Э. Олби под оптимистическим названием “Все кончено” и убедил Ефремова поставить ее во МХАТе. Он был ее друг, конфидент, советчик. Но что-то там между ними произошло, после чего ему было резко отказано от дома, и они расстались.
Когда однажды я спросил его об этом впрямую, он, всегда такой словоохотливый, не стал вдаваться в по-дробности, дав понять, что стал жертвой клеветы. Впрочем, Мария Ивановна была знаменита своим невыносимо-тяжелым характером, от которого пострадал не он один. Наталья Крымова рассказывала, как после телевизионной программы, подготовленной ею с превеликим тщанием и любовью к юбилею народной артистки, та на следующее утро вместо ожидаемых восторгов и благодарностей обдала льдом, как умела только она, и ошарашила вопросом: “Наталья Анатольевна, за что вы меня так ненавидите?”
Оказалось, что Бабановой не понравились несколько крупных планов и вид ее старых рук в кадре. Причем одними претензиями к Крымовой она, разумеется, не ограничилась, а не поленилась дозвониться и до всесильного председателя Гостелерадио С. Г. Лапина с требованием уничтожить ненавистную ей юбилейную программу. В качестве компенсации за понесенный моральный ущерб Лапин галантно предложил увековечить любой спектакль с участием Марьи Ивановны, на что она милостиво согласилась. Исполнено это будет спустя пять лет, как раз тогда, когда состоится премьера “Всё кончено”.
Рассказываю так длинно, чтобы не сложилось превратного впечатления, что дружить с этими великими женщинами было таким уж легким и доступным делом. Вовсе нет! Похоже, Вульф был единственным представителем мужского пола, кто готов был выдерживать их приступы отчаянья и гнева, выслушивать жалобы на родственников и рассуждения о судьбе России, терпеть их ревнивые наезды и вздорные обиды, прощать бездонный эгоизм, жалкую расчетливость и старческую сварливость. Он помнил их молодыми, в силе и славе, со знаменитыми любовниками, всемогущими мужьями, толпами поклонников. Он наблюдал их одинокое угасание в ожидании новых ролей и редких приглашений из Дома актера. Он проживал вместе с ними их тихий закат, неизменно омраченный бедностью, безденежьем и болезнями. Из всего этого еще при их жизни он сочинял свои пронзительные саги, которым благодарно внимало все взрослое население на территории РФ – от президента до консьержек в подъездах элитных домов.
Из всех телевизоров нашей Родины лился его голос с далеко не идеальной дикцией, но завораживающей интонацией мудрого театрального сказочника. Это был голос прошлого, настигавшего нас какими-то давно забытыми обертонами и утраченными свидетельствами. Голос романтика, безответно влюбленного и безнадежно страдающего от холода жизни, который в полной мере пришлось испытать его героиням. Это был голос миссионера, благородного рыцаря культуры, последнего защитника высоких традиций, каким он себя ощущал, проходя через турникеты Телецентра в Останкине.
Интеллектуалы, как им и полагается, высокомерно морщились (“Ну что там Виталик опять заливает”), но народ его любил. И рейтинги у “Серебряного шара” были высокие. У Вульфа было то, чем не владели его более молодые и, может быть, даже более просвещенные коллеги, – прирожденный дар телегении. В век клипового сознания и мгновенно меняющейся картинки статичная мизансцена с единственным рассказчиком в кадре выглядела старомодной до архаичности, но в этой наивной повествовательности было что-то магическое. Язык не поворачивался назвать Вульфа “дедушкой”. Он был именно что пожилым господином из бывших, за которым смутно угадывался почти уже исчезнувший контекст другой жизни с фамильными библиотеками, подмосковными дачами, абонементом в Консерваторию, ежегодными поездками “на воды” куда-нибудь в Карлсбад, еще не ставший Карловыми Варами. И даже не очень важно, про кого он рассказывал (хотя он всегда старался быть максимально увлекательным) – куда интереснее было наблюдать за ним, следить, как он выстраивает рассказ, придумывает свою драматургию для очередной судьбы, на чем делает акценты.
Позиции Вульфа заметно укрепились после того, как на одном из приемов для прессы В. В. Путин сам подошел к нему и во всеуслышание заявил: “Наконец-то я познакомился с человеком, из-за которого все время опаздываю на работу”. Видя всеобщее смятение, президент благодушно добавил: “Когда утром показывают «Серебряный шар», я просто не могу не досмотреть его до конца”.
Телевизионные боссы тогда не очень поняли путинский месседж: то ли больше не давать “Шар” в утренние часы, то ли, наоборот, ставить его только на вечер, а может, тогда заодно и на ночь? Вдруг Путину приспичит послушать Вульфа во внеурочное время. На всякий случай под “Серебряный шар” выделили прайм-тайм.
Вульф ликовал, предполагая, что сейчас-то он и развернется, что ему дадут наконец выйти за привычные рамки на просторы Большой Истории. Первые же его программы про Черчилля и де Голля стали превосходными образцами телевизионной эссеистики, рассчитанными на гораздо более подкованную и молодую аудиторию. Но когда он попытался обратиться к таким фигурам, как Гитлер и Сталин, незамедлительно последовали жесткий выговор и запрет. Любые попытки да-же самого осторожного сравнительного анализа, сделанные в духе классической ленты “Обыкновенный фашизм”, были пресечены сразу и безоговорочно. Не помогли ни прошлые заслуги, ни комплименты президента, ни рейтинг, ни даже дружеские отношения до поры до времени с К. Эрнстом.
Помню его подавленным, растерянным, грустным. Страх, пережитый в далекой юности, во времена антисемитских компаний конца 1940-х годов, вдруг зловещим эхом отозвался в новейшем времени, не оставляя ни малейших иллюзий по поводу случившихся перемен. С одной стороны, Вульф был слишком опытным человеком, чтобы игнорировать такие сигналы сверху. С другой, он слишком дорожил своей всероссийской славой и впервые появившимися в его жизни стабильными деньгами, чтобы отказаться от них ради гордых принципов.
По своему мироощущению он совсем не был диссидентом, хотя основной круг его друзей и привязанностей тяготел к гражданскому обществу и демократическим ценностям. Мне кажется, ему даже больше импонировала абсолютистская власть или какая-нибудь просвещенная деспотия. Неслучайно его подсознательно тянуло к сильным, авторитарным театральным вождям. Вначале это был О. Ефремов, а позднее – Ю. Н. Григорович, с которым он сблизился, когда тот уже покинул Большой театр. В неверном, коварном и призрачном театральном мире Вульф больше всего ценил преданность и верность. Он сам был очень верным человеком в своей дружбе. Но, когда его предавали, рвал решительно и бесповоротно. Так было, когда он расстался с “Современником” из-за спектакля “Сладкоголосая птица юности” в его переводе, который не принял категорически. Более того, он усмотрел в нем грубый наезд на Театр, которому всегда поклонялся, который был смыслом и содержанием его жизни. Все, кому спектакль Кирилла Серебренникова понравился, были отлучены от дома. Исключение было сделано только для меня и моей жены Нины Агишевой, первой написавшей хвалебную рецензию в “Московских новостях”. Причины этой странной избирательности нам самим были не очень понятны. Наверное, Вульфу не хотелось оказаться в полной изоляции. “Сладкоголосая” и так ему слишком дорого обошлась.
Увы, жизнь постоянно ставит в мучительные ситуации выбора, не предполагающего компромисса или отступления на заранее заготовленные позиции. Особенно в театре, где все на виду, где некуда скрыться от любопытных и всевидящих глаз. Разрыв с “Современником” был для Вульфа большой личной драмой, так же как и его уход с Первого канала, где родился “Серебряный шар”, откуда началась его слава.
Больше он никогда не будет касаться опасных исторических фигур, а сосредоточится только на любимых и прекрасных во всех отношениях персонажах. В 2003 году он переберется на ВГТРК, где у него будет полный карт-бланш. Хотя за некоторых героев придется побороться.
Помню одну нашу встречу как-то под Новый год. Накануне у Вульфа должно было состояться обсуждение планов “Серебряного шара” с начальством, и он опаздывал. Я ждал его, как мы условились, чтобы вместе пойти в ресторан “Bon”, в котором он никогда не был. Час был поздний. Тверская улица после ледяного дождя напоминала пустынный каток, по которому полагалось передвигаться только с чрезвычайной осторожностью. Наконец появился Вульф. Не обращая внимания ни на лед под ногами, ни на снег, слепивший глаза, он буквально прокричал мне вместо приветствия:
– Вы представляете, они не знают, кто такая Грета Гарбо!
– Ну и что? – вяло отреагировал я.
– Как – ну и что! Но я уже придумал программу! Галя (Галина Борисова, бессменный редактор программы “Серебряный шар”. – С.Н.) собрала видеоматериалы. А тут Антон (А. Златопольский, генеральный директор канала “Россия-1”. – С.Н.) меня вдруг спрашивает: а кто это? И тогда я встал и сказал: “До тех пор, пока вы не посмотрите «Королеву Христину» или «Даму с камелиями», мне не о чем с вами разговаривать”.
– После таких слов я бы вас уволил без выходного пособия.
– Это вас бы он уволил. А благодаря мне он впервые увидел фильмы Гарбо.
– И как ему?
– Рыдал.
В этот самый момент Вульф поскальзывается и с диким грохотом падает на ледяной тротуар. Шапка отлетает в одну сторону, шарф – в другую, тело опрокинуто навзничь. Снег крупными хлопьями медленно оседает на асфальт. Такой вот кадр, от которого у меня темнеет в глазах. Про себя я понимаю: это всё. Надо немедленно вызывать скорую, полицию, звать кого-то на помощь. Я уже представляю, как первыми сюда примчатся стервятники из “Life News”, главные эксперты по моргам, похоронам и несчастным случаям. И мне придется, как свидетелю, давать бесконечные показания. Мое воспаленное воображение уже судорожно диктует эти заголовки: “Вульф умер на руках у Николаевича”, “Не усмотрел” и т. д.
– Виталий Яковлевич, как вы? Потерпите. Я сейчас вызову скорую и отвезу вас в Склиф, – причитал я, склонившись над ним.
– Не надо, лучше помогите подняться.
Кое-как с моей помощью встает на ноги. Слава богу, кажется, в состоянии сам передвигаться.
– Тогда я сейчас вызову машину, и мы поедем домой.
– Зачем домой? Мы же собирались в ресторан.
– Но ведь надо выяснить, нет ли перелома?
– И что с того? Это не повод, чтобы отменять наш ужин.
Я подставляю ему плечо, и мы медленно бредем в сторону “Bon”, как два бойца, покидающих поле брани.
“Что мы делаем? – думал я про себя. – Его надо везти в больницу”.
И тут же у себя над ухом слышу его сдавленный шепот.
– Представляете, он плакал, глядя на нее.
– Кто-о?
– Антон!
– На кого?
– На Грету Гарбо.
…Мы долго сидели в полутемном ресторане, ели какую-то подозрительную еду. Раз пять с разными вариациями я должен был выслушать историю прозрения генерального директора канала, впервые увидевшего великую шведку, и при этом с ужасом наблюдать, как правая рука Вульфа постепенно раздувается до размеров боксерской перчатки.
– Виталий Яковлевич, что у вас с рукой? Болит?
– Болит.
– Но ведь надо что-то делать!
– Надо. Но вначале мы посмотрим, что у них тут с десертами.
На следующий день выяснилось, что, конечно, у него был перелом. Причем не первый. Рентген показал, что Вульф уже падал полтора года назад на ту же самую правую руку, только когда и где, он не мог никак вспомнить.
– Кажется, это было прошлым летом в Биаррице.
– И вы не обратились тогда к врачу?
– Мой дорогой, как вы не понимаете, в моем возрасте ходить по врачам уже просто неприлично. К тому же мне было чем заняться в Биаррице.
Увы, уже очень скоро настал момент, когда больничные палаты стали для него привычными декорациями, а врачи – едва ли не главными собеседниками. О своей тяжелой болезни он сообщил нам с женой мимоходом, как о чем-то малозначащем и не заслуживающем долгих обсуждений. Только под моим напором он нехотя назвал диагноз. И тут же насмешливо отверг мои пылкие уверения, что врачи могли ошибиться, быстро свернув разговор на совершенно другую тему.
Сейчас, когда я вспоминаю Вульфа, то думаю, откуда у этого изнеженного сибарита, совсем не мужественного на вид человека была такая невероятная сила воли, такая внутренняя готовность к любому пусть даже неравному бою, такая решимость идти во всем до конца. Что за этим скрывалось, кроме генов и мощной еврейской крови? И не нахожу другого ответа – это жажда жизни. В нем жила энергия многих великих и совсем безвестных артистов, которых он любил, кому поклонялся, посвящал свои книги, телепрограммы, статьи. Избрав Вульфа в качестве собственного полномочного посла и представителя, они придавали ему дополнительные силы, поддерживали в трудные минуты, вносили смысл в его одинокую холостяцкую жизнь.
На восьмом десятке, уже тяжело больной, не имея никакого опыта “руководящей работы”, он взялся руководить загибавшимся радиоканалом “Культура” и неожиданно вытащил его. Что-то интересное и там стало происходить, по-новому зазвучали голоса Людмилы Гурченко, Аллы Демидовой, Татьяны Дорониной. Это все Вульф. Его воля, его непобедимое стремление вырваться самому и вырвать своих любимых из сгущающегося мрака безвестной старости. Он чувствовал себя за них, живых и мертвых, в ответе. И, наверное, секрет многолетней притягательности его “Серебряного шара” в том и заключался, что это был один бесконечный сериал о любви, о мужестве жить, об умении “держать спину” в любых обстоятельствах и скромно, с достоинством нести свой крест. Всё по Чехову.
Виталий Вульф так жил сам, так и ушел, захватив с собой только том писем Марины Цветаевой в свою последнюю больницу.
И первое, что я услышал, переступив порог его палаты, были слова:
– Как же она его любила!
– Кто?
– Марина.
– О, господи! Кого?
– Ну конечно, Родзевича! А вы думали?
Последний “час Вульфа” мы провели с ним, жарко обсуждая отношения Марины Цветаевой и Константина Родзевича.
И ни слова о смертельной болезни, ни слова жалобы.
До последнего часа Обращенным к звезде — Уходящая раса, Спасибо тебе!Это ведь и про Виталия Яковлевича Вульфа.
2019День рождения Степановой Ангелина Степанова
В жизни она почти не использовала косметику. Ни в молодости, ни в старости. Теперь я понимаю, что это считалось высшим пилотажем среди женщин ее поколения – не скрывать морщин, не молодиться, не вести войну с возрастом. Такая, какая есть. Пусть красятся и пудрятся опереточные дивы! А она – нет. Положение ведущей актрисы МХАТ им. Горького да еще жены первого секретаря Союза писателей СССР обязывало к подчеркнутой скромности и неброским нарядам.
Ангелина Иосифовна Степанова всегда проходила по разряду театральной номенклатуры: народная артистка СССР, Герой Соцтруда, лауреат и орденоносец, парторг МХАТа. Эту мощную линию обороны она упорно и старательно возводила много лет, став, как всем казалось, абсолютно неприкасаемой для внешних бурь. Увы, это был всего лишь миф!
В конце 1980-х и ее Китайская стена рухнула под натиском обстоятельств и разрушительных сил. Вначале – раздел МХАТа, в котором ей поневоле пришлось участвовать, потом – развал страны, смерть старшего сына. Болезни, немощь, слепота… Все эти удары судьбы она принимала с достоинством. Никогда не жаловалась, ни в чем никого не обвиняла. Помню, как, желая ее поддержать, я восхитился, какая она сильная. “Нет, я не сильная, – поправила меня Ангелина Иосифовна, – но я всегда была смелой”.
– Вас пригласила к себе на день рождения Ангелина Иосифовна, – торжественно объявил мне Виталий Вульф по телефону.
– Вы ничего не путаете? – засомневался я.
– Я никогда ничего не путаю, – сердито оборвал меня Вульф. – Ангелина Иосифовна сказала, приходите и приводите своего молодого друга, который был на нашем вечере в Доме актера.
И, понизив голос, заговорщическим театральным полушепотом добавил: “Будут только свои”.
– Но, может, она ошиблась? Ведь мы виделись всего один раз. И сразу на день рождения! К тому же вы говорили, что у нее плохо со зрением, – продолжил я свои сомнения.
– Такие женщины, как она, видят всех насквозь. Так вы придете? Только не опаздывайте. Ангелина Иосифовна терпеть не может, когда опаздывают. И еще она просила передать, чтобы никаких подарков.
– Она что, тоже их терпеть не может?
– Ну какие могут быть подарки на девяносто два года?
Виталий Яковлевич в своем репертуаре, подумал я. Наверняка Степанова ничего ему не говорила. Он все это придумал, чтобы не идти к ней одному. Ну да, два года назад состоялся вечер в Доме актера на Арбате, устроенный Маргаритой Александровной Эскиной в честь выхода книги переписки Ангелины Степановой и Николая Эрдмана, где мне пришлось выступить. Редактором, составителем и автором предисловия был Вульф. Собственно, это была его идея – издать любовную переписку народной артистки и опального драматурга. Неожиданно Степанова согласилась. Времена были постперестроечные. Все архивы открыты, спецхраны упразднены. Тогда было опубликовано немало откровенного вранья. Например, Степанову больше всего возмутило, что в комментариях к дневниковым записям Эрдмана она фигурирует в качестве назойливой особы, которая домогается известного писателя даже в ссылке. А она не была назойливой ни разу и никого не домогалась. И вообще в дневнике шла речь о законной жене Эрдмана, с которой он собирался развестись, чтобы соединиться с ней, с Линой, как тогда все ее называли. Все у них там было сложно и запутанно. Спустя почти шестьдесят лет неутомимый Вульф взялся распутывать их отношения и сам комментировал переписку под диктовку, разумеется, Степановой. Несмотря на преклонные года, она обладала отличной памятью и могла наизусть часами читать стихи Лермонтова.
Подготовка книги отняла у Вульфа уйму времени. Но, когда речь дошла до публикации, никто браться за ее письма не захотел. Больно уж древними казались и имена героев, и страсти, бушевавшие между ними. Издатели, как обычно, требовали денег. Брать их с народной артистки было грех, а свои Вульф тратить не хотел. В конце концов нашлась прекрасная Дуся Хабарова, бывший рекламный директор издательского дома “Коммерсант”, которая из уважения к великим и отчасти в память о собственном отце, актере Павле Александровиче Шпригфильде, согласилась взять на себя все расходы. Небольшая изящная книжка, выпущенная Дусиным издательством “Иван-Пресс”, неожиданно наделала много шума и даже имела успех.
Больше всего поражал контраст между той Степановой, которую все знали много лет как орденоносную Гертруду (Героя социалистического труда), партийного босса МХАТ СССР им. Горького, и той любящей, юной, пылкой Линой, какой она предстает в переписке с Николаем Эрдманом. Как будто речь шла о двух совсем разных женщинах, смотревших из зеркала времени и не узнававших друг друга. Ни разу за эти годы Степанова не брала письма в руки, но всегда про них помнила и берегла и вот даже согласилась издать. Безо всяких купюр. Не знаю, что в этом жесте было больше – желания оправдаться? Вновь пережить томительные и ослепительные мгновения главной любви ее жизни? Или это был ее окончательный расчет с прошлым, которое все еще жгло и требовало отмщения? Кому? За что? За все! И с той же свирепой решительностью, с какой ее Елизавета Английская подписывала и отшвыривала от себя смертельный приговор Марии Стюарт, Степанова предъявляла миру горькую правду о своей загубленной любви и несчастливой жизни.
Наверное, до конца оценить этот душераздирающий жест старой актрисы тогда смогли лишь немногие. Слишком давил образ государственной дамы, жесткой и непреклонной, какой Степанова продолжала оставаться на памяти нескольких поколений зрителей и театралов. Сочувствия, а тем более нежности ни она, ни ее многочисленные героини, как правило, не вызывали. Она и не рассчитывала на это. В ней начисто отсутствовала всякая мхатовская сентиментальность, душевность, сострадательность. Она как никто умела быть на сцене холодной и черствой. Но при этом от нее невозможно было оторвать глаз. Помню ее Принцессу Космонополис в “Сладкоголосой птице юности”, и Патрик Кэмпбелл в “Милом лжеце”, и фантастическую Аркадину. Актрисы, одни актрисы… Она знала про них всё и наверняка чуть-чуть презирала за фальшь, за потребность беспрерывно кого-то играть и все время ждать аплодисментов. “Как меня в Харькове принимали”, – коронную фразу Аркадиной в последнем акте “Чайки” она произносила с той задумчивой, отстраненной нежностью, от которой перехватывало дыхание. Так можно вспоминать только мгновения неземного блаженства. Понятно, что все главное в жизни вершилось там, в Харькове, а здесь, сейчас, в имении брата Сорина рядом с этими стертыми, потухшими людьми – одна беспросветная тоска и прозябание.
Никогда не забуду, как она играла Любовницу во “Все кончено” Эдварда Олби. Спектакль был не о ней и поставлен не для нее. Олег Ефремов задумал устроить своего рода театральный бенефис к юбилею другой великой актрисы Марии Ивановны Бабановой, конечно, не без тайного расчета повторить грандиозный успех “Соло для часов с боем”. Во времена застоя особым успехом у зрителей и начальства пользовались спектакли с большим количеством пожилых и даже совсем ветхих народных артистов. Что-то было в этом от смертельного циркового аттракциона: никто не знал, доиграют они до конца или нет. Присутствие неотложки, дежурившей у служебного входа театра, ясно намекало, что спектакль может стать для кого-то из участников последним. И в этом случае уже не имело значения, играют они себя или чужую немощь, помнят ли толком текст или несут полную отсебятину? Скажите спасибо, что живы. И уже один этот факт заслуживал дружных и восхищенных аплодисментов в финале.
На это, в сущности, и рассчитывал Ефремов, приглашая уже очень больную и давно не игравшую Бабанову во МХАТ. Неподвижно она просидела все два акта в центре сцены, практически не вставая с кресла, изображая надменную и вздорную барыню, какой, впрочем, она и была в жизни. Своим непотускневшим, хрустальным голосом она старательно выпевала многословные монологи Олби под шепот суфлера, который был слышен даже в последних рядах партера. По контрасту с ней Степанова была сама моложавость, стремительность и легкость. За весь спектакль, похоже, даже не присела. Ну, может, только один раз на краешек стула, чтобы тут же легко вскочить и продолжить свои хищные кружения по сцене. Походка, прическа, make up, туфли на высоких каблуках, меха, картинно спадающие с плеч, – все безупречно и выверено до миллиметра. Одним своим победительным видом она хотела продемонстрировать залу и престарелым партнерам, что лично для нее ничего не кончено. Особенно это было заметно на поклонах. Актеры, счастливые, что дотянули до финала, и полумертвые от усталости, были, кажется, не в силах пошевелиться. И только одна Степанова с сияющей улыбкой, легко, как молодая, все нагибалась и нагибалась, подбирая летящие на сцену цветы. Все цветы ей, все аплодисменты ей одной. При чем тут Бабанова? Я ловил в этот момент взгляды других актеров. В них были зависть и насмешка: “Ну что это она тут распрыгалась!”
Но Степановой нравилось не столько выглядеть, сколько чувствовать себя моложе, бодрее и энергичнее своих сверстников. При этом в жизни она нисколько не молодилась и даже, похоже, не помышляла о радикальных метаморфозах “милого лица”, возможных только с помощью хирургического вмешательства. Ей это было не нужно. Просто, вернувшись к себе в гримерку, она смывала с себя роль и чужой возраст, а затем, облачившись в неизменную броню – английский костюм одного и того же фасона много лет подряд, – вновь становилась скучноватой, застегнутой на все пуговицы пожилой дамой со скрипучим голосом. Той самой, которую обычно показывали по Центральному телевидению в дни юбилеев и государственных праздников, как один из самых узнаваемых и важных символов советского театра. И эта ее непробиваемая советскость, и многолетняя партийность, и верноподданнические речи, которые она исправно произносила по поводу и без, сильно мешали разглядеть в ней что-то другое, кроме официоза и бездушия многоопытной народной артистки СССР.
Про личную жизнь ее было известно немного. Во всех энциклопедиях она фигурировала как вдова писателя Александра Фадеева, автора “Разгрома” и “Молодой гвардии”, покончившего с собой в 1956 году. От этого брака остался сын Миша. Еще у Степановой был старший сын Саша, который был недолго женат на Людмиле Гурченко, чем, собственно, и прославился. Неудачливый актер, хронический алкоголик, но, судя по фотографиям и ранним фильмам, в молодости – редкий красавец. Про его отца ничего неизвестно. Вульф намекал, что это был какой-то большой гэбэшный чин, на связь с которым Степанову толкнула жертвенная любовь к Эрдману. Якобы от этого человека зависела судьба ее возлюбленного: оставаться ему гнить в Енисейске или перебраться в Томск, где, несомненно, у него было гораздо больше шансов вести человеческую жизнь. Легенда гласит, что и она сама туда собиралась переехать и даже готова была бросить любимый МХАТ. За этот перевод Эрдмана ей пришлось расплатиться по полной. История вполне в духе Великой Французской революции. Но потом с Томском произошел страшный облом. Туда в конце концов перебралась законная жена Эрдмана. А Степанова осталась в Москве с маленьким сыном непонятно от кого, зато с неожиданно открывшимися перспективами на блестящую карьеру. Знатоки эпохи уверяют, что такой бурный карьерный взлет не мог бы случиться без серьезной протекции и высоких связей, которыми, по слухам, обзавелась к тому времени молодая актриса. Впрочем, очевидных доказательств нет, зато есть роли Степановой, вошедшие во все учебники по истории отечественного театра, есть легендарное имя, которое на одних связях никогда не сделаешь, и огромная жизнь, в которой сошлись множество самых неожиданных сюжетных линий, судеб, историй, имен и характеров.
Я это остро почувствовал тогда, на вечере в Доме актера. Маргарита Александровна Эскина придумала даже что-то вроде декорации: черный рояль, цветущее вишневое дерево, осыпающееся шелковыми белыми лепестками, а в центре – старинное кресло, как будто перекочевавшее из дома Прозоровых или имения Раневской. На него и усадили главную героиню в надежде, что по заведенной традиции она обрушит на зрителей потоки воспоминаний. Но Степанова была на удивленье тиха, немногословна и больше была настроена слушать, чем говорить. Ее интересовало, какое впечатление произвела переписка с Эрдманом на людей нынешнего времени. Какими глазами они прочли письма из прошлой жизни? Что нового для себя открыли? Ей совсем не хотелось слушать славословия в свой адрес. Она ждала острых вопросов и готова была на них отвечать. Но впрямую спрашивать ее о том, как она выцарапывала Эрдмана из ссылки, никто не решился. Да и драматические перипетии ее мхатовской жизни 1930-х годов казались довольно взрывоопасной темой. Поэтому доминировала тональность элегии, которую с самого начала задал Вульф, а все выступавшие лишь старательно ее поддерживали.
К тому времени она уже ушла из МХАТа, разделу которого не смогла или не захотела воспрепятствовать. По мнению участников событий, которым можно доверять, Ефремов фактически купил лояльность Степановой обещанием оставить у себя в театре ее сына Сашу, с которым сам был в затяжной ссоре. Она пошла на мировую с тяжелым сердцем, хотя Татьяну Доронину, возглавившую фронду, не любила. В числе уволенных и обиженных оказалось немало ее бывших партнеров и товарищей, которые после раздела МХАТа навсегда вычеркнули номер ее телефона из своих записных книжек. Впрочем, в тот момент трудоустроить гибнущего сына для нее было важнее дружеских привязанностей.
К тому же при всем своем твердом характере Степанова считалась на редкость послушной актрисой, умеющей безропотно подчиняться воле режиссера и безукоризненно выполнять все его требования. А Ефремов был для нее и главным режиссером, и начальником, и покровителем, от которого зависело все. Неудивительно, что с самого начала мхатовской войны она безоговорочно приняла его сторону и всегда поддерживала в высоких инстанциях, защищая его с теми же проникновенными интонациями, с которыми в былые времена благодарила партию, правительство и “лично дорогого Леонида Ильича”. Так было принято в крепостном театре, где она дослужилась до звания первой актрисы. Такими были правила игры, сохранявшие свою силу и в новейшие времена.
В конечном счете Сашу в ефремовский МХАТ не взяли. Даже не знаю почему. То ли Олег Николаевич передумал – это часто с ним бывало, то ли Саша оказался совсем уж профнепригоден. Все усилия Степановой, мольбы, мелкие и большие предательства оказались напрасными. Сын еще какое-то время числился в штате у Дорониной, но по-прежнему беспробудно пил и вскоре умер на той же даче в Переделкине, где покончил с собой и его отчим Фадеев.
Эта горестная история неожиданно эхом отозвалась на вечере в Доме актера, когда из зала поднялся, чтобы сказать свое слово, главный редактор газеты “Экран и сцена” Александр Авдеенко, давний сосед по Переделкину, которого Степанова знала еще мальчиком.
– Сашка! – воскликнула она вдруг неожиданно молодо и звонко.
– Да, Сашка, – смущенно пожал плечами пожилой Авдеенко. – Вы меня всегда так звали. И Александр Александрович, и ваш Саша, мой ближайший друг детства, и мой отец, который, кстати, тоже был Александром. Помните? Вокруг вас были сплошные Александры.
– Только ты и остался, – сказала Степанова без всякой мелодрамы в голосе, словно констатируя некую неизбежность, о которой ни грустить, ни сожалеть не полагается. Что делать? Жизнь.
Приблизительно с той же интонацией насмешливой и гордой обреченности она произносила свою речь на столетнем юбилее МХАТа. По-моему, это был самый ужасный театральный праздник из всех, на которых мне когда-либо приходилось присутствовать. Стол с пьяными артистами и гостями безостановочно ездил по кругу на сцене, и с каждым новым поворотом открывалась картина все более устрашающего распада. На ее фоне то несмешно острил Юрский, то принималась танцевать Майя Плисецкая, то показывал свой задорный киноролик про каких-то транссексуалов в образе трех сестер Сергей Соловьев, то базарными пропитыми голосами пели частушки безвестные мхатовские артистки. Не сдержался один Никита Михалков, вышедший, как и все, поздравить Ефремова, но в результате лишь ошарашенно каким-то петушиным дискантом прокричавший в зал: “Там же пьют!!!”
Никакой самый великий режиссер не создал бы более убедительный и экспрессивный образ “Пира во время чумы”, чем тот, что являла собой в этот вечер сцена первого театра страны. И вот посреди этого нескончаемого пьяного застолья появляется Степанова в черном платье от Зайцева: высокая, прямая, непреклонная, разом похожая и на Ермолову с серовского портрета, и на всех великих актрис прошлого. Она пришла, чтобы напомнить живым о мертвых, сказать о своих учителях, о своем МХАТе. Пришла, чтобы еще раз увидеть зал, с которым столько всего было связано в ее жизни, постоять на сцене, которую когда-то знала наизусть до последней дощечки и гвоздика. Все стало чужое. И она здесь чужая. Нет никакого дела до ее откровений ни новому времени, ни всем этим людям, продолжавшим галдеть нестройным, ресторанным хором у нее за спиной, пока она говорила. Все ее слова мимо. Никто не слушал. Не стоило тратиться на новое платье и парикмахера. Вполне могла остаться дома и посмотреть юбилейный вечер по телевизору. Вряд ли бы кто-то и заметил ее отсутствие. Впрочем, нет, не прийти было нельзя. Все-таки старейшина! Ефремов настаивал, требовал и даже сам позвонил: “Как же мы без вас, дорогая Ангелина Иосифовна!” Напрасно она ему не сказала, что очень даже легко и прекрасно. Но нет, зачем-то опять подчинилась. В очередной раз, в последний раз…
Так совпало, что ровно через месяц после мхатовского юбилея случился ее день рождения, на который она меня и пригласила через Виталия Вульфа. Был тихий морозный вечер. Новый дом в старых арбатских переулках выделялся нарядным номенклатурным видом. Консьержка, лифт Otis, все как полагается для сановных отставников брежневского призыва. Квартира небольшая, но уютная. Я сразу узнал большую хрустальную люстру над круглым обеденным столом, попавшую в кадры давнего документального фильма о Степановой, где она репетировала “Марию Стюарт”. Скользнув взглядом по светлым стенам, я не обнаружил никакого антиквариата или старинных музейных раритетов. Все просто. Было видно, что быт народной артистки не слишком прихотлив и затейлив. Но сервировка стола была тщательная, как это принято в хороших домах: много рюмок резного хрусталя, парадный фарфор и даже серебряные кольца для туго накрахмаленных салфеток. Сама хозяйка тоже была при параде: в нарядной кофточке, с тщательно уложенными на прямой пробор седыми волосами. Хотя было понятно, что со зрением и слухом у нее не очень, но безошибочная женская интуиция включалась мгновенно, как только она ощущала, что разговор угасает, а бокалы начинают пустеть, и с новой энергией принималась всех потчевать и развлекать.
Сама она почти ничего не ела и не пила. Кусок именинного пирога с капустой так и пролежал нетронутым на ее тарелке весь вечер. Я сидел сбоку и почти не видел ее лица. Только руки, которые время от времени взлетали над столом, пытаясь дирижировать подачей блюд и общей беседой. Худые, прозрачные до синевы, какие-то дюреровские руки с длинными морщинистыми пальцами без единого кольца. В них была видна голая суть характера, а по сухим линиям на узких ладонях, наверное, можно было прочесть ее судьбу.
В какой-то момент я потянулся в центр стола за виноградом и неловким жестом подхватил целую гроздь. Попытался ее разделить, но меня остановила Степанова.
– Берите всю. Будем щипать вместе, – сказала она тоном опытной кокетки.
Меньше всего она была настроена говорить про театр и про минувший юбилей. Тем более что за столом были Ия Саввина и Татьяна Лаврова, актрисы ефремовского МХАТа. Ставить их в неловкое положение Степановой явно не хотелось. Они это, похоже, оценили и смиренно промолчали почти весь вечер, чего от них я никак не ожидал. Обе дамы были яркие, злые на язык, ироничные, за словом в карман не лезли. Но в присутствии Степановой обе как-то стушевались. Вообще понятие театральной субординации я впервые осознал именно там, на дне рождения у Степановой. Надо сказать, что раньше в старых академических театрах иерархия положений соблюдалась неукоснительно: есть первая актриса и все остальные. Есть ведущий актер и его дублеры. Пусть никто не обманывается и не поддается на фамильярные провокации и амикошонские контакты старших по званию с младшими за кулисами или в актерском буфере. Статус есть статус.
Степанова, даже выйдя на пенсию, сохраняла за собой положение первой мхатовской актрисы, которая играла с самим К. С. Станиславским и участвовала как первая исполнительница в легендарных спектаклях В. И. Немировича-Данченко. Тем более ее должна была раздражать чрезмерная активность другой мхатовской старухи Софьи Казимировны Пилявской, провозглашенной Ефремовым чуть ли не любимой ученицей Станиславского. Несовместимость масштабов обеих актрис была очевидна всем. Это как если бы при вдовствующей королеве ее бывшая фрейлина вдруг стала претендовать на трон.
– Что это Зося (так звали Пилявскую в домашнем мхатовском кругу. – С.Н.) в своих воспоминаниях пишет всю дорогу про похороны? – с непередаваемым сарказмом в голосе вдруг сказала Степанова. – Какие кому машины подавали, какие венки у кого были, кого в каких гробах хоронили. Какая все это, в сущности, скучища! Лично я ничего этого не помню. Помню глаза, лица, мгновения тишины в зале, когда казалось, что у тебя сейчас разорвется сердце. Вот о чем надо было писать. Подумаешь, гроб! Тоже невидаль!
– И что же вы сами-то не напишете?
– Мне мешает то, что я слишком хорошо знаю, что такое быть писателем.
От мемуаров Пилявской разговор плавно перешел на литературные связи Степановой, ее былые увлечения и знакомства. Мне было интересно узнать о ее романе с Пильняком. Говорили, что он был серьезно в нее влюблен.
– Пильняк был бабник, – равнодушно отмахнулась Степанова. – Обычный бабник. У него одного из всех наших писателей была машина с открытым верхом, на которой он любил возить из Москвы в Ленинград своих дам. Туда и обратно. После чего всегда предлагал жениться. Бабник, но порядочный. Этого не отнять.
– И вам предлагал?
– И мне! Чем я хуже? Но я отказалась. Жизнь показала, что правильно сделала.
– А с Эрдманом?
– С Николаем Робертовичем я… сплоховала.
– Как так, Ангелина Иосифовна? Помилуйте! Виталий Яковлевич всюду написал, что это была великая любовь! – воскликнула Ия Саввина.
– Он был слабый человек. – задумчиво произнесла Степанова. – Я не сразу это поняла, а потом было уже поздно. Никогда не любите слабых. Обуза, которую будете тащить всю жизнь, ну или пока хватит сил. Может, и меня бы хватило надолго, не знаю. Но обстоятельства были против нас.
– Вы потом встречались, когда он вернулся из ссылки? – спросил я.
– Да, несколько раз. Нам нечего было сказать друг другу. Абсолютно чужие люди. Хотите еще пирога?
И тут же зачем-то вспомнила, как их впервые с Эрдманом застукал в нижнем фойе В. И. Немирович-Данченко. Степанова ведь была замужняя дама. Ее первым мужем был мхатовский режиссер Николай Горчаков, милейший человек, всю жизнь ее боготворивший. Но Немирович его не любил и всегда, когда видел их вместе, недовольно качал головой и говорил с укоризной: “Ах, Ангелина Осиповна, не то, совсем не то”.
А тут вдруг нарисовался Эрдман. Со своим нэпмановским чубчиком, глазами-смородинками, сексуальной ямочкой на подбородке, в новом клетчатом пиджаке, купленном на гонорар, полученный за “Мандат” в Театре Мейерхольда. Восходящая звезда, самый блестящий остроумец театральной Москвы, драматург, от новой пьесы которого были без ума и Станиславский, и Мейерхольд. Хотят оба ставить, буквально рвут на части. А этот Эрдман уже здесь, у них, во МХАТе. Ходит как на поводке за прекрасной Линой, влюбленных глаз с нее свести не может. Послушный, покорный, прирученный. “А вот теперь – то!” – усмехается в усы Владимир Иванович.
У него самого по этой части были большой опыт и свой режиссерский интерес. Сама история МХАТа благоволила романам известных писателей и артисток. Когда-то они заполучили к себе в постоянные авторы Антона Павловича Чехова через его отношения, а потом и брак с Ольгой Леонардовной Книппер. И на Максима Горького пытались влиять и какое-то время удерживать через другую мхатовскую приму, Марию Федоровну Андрееву, пока она не заделалась яростной социалисткой и личным врагом Немировича на всю жизнь. И вот теперь Эрдман. Владимир Иванович уже потирал свои маленькие ручки с тщательно наманикюренными ногтями. Кто же знал, что все так повернется? И никогда “Самоубийца” не будет поставлен на сцене МХАТа. А его автор загремит в ссылку на долгие двенадцать лет, после которых ни одной пьесы больше не напишет.
Имя Немировича-Данченко то и дело всплывает за праздничным столом. “Владимир Иванович сказал”, “Владимир Иванович советовал”… Степанова говорила о нем как о милом дядюшке, почти как о родственнике, с какой-то необычной для нее теплотой и нежностью.
“Сегодня мне снился ваш рот”, – эту фразу она услышит от Немировича-Данченко перед началом репетиций “Трех сестер”, где должна была играть Ирину. Это прозвучало как предложение, от которого не полагалось отказываться. Но она сделала вид, что не понимает.
– И он вас не снял с роли? – удивился я.
– Нет, я уже тогда была женой Фадеева.
– Но согласитесь, звучит провокационно?
– Ему надо было почувствовать себя мужчиной, который еще может кого-то хотеть, что-то желать, даже видеть такие сны. Ведь ему уже было за 80, а он должен был ставить спектакль о любви.
– Но у него в “Трех сестрах” были заняты такие великие актеры…
– Не люблю, когда вы, критики, всех подряд называете великими! Сейчас чей некролог ни откроешь, обязательно наткнешься на “великого” или “великую”. Но это не так. Многие из нас были способными, даровитыми, даже талантливыми… Помню, как Вера Петровна Марецкая в ответ на мои поздравления со званием народной артистки СССР сказала: “Видите, Ангелина Иосифовна, и я дослужилась. Что значит долгая жизнь! В детстве братья меня иначе не называли, как «Верка – сортирная дверка», а теперь и похвастаться-то не перед кем”. Я тогда хорошо запомнила эту “сортирную дверку”, а про себя подумала: надо же, как точно! В сущности, так можно было сказать не только про Веру, но и про всех нас… А великой была Дузе.
– Но вы никогда ее не видели?
– Нет, никогда! У нее было совершенно гениальное лицо. И потом, я абсолютно доверяю тем, кто видел ее на сцене. У меня есть ее редкая фотография. Хотите, покажу?
Мы встаем из-за стола, и она ведет меня в соседнюю комнату, где на стене висит большой портрет Фадеева, вроде тех, что раньше были в учебниках по литературе для старших классов. Очень отретушированный, оптимистически официальный. Прямой взгляд, светлые волосы, белая рубашка с галстуком. И тут же рядом – маленькая фотография Элеоноры Дузе, нежно подкрашенная от руки акварелью. Кажется, она была снята в роли Маргариты Готье.
– Мне ее подарил мой первый муж, Николай Михайлович Горчаков. Правда, она прекрасна? Если бы я умела молиться, то молилась бы, глядя на нее. Но сейчас я так плохо вижу.
– Вы не верите в Бога?
– В моем возрасте надо быть совсем уж безнадежной дурой, чтобы не верить в Бога. Конечно, верю. Просто вся жизнь прошла в театре, а в нем на самом деле так мало божественного… Ну, если только вот Дузе.
И она снова посмотрела в сторону портрета, будто пыталась там увидеть что-то такое, чего не видел никто.
За разговорами мы засиделись за полночь. Пора было и честь знать. Хозяйка устала. Уже в прихожей по московской традиции она стала совать мне в карман мандарины с праздничного стола. Зачем? На дорожку! “Вы забегайте ко мне, забегайте”, – игриво прощалась она.
Но больше мы не виделись. Вульф говорил, что в последний год она сильно сдала и мало кого узнавала. Ангелина Иосифовна умерла 17 мая 2000 года. МХАТ был на гастролях в Южной Корее, и никого из труппы не было. Когда я вошел в театр, гроб стоял на сцене, а зал был почти пустой. Только какие-то старики и старушки робко жались в амфитеатре со своими цветочками. Это позволило Михаилу Швыдкому, выступавшему с официальной речью от Министерства культуры, попенять Степановой: “Судя по нынешнему залу, артистка зажилась”.
Таня Горячева, многолетняя помощница Ефремова, завидев меня в партере, бросилась с просьбой: “Сережа, умоляю, выручите! Совершенно некому выступать”.
Пока я собирался с мыслями, что бы такое сказать, на сцену вывели Ефремова. Его не ждали. Он был очень болен и, кажется, уже не мог передвигаться без чужой помощи. Поначалу я его даже не узнал. Весь обросший, с какой-то клочковатой бородой бомжа, в старом плаще, висевшем на нем, как на вешалке. Он говорил что-то бессвязное и даже пытался шутить, припоминая всё ту же историю с Немировичем, “про то” и “не то”. Никто ничего не понял, что он хотел сказать. Ровно через неделю он умер.
Когда подошла моя очередь выступать, я вспомнил, как Ангелина Иосифовна рассказывала на дне рождения про похороны Екатерины Николаевны, жены Немировича-Данченко, урожденной баронессы Корф. Она ведь тоже считалась одной из основательниц МХАТа, и почести ей полагались по первому разряду: марш Саца из “Гамлета”, флагштоки с траурными лентами на фасаде, задрапированные черным тюлем зеркала. Всё как всегда. Только на прощании не было Владимира Ивановича. Церемония подходила к концу, пора было выносить гроб, а он все не шел и не шел. И было непонятно, что делать дальше. Кого-то послали за ним, но он заперся в своем кабинете и не отвечал на призывы и уговоры. Потом все-таки вышел – как всегда, подтянутый, деловой, энергичный. Он был маленького роста и всегда ходил на каблуках. Все вдруг отчетливо услышали стук его каблуков по паркету фойе. Степанова смешно имитировала этот звук, цокая языком: цок, цок. Толпа раздвинулась, он подошел к гробу, заглянул в него даже как будто с любопытством, а потом, обращаясь ко всем, как-то растерянно, словно не веря самому себе, сказал: “Ну вот и всё”.
Вот и всё, повторил я. И стало слышно, как кто-то в зале заплакал.
2018Театр одной актрисы Алла Демидова
Она единственная, кому я отважился послать свой текст. Долг дружбы и многолетних отношений обязывал меня к этому. Знал, что она не будет придираться по мелочам. Алла Демидова всегда видит смысл. К тому же она опытный литератор, великолепно владеющий словом. Так что можно было рассчитывать на точный совет. Ничего советовать она не стала, только чуть посетовала, что в повествование не вошла большая и важная для нее глава, связанная со спектаклями греческого режиссера Теодора Терзопулоса, на которые она в свое время положила много сил. Но по чужим описаниям или видео мне не захотелось восстанавливать ее “греческий период”. Театр жив, пока на него смотришь из зала. Дальше начинается туман мифов и легенд. И Алла Демидова знает это как никто. Поэтому предпочитает, чтобы ее воспринимали как актрису, живущую сегодня, а не как героиню театрального эпоса, каковой она, безусловно, давно является. Нынешняя жизнь при всех ее ужасах для нее интереснее воспоминаний. Именно этот интерес заставляет Демидову не пропускать ни одной важной московской премьеры или выставки, чуть ли не каждый месяц спешить на “Сапсан”, отправляющийся в СПб, принуждает снова и снова повторять знакомые строчки перед спектаклем в “Гоголь-центре”. Я искренне восхищаюсь Аллой Сергеевной и очень ее люблю.
Знаки судьбы
Аэрофлотовский рейс Афины – Москва задерживался на неопределенное время. Нет чтобы сразу сказать, когда вылет? Тогда можно было бы решить, что делать с вечерним спектаклем – отменять, не отменять… А так через каждые полчаса в телефонной трубке: delay, delay… И что делать с этим “delay”?
– Ждать до победного и надеяться на лучшее, – строгим голосом приказал Валерий Иванович Шадрин, секретарь Союза театральных деятелей СССР, матерый театральный волк. Ничего другого не оставалось.
1990 год. В Москве проходит театральный фестиваль, посвященный 100-летию Александра Таирова. Его имя долгие годы находилось под негласным запретом, а Камерный театр, основанный им, считался формалистским, буржуазным и каким-то еще. Таиров травли не вынес, сошел с ума и умер в 1950 году. Как гласит легенда, его жена, трагическая актриса Алиса Коонен, прокляла Театр им. Пушкина, открывшийся в том же здании, где раньше был их Камерный, по адресу Тверской бульвар, 23. С тех пор разные несчастья, которые там время от времени случались, имели среди сотрудников театра исключительно мистическое объяснение. Увольняют директора – Коонен наколдовала; появляются плохие рецензии на слабый спектакль – и тут не обошлось без ее участия; увозят в психбольницу главного режиссера, как это было с Борисом Равенских, – опять Алиса виновата!
Так продолжалось без малого сорок лет. Немудрено, что у Театра им. А. С. Пушкина была репутация несчастливого места, где не стоит особо задерживаться.
Когда в СТД задумывали фестиваль, то начальство даже церемонию открытия решило превратить в покаянную литургию с настоящими священниками, церковным хором и православными песнопениями. Непонятно, правда, какое все это имело отношение к эстету, космополиту и к тому же некрещеному еврею Таирову? Но проклятье велено было снять в административном порядке. К тому же казалось, что молитвы должны умилостивить высшие силы. Так, в сущности, и было. Все фестивальные спектакли состоялись в положенный срок. Публика каждый вечер исправно заполняла зал Театр им. Пушкина. Иностранным участникам вручали на сцене памятные медали с изображениями Таирова и Коонен (на мой вкус, довольно уродливыми), а потом везли пировать в еще не сгоревший ресторан Дома актера. Все шло, как по маслу, пока не подошла очередь “Федры”, спектакля, поставленного Романом Виктюком в Театре на Таганке с Аллой Демидовой в главной роли. С ним как-то с самого начало все было сложно. Почему-то уже после того, как программа была сверстана, а афиши напечатаны, выяснилось, что спектакль больше не может считаться спектаклем Театра на Таганке, а надо писать Театр “А”, поскольку теперь он является личной собственностью Аллы Демидовой. Не успели перепечатать афиши и переправить пресс-релизы, как стало известно, что “Федру” в эти же фестивальные дни пригласили на гастроли в Грецию. Пришлось передвигать сроки и снова печатать несчастную афишу. И, наконец, в день спектакля этот зависший из-за тумана рейс из Афин…
Знаки судьбы надо уметь слышать. Похоже, Алиса Коонен явно не хотела, чтобы на сцене бывшего Камерного театра шла чужая “Федра”. Пелопонесской царицей в истории русского театра должна остаться только она. Что же тут непонятного? Но мы продолжали названивать в справочную “Аэрофлота”, ни на что не надеясь. “Федры” не будет, про себя решили мы.
За что вас любить?
Примадонн в театре не особо жалуют. “А за что вас любить? – с деланым возмущением восклицал Георгий Александрович Товстоногов, когда одна из ведущих актрис БДТ посетовала на нелюбовь к себе коллектива, особенно женского состава, – вы молоды и хороши собой. Вам достаются главные роли, с которыми вы неплохо справляетесь. Нет, любить вас решительно не за что!”
Аллу Демидову на Таганке не любили. Уважали, могли при случае восхититься, но не любили. Мы не очень умеем любить тех, кто без нас может обойтись. А в Театре на Таганке знали, что Демидова может без него обойтись. Она так себя вела. Не то чтобы надменно, но как-то подчеркнуто отдельно. Ни с кем особо не сходилась, соблюдая вежливую и холодноватую дистанцию. Даже в молодые годы, когда все старались сбиваться в компании, держалась как заезжая гастролерша: отработала спектакль – и быстро на выход, чтобы никто не успел задержать в коридоре с пустыми разговорами или досужими сплетнями. Когда были опубликованы дневники Валерия Золотухина, с которым у нее были вполне дружественные отношения, несказанно удивилась. Даже бросилась перечитывать собственные дневники тех лет. Как же так? Ничего не совпадает. Будто служили в разных театрах!
В архиве театра сохранилось мало коллективных фотографий, на которых она снята вместе со всеми. А так – везде одна. Юрий Петрович Любимов недовольно ворчал: что это Алла изображает из себя Веру Комиссаржевскую? Но, сжав зубы, терпел. Тем более что придраться было не к чему. Демидова никогда не подводила. На роли в театре, даже небольшие, всегда соглашалась. Со всеми держала ровный, приветливый тон. Без очевидной необходимости ни на кого не повышала голос. Раньше других она усвоила манеру говорить в жизни и играть на сцене и в кино, как бы совсем не затрачиваясь, не раскрашивая слова эмоциями, на каком-то одном чистом “белом” звуке. Эта подчеркнутая безэмоциональность казалась необычайно стильной, особенно по сравнению с нервной экзальтацией других артисток ее поколения, почитавших своей главной доблестью рвать на сцене страсти в клочья. После Демидовой они выглядели провинциальными матронами. А она уже одним своим видом – короткая стрижка под мальчика, мини-юбка, пальто макси в стиле military – как нельзя лучше вписывалась в образ 1960-х с их тягой к ироничному прагматизму, культом синтетических материалов и функциональной простоты. Одной из первых на Таганке Демидова обзавелась и собственным авто, сразу приобретя статус суперсовременной артистки, которая не боится водить на больших скоростях и может сама что-то в машине починить. Кстати, эту ее способность быстро вникать в проблему и принимать решение сразу распознали молодые кинорежиссеры, ставшие звать ее наперебой в свои дебютные фильмы. Как потом она скажет даже не без некоторой гордости: “Ни один мало-мальски приличный сценарий того времени не прошел мимо меня”.
Другое дело, что в кино Демидова слишком часто всем отказывала. К тому же было известно, что на “Мосфильме” существовал негласный “черный” список, где ее имя значилось одним из первых. По мнению начальства, в Демидовой чувствовалась опасная неблагонадежность, какая-то раздражающая несоветскость.
Мимо нее пройдут и “Солярис” Андрея Тарковского, и “20 дней без войны” Алексея Германа, и “Пять вечеров” Никиты Михалкова. По странному совпадению, в двух последних фильмах ее роли сыграет Людмила Гурченко, и сыграет прекрасно. Но с Демидовой это наверняка было бы другое кино.
Сама она не любит пересматривать свои старые фильмы. Мешает знание, как это должно было быть, как было задумано и что в итоге вышло. Искореженные, искромсанные по требованию Госкино “Дневные звезды”, где была ее первая большая роль. Пошедшая под нож лучшая сцена в фильме “6 июля”. Потом Демидовой по секрету объяснили: ее эсерка Мария Спиридонова слишком доминировала над главными героями фильма, большевистскими вождями. Не досталась ей Надежда фон Мекк в “Чайковском”, пришлось довольствоваться ролью ее дочери. Не дадут ей сыграть ни герцогиню Альба в “Гойе”, ни цыганку Машу в “Живом трупе”, хотя фотопробы в цыганском черном парике получились очень впечатляющими. И сколько было в ее жизни прекрасных, мучительных и абсолютно бесполезных проб, осевших где-то на дне архивов или давно превратившихся в пыль!
А бывало, что в кадр приходилось вбегать, как в последнюю электричку. Буквально на ходу влезать в чужую роль, в чужой, сшитый на другую актрису костюм. Так было в фильме “Ты и я”, где Демидова по дружбе согласилась подменить Беллу Ахмадулину, чью кандидатуру в последний момент зарубили в Госкино, и надо было выручать режиссера Ларису Шепитько, потому что “уходила натура” и фильм могли закрыть. Хотя что-то и “на бегу” у нее получилось: какое-то тотальное несовпадение со всеми, непопадание в общий ритм, странная и загадочная ее отдельность. И эта сдвинутая чуть набок беретка, будто взятая напрокат из старых фильмов с Гарбо или Дитрих, и клеенчатый плащ, как у Мишель Морган в “Набережной туманов”, и ее крупные планы, снятые сквозь запотевшее стекло, как в фильмах нуар 1940-х годов. Желая того или нет, Шепитько моделировала образ своей современницы по старинным лекалам и рецептам романтического кино. Лицо Демидовой для этого идеально подходило. В “Ты и я” видно, какой звездой она могла бы стать, живи она в другую эпоху или повстречай своего режиссера. Но, несмотря на первоклассную фильмографию, которой можно только позавидовать, такая встреча в ее жизни не состоялась. Почему? Сегодня уже поздно задаваться этим вопросом.
В дневниках у Андрея Тарковского находим примечательную запись: “Хочу попробовать на роль Демидову, но боюсь ее. Слишком она привыкла чувствовать себя хозяйкой на съемочной площадке”. Может быть, здесь стоить искать причину? Тогда, после долгих переговоров и проб ей достанется у него в “Зеркале” крохотная роль подруги главной героини, которую сыграла Маргарита Терехова. У Демидовой там фактически одна сцена и проход спиной к камере по длинному коридору. Она долго-долго идет, а потом не выдерживает и подпрыгивает, сделав смешное антраша.
– Я понимала, как скучно будет смотреть зрителям на мою удаляющуюся спину, – рассказывала Алла Сергеевна. – И все ждала, когда же кто-нибудь мне скомандует “стоп”. Вот и подпрыгнула, чтобы оператор Георгий Рерберг перестал тратить пленку. Но Тарковскому это так понравилось, что он включил этот кадр при монтаже в окончательный вариант фильма.
Руки над бездной
С театром у нее тоже все складывалось непросто. Начать с того, что в свое время ее выгнали из университетского Театра-студии “Наш дом”. Вердикт общего собрания гласил: “За профнепригодность”. Это рана, которую она носит в душе до сих пор. Что там произошло на самом деле, никто не знает. “Мы все дети из одного детдома”, – однажды мрачно пошутил Василий Аксенов. Свирепый советский коллективизм категорически отвергал любые проявления индивидуализма, любые попытки отстоять свою суверенность. Короче, там она не прижилась.
У Любимова она тоже никогда не числилась ни среди любимых учениц, ни среди любимых актрис. И хотя после Щукинского училища он взял ее к себе сразу, главных ролей не давал долго, держал на голодном пайке. Должны были выйти ее главные фильмы, включая всесоюзный блокбастер “Щит и меч”, а самой ей надо было появиться на обложке “Советского экрана”, чтобы ситуация в театре стала выправляться в ее пользу. Не слишком быстро и не слишком радикально, но все же. Собственно, именно тогда она сыграет королеву Гертруду – свою лучшую роль в лучшем любимовском спектакле.
…Я видел “Гамлета” на излете 1970-х. Наверняка он был другим по сравнению с премьерой 1971 года. В нем уже отчетливо чувствовалась неподъемная тяжесть давно идущего спектакля, и у актеров не было ни сил, ни желания это скрывать. Помню огромный вязаный занавес – гениальную находку Давида Боровского, вошедшую во все театральные учебники XX века. При малейшем колебании из него неслись клубы пыли, как из старого ковра, который хотелось скорее пропылесосить. И вязаные свитера и платья из шерсти, глядя на которые, первым делом ты думал: как же бедные актеры во всем этом играют? Почему-то было много звуков лязгающего железа, какой-то суеты на сцене.
Но там был Высоцкий. И его присутствие оправдывало все. Трагический, безумный, уже не слишком молодой, с этими черными от усталости подглазьями и слипшимися на лбу волосами. Он так невыносимо громко кричал, так неистово бился с занавесом и въевшейся в него театральной пылью, так рвался навстречу смерти, буквально кидаясь голым торсом в сцене поединка на острый клинок Лаэрта, что, казалось, он сейчас умрет прямо у нас на глазах. Он и умирал. Но не от яда, как предписывал Шекспир принцу Датскому, а от дикого, нечеловеческого напряжения, которое не смогло бы выдержать ни одно сердце.
А рядом царила, парила Алла Демидова – Гертруда. Вся в белом. Белый – цвет королевского траура. Длинные волосы, рассыпанные по плечам. Сияющая улыбка, застывшая на лице-маске. И только ее руки жили своей отдельной жизнью. Она будто пыталась дирижировать. То взмывала ими ввысь, то бессильно простирала их к залу, то пыталась заслониться от ударов судьбы, спасти свой брак, удержать от гибели безумного сына. Но ничего у нее не получалось: все летело мимо пальцев, мимо рук, мимо цели. Под конец она уже совсем изнемогала, запутавшись в занавесе, как ночная птица, попавшая в западню. И ее тихая, по-детски беспомощная просьба (“Я пить хочу”) означала, что спасения ждать неоткуда. Умирала она не эффектно, как полагается трагической героине, а как-то нарочито просто, отвернувшись от всех обиженной спиной, чтобы поскорее заснуть и ничего больше не видеть. “Когда бы знать, какие сны в том страшном сне приснятся?”
В “Гамлете” Театра на Таганке мощно сошлось все: Шекспир в гениальном переводе Бориса Пастернака, режиссура Юрия Любимова, сценография Давида Боровского и два выдающихся исполнителя, существовавшие на равных, – Высоцкий и Демидова. Непонятно только, что им было после этого “Гамлета” делать? Ведь ничего даже близко сравнимого в планах Театра на Таганке на ближайшие сезоны не предполагалось. Значит, снова ему стоять на входе в матросском бушлате или, паясничая, изображать Керенского в “10 днях, которые потрясли мир”? Или ей раскачиваться на театральном маятнике в “Часе пик”? Или читать монолог Мэрилин Монро в “Антимирах” (“Я героиня самоубийства и героина”)?
Репертуарный театр – это, кроме всего, крепостная повинность, которую ни сбросить, ни отменить. Высоцкий много раз порывался это сделать. Уезжал за границу, уходил в запои и бега, спасался концертами или писательством, но в конце концов не выдерживал и все равно возвращался на Таганку. У Демидовой были другие способы спасения от театральной рутины: книги, занятия живописью, ее кошки и собаки, которые всегда водились дома. А еще Икша – маленькая квартирка в ближнем Подмосковье с окнами на канал, где она до сих пор проводит каждое лето. Когда они с мужем, известным сценаристом Владимиром Валуцким, переехали в большую квартиру на Тверской (тогда ул. Горького), она стала особенно вдохновенно собирать картины. Что-то покупала, что-то дарили сами художники. Так в ее коллекции появились полотна Шухаева, Биргера, Слепышева. Помню, что в какой-то момент стены гостиной – от пола до потолка – покрылись пестрым ковром из самых разных картин. Думаю, что ей бы очень подошла роль владелицы арт-галереи где-нибудь на Монмартре. Она бы там сидела в своих шелках и чалмах, позвякивала серебряными браслетами, попивала кофе со знакомыми художниками, искусно обольщала простодушных американских туристов, подмахивая им какие-нибудь сомнительные подмалевки. Почему-то Демидову всегда представляют трагической сивиллой, отвечающей разом за всю русскую культуру. А она может быть ироничной, острой, беспощадно-насмешливой. У нее мгновенные реакции на все смешное, нелепое и странное. Как никто, она умеет это подмечать в самых неожиданных ситуациях и обстоятельствах.
Русская парижанка
И Париж. Ей так шел Париж, куда она стала регулярно наезжать с конца семидесятых годов. Париж с его левым берегом, где еще можно было встретить в “Дё Маго” Жан-Поля Сартра или зайти напротив в бутик к Соне Рикель. Где можно было побывать на премьерах Антуана Витеза в Одеоне и Питера Брука в Буфф дю Нор, пошопинговать на Блошином рынке, назначить встречу на втором этаже в кафе “Флор” или в “Палитре” на Сен-Жермен. Париж интеллектуалов, художников, артистов, литераторов. Демидова не чувствовала себя там иностранкой, туристкой из Советского Союза. Легко могла сойти (и сходила!) за свою – парижанку в английских мужских ботинках от John Lobb, мешковатом пальто и круглых очках в роговой оправе, вроде тех, что носили студентки Сорбонны. Примеряла ли она западную жизнь на себя? Хотела ли в какой-то момент остаться? Ведь точно могла, особенно когда стала жить там подолгу, так что даже сама ходила покупать себе спички и соль.
– Нет, передо мной не стояло такого выбора, – говорит Алла Сергеевна, – ту парижскую жизнь с нашей тогдашней невозможно даже сравнивать. Какой смысл? Ну, это как море и суша. И в воде хорошо, да и на земле неплохо. В России меня всегда держал какой-то столп энергии, идущий сверху, включенность в культуру, в русский язык, в наше прошлое. Ничего этого во Франции я не чувствовала. Зато там была очень интересная, интенсивная жизнь, много красивых лиц вокруг. Потом все это куда-то делось, рассеялось, как дым. Многие, кого я знала, уже умерли, или съехали оттуда, или как-то совсем неинтересно состарились. Ничего не осталось от Парижа, который я любила. Теперь для меня это город мертвых. Мне незачем туда больше ехать. Да если честно, и не хочется совсем.
Но в 1975 году, когда Анатолий Эфрос начал репетировать на Таганке свой “Вишневый сад”, слово “Париж” звенело и переливалось в устах Демидовой, как блаженная музыка сфер. Она была Раневской. Она продала дачу в Ментоне, чтобы расплатиться с долгами. Она рассталась с любовником, который ее обобрал и обманул. Она успела полетать на воздушном шаре и пожить в Париже на пятом этаже. После всего этого она спикировала на сцену Театра на Таганке, где ее взгляду открылся скорбный вид на сельское кладбище с покосившимися крестами и холмиками могил, припорошенных осыпающимся вишневым цветом. Но она ничуть не растерялась и даже, похоже, не слишком опечалилась, а, удобно устроившись в центре в старинном кресле, стала пить короткими глотками кофе. Потому что как же утром без кофе?
Такой Раневской наша сцена не знала. Мхатовская традиция предписывала играть ее пожилой ридикюльной барыней, томно оплакивающий свой вишневый сад. А у Демидовой получалась какая-то Ида Рубинштейн. Только не голая, как на портрете Серова, а облаченная в невесомые, развевающиеся шелка. Декадентка, русская парижанка, тайная морфинистка. Вся на взводе, на нерве. Успокоить ее мог только один человек на свете – Лопахин, которого играл Владимир Высоцкий.
У меня до сих пор в памяти его приятный, низкий баритон и участливые интонации опытного психиатра. Он тоже был в белом, и это еще больше усиливало его сходство с врачом. Как и полагалось по роли, он искренне хотел помочь ей, предлагал свои варианты спасения. Но это было не главным. Было видно, что его тянет к Раневской как к женщине, что она волнует его, что ему все время хочется быть рядом. Он все ждал от нее какого-то сигнала, знака, на который она никак не решалась, как-то внутренне застывая и отстраняясь от него, когда он слишком приближался, нарушая демаркационную линию, отделяющую госпожу от бывшего холопа. Им обоим мешал вишневый сад, маячивший у них за спиной, мешали люди, мельтешившие рядом.
“Что нам до шумного света, что нам друзья и враги, было бы сердце согрето жаром взаимной любви”.
Этот старинный романс, который пели таганковские артисты в самом начале и в конце спектакля, так и останется в памяти музыкой неисполненных надежд и напрасных мечтаний.
…А потом он сорвется. И будет хлестать шампанское прямо уже из горла, никого и ничего не стесняясь. И прокричит ей в лицо, что это он, Ермолай Лопахин, купил вишневый сад. И от былой благовоспитанности и заботливой участливости не останется и следа. Вместе с перегаром резко запахнет мужиком, зверем. И кажется, он даже пустится в пляс под испуганно грянувшие еврейские скрипочки, обливая шампанским себя, могильные кресты и притихших гостей. “Идет новый хозяин”.
Все это время Раневская будет сидеть, как была, вжавшись в ржавую кладбищенскую изгородь, не шелохнувшись. Ни слезинки, ни вздоха. И только когда он наконец уберется, она даст волю даже уже не крику, а какому-то нутряному, рвущемуся из нее реву смертельно раненного животного.
Эта внешне холодная, расчетливая, всегда очень сдержанная актриса, может быть, впервые в жизни не побоялась так откровенно отдаться боли, выкричать, выплакать свое отчаянье, которое так тщательно скрывала от посторонних глаз.
“…Было бы сердце согрето жаром взаимной любви…”
Потом я узнаю от нее историю ее отца, погибшего на войне, и про тяжелые отношения с отчимом, из-за которого ей пришлось рано уйти из дома, и про череду унижений, неизбежных в любой актерской судьбе, которые она постарается поскорее забыть и никогда не вспоминать. Но рано или поздно они снова и снова всплывают в ее собственных интервью или в чужих воспоминаниях.
– Мне казалось всегда, что я мало кого люблю, – призналась мне однажды Алла Сергеевна. – Были разные интересы, были друзья, влюбленности. Но сейчас, к концу жизни, я понимаю, что любила в своей жизни только троих людей. Любила бабушку, которую в детстве за человека не считала и только с ней ссорилась. Любила маму, с которой не жила, потому что ушла из дома очень рано. И еще любила Володю, своего мужа, с которым мы прожили пятьдесят четыре года и тоже часто вели какие-то параллельные жизни, мало совпадая в устремлениях, интересах и взглядах. Но сейчас оказалось, что эти три человека были самыми важными, самыми главными в моей жизни.
…Говорят, что Юрий Любимов “Вишневый сад” не принял. Как вспоминают очевидцы, уже по одному тому, как он швырнул свои ключи от машины на режиссерский столик перед просмотром, стало понятно, что ничего хорошего не будет. Весь спектакль он недовольно пыхтел, шевелил бровями, бросал гневные взгляды по сторонам. Как профессионал он, конечно, не мог не оценить класс режиссуры. Но ревнивое чувство, что его ведущие актеры вдруг заиграли с какой-то невиданной глубиной и силой, еще долго не давало ему покоя. Для него это была измена, которую он не мог простить ни Демидовой, ни Высоцкому. Стоило ли удивляться, что их следующую попытку самостоятельной работы по пьесе Теннесси Уильямса “Крик” он зарубит на корню сразу и безоговорочно. Вполне возможно, что и спектакль тогда у них получился несовершенным. Но та жесткая категоричность, которая прозвучала в оценках и голосе Юрия Любимова, не оставляла надежд хоть на какие-то послабления и возможность самостоятельного выбора. В качестве моральной компенсации он даст Демидовой сыграть Машу в своих “Трех сестрах”, а потом Марину Мнишек в “Борисе Годунове”. Но они мало что могли изменить в ее актерской биографии.
Портрет дамы с пюпитром
Смерть Высоцкого в июле 1980 года подвела черту, четко поделив историю Таганки на “до” и “после”. После всё было плохо: запрещение лучших спектаклей, вынужденный отъезд Любимова на Запад, почти два года ожиданий, внезапный приход Эфроса, расколовший столичное интеллигентское сословие, и его внезапная смерть, потрясшая всех и спутавшая все карты. А потом – долгожданное возвращение Любимова под дружные аплодисменты и новые разочарования. Сейчас я думаю: как все эти события прошли через Демидову? Где она была? Как пережила это время? Чем спасалась, чтобы не утонуть во всех разделах и спорах “имущественных субъектов”?
Икша, пасьянс, книги, отключенный телефон – много раз опробованная и всегда безотказно работающая тактика. Все как обычно. Но не только! Именно в эти смутные, перестроечные годы она впервые рискнет выйти на сцену одна. Демидова и раньше охотно выступала в сборных концертах с чтением стихов: Пушкин, Цветаева, Ахматова. По молодости пыталась в одиночку играть Гамлета, подражая Саре Бернар. От этих попыток осталась серия черно-белых фотографий Валерия Плотникова, где она со шпагой и прической пажа. Но, скорее, это были отдельные эпизоды, которые никак не хотели складываться в развернутый сюжет. И только на шестом десятке она вдруг решила стать профессиональным чтецом, точнее, чтицей.
Фактически это была другая профессия, которой учат с юности и посвящают ей жизнь. Круг чтецов – высшая актерская профессура со своей иерархией, профессиональными секретами, заработанными именами и репутациями. Слово, обесцененное в непрерывном информационном потоке и почти вытесненное с территории современного искусства, вернулось туда, где ему и полагается быть, на свое законное место, – в библиотеки, музеи, филармонические залы. Именно там все чаще можно было встретить Демидову. Привыкшая к большим театральным сценам, она поначалу немного тяготилась непривычной камерностью и близостью зрителей, сидящих иной раз на расстоянии вытянутой руки. Но потом как-то свыклась и полюбила внимательную, строгую тишину. И даже то, что сакральная фигура режиссера была теперь решительно вычеркнута из всех ее концертных программ, говорило о многом. Хотя справедливости ради стоит напомнить, что первую чтецкую программу ей поставил не кто-нибудь, а сам Джорджо Стреллер, пригласивший ее выступить со стихами русских поэтов у себя в театре Пикколо ди Милано. Именно тогда впервые возник в ее жизни пюпитр как самый необходимый реквизит, и разложенная на нем старинная папка с рукописью, издалека похожая на клавир. И мизансцены, напоминающие полотна малых голландцев с их благородными дамами, которые бесконечно музицируют или читают любовные письма перед открытым окном.
Теперь ей больше нравилось иметь дело с дирижерами, как Спиваков, Колобов, а позднее Курентзис, которые всякий раз почтительно умолкали, как только ей надо было вступить. Но потом и они отпали, когда стало ясно, что участие их музыкантов сильно усложняет ее гастролерскую жизнь. Так постепенно складывался Театр Аллы Демидовой. Это произошло не сразу, не в один день. Она долго примеривалась к возможности оставаться одной на сцене и ни от кого не зависеть. Но окончательно это произойдет, когда она примет решение уйти из театра.
Жалела ли она потом об этом? Если и жалела, то точно не о Таганке. Там последние годы она чувствовала себя совсем чужой и ненужной. Из всех ее спектаклей на афише осталось только одно название – “Преступление и наказание” с крошечной ролью матери Раскольникова, которую она под конец просто возненавидела, а новых премьер с ней у Любимова не предвиделось. Просто вместе с трудовой книжкой, которую она забрала из отдела кадров, ушло что-то более важное: ощущение дома, пусть опустелого и холодного, но все-таки дома. Какой-то призрачной, но все-таки защищенности. И еще – это необъяснимое чувство постоянства места и времени, навсегда связанное в ее памяти с Таганской площадью и зданием театра напротив метро. Лишь однажды на сорокалетний юбилей их первого спектакля “Добрый человек из Сезуана” сам Любимов позвонит ей и попросит выступить в маленькой роли, которую она играла еще студенткой. Демидова не смогла ему отказать, но с условием, что сделает это только один раз. Так и договорились. Больше Юрий Петрович ей не звонил.
Голоса трагедии
Есть роли, которые будут преследовать, пока их не сыграешь. Так было у нее с Федрой. Долгое время это был не более чем красивый миф, созданный Алисой Коонен и Александром Таировым, музейный памятник бурных 1920-х. Еще в юности Демидова услышала аудиозаписи монологов Федры, сделанные Коонен в 1960-е, где она даже не читает, а почти поет расиновские стихи своим глубоким, виолончельным контральто. Сейчас уже так не сыграть. Да и кто будет всерьез слушать эти переливы и завывания? Современное ухо одинаково невосприимчиво ни к музыке античной трагедии, ни к звонкому скандированию классицистских стихов. Однажды в Греции Демидовой довелось увидеть древние записи – копию подлинника Еврипида. Слов, разумеется, не разобрать, но ее привлекли графические изображения, отдаленно похожие на ноты. Как ей объяснили просвещенные греки, это был протяжный крик Медеи, разложенный на доли и четверти, звук, специально записанный и аранжированный для акустики театра в Эпидавре. Можно ли его повторить? Как его взять, извлечь? И вообще, существует ли он сегодня в природе, этот звук трагедии?
Первым его отдаленное эхо услыхал Роман Виктюк, который принес ей “Федру” Марины Цветаевой. “Только вы, Алюнечка, можете это сыграть”, – заверил он в присущей ему ласково-фамильярной манере.
Спустя какое-то время на горизонте возникнет суховатый француз Антуан Витез с безумным предложением сыграть Федру ни больше ни меньше как в театре Комеди Франсэз, который он тогда возглавлял.
– Но у меня русский акцент? – удивилась Алла.
– И хорошо, Федра же иностранка, – успокоил ее режиссер.
В театре состоялась элегантная презентация с шампанским и велеречивыми тостами. Из женщин там была только Демидова. Ни одна актриса “Комеди Франсэз” не захотела поприветствовать русскую звезду. Впрочем, тостами все и ограничилось. До репетиций дело не дошло. Витез скоропостижно скончался.
Пришлось вернуться к идее Виктюка. Демидову смущало то, что у Цветаевой не было цельного, законченного текста. Какие-то разрозненные фрагменты, куски, похожие на античные руины или обломки скульптур. Пришлось для прояснения смысла и сюжета добавить других стихов и записей из дневника 1939 года. Но Виктюка не интересовало психологическое правдоподобие. Сама задыхающаяся ритмика цветаевских строк задавала тон и подстегивала фантазию. Виктюк строил спектакль на пластике и беспрерывном движении. Специально на роль Тезея он пригласил Мариса Лиепу. И тот прекрасно начал репетировать. Но подготовительный период затягивался, и Марису пришлось уйти. Вскоре и он умер. Федра ненасытно требовала все новых жертв.
Как это часто бывает, слух об эпохальном эксперименте быстро распространился по театральной Москве, и теперь редкая репетиция не превращалась в очередной кастинг молодых дарований. Выбрали лучших – тогда совсем юных Алексея Серебрякова и Дмитрия Певцова. Два красавца, смотревшихся на сцене, как День и Ночь. Собственно, Певцов и играл Ночь. С выбеленным лицом, голым торсом и в черной юбке до пола, как у танцовщиков Марты Грэм, он подкрадывался неслышной поступью, долго кружил вокруг Федры, чтобы потом одним точно рассчитанным движением накинуть ей на горло петлю.
А рядом напряженный, натянутый как тетива, похожий разом на всех манекенщиков Версаче и солистов балета Бежара Алексей Серебряков – Ипполит. Воплощение молодости, за которой неминуемо следует возмездие.
“Сколько листьев, сколько вздохов, лучезарных удушений…”
В какие-то моменты спектакля Демидова становилась похожа на Марину Цветаеву: те же прямые, тронутые сединой волосы, тонкий профиль, запавшие скулы. Цветаева последних предвоенных лет поражала всех мемуаристов своей “стрекозиной” легкостью, хрупкостью, стремительностью. А ее подлинный голос будет звучать в дневниковых записях, которые Демидова читала как-то подчеркнуто просто, обыденным голосом, особенно по контрасту с формальными изысками режиссуры.
Если Виктюка в “Федре” больше всего волновала история инцеста, то Демидова рискнула впервые примерить на себя судьбу самой Цветаевой. Тут не было противоречия. Речь шла о чем-то более высоком, чем низменные желания. Она играла неистовую потребность завладеть чужой душой, присвоить ее себе и не отпускать никогда. Собственно, об этом была “Федра” Цветаевой, и об этом же будут красноречиво свидетельствовать дневники ее сына Мура, Георгия Эфрона, опубликованные спустя почти двадцать лет после их премьеры. Поразительно, как совпали финалы двух сюжетов: царицы и пасынка, поэта и сына. Вообразить эти параллели в 1989 году, казалось, немыслимо. Но Виктюк это поставил, а Демидова сыграла с поразительным бесстрашием и силой, напомнив всем, каким на самом деле может и должен быть Театр.
…Самолет из Афин приземлился в Шереметьеве на три часа позже запланированного времени. Но в театр актеры успели почти вовремя. Разумеется, никаких репетиций. Кажется, даже не успели толком проверить ни свет, ни звук. Театр забит до отказа. Театральные люди хорошо знают эту особую предпремьерную дрожь. В этот раз она была помножена на суеверный страх перед легендой. Про проклятие Коонен помнили все.
Вижу, как за кулисами Демидова быстро крестится перед выходом на сцену. Ну, с Богом!
А дальше даже не знаю, что произошло. Такой “Федры” я не видел ни до, ни после. Спектакль, стартовав сразу с самой высокой ноты, стремительно понесся вверх по нарастающей, как сверхзвуковой истребитель. От эмоционального натиска, идущего со сцены, закладывало уши и бешено стучало сердце.
О чем-то подобном писал Таиров в своих “Записках режиссера”. Об улыбке счастья, которая должна трепетать на устах в моменты последних страданий, о красоте, которая побеждает ужас жизни и ужас смерти. Вся эта на современный слух высокопарная и наивная риторика вдруг на полтора часа ожила и материализовалась в голосах и в облике актеров.
“Алиса нам разрешила!” – до сих пор слышу ликующий голос Демидовой, когда зал взорвался овацией.
И уже на поклонах она опустится на колено и незаметно, быстро-быстро, только одними костяшками пальцев постучит по полу сцены. Азбука Морзе, которой в нашем театре владеет только она. Знак, что все получилось. Федра не подвела.
Эпилог, или Тридцать лет спустя
Наше знакомство с Аллой Сергеевной мы поддерживаем все эти годы. Не могу сказать, что дружим. Все-таки это слово слишком ко многому обязывает. Но я регулярно бываю на ее спектаклях и концертах, публикую ее эссе в журнале “СНОБ”. Для меня она совершенно отдельный, ни на кого не похожий человек, проживший несколько жизней, переживший всё и знавший всех. За эти годы она мало изменилась. Фаталистка по убеждению, она бесстрастно взирает на то, что происходит вокруг, с шестого этажа своей квартиры на Тверской улице, где по-прежнему на стенах висит множество картин, а чай подают в фарфоровых чашках XVIII века. После смерти мужа она не закрылась, не спряталась от жизни, не ушла в монастырь, как планировала. Продолжает играть, выступать, гастролировать, писать книги. Неожиданно Демидова вдруг снова стала интересна и новой режиссуре, и признанным классикам. В свое время она первой открыла Кирилла Серебренникова, позвав его на свой телеспектакль “Темные аллеи”. Это был дебют молодого режиссера из Ростова-на-Дону на столичном ТВ.
Спустя много лет он отблагодарит свою покровительницу по-царски, поставив для нее спектакль “Анна Ахматова. Поэма без героя”. Вместе с Демидовой на сцене “Гоголь-центра” возник Театр, которого тут никогда не было и не могло быть. Это как повесить на кирпичную стену бывшего вокзального депо музейное полотно Рембрандта или Тициана. Не сразу понимаешь, зачем оно здесь, но оказалось, что у Серебренникова возможно все. Противоречия нет. Просто появился еще один очень сильный источник театральной энергии, еще один голос, мгновенно узнаваемый, существующий отдельно от основного хора, но не спорящий, не конфликтующий с ним, а сразу нашедший подобающее себе место и взявший единственно правильный тон. Серебренников не просто театрализовал стихи, которые Демидова читает много лет, но искусно перенастроил ахматовскую лирику в ее исполнении на более современный лад, придал ей более актуальное звучание, где-то поменял темпы, убрал концертную статичность и академическую торжественность. В результате больше проявится актерский масштаб, заиграют драгоценными гранями потускневшие от слишком частого использования рифмы и строки, по-новому высветится тема несбывшейся, несостоявшейся, другой жизни. И конечно, бессмертные стихи “Реквиема” мистическим образом отзовутся в судьбе уже самого Серебренникова, когда в августе 2017-го (опять нелюбимый ахматовский август!) он окажется под домашним арестом по сфабрикованному делу “Седьмой студии”. На самом деле это редкий дар – находиться всю жизнь в эпицентре главных театральных событий своего времени, так слышать судьбу и так бесстрашно устремляться ей навстречу, как это делает Алла Демидова.
А иначе не было бы ни “Поэмы без героя” в “Гоголь-центре”, ни моноспектакля “Старик и море” в постановке Анатолия Васильева, ни нового фильма Рустама Хамдамова “Мешок без дна”, где у нее роль ведьмы, словно пришедшей из киносказок нашего детства.
– Вот круг и замкнулся, – грустно смеется Алла Сергеевна, – Рустам нарядил меня в какие-то лохмотья, да еще придумал, что у меня должно быть бельмо на глазу. Страшная и старая, как смерть, бреду по осеннему лесу, шуршу подошвами валенок по опавшей листве, стучу клюшкой, а про себя думаю: “Да, все было в моей жизни. И Федрой была, и Электрой, и разными королевами, а под конец превратилась в Бабу-ягу”. Нет, у меня нет ни к кому претензий. А что еще играть в моем возрасте?
Она все так же много читает. Хотя теперь чаще заглядывает в компьютер, который сумела самостоятельно освоить. И даже машину продолжает водить. Только уже реже. В центре ничего не движется. Все стоит. А Демидова этого не любит.
А еще она не любит, когда ей дарят срезанные цветы, а особенно, когда начинают аплодировать в середине действия, пока не закончился спектакль. Вообще она не любит, когда слишком долго и громко хлопают, а ей при этом надо всем кланяться, изображая благодарность и растроганность. Уж лучше бы шли себе в гардероб и отпустили ее с миром.
Но не отпускают, всё не отпускают почему-то.
2018«Время сложилось в мою пользу» Белла Ахмадулина
У нас была только одна встреча. Два часа ее непрерывного монолога при догорающих свечах, беспрерывно звонящем телефоне и дымящей сигарете. В тексте ничего этого нет: ни чадящих огарков, ни обрывков телефонных разговоров, ни крошек на клеенке, которые она небрежным жестом смахивала, не замечая, что все они прилипали к ее рукаву. Была только она. Белла. Ее шея, напряженно пульсирующая, запрокинутая над воротом черного свитера грубой вязки. Ее каноническая челка, воспетая лучшими поэтами поколения, ее чуть раскосые татарские глаза. Она выходила, а потом вернулась с черными стрелками, небрежно нарисованными прямо у висков. Мне тогда казалось: как эксцентрично, как мило! Белла в своем репертуаре. А потом дошло: она почти ничего не видит. Она и меня-то наверняка едва различала. Чужая тень на ее кухне. Одна из многих. С настырным диктофоном, которому она доверила самое драгоценное, что у нее было, – свой голос, возвышенную и неповторимую речь. Никто не умел говорить, как она. Никто не умел превращать интервью на кухне в фантастический моноспектакль. Все, что требовалось от меня, – это сидеть молча как в театре, слушать, записывать, а потом не потерять пленку. Я не потерял.
Утром они должны были ехать в Уфу.
Уфа постоянно маячила на горизонте во время наших телефонных переговоров, как некая тайна, в которую посвящены только мы трое. Уфа сближала и одновременно представляла несомненную угрозу для нашей давно ожидаемой встречи.
– Ну, нам же завтра в Уфу, – говорила она мне своим знаменитым хрустальным голосом, в котором слышались легкая усталость и насмешливая укоризна. Разве не понятно, что предстоят и сборы, и неближний путь, и само выступление, и все, что будет после. А я тут со своим интервью. Как некстати! Но я настаивал на нашей встрече, пытаясь утешить ее и отчасти оправдывая себя, что такова уж журналистская участь – появляться на пороге всегда не вовремя и почти всегда некстати.
– Ну хорошо, приезжайте, – смирилась она с моими доводами. И дальше последовал изысканнейший пассаж, которым она, похоже, предваряет визит каждого нового гостя. Там мелькнули “калитка”, “привратник”, “парадное” и множество других красивых и давно вышедших из обихода слов, звучавших в ее исполнении почти как белые стихи.
Всю свою жизнь Белла Ахмадулина изъяснялась на этом книжном языке, который по всем законам и существующим языковым нормам должен быть помечен как уст. (устаревший). Ее поэтический словарь – это Брокгауз и Ефрон 1913 года. А сама она – героиня множества стихов, романов, живописных полотен, мадригалов и пародий – давно уже персонаж не столько даже родимой литературы, сколько общественного сознания. Говорим “поэзия” – подразумеваем Ахмадулину, говорим “Белла” – подразумеваем небесноголосую диву с нежным фарфоровым профилем, подставленным под жар юпитеров и всеобщего обожания. Кажется, уже столько лет прошло, а она все так же стоит у микрофона. Ни на миг не шелохнется, ни на миллиметр не отступит от авансцены. Только все выше запрокинут надменный подбородок, все пронзительнее звук ее одинокого голоса, особенно на фоне всеобщего безголосья. Знаю, что последние годы она много хворала, что с концертами выступала редко, а новые книжки стихов выходили совсем небольшими тиражами, чтобы тут же исчезнуть в океане чтива, захлестнувшего наши книжные прилавки. Что все чаще и охотнее выступала в роли светской жены своего знаменитого и деятельного мужа, художника Бориса Мессерера. И роль ей эта была похоже, по душе. Во всяком случае, не припомню, когда бы встречал Ахмадулину одну, без него. Некогда самая богемная пара Москвы стала едва ли не самой уважаемой парой нашего художественного истеблишмента. Особенно это дано всем было почувствовать на ее юбилейных торжествах во МХАТе, отмеченных президентским орденом и присутствием президентской жены в партере. Власть Ахмадулину уважала, поскольку давно поняла, что поэт – это тоже власть. А если поэт – женщина, да к тому же женщина красивая и знаменитая, то лучше с ней не связываться. Так рассуждали высокие чины на Старой площади двадцать и тридцать лет назад, когда Ахмадулина бросалась на защиту обиженных и гонимых. Как ни странно, на ее голос всегда откликались даже начисто лишенные поэтического слуха начальники. Она буквально гипнотизировала их своим полупением, полуплачем, в которых не было ничего крамольного или фрондерского, но в сочетании с ее обликом и интонацией в них слышался какой-то неявный укор, терзающий душу и совесть или то, что там от них осталось. Недаром В. Аксенов совершенно серьезно предлагал ей испытать гипнотическую силу ее мрачноглазого татарского взгляда на каком-нибудь правительственном лимузине, пролетавшем по Калининскому проспекту.
– Вот увидишь, – говорил он, – эта сволочь обязательно разобьется.
Но Белла такие предложения со смехом отвергала. Своей властью она никогда не кичилась и никогда ею не злоупотребляла, оставаясь в раз и навсегда выверенных пределах чистой поэзии, где у нее практически не было соперниц. Где-то рядом, у нее за спиной, ревниво звучали голоса поэтесс – ее ровесниц: Юнна, Новелла, Римма (удивительно это удвоение согласных в их именах, дающее звук бесконечно тянущегося эха), но Белла была одна. Она всегда оказывалась ближе к микрофонам, к юпитерам, к публике. Она лучше получалась на фотографиях и экране. Не говоря уже о том феерическом успехе, которым она пользовалась у мужчин. Женщины этого не прощают. Думаю, что элементарная женская ревность таилась и за холодноватой усмешкой Ахматовой, когда она обратила свой отнюдь не благосклонный взор на юную Ахмадулину. Анна Андреевна готова была бы милостиво признать ее талант, но только не красоту. И та дурацкая авария, которая приключилась с ахмадулинским “Москвичом”, когда она первый и единственный раз вывезла Ахматову погулять, скорее была результатом не какой-то там заурядной технической неисправности, но высшей астральной несовместимости двух женщин, чье присутствие создавало непосильное напряжение для автомобиля отечественной сборки. Впрочем, недоброго взгляда Ахматовой, я полагаю, не выдержал бы и мотор “роллс-ройса”.
…Дверь была приветливо приоткрыта. В пустоватой квартире, где сиротливо, словно за что-то наказанные, стояли картины, повернутые холстами к стенке, а в углу примостились трубы старинных граммофонов, словно сошедшие с обложек знаменитых сборников Ахмадулиной 1970-х, меня уже ждали.
Борис Мессерер, как истинный художник-постановщик, быстро срежиссировал удобную для нашей беседы мизансцену визави за кухонным столом, умело распорядился нехитрым реквизитом – стопка водки и бутерброд с плавленым сыром для меня, кофе и пепельница для Беллы – и, окинув зорким взглядом сотворенный им натюрморт, удовлетворенный, удалился в глубь квартиры, оставив нас вдвоем.
Она села напротив. В черном. С выражением любезным и одновременно каким-то смущенно-виноватым. А все Уфа! Будь она, дымившаяся у нас за спиной уже всеми своими трубами, неладна. Завтра в 6 утра самолет. Вещи еще не собраны. К тому же через час должен прийти один узбекский правозащитник. Просил подписать письмо в защиту. В чью? Не помнит. Богораз уже подписала. И Боннэр тоже. Разве этого не довольно! Может быть, хотите чаю? Я включаю диктофон. И она мгновенно преображается. Как будто сработала невидимая киношная хлопушка. Сосредоточенная, серьезная. Никакого светского лепета. Каждое слово – в цель. Слово поэта. Нездешнее совершенство ахмадулинской речи не поддается вольному пересказу, ее можно сразу доверять бумаге. Нашу беседу я обратил в несколько ее монологов, один из которых был прерван звонком из Уфы, но об этом после.
Место для портрета
Время сложилось в мою пользу. Оттепель, 1950–1960-е. Брожение умов. Ко мне были очень благосклонны старшие. Причем совершенно разные поэты разных поколений. Щипачев, Антокольский, Сельвинский – такие разные люди. И все они неожиданно сошлись на симпатии и внимании ко мне. А я, находясь во власти то ли юной гордыни, то ли какого-то неосознанного стремления отстоять свою душевную суверенность, порой даже не перезванивала им. Никогда не искала с ними встреч, никогда ни о чем не просила. Да, меня приняли с восторгом, но продолжалось это недолго. Потому что во взрослой жизни, во взрослой литературе уже шли иные процессы. Я училась в Литературном институте, когда началась травля Пастернака. На наших глазах шло истребление поэта. Это была, разумеется, причиненная болезнь, причиненная смерть. Тогда я убедилась, что роковая болезнь может быть причинена, что душа еще в состоянии выдержать, выстоять, но плоть подводит, не справляется. Думаю, так же было и с Твардовским. Кажется, совершенно другой случай, но, когда началась угрюмая и очень болезненная для него эпопея с “Новым миром”, он ее не вынес. Александр Трифонович ко мне тоже был очень милостив, хотя литературно я не соответствовала его воззрениям, но человечески он мне симпатизировал. Я много с ним общалась и видела, как из крупного, прочного еще человека он превращался в уязвимую хрупкость. Он кратко болел и умер. Так что я рано поняла: борьба за собственную духовную суверенность – борьба не на жизнь, а на смерть. Это тоже дуэль своего рода, но на очень неравных условиях. Без секунданта, без соблюдения всяких правил. Все против одного. И какая-то поддержка малых сил, которой явно недостаточно.
Для меня это был не умственный вывод, а, повторяю, совершенная невозможность, например, не подписать какое-нибудь общее обличительное письмо. Конечно, выгнать меня за это было нельзя, но ведь существовало множество других способов от меня избавиться. В середине сессии вдруг специально вызывают из Института марксизма-ленинизма профессора, который очень долго и упорно испытывает меня по своему предмету. Не стану описывать своих мучений, могу лишь привести шутку, которой суждено было стать моими последними словами в институте. Профессор признал, что я способный человек и если бы занималась не последние три дня перед переэкзаменовкой, а весь семестр, то он смог бы поставить мне удовлетворительную оценку. На что я ему гордо ответила, что, если бы я занималась, как он предположил, три дня, мой портрет висел бы уже между этими двумя. А вы догадываетесь, чьи портреты висели тогда в аудиториях. Такие залихватские выходки меня очень бодрили, ведь, как говорится, на миру и смерть красна. О моем поединке с достопочтенным марксистом знал весь институт, студенты толпились около наших дверей, мне приносили воду. Мне нужна была публика. И недостатка в ней ни тогда, ни потом я уже не испытывала.
Театр и кино для других
Пребывание на сцене требует очень многого – и почтения к публике, и умения удержать ее в какой-то сосредоточенности, то есть под своим как бы гнетом, который надо выдавать за некое очарование. Но в этом должно быть и остроумие, и твердость, и умение отвечать на вопросы. Тот, кто на сцене, должен быть властелином, но не тираном. У меня уже вошла в поговорку фраза о том, что человек призван быть театром для другого. Он должен быть увлекательным, как хозяин застолья и просто гостеприимный человек. Это все равно есть некий театр, высшая доблесть артистизма – говорю не о себе, а о лучших избранниках. Наиболее прелестные характеры, встреченные мною в жизни, обладали этим чудесным свойством. Лучезарным, замечательным обаянием, доброжелательностью и артистизмом. Не вычурность, не преднамеренная игра со слушателем, а артистизм, потому что, если вы заунывны, это невежливо по отношению к тем, кто вас слушает. Да и слушать никто не станет.
Многие кинорежиссеры звали меня в свои фильмы. Но с Шукшиным был совершенно особый случай. Мы впервые с ним встретились на телевидении, еще на Шаболовке. Тогда он увидел во мне то, что было ему противопоказано и даже отчасти отвратительно. Потому что я была, как ему показалось, нарядная городская дамочка. И вот поэтому он позвал меня в свой фильм “Живет такой парень”, где по сценарию журналистка – просто омерзительное существо. Ей совершенно безразлично, что там происходит на Алтае, и этот Паша Колокольников, прелестно изображаемый Куравлевым. Она надменна, неприятна. Ей все равно. Она спрашивает и не слышит. Я тогда сказала: Василий Макарович, вы очень ошиблись, вы увидели во мне хладнокровную городскую обитательницу, а на самом деле я другая. И рассказала ему, как во время моих невзгод служила внештатным корреспондентом “Литературной газеты” в Сибири и как надо мной смеялись сталевары или подобные его герою Колокольникову люди. Я была очень застенчива, безмерно их почитала, понимала, что я городской чужак и не могу вникнуть в их дела. Хотя все они были ко мне очень милостивы, но страшно ироничны. Подчас сообщали невероятные сведения, с которыми я возвращалась в редакцию, о каких-то грандиозных и несбыточных успехах, каких не бывает. Так что со мной происходило все совершенно обратное тому, что описано в сценарии. А если изображать негодяйку, то зачем? Для этого найдется много более подходящих персон. На что Василий Макарович сказал, что ничего изображать не надо, а давайте прямо так. Текст нисколько не изменили, но героиня моя получилась несомненно хорошей, не знающей этой жизни, но доброжелательной и хорошей. За время съемок мы с Шукшиным ужасно подружились. И дружили потом очень. Я его примиряла с Москвой, водила по Москве. С помощью каких-то темных личностей на его гонорар были приобретены ему костюм, рубашки, носки, галстук. В мусоропровод мы выкинули сапоги и купили туфли. Я помню, как он впервые пошел по апрельскому асфальту в легких туфлях, осознав, что по сравнению с кирзовыми сапогами в этом есть некоторое удобство. Он был замечательный. И очень тогда несчастный.
Меня хотела снимать Лариса Шепитько. Но об этом я писала. Она меня совершенно хотела преобразить и долго билась за меня. Но ей не разрешили. Я видела, как она заплакала, узнав об этом решении. Заплакала прямо при начальнике, который запретил, а ведь она была очень твердый человек, очень сдержанный. Еще со мной собирался работать знаменитый клоун Енгибаров. Он, когда выпивал, переходил на “ты” и мог в этом состоянии позвонить мне из любой точки нашей необъятной родины со словами: “Беллочка, на всем белом свете есть только два трагических клоуна – ты и я”.
Подпись академика
Всю жизнь я за кого-нибудь заступаюсь или за кого-нибудь прошу. Однажды я выступила, как мне кажется, даже очень остроумно в защиту Андрея Дмитриевича Сахарова в “Нью-Йорк Таймс”. Тогда мне пригодилось мое звание американского академика. Я написала, что если нет других академиков заступиться за Сахарова, то вот вам я, Белла Ахмадулина, почетный академик Американской академии искусств. Сейчас я никак не хочу подчеркивать своей доблести. Были люди подлинно героические: сидели в тюрьмах, объявляли голодовки. Они-то и есть настоящие герои. А все мои подписанные письма были следствием скорее моего художественного устройства, чем какой-то там героической деятельности. Потом, речь шла о моих друзьях. Ну да, мне не давали печататься, Боре запрещали работать, но что с того? Нам все помогали. И стол был накрыт, и гости собирались, и топтуны топтались – все шло своим чередом.
Наиболее примечательная история случилась с Георгием Владимовым. Его должны были посадить. Особенно действовал на нервы гнет слежки. Чекисты оборудовали свой наблюдательный пункт в доме прямо напротив окон Жориной квартиры и отслеживали все наши появления и уходы. Уже и следователь по фамилии Губинский (какова фамилия!) пригрозил Владимову, что 17 февраля его арестуют. А статья была у него плохая – антисоветская деятельность. И тогда меня осенило написать Андропову письмо. Андропов был тогда уже генеральный секретарь. И вот мы пошли в приемную ЦК. Боря думал, что там масса просителей и надо будет отстаивать очередь. Оказалось, там никого не было, кроме одного инвалида, который все бился в окно приемной, а его прошение не хотели принимать. Я же сделала всё по правилам: заклеенный конверт, наши данные. Единственное, что мне было трудно, – это написать: “Глубокоуважаемый Юрий Владимирович”. Но я и это написала. А текст был примерно таков: “Писателю Владимову грозит арест, мне нечего этому противопоставить, но я его товарищ. Нижайше прошу вас, как подобает просителю, смилуйтесь, он болен”. Реакция на письмо была незамедлительная. Мне позвонили из КГБ и предложили встретиться. Причем почему-то в ресторане “Прага”. Я очень на них разозлилась и бросила трубку. В каком ресторане? Может быть, еще мне предложат с ними выпивать! Они перезвонили опять, так и не поняв причин моего гнева. Хотели как лучше, ведь Борина мастерская на Поварской, а это совсем близко от “Праги”. Договорились встретиться, однако, в помещении ТАССа у Никитских ворот. Там было два генерала. Беседовали долго, до двух часов ночи. О многих предметах. Я очень внимательно им отвечала, понимая, что всё записывают. Они расспрашивали меня о разном, в том числе верю ли я, что КГБ убивает. Вначале я запнулась, а потом рассмеялась. Это был искренний ответ, и они тоже рассмеялись. Получилось как-то по-человечески. И когда этот маленький скорбный смех прекратился, я им сказала: “Ну, вы же знаете, какая репутация у вас”. – “Да, да, знаем”. Задним числом я потом вычислила, что они так интересовались мнением интеллигенции о покушении на Римского папу, к которому КГБ, говорили, приложило руку. Разговаривали со мной они крайне благосклонно, но главное, я поняла, что высочайший ответ на нашу просьбу положительный – Владимову позволено уехать за границу. И слава Богу, что на месте генерального секретаря оказался Андропов, а не какой-нибудь Черненко, который и имени-то моего наверняка никогда не слышал.
«По прошлому времени я совершенно не скучаю»
По прошлому времени я совершенно не скучаю. Конечно, поэт сейчас вряд ли сможет собрать Лужники, да это совершенно и не нужно. Потому что тогда, в шестидесятые, которые уже наскучили как предмет воспоминаний, люди собирались в таком множестве, влекомые не гармонией – сутью поэзии, а просто острой сутью времени. Они полагали, что именно поэты дадут им ответ на вопросы, которые их так тревожат, на этот озноб нервов, который существовал во времени, в человеческом сознании. Я думаю, что с этим связаны и Лужники, и Политехнический, и другие обширные аудитории. Сейчас мне бы там было трудно. Трудно в том смысле, что я изменилась в строе, в стихотворном ладе. Изменилась к лучшему, как мне кажется. Вообще любые эстрадные выступления вредят уединению, которое есть необходимое условие замкнутого, кропотливого, сосредоточенного труда. И соотношение с публикой таит в себе некоторую опасность, потому что как ты ни будь благородно настроен, провалиться ты все же не желаешь и обязан не провалиться. Потому что это крах и устроителей тоже. В относительно недавнее время, до всех финансовых затруднений, городские власти имели статью расхода на культуру. И представьте себе, это были города, которые на первый слух трудно заподозрить в мощном сосредоточении эстетических воззрений или художественных пристрастий. Например, я выступала в Павлодаре. Места все грустные, вокруг раньше было множество лагерей, да и сейчас там в избытке разных мест заключения. Потом Саранск – опять-таки Мордовия, лагерные места. Можно заметить с некоторой печально-любовной улыбкой, что поэт Ирина Ратушинская, прошедшая когда-то через мордовские лагеря, когда я позвонила ей в Лондон (она тогда еще жила там), на мое сообщение, что я недавно вернулась из Саранска, воскликнула: “О, я так скучаю по тем местам! Если доведется жить в России, обязательно их навещу”. На что я, конечно же, пообещала соотнести ее с местными властями. Круг сегодняшних моих читателей не может быть очень широк. Я совершенно не могу ревновать к эстрадным артистам. Но в том же Павлодаре мы совпали по времени с Майей Плисецкой, она там выступала со своим Имперским балетом. И что замечательно, у нее был полный зал, но и у меня был полный. Мы очень радовались тогда успеху друг друга.
Слова и словеса
Слово есть слово. А есть словеса, которые очень исказили русскую словесность. Но они ничего не значат. Они утомительны. Слово у гениальных писателей вплотную облекает смысл. И это сокровище мы получаем в свое владение и обдумывание. Говорение не относится к словесности, обычно оно уводит людей в сторону и, конечно, очень туманит умы и без того затменные. Но все-таки литература остается, какие-то чистые уста остаются. Я уверена, что среди погибших в тюрьмах, лагерях, на войнах было множество людей, никакой славой не увенчанных, но несомненно прекрасных дарований, личностей. По самому близкому опыту, российскому, убытки наши неисчислимы. Это так известно, что как бы докучно повторять. Стало быть, остается надеяться только на какое-то возрождение. Но для Ренессанса нужна почва. Конечно, конвоиры оставили больше потомства, чем заключенные. Генеалогия все-таки сказывается, так же как сказывается истребление священников, праведников, дворянства, купечества. Этот крах может быть восполнен только с течением времени. Поэтому ждать быстро не приходится. Впрочем, как мне кажется, сюжет в русской поэзии дошел до своего совершенства в Бродском. И хотя замечательные поэты остались, особенно близкие ему по рождению и по слогу поэты питерского происхождения – Кушнер, Рейн, Найман, – он исчерпал какие-то возможности, так что остается надеяться, что где-нибудь скоро или через двести лет начнет произрастать уже совсем новый талант. А те молодые поэты, которых я не очень близко, но все-таки знаю и к которым отношусь с большим благодушием, находятся под неимоверным влиянием Бродского. И это очень благодатно, наверное? Из них плохи только те, кто стремится немедленно печататься. Когда человек пишет плохо, но честно подлежит вдохновению, не думает о том, чтобы стать немедленно признанным, – а я знаю таких людей, – он действует по тем же правилам, что и гении. Так же их волнует луна, так же они не спят по ночам, жгут свечи, дрожь по бледному челу их проходит, но они никуда не рвутся, не докучают знаменитым людям, ничего не хотят. Наверняка одаренная молодежь есть, но к ним я ни с какими наставлениями никогда не обращалась. Моя младшая дочь тоже пишет. Но она очень скромный, очень непритязательный человек, а я никогда ни в чем ей не содействую, кроме моей кроткой любви.
«Всех обожание – бедствие огромное»
Великим я уже отслужила. В молодости у меня были периоды посвящений, стихи памяти Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама. Тогда я была потрясена трагическим сюжетом их судеб. “Всех обожание – бедствие огромное”. Эта строчка пришла ко мне на могиле Анны Андреевны в Комарове. Была зима. Я пришла к ней на кладбище и много времени провела рядом с ее крестом, пока вдруг в этом напряженном стоянии нервов, в прозрачном дне, в близости Финского залива не ощутила ее жизнь и ее бессмертие. И одновременно еще какое-то очень ироничное отношение ко мне. Тогда-то и родились строчки о том, что я стою, как нищий, согнанный с крыльца. “Ирония – избранников занятье”.
Я действительно их всех обожаю. И в этом вижу величавость собственного невеличия. Я умею обожать. Так же относилась к Пастернаку. Однажды я его встретила, но отказалась прийти к нему в гости по его приглашению. И это был не страх, не робость, но некое отстранение обожанием. Два моих сокурсника, которые совершенно потом опустились, подписав злосчастное письмо, пришли к нему за благословением на эту подлость. И Пастернак, конечно же, их простил, не желая усугублять всеобщих бедствий и печалей, но потом сказал Ольге Ивинской, что в его время молодые люди так не поступали.
Я была очень близка с Надеждой Яковлевной Мандельштам до самых ее последних дней, и ее последний день рождения мы отмечали вместе. Конечно, я не могу признать то, что о ней написала в своих мемуарах Эмма Григорьевна Герштейн. Я об этом ей сразу деликатно, но твердо сказала. А она в ответ мне вспылила: “Белла, а вы помните, что Надя обо мне написала в своей книжке? Как по-женски она мстила за Осипа Эмильевича!” Мне только оставалось сказать: “Простите, я не помню”.
Отношения между великими – особая тема. Как правило, они складываются трудно или не складываются вовсе. У меня даже есть поговорка: “Из великих людей гарнитура не сделаешь”. Особенно ярко это описано у Набокова в “Других берегах” при упоминании встречи с И. А. Буниным после Нобелевской премии, как они не сошлись и какими чужими ему показались эти его эмигрантские “водочка, селедочка”. Впрочем, писатели и не обязаны любить друг друга. С тем же Набоковым при личной встрече не совпали ни Виктор Некрасов, ни Амальрик. Повезло только нам с Борей. Мы оказались последними из наших соотечественников, кто видел Набокова. Это было как дар судьбы, но и дар его милости. Нас предупреждали, что Набоков высокомерен, что его совсем не интересуют люди из России. Оказалось, совсем не так. Я думаю, еще, может, потому у нас получилось гармоничное общение, что мне ничего от него было не нужно. Мною владело одно только обожание и преклонение.
Похожее чувство я вновь испытала недавно, когда Александр Исаевич Солженицын милостиво позвал нас к себе в гости. Я поразилась его свежести, бодрости, какой-то свежей его прочности. И оба мы со смехом вспомнили, как тридцать лет назад в Союзе писателей происходило обсуждение его романа “Раковый корпус”. Меня там не было, но все-таки в самом конце я появилась, буквально на последних фразах председателя, скучно повторявшего, что автор должен учесть пожелания, требования, поправки, доработать, переработать и т. д. Тогда я подняла руку и произнесла слова, которые потом каким-то чудом сохранились в записях одной отважной стенографистки: “То, что вы сказали, – все вздор. Пусть Бог хранит Александра Исаевича!” На этом собрание и закончилось.
Вас интересует, читала ли я мемуары Ю. Нагибина и Е. Евтушенко? Нет, не читала. И в руки не брала. Их изучал Боря. Возненавидел и проклял обоих. У нас были ужасные скандалы. Я потом Евтушенко сказала: “Слушай, ты отравил мне начало жизни и конец”.
Деревенская проза и больничные стихи
Последнее время я пишу прозу. Пишу ночью. Пишу от руки, потом перепечатываю на старой машинке. У меня нет никаких современных приспособлений: ни компьютера, ни факса. Я даже никогда не пробовала ими овладеть. Хотя мне показывали и Аксенов, и Войнович, объясняя, что без этого теперь нельзя. Но я так привыкла. Раньше вообще только пером писала. Потом перешла на шариковые ручки. Видите, у меня их здесь множество. Некоторые даже очень престарелые, но я их не выкидываю, они мне так верно служили. Ночь – мое самое спокойное время, мои владения. Каждую полночь я возжигаю свечи. Одни свечи у меня были совершенно удивительные: мне их прислали в подарок из Иерусалима. Тридцать три свечи по возрасту Христа. Но я их старалась экономить, зажигала не дольше, чем на полчаса, и только, когда писала. В это время я всегда думала о ком-нибудь с любовью, в память о ком-то или во здравие. Писала свободно, не думая ни об издателе, ни о читателе. У меня где-то даже мелькнула строчка: “Пишу себе, пишу себе”. Некоторые мои сочинения даже Боря еще не читал.
Последнее по времени – проза о деревенской женщине из Вологодской области. Ее звали тетя Дюня. Жила она около Ферапонтова, где в восьмидесятые я проводила почти каждое лето. Я очень любила тетю Дюню и постаралась лишь подробно изложить ее великую жизнь. Писала, что помню. А она мне много всего рассказала. И про юность свою, и про замужество, и про раскулачивание, и про первые колхозы, и как на высочайшее имя два раза подавала прошение. Первый раз Николаю Второму, когда родители не давали ей благословения на брак и нужно было испросить разрешение у верховной власти, а второй раз, когда просила Крупскую помочь освободить ее дочь Веру, попавшую в тюрьму. Причем писала она, кажется, лет через двадцать после смерти Крупской, и даже непонятно, на какой адрес, то ли в Мавзолей, то ли в Кремль. Но, представьте, ей ответили. Тетя Дюня любила повторять: “Про мужа ее не знаю, а сама Крупская милостивая. Выпустила мне Верку”. Слово “революция” она не выговаривала, называла ее “веролютия”. В этом году ей бы исполнилось сто лет. Все это у меня описано, а сама тетя Дюня – это образ России. Ее благородство, ум, достоинство. Грамоты она почти не знала, только один раз получила я от нее письмо, где она накорябала: “Беля тоскую без тибе приезжай”. И мы поехали.
Прошлый год я много болела. Врачи упекли меня в Боткинскую больницу. где была хорошая отдельная палата. По ночам я там тоже писала, курила. А днем – капельницы, лекарства… В результате получился сборник “Больничная тетрадь”. Там же я написала стихотворение памяти Галины Васильевны Старовойтовой. А дело было так: меня отправили в другой корпус на рентген в сопровождении одной милой девочки, чья высокая должность состояла в том, что она водила больных из корпуса в корпус. Больница огромная – без поводыря не дойдешь. И когда мы с ней и еще с одной женщиной вышли из корпуса, стоял чудесный день. “Мороз и солнце, день чудесный”. Я так и продекламировала. А женщина сурово спросила девочку: “Ты хоть знаешь, кто это написал?” Девочка растерянно: “Наверное, Белла Ахатовна”. Я рассмеялась с любовью к этой девочке, я и про нее потом сочинила: “Сама свежа как солнце и мороз”. Все утро у меня было очень радостное настроение, но потом я вернулась в палату, включила телевизор, где меня уже ждала весть об убийстве Старовойтовой. Мы были знакомы. Последний раз виделись 12 июня прошлого года в Кремле, в Георгиевском зале. Тогда она, как гимназистка, бросилась ко мне. Мы обнялись, от всех уединились, и она мне как-то совершенно по-девичьи, с чудной доверчивостью сказала: “Я вышла замуж”. Конечно, я обрадовалась за нее, но на секунду мелькнуло плохое предчувствие, опаска. Мне был известен ее нрав, ее непреклонность. Непреклонность доброго и чистого человека. Я понимала, с кем она состоит в поединке. Но, повторяю, это было только мгновение. Как же она была беззащитна в своем счастье! До сих пор у меня перед глазами стоит ее живой образ, такой трогательный, и выражение ее лица, доверительность, с которой она говорила мне о своем муже, об их браке. Она ведь долгое время вступить в него не решалась, видимо, хорошо зная, как непросты ее обстоятельства. Тогда, в больнице, сочинились стихи: “С колечком обручальным в лютой пасти возможно ль долго руку продержать?”
У подножия Везувия
Нынешнее мое ощущение времени довольно драматическое. Очень бедственное положение народа, преступность и, конечно, война. Если соотнести все эти обстоятельства, то надежды, кажется, почти уже не осталось. Особенно пугает война, страдания, связанные с этой войной, Югославии, Албании и Америки тоже. Потому что происходящее сейчас в Европе вредит образу Америки и содействует ее клеветникам и недоброжелателям. Ведь их злость состоит не из жалости к жертвам войны, а относится к собственным выгодам и интересам – все это колеблет без того хрупкую нашу демократию. Таково общее состояние не только нашей страны, но всемирное. Как будто человечество решило свои пороки возвести в абсолют и предъявить их мирозданию. И получается, что на мудрость правителей рассчитывать не стоит. Остается уповать только на праведников. Впрочем, если мы поверхностно вспомним всю историю человечества, то обитатели каждого столетия считали его трагическим. Это и войны, и крестовые походы, и чума, и холера, и даже испанка. И все-таки что-то их уравновешивало. Почему все не рухнуло, почему все это не кончилось, как пререкание между Везувием и Помпеей? Сюжет приблизительно один: громокипящее зло и беззащитная хрупкость, убийца и ребенок. Но все-таки мы как-то дотянули до конца тысячелетия и до конца этого столетия. Как? Непонятно…
* * *
В эту минуту раздался междугородний звонок. И размышления Ахмадулиной о конце века застыли в воздухе вместе с дымом ее сигареты, а сама она, отставив локоть с телефонной трубкой, вся обратилась в напряженный слух. Да, машина на завтра заказана, она готова… Как? Спонсоры отказали? Концерта не будет? Боря, мы никуда не едем! Призрак Уфы, так долго висевший над нами, в один миг рассеялся в вечерних сумерках, оставив лишь смутное ощущение общей неловкости: “Вы только не подумайте, что я корыстолюбива, я всего лишь бедна, благородно бедна, – печально зазвенела Белла, – я очень много выступаю совершенно бескорыстно, по разным возвышенным поводам, и уже привыкла, что никто не платит ни за книги, ни за выступления. Но сами приехать мы не сможем. Простите, простите…”
Она церемонно попрощалась с уфимскими стихолюбами и, повесив трубку, метнула в мою сторону лукавый и острый взгляд, от которого раньше останавливались правительственные лимузины и заводились тысячные толпы на стадионах. Нет, время Ахмадулиной не кончилось, ее время, может быть, только начинается. Время – ночь.
2000У воды Данила Козловский
Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником.
И. БродскийС тех пор как был написан этот очерк, в жизни Данилы Козловского много чего произошло важного. Он сыграл Лопахина в “Вишневом саде”. Сыграл Гамлета. Дал сольный концерт в Большом театре. Снял фильм “Тренер”, где впервые дебютировал как режиссер. Учредил собственную продюсерскую компанию DK. Купил пентхаус в Москве. При этом он не порывает с МДТ и исправно приезжает в Петербург раз в месяц, чтобы сыграть три-четыре спектакля. За пятнадцать лет, что мы знакомы, он стал самым востребованным актером отечественного кино. За ним охотятся, его домогаются, с ним невозможно пройти по улице. Он умело и хладнокровно рулит своей профессиональной судьбой, стараясь избежать ошибок именитых конкурентов и предшественников, оставаясь при этом славным и щедрым парнем, готовым, если надо, всегда прийти на помощь. И еще он никогда не отказывает, если с ним просят сделать selfy.
Умение распределять энергию
– Давай я туда прыгну прямо в одежде. А потом вынырну. И вы меня снимете с бокалом или чашкой кофе в руках. А?
Мы стоим у бортика бассейна парижского отеля Le Bristol. Фотограф Рене смотрит в объектив, вычисляя ракурс и свет. Все остальные томятся от безделья. Модная фотосъемка: снимают пять минут, а свет ставят час или ждут, когда солнце само выглянет. Много народу, которому делать абсолютно нечего, как, например, гримерше Камилле, которая уже съела все фрукты, предназначенные съемочной группе, и истерзала свой мобильный телефон, не зная, кому еще позвонить.
Даниле Козловскому, восходящей звезде из России (под этим кодовым названием он проходил в моей переписке с агентством и отелем – “rising star from Russia”), в пиджаке Versace, не терпится уже что-то сделать. Время от времени его посещают разные идеи по поводу съемок: давай прыгну здесь, или залезу сюда, или возьму розу в рот и сяду с ногами прямо на этот комод (XVIII век, Буль, оценочная стоимость 100 000 евро. – С.Н.). Вот увидишь, будет дико круто!
Теперь он хочет нырнуть в бассейн в костюме Versace, взятом из парижского шоурума.
Данила еще не научился правильно распределять энергию, экономить силы. Ему нестерпимо скучно сидеть в углу с книжкой или кроссвордом, как это делает большинство его более взрослых и опытных коллег на фотосъемках. Но это только на первый взгляд кажется, что он разбрасывается и не знает, чего хочет. На самом деле все его желания и предложения неизменно бьют в одну точку: выжать из ситуации максимум возможного и выложиться самому тоже по максимуму.
Мы уже отсняли какое-то количество кадров, где он лежал, сидел, снова лежал, но еще не прыгал. Но в Le Bristol не попрыгаешь. Тут всюду секьюрити и какие-то важные господа, несмотря на июльскую жару, в тройках и галстуках. И дамы с неподвижными фараонскими лицами непонятного возраста, в баснословных тутанхамоновских украшениях, которые они, похоже, не снимают даже на ночь. Конечно, можно было выйти на улицу, в двух шагах Елисейский дворец, но далеко не уйдешь: вещи, свет, грим – все надо тащить с собой. А на дворе июльская жара и толпы зевак. Нет, лучше остаться в отеле.
В отличие от большинства других, утопленных в глубоких подземельях, бассейн Бристоля располагается на самом последнем этаже и похож на старинную яхту. Под ногой приятно, как на палубе, поскрипывает дощатый пол, а на потолке изображен натянутый белый тент. Все очень правдоподобно. Если плавать на спине, обязательно упрешься взглядом в бабочку-шоколадницу или птичку с красной грудкой, похожую на снегиря. Впрочем, какой может быть снегирь на средиземноморской яхте?
Бассейн проектировал архитектор, который строил яхту “Кристина” Аристотелю Онассису – главный символ роскоши и богатства послевоенного мира. В Le Bristol, конечно, все скромнее, но тоже из отмирающей эры лимузинов, вечерних платьев в пол, колониальной алчности и многометровых гор багажа с именными монограммами на фамильных чемоданах Louis Vuitton. Последний корабль люкса среди свинцовых парижских крыш.
Мы выходим на террасу. Вдали белеют купола Сакре-Кер, совсем рядом церковь Сен-Северин, чуть дальше Пантеон и Эйфелева башня. И крыши, крыши, крыши… Идеальное место для съемок ремейка бальзаковских “Утраченных иллюзий”. А чем сам Данила не Люсьен Шардон? С этим его храбрым, молодым напором, с веселой готовностью рисковать, с пластикой боксера, одержавшего победу. И все-таки нет. Не Шардон, не Растиньяк, не Жюльен Сорель из “Красного и черного”! Данила мягче, тоньше, лиричнее. В его темно-карих глазах нет того ледяного отсвета бурь, невзгод, одиночества, без которого не сыграть “roman de reussite” (“роман удачи”). На самом деле он – романтик чистой воды, предназначенный природой и судьбой играть Мюссе, Шиллера, Клейста.
Недаром в его репертуаре уже есть Лоренцаччо и шиллеровский Фердинанд.
Недавно лицо Козловского с насупленными бровями красовалось на фасаде кинотеатра “Октябрь”, где шел новый блокбастер “Шпион”, в котором его партнером был Федор Бондарчук. Есть фильмы “Духless” и “Легенда № 17”, и там у него тоже главные роли. Таких же молодых, горячих и готовых ко всему парней, которых принято называть “героями нашего времени”. Впрочем, в “Легенде” – это скорее время прошедшее. 1970-е, брежневский застой, эпоха наших главных хоккейных битв и побед. Данила играет легендарного Валерия Харламова. В общем, неспроста мы вытащили его на террасу Le Bristol. Медиа должны уметь вычислять звезд заранее. Если все сложится правильно, быть Даниле Козловскому главным героем российского экрана в этом десятилетии.
Спасатели Малибу
Это было в 1989-м. Умученный долгим перелетом, я приехал в ту гостиницу в Сан-Диего. Там меня поселили в номере с окнами во внутренний дворик с бассейном. Я еще подумал: наверное, будет шумно. В таких городах, как Сан-Диего, деваться особенно некуда, если нет машины. Или сиди в номере, переключай каналы, или плавай, загорай и блаженствуй, пока не наступило время коллективного отъезда на вечерний спектакль. Но в ту ночь бассейн был подозрительно тих. Только кто-то один почти бесшумно рассекал зеленую гладь. Стиль брасс, отметил я. Наверное, американец. Не будет наш человек на ночь глядя накручивать километры. Движения пловца отличались каким-то балетным изяществом с налетом чуть демонстративной, наигранной расслабленности. Видно, что ему было просто хорошо оттого, что не надо никуда спешить, что есть эта ночь, вода, звезды, и он. Так бесцельно и красиво, наверное, плавают только дельфины. Потом он вынырнул из воды. Я увидел черные мокрые волосы, загорелую спину, пуговицы позвоночника. Кто-то окликнул его по-русски: “Володя, ты идешь?” Значит, наш, подумал я и пошел разбирать чемодан.
Мы познакомились через два дня. Его звали Володя Осипчук. Он был актером Малого драматического театра. В одной гостинице нас поселили организаторы турне, которым зачем-то понадобилось, чтобы я написал, как идут “Братья и сестры” в США. Как нетрудно догадаться, я не очень сопротивлялся. Эпохальный спектакль Льва Додина я видел раньше и в его успехе у американцев не сомневался. Смущало, конечно, обилие всяких подробностей и деталей послевоенного советского быта, практически недоступных западному сознанию. Но в конце концов, думал я, это национальный эпос, семейная сага на фоне войны и мира. Именно так воспринимали спектакль американцы. Семь часов подряд с перерывом на ланч. Это была Россия, которой они не знали. Дикая, странная, нищая страна, с водкой, которую хлестали прямо из горла, с баней, где парились до угара, с какими-то непонятными “трудоднями” и “колхозами”, со всей этой непереводимой абрамовской прозой и поэзией, которые были не по зубам ни одному синхронисту. Но между тем зал был полон, и кто-то из вечера в вечер шуршал что-то по-английски в наушниках, и додинские артисты, несмотря на свой загорелый, отдохнувший вид, убедительно изображали бедных голодных колхозников, ведущих бесконечные сражения за “bread”.
– Почему русские едят столько хлеба? – поинтересовалась у меня знакомая американка. Судя по ее прозрачному, худосочному облику, сама она всю жизнь питалась в лучшем случае одними листиками салата. – Это же одни углеводы, это так неполезно!
Ее хмурый муж не интересовался ничем. Он проспал весь первый акт и был, похоже, очень недоволен меню ланча, предложенного ему в антракте для подкрепления сил. Впрочем, его робкая попытка слинять со второго отделения была тут же пресечена одним движением жениной правой брови. Россия была на пике моды. Слова perestroika и Gorbachev не сходили с восхищенных уст. И спектакль додинского театра воспринимался как некий духовный опыт, к которому необходимо было приобщиться любому мало-мальски культурному человеку. В общем, жены, выпучив глаза и застыв как истуканы, смотрели на сцену, пытаясь понять хоть что-то. Их менее пытливые мужья спали у них на плечах. Дальше по американской традиции все громко и недолго хлопали в ладоши и, довольные собой (теперь будет о чем рассказать в следующий week-end за гольфом!), разъезжались на своих “бьюиках” и “линкольнах” куда-то в ночь. А ленинградские актеры шли за кулисы, снимали ушанки и телогрейки, смывали грим, и, прихватив калифорнийское вино, купленное в супермаркете, отправлялись к себе в гостиницу, к бассейну.
Я помню эти осенние долгие вечера и вкус дешевого вина, которое развязывало нам языки. Помню Володю в черном халате, похожем на самурайское кимоно. Он, кажется, привез его откуда-то из Японии. По временам при определенном освещении он и сам с его четко очерченными скулами смог бы сойти за самурая. Но по большей части он был скромным ленинградским парнем, близоруким очкариком, чуток оглушенным всей этой вдруг свалившейся на него заграницей, звездами на черном небе Сан-Диего, настоящим успехом, который он переживал вместе с другими актерами додинского театра и которому, конечно же, радовался. Но как-то иначе, не так, как все.
Почему-то сразу я почувствовал в нем непонятный, необъяснимый страх. Будто он уже знал, что когда-нибудь ему придется все это потерять, что очень скоро ничего этого в его жизни не будет. И лучше начать готовиться к этому заранее, прямо сейчас.
Он вспоминал, как в прошлом году театр гастролировал в Нью-Йорке, как их кинул продюсер, оставив совсем без денег. Но нашлись какие-то добрые люди, которые оплатили им отель. Причем жутко дорогой, в котором они сами бы ни в жизни не остановились. И ему было ужасно неудобно развешивать в ванной свои постиранные носки-трусы. Такой нищетой от них веяло на фоне этих мраморов и люксов.
– Да ладно, Володь, – утешал я его. – Take it easy. Не горничных же тебе стесняться! Может, у тебя такое хобби: стирать белье. Марлен Дитрих, например, всю жизнь сама драила свои гримуборные. Ну и что?
– Но к тому времени она уже была Марлен Дитрих.
– В любом случае, тебе ею не стать. И я бы посоветовал хотя бы по этому поводу не очень расстраиваться.
Он обиженно замолкал, как будто подыскивая, что бы еще такого беспросветного из собственного актерского опыта поведать мне.
– А ты знаешь, что такое выездные спектакли? – вдруг раздавался его шепот посреди стрекочущих цикад и плещущей воды. – Ты ведь никогда не трясся по три часа в ледяном автобусе куда-то во тьму и глушь. Мы же должны обслуживать Ленинградскую область! Ты не знаешь, что такое играть в каком-нибудь сельском Доме культуры зимой, где в зале народ сидит, не раздеваясь. Потому что дикий холод, а ты в одной рубашечке скачешь по сцене и думаешь только о том, как бы не подхватить воспаление легких. А что такое спектакли в дни школьных каникул? Этот орущий, визжащий, ничего не слышащий зал. Как я в такие моменты ненавижу себя и свою профессию.
Он опять замолкал в ожидании моих контрдоводов и аргументов, которым он хотел бы поверить. Но их у меня не было. Я действительно мало что знал про него, про его ленинградскую жизнь. Знал только, что в театре его любят, что Додин к нему благоволит, что играет он в “Звездах на утреннем небе” и “Повелителе мух”. И всё заглавные роли. Мне потом рассказывали, что он гениально репетировал Брата Алёшу, но в выпускном спектакле по “Братьям Карамазовым” сыграл штабс-капитана Снегирёва; мечтал о князе Мышкине. Собственно, свою вариацию на тему Мышкина он сыграл в “Звездах” – блаженного Князя Света, пытавшегося внести любовь, смирение и красоту в сгущающийся безнадежный мрак жизни. У Додина там была гениальная мизансцена, когда в какой-то насыщенной, драматичной, тициановской полутьме совершенно обнаженный Осипчук вдруг оказывался лежащим на коленях у героини Ирины Селезневой. Это была современная Пьета, решенная очень сильными театральными средствами: свет, музыка, обнаженное тело. Не ведая того, театр оплакал своего несостоявшегося героя раньше, чем им пришлось расстаться. Осипчук играл жертву. И сам по внутреннему настрою был жертвой. Может быть, поэтому при распределении ролей в “Бесах” ему не достался Николай Ставрогин. И он страшно это переживал, хотя не подавал вида.
– Слушай, как ты думаешь, а может, мне лучше остаться?
– И что будешь делать?
– Ну, пойду учиться.
– На кого?
– Ну, может, на журналиста?
– Кому нужны журналисты? Ты – ведущий актер одного из лучших театров мира. Да и на что жить?
– Буду работать спасателем на пляже.
– Не смеши! Спасатель Малибу.
Гастроли МДТ шли своим ходом. Я долбил на своей портативной машинке что-то бравурное про “невероятный успех” и отсылал по факсу напечатанные страницы в Москву. Сан-Диего готовился к Хэллоуину, и на всех углах были понаставлены рыжие тыквы с вырезанными глазками, в которых по ночам мерцали огарки свечей.
В один из последних дней мы поехали на пляж. Нас было трое: Сережа Бехтерев, Володя и я. Было пасмурно; вдруг сразу стало понятно, что лето кончилось. Как будто впервые осень обрушилась на нас грифельно-серым небом и белым прибоем. В воде барахтались серфингисты, затянутые с головы до ног в черную резину. Потом они вылезали на берег и сбрасывали с себя эти костюмы как вторую кожу. Высокие, могучие, словно отлитые из бронзы вагнеровские боги и валькирии. Несмотря на дружелюбные белозубые улыбки, было в их присутствии что-то угрожающее. Как и во всем этом черно-белом зрелище бушующего океана, бессолнечного неба и красивых людей, неистово пытающихся оседлать волну. На фоне этой величественной картины мира оба мои спутника казались такими хрупкими, нетренированными, неприспособленными. Не актеры, не действующие лица – робкие зрители с галерки, случайно приобщившиеся к чужому спектаклю, где все было иначе: и ветер, и небо, и божественные тела. А не только маленький бассейн со стоячей водой и разговорами, кто где успел отовариться да что сказал Лев Абрамович… Какой-то вал счастья и ужаса окатил нас троих – такой стремительный и внезапный, что мы остановились как вкопанные, не в силах сделать больше ни шагу. Потом Сережа и Володя решили, что все-таки надо искупаться. Когда еще будет такая возможность? Я до сих пор вижу, как они бегут наперегонки в черных трусиках по серой кромке пляжа, приноравливаясь и не решаясь броситься в холодную воду.
Володи Осипчука не станет ровно через год. Он выпадет с седьмого этажа во время съемок фильма “Меченые”. Причины смерти так и остались неизвестны. То ли и вправду оступился, то ли сам выбросился, то ли ему помогли… Никто не знает.
Сережа Бехтерев заменит его в “Звездах”, но в начале нулевых будет уволен из театра за систематическое пьянство. Попытался лечиться, потом выступал с чтецкими программами и моноспектаклями в частных антрепризах. Умер в 2012 году. Похоронен там же, где и Володя, на Волковом кладбище.
Приглашение к менуэту
Ничего этого Данила Козловский не знал и знать не может. Сам он родом из Москвы. Не питерский. Кроме него, в семье еще два брата. Родители рано развелись. Но мама вскоре вышла замуж. Отчима звали Сережа. У него была красивая седина, которая ему очень шла. И красный шарф, который он носил, забрасывая один конец за плечо, как настоящий парижанин. Собственно, это ему принадлежала светлая идея определить двух старших братьев Козловских в мореходное училище в Петербурге. Дома оставлять всех троих вместе было невозможно. Каждый день случались разные ужасы, чреватые депортацией в детскую колонию или, не дай Бог, тюремным сроком. “Ну, пусть уж лучше будет кадетом!” – со вздохом решила мама на семейном совете.
Но просто так туда не брали. Надо было быть или круглым сиротой, или сыном военнослужащего. Ни тем, ни другим Данила не был. Отчим прошелся по кабинетам, поговорил с кем надо и выяснил, что воспитанники кадетского корпуса остро нуждаются… в кроссовках. В общем, день, когда Данилу везли поступать в корпус, остался в памяти прежде всего нестерпимым химическим запахом от 150 пар новеньких кроссовок Nike, которыми под завязку был забит Сережин “лендровер”. В результате их с братом взяли, но брат пробыл полгода. Ему там сильно не понравилось. Данила тоже, в общем, был не в восторге. Но ему было стыдно быть вот так позорно отчисленным или уйти самому. Он не из тех, кто оставляет поле битвы. Поэтому решил держаться до последнего. И он продержался. И даже получил что-то вроде диплома с отличием.
Я спрашиваю: была ли у них дедовщина? Была. Например, учащиеся старших классов заставляли салаг-новичков сидеть не шелохнувшись на тесно составленных кроватях, так чтобы было удобнее “расстреливать” их мячом. Неспешно делались ставки, заключались пари, кто в какую часть тела попадет с первого раза, а кто – со второго. Четкий удар со всего размаху по мячу, и он летит тебе прямо в лицо. Ты даже зажмуриться не успеваешь. Этот опыт Даниле потом пригодится в “Гарпастуме” – его дебютном фильме про первых профессиональных футболистов начала прошлого века. Там мяч летал по съемочной площадке как шаровая молния, заряжая всех каким-то сумасшедшим электричеством игры и счастья. А тут это было похоже на пытку. Впрочем, длилась она недолго. Тех ребят довольно быстро отчислили. И вообще Данила так устроен, что предпочитает помнить только хорошее. А что было хорошего?
Как ни странно, больше всего запомнились долгие часы ожидания в воскресный день, когда он уже с утра со своим рюкзаком сидел в проходной и ждал маму с Сережей, которые должны были его забрать в увольнительную. И уже за полкилометра он научился различать приближающийся Сережин красный шарф как символ долгожданного освобождения. А дальше сплошное ликование и свобода: Марсово поле, кафе “Север”, кино “Титаник”, мороженое до отвала. Жизнь!
Нет, он не жалуется. И то, что эти шесть лет ему пришлось провести вдали от дома, дало ему очень многое. Например, он хорошо усвоил смысл слова “надо”. На-учился идеально заправлять кровать и следить, чтобы башмаки были всегда начищены до блеска. Всегда приходить за пять минут до назначенного времени. Если надо, он готов поселиться в “Сапсане”, как это было в прошлом году, когда шли съемки “Легенды № 17” и ему надо было постоянно курсировать между Москвой и Питером, где никто ради него не собирался отменять спектакли и репетиции. Здесь, в Париже, он показал мне, как научился спать, надвинув капюшон на лоб и спрятав лицо в скрещенные локти. И так не день, не два – недели, месяцы! В нем чувствуется военная косточка. Выправка корнета, рвущегося в свой первый бой. И умудренность бывалого бойца, знающего, как выжить в окопных условиях. Это все кадетский корпус! Но не только – какая-то внутренняя стойкость, надежная психологическая основательность. При этом казарменная муштра не ожесточила, не озлобила его. “Для тебя я все такой же нежный”. Чего стоят его глаза, полные слез, когда я рассказывал ему о последних днях Одри Хэпберн и как ее сын Шон ходил на сельское кладбище покупать место для ее могилы. Надо обладать очень добрым сердцем и очень натренированным актерским воображением, чтобы в одну секунду все это себе представить, прожить, пережить, но в последний момент сдержаться, чтобы не расплакаться прямо посреди фонтанов Петергофа, куда мы забрели, потому что он там никогда раньше не был. Хотя, казалось бы, что он Гекубе? Что ему Гекуба?
И эта его способность мгновенно загораться, влюбляться, осыпать всех подарками, раздаривать все свои цветы, полученные после спектакля, актрисам и костюмершам, эта постоянная ненасытность, неиссякаемость какой-то душевной растраты делает его особенно уязвимым. Так нельзя, говорю я ему, не торопись, не спеши раздавать все, побереги себя! Не слышит. Опять куда-то несется, какие-то новые проекты: кино, театр, экспедиции, гастроли. “Мне уже двадцать три, еще ничего не сделано”, “Мне уже двадцать семь, я ничего толком не ус-пел”, – эту песню я слышу в его исполнении более или менее регулярно. Хотя мало кто из актеров его поколения может похвастаться такой фильмографией и такими ролями в театре. И в каком театре!
В актеры он хотел всегда. И даже особых сомнений не было, куда идти. Конечно, на актерский! Мама, сама актриса по образованию, провела тщательный мониторинг театральных училищ Москвы и Петербурга и выяснила, что идти надо к Льву Додину. Он как раз в тот год набирал свой актерско-режиссерский курс в ЛГИТМИКе. С деньгами было туго. Красный шарф больше уже не маячил вдали: Сережа скоропостижно скончался. Совсем молодой. Мама сдала московскую квартиру и переехала в Питер, чтобы помочь сыну сдать экзамены. Данила без сучка и задоринки прошел отборочные туры. Но перед решающим экзаменом чуть не сорвался. Дело в том, что руководитель параллельного курса ему пообещал у себя место. Синица была в кармане. Но журавль в лице седобородого Льва Абрамовича Додина хранил неприступное молчание и не гарантировал ровным счетом ничего. И даже мама, которая всегда все знала, вдруг расплакалась, когда Данила стал ее атаковать: “Что делать? К кому мне идти?” – “Я не знаю, сынок! Решай сам”. И он решил: документы сдал на конкурс к Додину. Это была уже судьба.
– Ты помнишь свой вступительный экзамен?
– Как будто это было вчера.
– Что ты читал?
– Из прозы – рассказ Юрия Казакова “Во сне ты горько плакал”. А стихи у меня были Ролана Быкова. Совершенно неизвестные. И даже, может быть, вполне любительские, но зато их, кроме меня, никому бы в голову не пришло читать. Там были такие строчки: “Никто нас, кроме смерти, не сможет победить”.
– Что было самым трудным?
– Танец. Нет, я был готов, что меня попросят станцевать. Даже свой гюис (парадный воротник, который носят все морские кадеты. – С.Н.) захватил, чтобы уж рвануть “яблочко” по всей форме, со всеми коленцами, как полагается. Ребята из моей десятки, сидевшие на экзамене, даже похлопали. Ну, я и спрашиваю Льва Абрамовича: “Может, еще что-нибудь?” А Додин так грустно, глядя на меня: “А вы танец менуэт знаете?”
“Э-м-мануэл?” – переспрашиваю я.
“Нет, менуэт”, – поправляет он.
Ребята хихикают. Я не растерялся. “Знаю”, – говорю. А душа в пятки ушла: что же я сейчас буду делать? “Тогда пригласите кого-нибудь из девочек”. На ватных ногах подхожу к Лизе Боярской (я еще не знал ни как ее зовут, ни чья она дочь). А она по моему лицу уже все поняла и шепотом говорит: “Повторяй за мной”. Я, конечно, как полный дебил, перво-наперво повторил дамский поклон, книксен. Слышу, ребята ржут. Но мне не до них, главное, перед Додиным не осрамиться. Но все остальное я сделал более или менее правильно. Спасибо Лизе.
Взгляд сверху
Я почти не знаком с Львом Абрамовичем Додиным, хотя несколько раз оказывался с ним лицом к лицу, как в том же Сан-Диего, когда мы стояли около телевизора в холле гостиницы, где показывали, как бывший президент Ричард Никсон, старенький, но вполне бодрый, прибыл с визитом в Калифорнию. И жена Додина, актриса Татьяна Борисовна Шестакова, увидев знакомое лицо, всплеснула руками и воскликнула: “Ой, а давайте пригласим его к нам на спектакль!” На что Лев Абрамович, раздумчиво и веско, как умеет только он, произнес: “Пожалуй, не стоит”. И сказано это было так, что не возникало сомнения или даже попытки ему возразить. А собственно, почему? Ну приехал бы Никсон, ну поприветствовал бы русских актеров, ну подремал бы на плече у своей Пэт. Кому от этого плохо? Нет, “пожалуй, не стоит”.
С главным режиссером не полагается спорить. Даже собственной жене и великой актрисе. Так поставлено, так заведено в этом театре, что Додин – это все. Тогда, в начале девяностых, когда театр был в самом зените славы, он вдруг как-то резко преобразился и похорошел. Ему так шли и седая библейская борода, и очки в дорогой оправе, и все эти шейные платки и костюмы Brioni. В самом его присутствии и манере говорить тихо и медленно было что-то магнетическое, заставлявшее актеров и постановочную часть как-то сразу подбираться, выпрямлять спины, демонстрировать максимальное внимание и предупредительность. Вообще Додин считается учеником знаменитого Бориса Зона, у которого он заканчивал режиссерский курс. Но сам стиль его театрального правления он, конечно, перенял у того, кто не спешил признавать ни его, ни его театр: у Георгия Александровича Товстоногова, главного режиссера Советского Союза. Долгие годы товстоноговский БДТ казался недосягаемой вершиной и по собранию выдающихся актерских имен, и по постановочной культуре и размаху всесоюзной славы. Но в заочной дуэли двух знаменитых театров, разделенных всего лишь узкой речкой Фонтанкой на два независимых королевства, победил Додин. На его стороне были молодость, более гибкая и открытая новым веяниям художественная система и, конечно, время, которое работало на него. Ему не надо было бороться с романовским маразмом (Григорий Романов – первый секретарь Ленинградского обкома с 1970 по 1983 гг. – С.Н.), ставить спектакли к юбилейным датам, унижаться, обивая обкомовские и министерские пороги, чтобы получить разрешение на очередную премьеру.
Новейшая история МДТ началась со спектакля “Дом” по Абрамову (1980), когда Додин еще не был главным. Но уже тогда было понятно, что этот режиссер будет истово и целеустремленно строить именно Дом, где каждый должен знать свое место, свою роль и где может быть только один хозяин. Это он сам! Додин – из породы театральных домостроевцев, как Юрий Любимов, Юрий Григорович, Валерий Гергиев. С самого начала он обрек себя на обвинения в тоталитарном мышлении, роялистских амбициях и бог знает в чем еще, что ему приписывает оппозиционная петербургская критика и что мне сейчас совсем неохота повторять. Как известно, успеха у нас не прощают. А Театр Додина – это, конечно, успех. Международный, стабильный, серьезный, многолетний, не зависящий ни от коньюнктуры, ни от театральной моды. Более того, чтобы не вступать на зыбкую почву театроведческих дискуссий, скажу сразу: ничего интереснее и значительнее, чем додинские спектакли, в нашем театре я не видел. Одни могли нравиться больше, другие меньше, но в свои лучшие моменты это всегда был Театр, заряженный такой энергией мысли, такой концентрацией чувств, боли, красоты, отчаянья, надежды, которых, наверное, и нельзя достичь никаким иным способом, как только абсолютным подчинением одной художественной воле и одному режиссерскому замыслу.
По странному совпадению, место действия как минимум трех очень важных для Додина спектаклях происходило в бассейне или около него. В двух из них – “Чевенгур” и “Пьеса без названия” – плескалась настоящая невская вода. А в “Молли Суини” высохший бассейн был наполовину засыпан осенними листьями, в которых заживо схоронила себя ослепшая героиня Татьяны Шестаковой. И в этом образе замкнутого пространства, где одни беззаботно плещутся, другие суетливо копошатся, а третьи изнемогают от тоски и жажды жизни, и заключен тайный код додинского театра, его взгляд на мир, на людей, на жизнь. Взгляд демиурга, смотрящего с небес. Взгляд строгого и безжалостного Бога, творящего реальность по образу и подобию своему. И каждый новый артист – это голый бессмысленный Адам, и каждая актриса – неразумная маленькая Ева. Их еще предстоит вылепить и пересоздать заново. И уже не важно, хотят они этого сами или нет. И чего они хотят. Никто не будет спрашивать. Желающих по-прежнему триста человек на место, как и в те времена, когда на додинский курс поступал Володя Осипчук, а спустя много лет – Данила Козловский. А может, сейчас и больше?
Три фотосессии
Эта наша третья съемка с Данилой. Впервые я увидел его в “Гарпастуме” и подумал: какое лицо! А потом подоспела премьера “Лира”, где он играл Эдгара, и сразу бросилось в глаза смутное сходство с покойным Осипчуком. Та же темноволосая масть, та же редкая романтическая порода: взгляд, пластика, голос. Но сходство на самом деле оказалось мимолетным и поверхностным. Уже в “Лире” было понятно, что Козловский другой. Нет в нем ни внутреннего смятения, ни страха перед жизнью. Кадетский корпус заложил правильную основу, не давая отклониться от курса в сторону разных бездн и опасных соблазнов. Осипчук был идеальным Братом Алешей (весь Ленинград съезжался посмотреть на него в дипломном спектакле ЛГИТМИКа), а Данила мог бы стать замечательным Митенькой Карамазовым с его загулом, страстями, отчаяньем, случись такому чуду, чтобы играть им вместе. Но братья – вот что важно!
Неслучайно, когда после “Лира” Додин возобновил свой давний спектакль “Повелитель мух” по роману Голдинга, Козловскому достался не злодей Ральф – последняя роль Осипчука, а Джек – главный антагонист и избавитель мушиного воинства от своего повелителя. И в этом назначении угадывался какой-то незавершенный спор о том, каким должен быть новый герой МДТ, суеверное желание оградить молодого актера от опасных сравнений и одновременно повелительный жест хозяина театра – представление продолжается, show must go on! Извечный закон, по которому живет любой театр, если он хочет оставаться живым.
Сразу после “Лира” я попросил легендарного фотографа Валерия Федоровича Плотникова снять Данилу и Лизу Боярскую для журнала “Madame Figaro”. Получилось довольно мило: Лиза с неприступным лицом стоит, подбоченясь, в белом кринолине Гонерильи, а из-под атласной юбки вылезает бедный Эдгар – Данила. Самая красивая пара 2007 года. Потом была еще одна фотосъемка – уже для “Сitizen K” – со знаменитой Шарлоттой Рэмплинг. Я послал на выбор фотографии нескольких молодых русских актеров, и redacteur artistic, привередливый и капризный Капофф, ткнул пальцем в плотниковский снимок Данилы: “Берем его”.
Данила прилетел в Париж со своей тогдашней по-другой Уршулой Малка, тоже актрисой МДТ, с которой они вместе составили отличный дуэт в преддипломной “Варшавской мелодии”. Легко можно было предвидеть, что появление хорошенькой польки на съемочной площадке не обрадует Рэмплинг, как, впрочем, присутствие любой женщины моложе ее. Но она держалась молодцом. Ее погасшее и холодное, как осенние заморозки, лицо не выражало ни тени раздражения. Напротив, в знаменитых глазах раненой волчицы, загипнотизировавших не одного талантливого кинорежиссера, вдруг на мгновенье вспыхнуло что-то похожее на любопытство. Что за пара? Кто этот русский? Актер? Хороший? А кто она? Почему полька? Наш диалог в ее гримерке перед зеркалом походил на прогон первой сцены из пьесы Теннесси Уильямса “Сладкоголосая птица юности”, где голливудская звезда принцесса Космонополис допрашивает провинциального жиголо Чанса Уэйна. Его-то и должен был сыграть Данила, а я лишь подавал за него реплики.
Я видел, как в зеркале постепенно молодеет ее лицо, как она возвращает себе черты той молодой и неотразимо опасной Шарлотты Рэмплинг, которую мы все помнили по “Ночному портье”. В этом ее медленном преображении было что-то от тайного колдовства. И это тоже был своего рода театр, где властвовала личность, сама привыкшая выбирать себе роли и партнеров, сама распоряжаться своей судьбой, сама решать, быть счастливой или несчастной, красивой или уродливой. Передо мной была женщина, которая могла все! В кадр, где уже ждал полураздетый Данила, Шарлотта вошла уверенным строевым шагом дочери английского полковника. Ей не на-до было ничего завоевывать, никого покорять. Главный трофей лежал у ее ног.
Это потом уже, когда я был у нее дома на рю Маклакофф, где все стены завешены картинами Бориса Заборова, она с грустной усмешкой призналась, что вздрогнула, когда увидела Данилу и Уршулу вместе.
– Она оба такие красивые, такие молодые… Я на них смотрю, а они на меня – нет. Для них я старая, странная дама. И я сразу почувствовала себя, как говорят французы, “вне игры”.
– Но все-таки в игру вступили.
– А что оставалось делать? Я же не могла запороть вам обложку.
Историческая вышла съемка. Профессионалы ее сразу оценили. Мне потом Данила рассказывал, что решающим аргументом продюсера в его приглашении на главную роль в фильме “Духless” стала именно обложка “Citizen K Россия”. В последний момент она легла на чьи-то начальственные столы, нейтрализовав все сомнения по поводу кандидатуры Козловского. Что-то и вправду у них там с Шарлоттой щелкнуло: неожиданный поединок одного из самых загадочных мифов западного кино и неотвратимой, как возмездие, юности.
…И вот спустя четыре года – опять Париж. Только теперь уже сам Данила в роли звезды. За плечами – несколько главных ролей в серьезных, высокобюджетных фильмах. Заманчивые предложения. Он теперь нарасхват. На фотосессию для “СНОБа” он сумел выкроить в своем расписании всего два дня. Знаю, что у него много планов. Из самых ближайших: сразу после Парижа он отправляется в Нью-Йорк, где хочет всерьез заняться своим английским. И даже уже оплатил школу. В его новеньком “лендровере” цвета металлик гремят из всех динамиков эпохальные голоса Синатры, Джина Келли, Тони Беннета. Он мечтает о музыкальном спектакле, поставленном специально для него. А еще его герой – Рудольф Нуреев. Он бредит им с тех пор, как узнал историю великого невозвращенца. Данила живо описывает мне последний кадр фильма: как в последний момент в аэропорту Орли Нуреев сбегает из-под надзора двух гэбэшников, как он прыгает через все турникеты и ограждения и с криком бежит, бежит, бежит… Я хочу увидеть это кино, хочу, чтобы он сыграл этот побег, этот бег на разрыв аорты, этот его крик и прыжок в неизвестность. Впрочем, почему в неизвестность? Мы-то уже знаем, что в известность, в славу, в бессмертие.
У фотографа все готово. Он просит Данилу подпрыгнуть, чтобы зафиксировать его летящее отражение в вод-ной глади бассейна.
– Будет красиво! – убеждает Рене, не отрывая взгляда от монитора своего компьютера.
– А может, сразу в воду? – предлагает Данила.
– Нет, пока лучше попробуйте у окна.
В воде мелькает силуэт в черном костюме и белой рубашке, распахнутой на груди…
Кого-то очень похожего в таком же черном костюме я видел много лет назад. И тоже у воды. Почему-то вспомнился последний вечер в Сан-Диего, когда вместе с актерами МДТ я отправился на празднование Хэллоуина. От этого party где-то завалялась фотография, где мы позируем с Володей Осипчуком в каких-то идиотских ковбойских шляпах, которые нам выдали на входе вместе со столбиками бесплатных фишек для игры в рулетку. Я быстро их спустил, а Володя пытался играть, придумывал разные комбинации чисел. И даже поначалу ему везло, но потом тоже проигрался в пух и прах и ужасно расстроился. Как будто загадал что-то, и вот опять облом.
Нет, не надо мне было убеждать его не уходить из театра. Остался бы тогда в Америке. Времена уже были другие. Ничего бы ему за это не было. И что плохого в работе спасателем на пляже? По крайней мере, был бы сейчас жив. И надо было поехать к нему в Ленинград. Ведь он звал меня на премьеру “Повелителя мух”. Но я тогда не собрался, думал, успею. Додинские спектакли держатся долго. Не успел. Так я и не увидел его Ральфа. Все, что мне было дано, – это только наблюдать, как он плавает в бассейне посреди калифорнийской ночи, а потом сквозь полузакрытые жалюзи прислушиваться к мерным ударам по воде его сильных, длинных рук. Когда Володи не стало, мне раза два снился один и тот же сон, что мы вместе плывем не то в реке, не то в бассейне, а потом он вдруг резко отрывается вперед, и я никак не могу его догнать.
“Никто нас, кроме смерти, не сможет победить”… Я пытаюсь что-то вспомнить еще, завязать два сюжета одним узлом, – но бесполезно, да и, наверное, не нужно. Нельзя ничего наверстать, исправить, изменить. Как невозможно, разглядывая одно отражение в воде, увидеть другое.
…А фотографии в бассейне, как хотел Данила, нам сделать так и не удалось. В последний момент администрация Le Bristol не разрешила прыгать в воду в одежде. Вдруг увидят клиенты! Я не стал настаивать. Съемочная группа облегченно вздохнула, а Данила побежал переодеваться для следующего кадра.
2012Большая иллюзия «Вишневый сад» в МДТ – Театре Европы
Сколько их было в моей жизни, этих “Вишневых садов”? Не возьмусь даже подсчитывать. Наверное, несколько десятков. Самых разных: традиционных, авангардных, российских, иностранных. С настоящими вишневыми деревьями на сцене и с символическими тонкими прутиками. В чем тайна чеховской пьесы? Почему не надоедает ее смотреть? Почему каждый раз что-то внутри обрывается, когда слышишь, как Раневская спрашивает: “Кто купил?” – и смущенный ответ Лопахина: “Я купил”? Мне довелось видеть, как это играли и великие актеры, и невеликие, и вполне себе заурядные. Но если они не шли на откровенный конфликт с Чеховым, у них обычно все получалось. Не могло не получиться. Так уж устроена эта пьеса. Она как швейцарские часы. На века! Для своей постановки 2014 года главный режиссер МДТ – Театра Европы Лев Додин разобрал пьесу Чехова на мельчайшие детали. Ни одной реплики не осталось без внимания, ни одной ремарки, а в результате получился новаторский, невероятный спектакль, большая часть которого проходила не на сцене, а в зрительном зале.
…За кулисами было чисто, как в операционной. Пока шла наша фотосъемка, я так и не встретил там ни одной уборщицы, ни одной подметальщицы. При этом паркет сверкал так, будто его драил взвод полотеров, а в коридорах пахло только паром и раскаленным утюгом из костюмерной. Все выглажено, накрахмалено, развешено на плечики, ждет артистов. В МДТ премьера, но предпремьерной лихорадки совсем не чувствуется. Ни в зрительном зале, где все кресла и люстра обернуты белой холстиной, как во времена, когда хозяева съезжали, оставляя свой загородный дом заколоченным на зиму. Ни в артистическом фойе, где в центре комнаты на столе разложены старинные женские шляпы. Мертвые черные птицы на белой скатерти. Они оживут, когда начнется спектакль. И эти изящные невесомые сумочки Раневской, в которых она будет хранить червонцы для сцены во втором акте.
Без всех этих подробностей Чехова играть нельзя. То есть, конечно, можно. И играли, и не раз, но обжитая подлинность вещей дает совсем другой настрой. Не реконструкция, не стилизация, но какая-то былая жизнь, которая еще сохранилась в виде шкафа из красного дерева, под завязку забитого книгами, которых давно никто не читал (“Многоуважаемый шкап”), или белого обшарпанного, но очень родного столика с зеркалом (“Столик мой!”), или узкой кровати с металлическим изголовьем, украшенным серебряными шарами (“Я спала в этой детской”). Самое потрясающее, что все это стоит в проходе между первыми рядами и сценой. То есть можно потрогать и шкаф, и стол, и кровать, и даже почитать, о чем писали “Московские ведомости” сто десять лет тому назад, – газета, развернутая на полосе “Происшествия”, лежит тут же в кресле. А на самой сцене ничего, кроме белого экрана.
– Наверное, покажут кино, – предположил фотограф Митя, озабоченный поиском наиболее выигрышных точек для съемки.
Фотографировать “Вишневый сад” трудно. Он весь на расстоянии вытянутой руки. Такие крупные планы возможны только в кино. Такая близость только после многих лет брака. Актеры играют глаза в глаза со зрителями. Мимо проходит Раневская, и я слышу запах ее духов. Кажется, Shalimar? Гаев разыгрывает партию на бильярде, стоящем прямо в центре зала. И мы затаив дыхание смотрим, попадет или не попадет шар в лузу. Игорь Черневич, исполнитель роли Гаева, специально перед спектаклем тренируется, примеривается. Нельзя же оплошать перед зрителями. Гаев – хороший игрок. “Белого дуплетом в угол. Желтого в середину”. Никогда не задумывался над смыслом этой фразы. Что это? Профессиональный жаргон? Бессмысленный набор слов? Тайный пароль в детство? Раневская даже попытается его вспомнить и произнести. И не сможет. Забыла…
“Вишневый сад” – особый сюжет и в жизни Льва Абрамовича Додина. Лет двадцать назад он уже ставил последнюю пьесу Чехова. Тогда его спектакль не стал общепризнанной удачей. Хотя и там чувствовался насыщенный плотный воздух настоящего театра. И был замечательный Фирс (последняя роль Евгения Лебедева). И неожиданная Раневская – рыжая, шалая, пьющая, которая как-то очень по-бабьи жалела и брата своего убогого, и дочку непутевую, и скандалиста Лопахина, и любовника, оставленного в Париже, и всех вокруг. “А я лишь теперь понимаю, как надо любить, и прощать, и прощаться”. Сторонняя строчка Ольги Берггольц рифмовалась с образом, созданным прекрасной актрисой Татьяной Шестаковой. На этой ее бездонной женской жалости весь “Вишневый сад” и держался. А потом тихо сошел на нет. “Кончилась жизнь в этом доме”.
Полтора года назад опять начались репетиции. И снова Чехов. Снова “Вишневый сад”. Первым мне рассказал об этом Данила Козловский. Он – Лопахин, Раневская – Ксения Раппопорт, Варя – Лиза Боярская. Звездный состав.
– Ну что, великая роль. Поздравляю! – обрадовался я.
Данила засомневался.
– Ну, все-таки не главная…
– Ты что? – возмутился я. – У Высоцкого за всю жизнь было только две таких роли – Гамлет и Лопахин. Его крик “Вишневый сад – мой” до сих пор у меня в ушах стоит.
Потом мы еще долго обсуждали, почему про Лопахина вначале Петя Трофимов говорит “хищник”, а в финале – “нежная душа”. Как это примирить? И кто он на самом деле, этот Ермолай Алексеевич? Будущий Павел Третьяков или обычный хам из породы новых русских? И зачем ему Раневская? И почему он не женился на Варе?
Потом, как водится, Данила исчез с концами. И никаких новостей про спектакль до меня не доходило, зато из Петербурга поступали другие новости, одна другой печальнее.
В ноябре 2013-го там прошел Первый международный театральный фестиваль под эгидой МДТ. Имена все были выдающиеся, спектакли знаменитые, билеты нарасхват. Но фестивальная афиша кому-то очень не приглянулась. Особенно спектакль немца Томаса Остермайера “Смерть в Венеции”, к слову сказать, на редкость целомудренный и строгий. Но тут же объявились какие-то разгневанные казаки – главные блюстители нашей нравственности. Ну и, конечно, депутат Милонов. Теперь без него, похоже, никуда. И как символ всей этой тоски – грубая надпись, выведенная чьей-то корявой рукой на входе в театр.
– Уборщица отмыла ее за три минуты, – спешит меня успокоить завлит театра, милейшая Елена Николаевна Александрова. Ей кажется, что историю раздули СМИ. Казаков никто в глаза не видел, свиных голов, якобы подкинутых на служебном входе театра, тоже. А надпись… Ну да, была, но ведь ее быстро смыли.
На самом деле ничего смыть нельзя. И мы это с Еленой Николаевной знаем. Соседство, пусть и мимолетное, такой надписи на фасаде театра, где крупными буквами написано слово “Европа”, не предвещало ничего хорошего. А уже очень скоро пришла другая печальная весть: Додин в больнице. Будет операция. И даже прозвучало тревожное слово “шунтирование”. Значит, сердце.
Потом на банкете по случаю премьеры мы все дружно поднимем бокал за здоровье гениального хирурга Михаила Леонидовича Гордеева. В тот вечер он не смог прийти на “Вишневый сад”. Лев Абрамович объяснил, что причины более чем уважительные: речь шла о сложнейшей трансплантации, о спасении чужой жизни. Какой тут может быть театр?
А я подумал, как вдруг все сошлось в одной пульсирующей точке, в пространстве одной пьесы, написанной сто лет назад тоже врачом и ставшей чем-то вроде главного театрального завещания, которое уже несколько поколений не устают толковать по-своему, открывая в ней новые подробности и бездны. И каждая постановка как кардиограмма: сбои, подъемы, остановки – все видно. Умей только ее прочесть, и сразу поставишь диагноз. Но Лев Додин не кардиолог, не хирург. Он, конечно, прежде всего поэт. У него в руках текст невероятной силы и важности, с которым он обращается очень нежно, но при этом без ложного пиетета: рубанул вначале объяснение Дуняши и Лопахина, выкинул Симеонова-Пищика и прохожего из второго акта, сократил до минимума роль Шарлотты и Епиходова. Никаких театральных фокусов, никакой Дуняшиной тальмочки, никаких романсов под мандолину, которые раньше так любили исполнять народные артисты. И даже “звук лопнувшей струны” у него в спектакле не пугает своей оглушительной громкостью, скорее, он налетает почти беззвучно, как шаровая молния, заставляя замереть в глупой растерянности, но еще не в страхе. До настоящего страха далеко.
Все еще можно исправить, решить, изменить. “Не отчаивайтесь, моя дорогая, выход есть!” – убеждает Лопахин Раневскую. И, кажется, поначалу действительно есть. Этот выход скрывается там, за белым экраном, перекрывшим все пространство сцены. Гаснет свет в зале, и мы его видим: белый-белый вишневый сад. Огромный, нескончаемый, необозримый. Настоящий! Потом я узнал, что таких вишневых садов в Европе почти не осталось. Есть один в Германии и другой в Крыму. В Германии оказалось снимать проще и дешевле. Позвали знаменитого оператора Алишера Хамидходжаева, который уже давно сам к камере не прикасается. За него ее носят другие. Но тут помощников не было. Сроки сжатые, бюджета, считай, никакого. Из одного уважения к Додину Алишер согласился. Снимал все сам, что называется, с рук. Получилось чудесное черно-белое кино, где мелькают кадры со всеми чеховскими персонажами, и даже покойный сын Раневской, бедный утопленник Гриша, тоже там оказался. Сидит на мостках над речкой мальчик в матроске и грустно на нас смотрит. А очень юная Аня (Екатерина Тарасова) хохочет, и улыбается в объектив совсем не старый Фирс (Александр Завьялов). И Раневская (Ксения Раппопорт) в белом платье, похожая разом на всех красавиц прошлого столетья, позирует как заправская модель. Но главное – сад! Додин грандиозно придумал, что вишневый сад – это на самом деле синема-фантом, последняя иллюзия, доставшаяся нам от прошлого века. Там и простор, и красота, и никто не умер, все живы и счастливы. В реальности ничего этого нет, кроме коммунальной тесноты, старых вещей, нудных разговоров про деньги и томительного ожидания, когда же действительно наступит конец.
С этим предчувствием появляется Раневская. Она приехала сюда не жить, а попрощаться. Какими-то двумя-тремя жестами, поворотом головы, медленным взглядом подведенных черным, всегда страдающих глаз Ксения Раппопорт возрождает почти исчезнувший женский тип femme fatale. Она интереснее и значительнее, когда молчит. В немом кино у нее не было бы соперниц. В каких-то ракурсах – вылитая Вера Холодная, в каких-то – Аста Нильсен. Но когда начинает говорить, быстро сбивается на тон капризной, вздорной девочки. Вечной девочки, так и не захотевшей повзрослеть. Принеси кофе, подайте телеграммы, дайте денег… Ключевое слово: “дайте”. Это выходит у нее само собой. Довольно мило, моментами трогательно, но попробуй не подчинись, не дай! Все должны в лепешку расшибиться, лишь бы Любовь Андреевна была довольна. Впрочем, когда случаются обломы, она не гневается, не плачет, а только недоуменно пожимает плечами: “Вчера было много денег. Сегодня почти ничего”. И тут же Яша бросается поднимать рассыпавшиеся монеты. Женщина до кончиков пальцев, живущая минутой, мгновением, а точнее, от одной телеграммы из Парижа до другой. Она готова их предъявлять всему миру в виде самых веских доказательств “несравненной своей правоты”. Какие дачники, какие дачи? Скорей бы обратно в Париж, подальше от всех этих ужасных людей и тягостных воспоминаний!
Кажется, что у каждого из героев “Вишневого сада” припасен вариант своего личного спасения. Точнее, они так думают, что у них он есть: будь то билет на поезд до Парижа, или 15 тысяч, присланных ярославской бабушкой, или место экономки у Рогулиных, или место при губернаторе… Но на самом деле всё это тоже иллюзии, которыми так удобно и легко заслониться от реальности. И только гувернантка Шарлотта, которую играет Татьяна Шестакова, знает наперед, что спасения на самом деле нет. И поэтому больше других леденеет от страха, когда после долгой разлуки оглядывает старый дом, нисколько не радуясь своему возвращению. А потом, в сцене бала, нахлобучив маскарадный цилиндр, она на каком-то диком нерве прокричит, пропоет, прохрипит французскую шансонетку. “Все хорошо, прекрасная маркиза..!” Вначале по-французски, потом по-русски. Но никто ее не услышит, не поймет. Подхватят незатейливый мотивчик и понесутся дальше вскачь в бешеной пляске. “Музыканты, играйте веселее”.
А какой же иллюзион без тапера, без музыки и музыкантов? Чехов так написал, а Додин так поставил, что у каждого тут есть свое маленькое соло: у конторщика Епиходова (Сергей Курышев) – великолепный оперный виолончельный баритон. Слушать его можно бесконечно. И вдруг среди потока обычной епиходовской глупости – цитата из Бокля: “Кто не знает мрака, тот никогда не увидит свет”. У горничной Дуняши (Полина Приходько) – пронзительное контральто деревенской сирены. Она тут отвечает за музыкальное сопровождение. И не только когда что есть мочи лупит по клавишам старого пианино, но и когда, громко стуча каблуками, проносится туда-обратно. Лакей Яша (Станислав Никольский) – тенор, дающий петуха при одном только слове “Париж”. “Елена Андреевна, возьмите меня с собой!” – это даже не мольба, а вопль последнего, предсмертного отчаянья, от которого кровь стынет в жилах. А Варя (Елизавета Боярская) – это, конечно, сопрано. Очень русское по тембру. Грудное, душевное, страстное. Боярская – это Нетребко в драме. Настоящая героиня на все главные роли русского классического репертуара. Но Варя в “Вишневом саде” не главная. Она страдалица со сварливыми интонациями будущей старой девы. Лопахин – ее великая любовь, ради которой готова она на любую муку, даже на смерть. Только бы видеть, как он сидит, развалившись, в своих желтых ботинках. Только бы слышать, как он разливается соловьем про ненавистные дачи и дачников. Только бы быть рядом, пусть непризнанной, нелюбимой, глубоко спрятавшей свою муку за простонародным платком и сердитым взглядом исподлобья, но рядом… Если в этом спектакле кто-то и любит, то это она.
…Ну а теперь выход Лопахина. Через весь зрительный зал он идет к сцене, где испуганной стайкой застыли обитатели вишневого сада. В верблюжьем пальто, как у Марлона Брандо в “Последнем танго в Париже”, в шляпе, как у Делона в “Самурае”. Расступитесь все. Первые секунды проходят словно в рапиде, реплики Гаева доносятся, как сквозь обморок или отходящий наркоз: я так устал, ничего не ел с утра, керченские сельди… И вдруг звук становится резким и пронзительным, как пожарная сирена. Это уже Лопахин кричит, ликует, пляшет, празднует. Это его победа! Отчаянное пьяное торжество, которое ни один человек не захочет с ним разделить. И даже Варя не швырнет (как в ремарке у Чехова), а лишь молча протянет ему ключи от дома. На, бери, владей! И меня в придачу.
Я вдруг ловлю себя на мысли, что свой монолог Данила Козловский исполняет как рэп. В том же состоянии шаманского транса, почти без пауз, очень быстро, очень четко, с теми же ритмическими сбоями и подъемами, с тем же неимоверным, нечеловеческим напором, от которого закладывает уши и начинает колотиться сердце. Наверное, только так надо играть Чехова в XXI веке, если хочешь, чтобы историю про “Вишневый сад” досмотрели до конца. А потом, откричав, отплясав и отскандировав свое, Лопахин без сил рухнет с ногами на кровать и затянет любимую песнь американских и русских мафиози “My way”. И уже непонятно, смеяться этому или ужасаться, но что-то мне подсказало, что, окажись Фрэнк Синатра или Иосиф Кобзон в зале МДТ, они бы одобрили эту интерпретацию своего хита в исполнении Данилы Козловского.
Я не упомянул еще одного персонажа “Вишневого сада”, который очень важен для понимания спектакля. Это студент Петя Трофимов (Олег Рязанцев). Наверное, это самая сложная роль в пьесе. Одни бесконечные монологи, чей утомительный пафос всерьез играть уже невозможно, а не всерьез получается дешевая клоунада. Додин большую часть текста сократил, оставив главное – чеховский благородный тон. Петя – сын дворянина. И это говорит о нем больше, чем надоевшая кличка “вечный студент” или “облезлый барин”. Высокий благородный лоб, близорукий растерянный взгляд, звук голоса, совсем не актерский, не поставленный, очень правдивый, как будто даже не очень вписывающийся в идеально разработанную партитуру спектакля, но без тихого голоса Рязанцева “Вишневый сад” непредставим. Он лучше других понимает, что будет, что всех ждет и кто такой на самом деле Ермолай Лопахин. Недаром тот все норовит ему сунуть денег, одарить или подкупить. Но Петя их не возьмет. “Что с того, что ты покоришь весь мир, но потеряешь душу свою”. А Петя, каким его играет Рязанцев, – это и есть душа, уходящая натура, последний интеллигент на русской сцене.
Финал спектакля начнется под звук бьющихся биллиардных шаров. Сад вырубают. Партия окончена. Последние распоряжения, объяснения, слезы. Последняя попытка Лопахина и Вари обмануть судьбу. Ничего у них не получится. Двери заперты, чемоданы собраны. Снова в путь. Только перед тем как проститься уже навсегда, Раневская попросит жалко, именно попросит, а не прикажет, как привыкла, показать фильм про вишневый сад. Но Лопахин, насмешливо глядя ей в глаза, вручит им с Гаевым по заготовленной бобине с пленкой. Иллюзион закрыт. Больше кино не будет.
Все уйдут. Останется только забытый Фирс. Он будет долго ходить, натыкаясь на мебель, будет бессильно дергать за ручки запертых дверей, пытаясь найти выход. Отчаявшись, он начнет колотить по белому полотнищу экрана. “Человека забыли!” И вот тут настанет самый страшный момент, ради которого, похоже, и был задуман и поставлен спектакль “Вишневый сад”. Кулак Фирса упрется во что-то твердое, непробиваемое. А когда спустя мгновенье экран рухнет, как сдутый парус, похоронив под собой старого слугу, мы увидим глухо заколоченную стену во всю ширь сцены. Стена-загон, стена-тюрьма, стена-катастрофа, заслоняющая свет и убивающая жизнь. Метафора истории и портрет сегодняшнего Чехова.
…И снова застрекочет камера, снова начнется кино. Только там уже не будет цветущих деревьев, а лишь группа людей в одинаковом исподнем будут медленно идти босиком, глядя друг другу в затылок. В какой-то момент они застынут на фоне стены, чтобы мы еще раз увидели их лица. Это и будут поклоны. Прощай, мой любимый, мой прекрасный вишневый сад! Моя молодость, моя жизнь. Прощай!
…На банкете после премьеры Ирина Прохорова в своем тосте вспомнила, как однажды в Новосибирске, где театр гастролировал при поддержке Фонда Михаила Прохорова, снежная буря застала ее и Додина в аэропорту. Рейс безнадежно задерживался, но, как это часто бывает в таких ситуациях, разговор получился самый неформальный и откровенный. В частности, много говорили о том, что настоящим художникам дан дар не только объяснять настоящее, но в каком-то смысле моделировать и предсказывать будущее.
– И вот у меня к вам только одно пожелание и просьба, – продолжила в шутливом тоне Ирина Дмитриевна, – не могли бы вы поставить, Лев Абрамович, что-нибудь радостное, оптимистическое, веселое. Может, и жизнь наша тогда бы стала веселее?
Додин смутился. Ему бы не хотелось огорчать Ирину Дмитриевну, но, увы, ничего радостного пока что-то не ставится; может быть, когда-нибудь…
…Когда мы выходили из театра, увидели, что половина улицы Рубинштейна оцеплена. Кто-то позвонил в полицию и сказал, что подложена бомба. Спектакль отменять не стали. Просто обыскали театр. Все чисто. Но наряд полиции выставили. На всякий случай.
2014Кто сыграет Королеву Инна Чурикова
Фоторепортаж с фотосессии
Для меня она и есть душа русского театра, того самого театра, который достался нам в наследство от Ермоловой, Стрепетовой, Комиссаржевской. Именно Чуриковой суждено было стать их главной преемницей. И даже в том, что с молодых лет ее принято было уважительно называть по отчеству – Инна Михайловна, – тоже видится продолжение исконно российской театральной традиции возводить любимую актрису на пьедестал, окружать почтением, относиться как к высшему существу. Можно бесконечно рассуждать об особенностях русского пути и духовности, а можно один раз увидеть Чурикову на сцене в “Оптимистической трагедии” или в фильмах “Васса” и “Мать” – и все понять про русскую революцию. В ней есть этот дар укрупнять характеры, играть эпос там, где другие видят одну только скучную рутину и быт. И еще Чурикова очень зажигательная артистка, одинаково неотразимая и в комедии, и в исторической драме, и в фарсе. Последнее время ее специализацией на сцене стали королевы – Алиенора в “Аквитанской львице”, Елизавета II в “Аудиенции”. Чей это больше выбор – самой актрисы или ее мужа, замечательного режиссера Глеба Панфилова, соавтора большинства ее киношедевров – трудно сказать. Их имена нерасторжимы. К тому же мало кто из режиссеров так стремится, чтобы его жена во всех ролях была Королевой.
Ну какая же эта мука! Все эти тиары, парики, шлейфы, мантии… Команда парикмахеров, визажистов, стилистов. Их тянущиеся руки с иголками, расческами и кисточками. Их ласковый шепот: “Сейчас подколем, подкрасим, ушьем…” Но в каждой интонации – тревога и страх. А вдруг ничего не получится? И все усилия пойдут прахом. Это же театр! Никто ничего не гарантирует: ни имя, ни слава, ни список предыдущих ролей и заслуг. На сцене она все равно будет одна, как Королева, когда та выходит на балкон Букингемского дворца. Потом появляется родня, создавая впечатление оживленной массовки. Но вначале это всегда одинокая фигура в шляпе и с сумочкой, застывшей на полусогнутом локте. Так и стоит на своем королевском посту уже шестьдесят пять лет. Несгибаемая, неизменная, неподвластная ни людям, ни модам, ни сезонам. Один из главных символов нашей цивилизации, точнее того, чего эта цивилизация может достичь, если хочет таковой называться.
Сходство и различия
Перешагнув девяностолетний рубеж, королева Елизавета II стала самой популярной фигурой в новейшей истории Великобритании. Почему? Кажется, она была всегда. Милая синеглазая дама со старомодной прической, которую она не меняет с конца 1950-х годов. На всех почтовых марках, на всех фунтах стерлингов, во всех сувенирных лавках – ее лицо. Иногда в профиль, чаще анфас. Лицо учительницы старших классов, доброй, но внешне невозмутимой и сдержанной бабушки, леди до самых кончиков пальцев с безупречным и обязательно бесцветным маникюром. Ничего яркого, кричащего, вызывающего! Никаких откровений ни с кем, никаких эмоций на публике. Лишь раз в год на королевской трибуне Аскота она позволяет себе быть самой собой. Но это скачки! Ее страсть, ее несостоявшаяся судьба наездницы, азарт амазонки, который она подавила нечеловеческим усилием воли, добровольно заковав себя в лед вечного церемониала и public face благообразной леди, матери нации, бабушки двенадцати внуков. Сколько там у нее этих титулов? Не сосчитать! А в последние годы появился еще один – самой популярной героини телевизионных сериалов, театральных постановок и кинобайопиков. Вслед за Хеллен Миррен все артистки в возрасте ринулись играть Королеву. Это же так престижно – предстать в образе действующей монархини! Чтобы зрители в зале или у телевизоров предались оживленной дискуссии: похожа или нет? Она или не она?
У всех своя Королева. Тем интереснее сравнивать различные версии, примерять ее шляпы и копии драгоценностей, манеру подавать руку в перчатке, улыбаться одними уголками губ, произносить какие-то протокольные банальности нежным, заботливым голосом, а главное – держать дистанцию. Всегда держать королевскую дистанцию, ни на секунду не забывая, что одиночество Королевы – это не просто ее пожизненный статус, а судьба.
Два года назад мы говорили с Иваном Панфиловым о том, что бы могла сыграть его мама, Инна Михайловна Чурикова, у которой давно не было новых ролей. Перебрали классику, ничего интересного: или уже поздно, или все уже было. Нужна бомба, событие, то, что в Москве никто никогда не видел! Тут я вспомнил про “Аудиенцию”, которая тогда шла в Вест-Энде. Сюжет пьесы был построен вокруг еженедельных встреч королевы с ее премьер-министрами. За время правления их у Елизаветы было тринадцать душ, из которых только одна женского пола, Маргарет Тэтчер. Теперь, впрочем, к этому списку прибавилась еще одна дама – Тереза Мэй.
Я не был до конца уверен, что это то, что нужно – сплошные разговоры про политику и английские дела, – но Ивану идея показалась перспективной. Потом, правда, когда выяснилось, что билет на “Аудиенцию” с Хеллен Миррен стоит 150 фунтов, он как-то к ней немного охладел. К тому же билетов в кассе не было. Спустя какое-то время, на радость театралам, “Аудиенцию” стали показывать в кинотеатрах в формате 3D: все видно и слышно лучше, чем в театре. Миррен в жемчугах и дрессированные корги, бегающие по сцене, произвели на Ивана благоприятное впечатление.
Тогда он решил действовать в единственно правильном направлении. Во-первых, надо было купить права на пьесу. Во-вторых, найти подходящего переводчика, знающего все нюансы королевского быта и жизни. В-треть-их, убедить папу – выдающегося режиссера Глеба Анатольевича Панфилова, – что роль Королевы – это то, что необходимо сыграть Инне Чуриковой. Мнение самой Инны Михайловны на этот счет, разумеется, тоже было немаловажным, но ключевые решения в этой семье принимает один человек – Глеб Панфилов.
После “Венценосной семьи”, которую Панфилов начал снимать задолго до канонизации и нынешнего истерического бума вокруг Романовых, он прикипел душой к монархической теме. И фигура английской королевы, которая, на секунду, приходится внучатой племянницей последнему российскому императору, была ему не чужой.
Что касается Инны Чуриковой, то в ее актерской биографии уже было две королевы: Гертруда в “Гамлете” и Алиенора в “Аквитанской львице”. Ей знакома эта особая порода женщин, призванных царить на сцене и в жизни. Она сама такая. “Королевство на стол” – это могла бы быть ее фраза, хотя в бесконечном списке ее ролей нет юной максималистки Хильды из “Строителя Сольнеса”. Но будьте уверены, что стоит ей это произнести, как “королевство” будет обеспечено по первому разряду. Об этом, слава Богу, есть кому позаботиться.
«Королевство на стол»
Инне Чуриковой повезло, как мало кому. История мирового театра и кинематографа знает немало примеров прекрасных союзов режиссера и его актрисы. Но случай Чуриковой и Глеба Панфилова во всех смыслах исключительный, позволяющий говорить об уникальной модели творческого тандема, когда два равновеликих и равноправных художника обретают в искусстве друг друга некий, если угодно, высший смысл.
Уже само сочетание их имен слилось в понятие идеальной пары на экране, на сцене и в жизни: говорим Панфилов, подразумеваем Чурикову, и наоборот. При этом каждый из них вполне независимо и успешно существует в своей профессии. Особенно она, столько лет премьерствуя на подмостках Ленкома. Чурикова из тех актрис, которым надо играть часто и много. Обычный рацион столичной дивы – два-три спектакля в месяц – не для нее. Отсюда ее антрепризные авантюры и телевизионные сериалы последних лет. Ей надо много пространства, чтобы было где развернуться. “Эх, жаль, что королевство маловато!” Вечная обида таланта на мизерный масштаб окружения, озвученная когда-то Фаиной Раневской, не понаслышке знакома и Инне Михайловне.
Как часто на моей памяти Чурикова была больше своих ролей! Сваха в “Женитьбе” или жена “врага народа” Наталья Герасимович в телесериале “В круге первом” по Солженицыну. Там хочется смотреть только на нее, ловить мгновенную смену выражений глаз, интонаций, оттенки состояний, чувств. Ее крупные планы завораживают. И забываешь, что роли-то вовсе не главные…
И невольно думаешь: ну почему все так несправедливо устроено в нашей жизни! Вот про кого надо было снимать фильм или ставить спектакль! На самом деле этот вздох почти сожаления сопровождает любое появление Чуриковой. Поначалу в ней ведь видели только “актрису эпизода” и ничего, кроме эпизодов, не предлагали. И лишь Глеб Панфилов разглядел в ней героиню. Главную героиню своего кинематографа, вначале подарив ей Таню Теткину в своем прекрасном фильме “В огне брода нет”, а потом – грандиозную роль Паши Строгановой в “Начале”.
Я хорошо помню обложку журнала “Советский экран”, поделенную пополам: в одной половине был черно-белый Иннокентий Михайлович Смоктуновский в роли Чайковского, а в другой – Инна Чурикова в “Начале”. Лучшие актеры 1970 года. Главные лица уходящего десятилетия, главные герои советского кино – великий композитор и великая героиня Франции, которую Инна Чурикова так и не сыграла, хоть и была для нее предназначена. С “Жанной” история мучительная и печальная. Панфилов переписал сценарий несколько раз, были сделаны прекрасные пробы, и подобраны актеры, и даже, кажется, найдена натура. Не дали, не позволили, закрыли. И в этом тоже был знак времени: не нужны были героини, готовые взойти на костер ради спасения других. Даже спустя столетия Жанна казалась опасной. Ведь она слышала то, чего не дано было слышать другим. И могла позволить себе говорить с королями на равных. Этого простить не могли ни Жанне, ни самой Инне Чуриковой. Она вызывающе отличалась от тогдашнего артистического контингента “Мосфильма”. Говорят, что ее имя даже внесли в специальный черный список лиц, кого ни под каким видом нельзя утверждать на главные роли. Но и этот бюрократический запрет они с Панфиловым преодолели, доказав, что над их любовью и талантом никакое Госкино не властно. А потом были и “Прошу слова”, и “Васса”, и “Тема”, и “Мать”, фильмы-этапы, фильмы-события, по которым можно изучать всю историю советского кино 1970-х – начала 1980-х годов.
Сейчас, когда их пересматриваешь, больше всего поражает их вдумчивая обстоятельность. От зоркого и строгого взгляда режиссера не укроется ни одна даже самая второстепенная подробность или психологическая деталь. Так раньше ставили в Художественном театре, причем даже не последователи, а основоположники. Та же мера серьезности, проникновения, тщательности. Русская реалистическая школа, не признающая верхоглядства, случайности, небрежности. Во время съемок “Венценосной семьи” в Александровском дворце музейщики специально приходили поглядеть на то, как Панфилов восстанавливал интерьеры и быт царской семьи. Кстати, интерьеры эти сохранились в неприкосновенном виде со времен его съемок и теперь туда водят экскурсии – любоваться на весь этот царский уют, укрывшийся от революционных бурь кремовыми шторами и кружевными гардинами с императорскими орлами.
Панфилов любит этот вещный, плотный мир в кадре, который хочется потрогать руками, который буквально осязаешь на ощупь и на вкус, так все здесь реально, правдиво, без обмана! Так было в его фильме “Васса”, поразившем неожиданными изгибами модерна и вполне себе стриндберговскими страстями в провинциальных купеческих интерьерах. Так было и в “Теме”, где впервые на советском экране ожил интеллигентский быт семидесятых, с его культом дефицитных книг, диссидентских кухонных разговоров и музейной старины, в которую тогда уходили, словно в скит, от мерзостей советской жизни. Так было и в эпохальной “Матери” – фильме по хрестоматийному роману М. Горького, где, кстати, впервые мелькнул предок Елизаветы II в образе обаятельного, в меру упитанного, розовощекого полковника в окружении жены и прелестных детей-малюток, позирующих для придворного фотографа. Собственно, истинное предназначение Панфилова – быть художником-историком, чувствующим и слышащим время как нечто материальное, что можно восстановить, удержать, разглядеть во всех мелочах под режиссерским микроскопом перед тем, как поставить окончательный диагноз. Но чтобы это время по Панфилову стало реальностью большого искусства, ему нужна Инна Чурикова.
Я помню их “Гамлета” – первую театральную работу Панфилова, где ей досталась Гертруда. Этот мучительный, помпезный спектакль, задыхающийся от нагромождения слишком красивых декораций и чрезмерной режиссерской фантазии. И только она, эта безумная королева в огненно-рыжем парике и развевающихся алых одеждах, оставив далеко позади всех, как олимпийская чемпионка, рвалась к победе с такой отчаянной отвагой, что остановить ее было невозможно. Ради спасения спектакля, на который было много поставлено, Чурикова готова была сыграть всех разом: и Гамлета, и Клавдия, и Офелию. Почему-то я уверен, что это было бы гениально. Не ее вина, что ни Панфилов, ни Шекспир тогда ей не дали такую возможность.
С самого начала в Ленкоме у нее было особое положение звезды. Но первый спектакль с ее участием – легендарный “Тиль” – был не про нее, да и второй – “Иванов” – впрочем, тоже. Очевидно, что Марк Захаров выстраивал свой театр с упором на мужской состав труппы, а Чурикова была чужая собственность, которую он заполучил, как “Джоконду” из Лувра, разместив у себя на сцене. Вот, любуйтесь, теперь она у меня!
Мы и любовались. И на ее Неле, будто сошедшую со старинных голландских полотен, и на чеховскую Сарру (до сих пор слышу, как на злые слова Иванова – Евгения Леонова: “Ты скоро умрешь!” – она откликалась кротким: “Когда?”). Долгие годы это были единственные роли Чуриковой в Ленкоме. Хотя всем было понятно, что вокруг такой актрисы можно выстроить театр. Но вряд ли стоит сейчас задаваться вопросом, почему этого не произошло. И кто виноват. Играла то, что давали. На судьбу не жаловалась. Да и грех жаловаться! Кому же больше повезло, чем Чуриковой? Тем более что были у нее в свой срок и Аркадина в “Чайке”, и Филумена в “Городе миллионеров”, и Мамаева в “Мудреце”, и потрясающая Антонида Васильевна в “Варваре и еретике” по “Игроку” Достоевского… Но, по-моему, только на одном спектакле режиссура Захарова абсолютно совпала и даже в какой-то момент подчинилась актерскому дару Инны Чуриковой. Это случилось в “Оптимистической трагедии”. Грандиозный и недооцененный спектакль, а ее Комиссар – грандиозная и недооцененная роль. Там в финале на всех героях спектакля были белые покаянные рубахи: и на красных матросах, и на убитых ими царских офицерах, и на анархистах, и на чекистах, и на Комиссаре. Она была и главной виновницей этой трагедии, и ее жертвой. И этот безмолвный хор смертников, идущий на казнь с женщиной во главе, мог поведать о нашей революции больше, чем вся трескучая и многословная пьеса Вишневского. Но спектакль 1986 года как будто чуть разминулся со своим временем, опередив его, а потому и не стал таким же эпохальным событием, какими были “Юнона и Авось”, а еще раньше “Тиль”.
Примерки у Королевы
До “Аудиенции” остается немного времени. Позади долгие и мучительные переговоры с автором, англичанином Питером Морганом. Он востребованный и модный драматург, опытный сценарист, открывший свою “золотую жилу” и успевший заработать кучу денег на Ее Величестве. “Аудиенция” прошла бессчетное количество раз в Лондоне, потом ее перенесли на Бродвей. Хелен Миррен, в какой-то момент утомившись изображать шесть раз в неделю королеву, отдала свою роль другой титулованной звезде и тоже “dame” – Кристин Скотт-Томас. Я был в Лондоне, когда вся подземка и Вест-Энд были завешены ее портретами в королевской тиаре и мехах. Особого сходства я не обнаружил, но не в нем дело. У Моргана главная ставка – на стремительном, как игра в пинг-понг, обмене репликами, на безошибочной реакции партнеров, на мгновенных переодеваниях и трансформациях: вот королева-старушка устало слушает Джеймса Кэмерона, годящегося ей по возрасту во внуки; а вот она, еще совсем юная, смущаясь, принимает своего первого премьера Уинстона Черчилля; и спустя мгновения она уже во всеоружии своего монаршего опыта дает деликатные наставления непреклонной Маргарет Тэтчер.
Следить за всеми этими переходами и диалогами – как читать учебник по новейшей английской истории. С одной стороны, это, конечно, довольно специальное удовольствие, рассчитанное на любознательных англоманов. С другой – надо очень постараться, чтобы увлечь тех, кто не испытывает повышенного внимания к английской монархии и взаимоотношениям Елизаветы с ее многочисленными премьерами. Не рассчитывая на пытливый интерес наших зрителей к этой теме, Глеб Панфилов сделал ставку на “русский след” в истории правления Елизаветы II, попытавшись с помощью Моргана внести новые акценты в пьесу. Тут будут и Сталин, и Гагарин, и Горбачев, и перестройка в СССР, и первый исторический визит королевы в Россию в 1994 году. Все это не просто темы для обсуждения на очередной аудиенции в Букингемском дворце. Это по-своему захватывающая театральная сага о том, как хрупкая женщина, оказавшись волею судьбы в самом эпицентре Большой Истории, умудрилась там продержаться больше шестидесяти лет.
Почему именно она? Как ей это удалось? На этот счет существуют разные версии и предположения. Полагаю, что есть свой ответ и у Инны Чуриковой. Ей должен быть близок сам тип монаршего самосознания, который во многом определяется врожденным чувством долга, глубинной верой в собственное предназначение. Причем верой без всякой кликушеской истовости или показного фанатизма, а скорее с насмешливой и усталой мудростью женщины, много чего повидавшей и пережившей, которая умеет демонстрировать не только безупречные манеры в самых разных жизненных ситуациях, но прежде всего здравый смысл.
У Чуриковой с Елизаветой тоже есть несколько очевидных совпадений: один брак и одна любовь на всю жизнь, верность собственному призванию, страсть к садоводству и, наконец, нежная привязанность к собакам породы корги. Разве мало?
С Панфиловым они завели двух собачек Лесли и Сюзи, как только на горизонте замаячила “Аудиенция”. Еще было непонятно, состоится спектакль или нет, а они уже были – два рыжих гладкошерстных создания с умными лисьими мордочками, словно сбежавшие с домашних фотографий, где Елизавета позирует в окружении своих четвероногих любимцев. Вот уж истинно королевская порода: такт, выдержка, деликатность. За все время утомительной многочасовой фотосессии в Театре Наций мы ни разу не услышали их лая. Ни разу не подали голоса, не испортили ни одного кадра, не помяли ни одного платья. Вели себя скромно, достойно, внося своим энергичным присутствием ту ноту обаятельной непосредственности, без которой театральная история про Королеву была бы, наверное, слишком чопорной и даже скучноватой.
А тут собачки вихрем носятся, бриллианты от поставщика Ее Величества ювелирного дома Garrad сверкают, целая бригада костюмеров, гримеров и одевальщиц суетится, готовясь к первому кадру, где Королева должна предстать в полном коронационном облачении.
В зеркалах фойе отражается вся наша съемочная массовка, застывшая в оцепенении перед этим бриллиантово-парчово-горностаевым величием, созданным талантами, усилиями и бессонными трудами целой команды профессионалов экстра-класса.
– Нет, все-таки это качество, – довольно произносит Глеб Панфилов, буравя колючим, придирчивым взглядом фигуру жены, закованную в королевские одежды.
– Свет должен быть более холодным, – дает он распоряжение фотографу.
На несколько часов Панфилов будто бы вернулся в привычную атмосферу съемочной площадки. Он уже знает, каким будет этот его “фильм” про Королеву. У него уже все построено, продумано, отрепетировано, сложилось в некий абсолютно идеальный кадр, который может снять только он, а сыграть там может только она, его Актриса, его Инночка.
На самом деле это такое счастье – видеть их обоих вместе, следить, как он исподволь, незаметно режиссирует ее мизансцены, выбирает и ставит правильный свет, подбадривает ее, давая ощущение надежности, защищенности, уверенности. И правда, легко ли просидеть пять часов подряд под жгучими прожекторами во всем этом неподъемном, душном прикиде? Но при этом ни единой жалобы, ни вздоха, ни каприза – ах, устала! Свою королевскую смену Чурикова отслужила, как солдат на посту: от и до. Улыбалась, когда надо, махала рукой в перчатке перед воображаемой толпой, примеряла алые шляпы в тон ее пунцового английского костюма, подкармливала собачек, чтобы они не скучали.
…И только когда гримеры с осторожностью сняли с нее корону – точную копию той, которой Елизавету II короновали 2 июня 1953 года, – Инна Михайловна позволила себе вздохнуть.
– Ну какая же она тяжелая!
2017Двойной эспрессо Михаил Барышников
Мне сказали, что этот мой текст он нашел “манерным”. Наверное, так и есть. К тому же его страшно рассердило, что я рискнул обнародовать сам факт нашей встречи. Как известно, с российскими журналистами Михаил Барышников дал зарок никогда не встречаться. Но это и не было интервью в обычном смысле слова. Я почти ни о чем его не спрашивал. Просто была встреча в кафе в Париже, на Ситэ. И недолгий разговор про ту, которую он называл “красавицей-вороной”, кто научил его сочинять музыку, кто был последним романтическим поэтом Франции. Она была магической женщиной в черном, пленившей его своим голосом, стихами, песнями. Барышников даже решил выучить французский, чтобы понять, о чем она поет. Речь – о великой Барбаре́. Мы проговорили час. Кажется, впервые Барышников говорил о ней по-русски. Но в этой истории так много всего открылось, столько было горечи и боли в его словах и интонациях, что не написать о нашей встрече я не мог. Ну и, конечно, о нем, о Михаиле Николаевиче Барышникове, гениальном артисте, человеке невероятной воли, таланта и мужества. Так получилось, что с ним тоже много всего связано.
К двери его грим-уборной в Театре Шайо был прикноплен обрывок бумаги, на котором небрежно от руки было выведено Misha B. Конечно, можно было постучать и войти, но эта простая мысль почему-то никому не приходила в голову: а вдруг занят, вдруг помешаем? Неудобно. Притом что со мной были люди ему не посторонние: художник Владимир Радунский, его близкий приятель, специально прилетевший из Рима, режиссер Дмитрий Крымов, постановщик спектакля “В Париже”, где Барышников сыграл главную роль. Но что-то тормозило, мешало, заставляя нас делать вид, что это самое что ни на есть нам привычное занятие – вот так стоять и ждать, когда позовут.
Дверь распахнулась, кто-то незаметный, неважный прошмыгнул мимо, и я увидел его, стоящего спиной к зеркалу, уже готового к нашему шумному вторжению. Взъерошенно-усталый, с бледным, каким-то смытым лицом, на котором своей отдельной жизнью жили зоркие, строгие, грифельно-серые, неспокойные глаза, знакомые мне по множеству фотографий и фильмов.
Меня представили. Он кивнул. Вполне дружелюбно. Протянул руку, бледную и податливую, с набухшими венами молотобойца под закатанным рукавом белой рубашки. Терпеливо выслушал мои неуклюжие комплименты. Спектакль мне понравился, и я, как мне показалось, звучал вполне искренне, но ничего искрометно-находчивого не выдал и никакого интереса в его глазах не прочитал. Только настороженность и усталость, слегка прикрытые ироничной улыбкой. За столько лет триумфов он привык, что люди говорят ему разные приятные слова. Ну, спасибо! И вам спасибо. И всем спасибо… Аудиенция окончена, можно расходиться. Он перебросился парой шутливых фраз с Димой, что-то сказал Володе. Его ждали на служебном входе, и он торопился. Спустя какое-то время я увидел, как он садится в такси, приветливо помахав нам белой панамкой, зажатой в руке. Получилось очень изящно и как-то по-детски мило. Прощальный жест с палубы отплывающего корабля.
– Я однажды видел, как за его машиной рванула целая стая парижских байкеров, – вдруг вспомнил Крымов, провожая взглядом удаляющееся такси.
– Как это было?
– Он спускался по лестнице, здесь, перед Шайо. Вдруг по толпе прошелестело: “Барышников, Барышников”. И тогда, как по команде, группа парней бросилась к своим мотоциклам и устремилась за его машиной в погоню.
– И что они потом сделали?
– Ничего. Просто ехали рядом, сопровождали почетным эскортом.
– Как короля?
– Как короля.
Сейчас всех мало-мальски приличных танцовщиков принято величать “королями танца”. Мой давний знакомец, выпускник экономического факультета ГИТИСа, а теперь один из самых успешных театральных продюсеров Сережа Данилян так назвал свое шоу, которое катает по всему миру. Оно пользуется неимоверным успехом. Но в балетном мире знают, что король может быть один. Все остальные – принцы. И это, конечно, он, Михаил Барышников, Михаил Николаевич, Миша, как его до сих пор с фамильярной нежностью называют поклонники, друзья и балетные критики. Легенда, звезда, мировая знаменитость, один из немногих русских, прочно вошедших и в пантеон великих, и в западное подсознание (там говорят “балет” – подразумевают “Барышников”). Никто из наших артистов не достиг там таких вершин популярности, известности, всепроникаемости, таких гонораров и такой вселенской любви. Да, он уже давно не танцует классику, да, в январе 2012 года ему исполнилось шестьдесят четыре года, да, он перенес несколько тяжелых операций на колене, после чего не то что танцевать, а передвигаться без палки не очень-то полагается. Но он по-прежнему выступает, гастролирует. Почти каждый сезон у него новые спектакли. И одно его имя на афише способно гарантировать аншлаги и толпы у артистического входа. Причем это не “чёс” по провинции с воспоминаниями о былых заслугах, не сомнительные ветеранские “гала-концерты” в расчете на ностальгические всхлипы и вспомоществование меценатов, а серьезные, оригинальные и абсолютно некоммерческие проекты без малейшего привкуса нафталина. В нью-йорском Центре искусств, который Барышников открыл после того, как распустил свою труппу ОАК (White Oak Dance Project), все время что-то происходит, какая-то очень интенсивная жизнь: новые коллективы приезжают и уезжают, постоянно мелькают молодые лица, проходят авангардные перформансы, устраиваются однодневные выставки и мастер-классы. Кого-то Барышников спонсирует, кому-то предоставляет площадку, с кем-то вступает в более длительные профессиональные отношения. Не начальник, не звезда, не гуру – обычный труженик, работяга. Собранный, энергичный, доброжелательный.
Про него рассказывают, что в любом углу он может расстелить коврик, чтобы проделать свой ежедневный тренинг – хитроумную комбинацию из балетного экзерсиса и йоги. Юные артисты, случайно забредшие в репетиционный зал, вначале пугались при виде живого Барышникова, выполняющего какие-то пассы и телодвижения в ношеных трениках. Потом привыкли. У себя в центре он может запросто заглянуть к кому-нибудь на мастер-класс или лекцию и, если нет свободных мест, усесться на пол рядом со студентами. И будет очень возмущаться, если кто-нибудь попытается уступить ему свое место. А если надо что-то переставить на сцене, всегда первый бросится помогать рабочим.
Дима Крымов вспоминал, как однажды на репетиции ему понадобился скотч. Барышников не понял: “О, у меня дома есть отличный, недавно подарили. Я обязательно принесу”. Дима пояснил: речь не о виски, а о клейкой ленте. Барышников тут же где-то ее раздобыл, а на следующий день и виски принес. Обещал же!
И все было бы замечательно, если бы не одно обстоятельство: Барышников никогда не общается с российскими журналистами. Какие только ходы ни предпринимались, какие связи ни задействовались – все напрасно. Серые глаза становятся ледяными и невидящими. Рот сжимается в презрительную щель, на лице проступают сразу все шестидесятилетние морщины. Все знают: соваться к нему с просьбой об интервью бессмысленно. Отошьет так, что мало не покажется.
Что это? Нежелание подпускать к себе тех, кто кормится за счет чужой жизни и славы? Опасения, что слова его будут искажены или, того хуже, перевраны? А может, просто застарелый страх, живущий в нем со времен разных отделов кадров, ЖЭКов, ЖАКТов и прочей совковой гэбни, под присмотром которой он прожил свои первые двадцать семь лет? Я не знаю. Могу только предположить, что в его жизни могла быть какая-нибудь страшная клятва, которую взял с него кто-то очень умный и знающий и которую он еще ни разу не нарушил. А может, дело в том злополучном письме, подписанном известной балериной, его партнершей, которое он получил через несколько месяцев после того, как остался. Там были четкие заверения и гарантии, что если он вернется в СССР, то будет немедленно прощен и получит все, что пожелает. Он тайком покажет это письмо Майе Плисецкой, тогда гастролировавшей в Нью-Йорке. “Это КГБ, Миша, – скажет Майя Михайловна, хорошо знакомая с почерком головной организации. – Они тебя убьют”. С тех пор никаких контактов с незнакомыми людьми из Союза, никаких политических заявлений, никаких диссидентских компаний. Жизнь очень закрытого человека, круг интересов которого ограничен чистым искусством.
Впрочем, с западными журналистами Барышников общается. Нечасто, но все же. А в 1986 году даже выпустил в качестве приглашенного редактора новогодний номер французского Vogue. Так что журнально-газетный жанр ему совсем не чужд. И к Ларри Кингу он ходил на программу. И к Чарли Россу. Словом владеет вполне. И даже лучше многих балетных. Но только не с бывшими соотечественниками из числа пишущей братии. В какой-то момент я это понял и попытки встретиться с ним оставил. Да, собственно, что я такого хотел услышать, чего бы не знал? Вся жизнь Барышникова последних сорока лет расписана по дням, месяцам и сезонам. Его увлечения, его роли, его женщины, среди которых было несколько эпохальных див, – все это такой длинный роман, который при желании можно самому пересказать.
Я обязательно бы начал с Первого конкурса артистов балета. До сих пор вижу его Корсара в чалме с пером, победительно рассекающего воздух. Или как он потом из рук Галины Сергеевны Улановой получал Гран-при. Как завидовал я тем, кто мог позволить себе смотаться на один вечер в Ленинград, чтобы посмотреть его в “Дон Кихоте” или “Сотворении мира”. И как в августе 1974 года у себя на даче в Болшеве, сквозь все помехи и глушилки ловя “Голос Америки”, я услышал ликующие интонации Александра Гольдберга из Вашингтона: Барышников остался, он скоро будет в США, мы скоро его увидим… И такая тоска вдруг подступила к горлу. Все-таки остался! Значит, мы его больше никогда не увидим. А потом был подробный репортаж все по тому же “вражескому голосу” о “Жизели” в Метрополитен, где его партнершей стала Наталья Макарова. И когда на финальных поклонах весь Нью-Йорк неистовствовал и плакал от счастья, а она, склонившись в глубоком реверансе, бросила к его ногам букет белых роз – это был как штандарт, победно взвившийся над королевским дворцом. Да здравствует новый Король!
Мог ли я себе вообразить тогда, что спустя почти двадцать лет буду ехать в поезде Москва – Ташкент и слушать нескончаемый монолог Наташи о том, как она оставила балет “из-за Мишки”! Это он ей сказал, что пора уходить, что на былой славе не проедешь, что дальше будет хуже, что ей нельзя унижаться, выпрашивая милости у публики. Ты гордая женщина, ты лучшая и еще что-то в этом духе, что всегда говорят мужчины, перед тем как отрубить бывшей подруге голову. А Макарова была не просто подругой и соратницей, но первой после Анны Павловой русской прима-балериной, сделавшей себе имя и карьеру на Западе. “Но как он мог! Как он мог! – восклицала Наташа. – Он же шафером был у меня на свадьбе. Венцы над нами с Эдвардом держал…” Полдня она прорыдала после своего разговора с Барышниковым, сидя на каменных ступенях перед фонтанами. “До сих пор не понимаю, почему я тогда не утопилась в одном из них”.
Но в 1974 году их было трое, поделивших королевство западного балета, – Миша, Наташа и, конечно, Руди, Рудольф Нуреев. Три кировских этуали, три великих русских невозвращенца, три грандиозных танцовщика, перевернувших все представления об искусстве балета. По странному совпадению все трое были из семей военных. Они не понаслышке знали, что такое военная муштра, дисциплина, душный запах тяжелых суконных шинелей и пахнущих ваксой сапог. А тут еще балет, самый крепостной из всех родов искусства.
Им было от чего бежать, перемахивая через все границы, заграждения и турникеты, через все обязательства и запреты. На волю, на воздух, на простор свободного танца, не обязательно связанного классическим каноном, – на простор другой жизни, о существовании которой они только догадывались, но ничего толком не знали. Бедные дети коммунальных квартир, они впервые почувствовали себя богачами: теперь им принадлежал весь мир. Отсюда нуворишеский размах их планетарной славы, ненасытная жадность до новых ролей, балетов, стран, впечатлений. Они хотели всё попробовать, пережить, испытать, купить. Что-то было в их танце непостижимое и завораживающее для рационального западного сознания. “Чистая метафизика тела”, – скажет Бродский о Барышникове. Не только! Освобожденный дух ликовал, радовался и рвался куда-то далеко за пределы балетной сцены. Энергия миллионов людей, у которых был отнят этот простор, питала их искусство. Это был танец у последней черты, на пределе представлений о гравитации и физических возможностей тела. Это была победа над прошлым, которое они ненавидели и которого стыдились, над всеми страхами и предрассудками, которые продолжали в них жить, над самими собой, тогда не знавшими толком ни одного иностранного языка, но ставшими своими для многих тысяч людей, никогда раньше не бывавших на балетных спектаклях.
Миша, Наташа, Руди – легендарная русская троица 1970-х, мечта любого балетомана и кошмар любого продюсера, который попытался бы свести их на сцене. Как бывшие советские люди, они не очень-то ладили друг с другом. А если судьба, а точнее, условия контракта сводили их вместе, то они ревниво отслеживали все условия и количество аплодисментов, причитающихся каждому. И не дай Бог, если кому-нибудь перепадало больше!
Майя Михайловна Плисецкая со смехом вспоминала, как на приеме в честь гранд-дамы американского балета Марты Грэм разразился скандал, когда Нуреев вдруг ни с того ни с сего плеснул вином в лицо ее директору, важному господину, ведавшему рассадкой гостей. “А что это с Руди?” – поинтересовалась Плисецкая у Барышникова. “Он просто обиделся, что вас посадили со мной, а не с ним”, – невозмутимо отвечал Миша. Его трудно было шокировать нуреевскими эскападами. Наверное, из всей русской троицы Барышников был самый адекватный, самый прагматичный, самый прозападный. И самый взрослый, хотя по возрасту был самый молодой. К тому же он не был гей. Для пуританской Америки это было важно. Кажется, это была его шутка: “I am not the first straight in ballet, hope not the last” (“Я не первый натурал в балете и надеюсь, что и не последний”). Барышников лучше и быстрее сумел приспособиться к новым условиям. Он сразу понял, что на одной классике долго не продержишься, что надо пробовать себя в разных жанрах. Что экстравагантные, “славянские” жесты, которые так удавались Руди, – это не его стихия, да и они могут, в конце концов, прискучить всем. Он брал другим: фантастической координацией, находчивым юмором, какой-то чаплиновской самоиронией и отвагой. Он был очень смелым танцовщиком, потому что никогда не боялся быть смешным и трогательным на сцене. Он всегда любимый младший брат, которому позволено все, или блудный сын, которого хочется поскорее простить и напоить чаем. Барышников станцевал его в 1973 году на сцене Кировского театра. Станцевал гениально. И, наверное, неслучайно знающие люди считают, что неуспех у официальной критики и последовавший потом запрет этого балета Баланчина стали последним и решающим аргументом в его решении не возвращаться в СССР.
И он не вернулся. Хотя после 1986 года приглашения приехать поступают Барышникову регулярно. И на самом высоком уровне. И обещания, и гарантии, и выгодные предложения. Отказывается. Ему это не надо. Друзья недоуменно разводят руками. Балетоманы строят самые фантастические предположения. Кто-то припоминает строчку из Бродского, написанную все по тому же поводу: “Воротишься на родину. Ну что ж… / Гляди вокруг, кому еще ты нужен…” Немногие ленинградские друзья к нему сами наезжают на премьеры и просто так, в гости. Остальные связи безнадежно оборваны. Названия адресов и номера телефонов давно сменились. В сущности, остались только могилы. “И не с кем плакать, не с кем вспоминать. / И медленно от нас уходят тени, / Которых мы уже не призываем”.
…И все-таки он приехал. Не в Питер, а в родную Ригу, но, в общем, тоже близко. Первый раз это случилось в 1997 году. Латвия была уже пять лет свободной, хотя примет бывшей советской жизни было еще предостаточно, и никто особо не спешил их скрывать или как-то камуфлировать. Во всем чувствовалась сонная, замедленная растерянность, какая бывает при долгом пробуждении после тяжелого сна. Как будто в рапиде падали осенние листья в сквере перед Театром оперы и балета. И в том же ритме двигались люди по улицам, и так же капал дождь с неба. На афише имя Барышникова, уникальная сольная программа, но билеты в кассе я купил совершенно спокойно. Никакого ажиотажа. Я представил себе, что бы было в Москве или в Петербурге, случись такое! Это потом я узнал, что по латышским расценкам билеты были баснословно дорогие и мало кто из местных балетоманов мог их себе позволить. При том что спектакль был благотворительный, а сам Барышников, кажется, не получил ни лата. Я приехал в Ригу на день раньше, делать было решительно нечего, и, чтобы как-то убить время, потащился в Домский собор, где, как всегда, играли Баха и Генделя – знакомую органную программу со времен моих летних юрмальских каникул. Тогда почему-то считалось хорошим тоном хотя бы один раз за лето поскучать на Бахе в Домском соборе. Народу было мало. Только какая-то явно на вид иностранная семья оккупировала соседнюю от меня скамью. Я пригляделся: мама, хрупкая блондинка с тонким усталым лицом, дочь-подросток в свободных шальварах, сидевшая с обиженным надутым видом, белесый мальчик, безучастно скучавший на руках у матери, и отец в бежевом плаще и профессорских очках в серебряной оправе. Где-то я уже видел этот коротко стриженный затылок, острый профиль, запавшие глаза. Но это же Барышников!
Он сидел через проход от меня, погруженный в музыку или в собственные мысли. Абсолютно отъединенный от всех, ушедший в себя. Мне потом сказали, что в этот день он ездил на кладбище, посетил вместе с семьей могилу матери. Она покончила с собой, когда ему было одиннадцать лет. Никто не знает почему. Официальная врачебная версия: “Внезапное помешательство”. Свою старшую дочь от Джессики Ланж (ту самую, которая явно была чем-то недовольна тогда, в Домском соборе), он назовет Александрой, Шурой, в честь мамы. Сейчас она уже совсем взрослая. И у нее есть собственные дети, соответственно, внуки Михаила Барышникова. Род не оскудел, линия, начавшаяся с маленькой кроткой женщины Александры Киселевой из села Кстово, что под Нижним Новгородом, продолжается на других широтах, во внуках и правнуках, которых она никогда не видела. Она и сына-то своего ни разу не видела на сцене, хотя сама отвела его в балетное училище при театре, мечтая для него о другой жизни, чем у нее.
Свой сольный вечер в Рижской опере он посвятил ее памяти. Два часа один на пустой сцене, наедине со всеми демонами, со своим прошлым, со всеми этими рижскими тенями и дождливой мглой, в которую он добровольно вернулся. Даже не очень понятно зачем.
Об этом знал только он. И каждое его движение было исполнено такой невыразимой муки и одновременно такой странной, волнующей красоты, что хотелось плакать, глядя на него. И многие в зале не пытались скрыть слез. Почему-то больше всего запомнилось, что на сцене было темно, но в глазах Барышникова сверкал свет. Свет и мрак, страх и ярость, взлеты и падения – все было в этом танце. А еще я слышал, как бьется его сердце. Это не фигурально, а буквально так. Один из номеров программы так и назывался – “Биение сердца”: к его груди был прикреплен специальный датчик, и он танцевал в леденящей тишине зала под стук собственного сердца. И в какой-то момент казалось, что этого нельзя вынести, что клапаны сердца захлебываются от крови и нечеловеческого усилия, но он продолжал танцевать, и танцевал долго, будто сражался с кем-то невидимым, которого так и не сумел победить. А в финале он медленно уходил во тьму и его самого уже не было видно, но сердце продолжало биться. И еще какое-то время мы прислушивались к тому, как оно бьется, как прислушиваемся у дверей, чтобы узнать, не происходит ли за ними что-нибудь ужасное. И вдруг все. Звук исчез. Сердце остановилось. Рядом со мной даже кто-то вскрикнул. Было понятно, что это больше чем театр, больше чем танец. Это было какое-то видение судьбы, а точнее, сама судьба.
Впервые я увидел артиста, способного реально изменить чужую жизнь. Мне стали понятны все эти люди, которые объединяются в клубы фанатов, чтобы ездить за своим кумиром по городам и весям, коллекционировать его изображения и собирать вырезки из газет, обмениваться последними новостями, дежурить у его подъезда, находя какую-то особую сладость в многочасовых ожиданиях под дверьми и в нечаянных, случайных встречах. Всегда воспаленные, возбужденные, приходящие в театр, как на работу, живущие своей тайной, странной, катакомбной жизнью. Но зато им есть кому служить, на кого молиться, кому поклоняться. Всем известно, что свою клаку многие артисты содержат сами. Подкармливают их, иногда что-то приплачивают, дарят вышедшую из моды одежду, могут при случае расщедриться на автограф или организовать бесплатный проход на свои спектакли. Но такие отношения не из репертуара Барышникова. Не станет он никому платить за то, чтобы ему кричали “браво” и хлопали в нужных местах. Не будет он никому специально улыбаться. А контейнеры с поношенной одеждой до последнего времени он регулярно отправлял в благотворительный фонд Армии Спасения. И даже как-то признался, что может легко расстаться с любыми вещами, кроме книг.
Он и сделал это, передав весь свой огромный архив Нью-Йоркской Публичной библиотеке. А на вопрос журналиста: “Но вы ведь могли все это продать?” – только недоуменно пожал плечами: “Продать что? Мою жизнь? Но я этим занимаюсь на сцене”.
После его рижских гастролей прошло еще четырнадцать лет. Случайно узнаю, что в Театре Шайо Дима Крымов покажет спектакль по рассказу Ивана Бунина “В Париже”. В главной роли – Михаил Барышников. Звоню Диме. Да, все правда. Приезжай, конечно же! Но только никаких интервью. Дима немного заикается, и я чувствую по долгим паузам в трубке, как ему неудобно мне отказывать. Похоже, я не первый, кто пытается пробиться через него к Барышникову. А я и не пытаюсь. Я просто хочу посмотреть спектакль.
Прилетаю в Париж, который готовится отметить десятую годовщину 11 сентября. На площади перед дворцом Шайо возвели слабенькую конструкцию в виде двух башенок, на фоне которых на следующий день должен был держать речь Николя Саркози, а вокруг тьма народа. Гуляют, хохочут, жуют, носятся на роликах и скейтах, щелкают друг друга в свои айфоны. В воздухе разлито благодушное безразличие, одинаково распространяющееся и на трагические события десятилетней давности в Нью-Йорке, и на русский спектакль, идущий в нескольких метрах отсюда в уютном буржуазном зале в стиле ар-деко. Единственная афиша, которую я отыскал в Париже, висела в книжном магазине английской книги WHSmith на Риволи. Старомодная пара смотрела на меня с черно-белой фотографии: Барышников, почти не изменившийся со времен своих рижских гастролей, и юная крымовская актриса Аня Синякина. Оба похожи на двух пассажиров, присевших по русскому обычаю на дорожку и испуганно заглянувших в фотообъектив. Афишка маленькая, черно-белая. И сам спектакль мне показался поначалу таким же камерным, негромким. По заднику сцены ползла видеопроекция с кадрами хроники и от руки заполненными страницами, и медленный, глуховатый, совсем не актерский голос торжественно произносил текст то на русском, то на французском языке. Он что-то припоминал, что-то выговаривал слишком отчетливо, а что-то и не договаривал вовсе, заставляя зрителей поднапрячь фантазию и память: “…По свежести его худого, бритого лица, по прямой выправке худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто ему можно было дать не больше сорока лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью и говорил и держался он как человек, много испытавший в жизни”.
Поздняя проза Бунина – это язык русской классики, язык, который можно было сохранить, только увезя с собой на чужбину как последнюю драгоценную семейную реликвию. Язык, которым пользуются не каждый день, а только по большим праздникам. Он как подарок и награда, когда можно на нем хотя бы немного поговорить со своими. Именно так произносит бунинский текст Барышников в спектакле “В Париже”, наслаждаясь каждым словом, каждым поворотом сюжета, не пропуская и миллиметра текста. С этим непередаваемым чопорным петербургским акцентом, который ему удалось сохранить за столько лет! Впрочем, так не говорили в Ленинграде его юности, так говорили уцелевшие великие князья в эмиграции. Я был знаком с одним из них. У Барышникова тот же выговор, те же повадки, та же манера подавать руку и любезничать с дамами. И военная выправка, идеально прямая спина, по которой безошибочно можно распознать русского офицера в любом самом штатском, партикулярном обличье.
“Да, из года в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного – счастливой любовной встречи, живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу – и все напрасно…”
Сюжет набирает обороты, и уже состоялась историческая встреча с Ольгой Александровной, уже заказаны и съедены щи и битки в русском ресторане, и вот они едут на такси в кино. У Крымова каждая сценка тщательно прорисована от руки. Это такой почти исчезнувший из нашей жизни hand made. В этом его непередаваемое обаяние и свежесть. Никто не пережимает, не суетится, не фальшивит. Мастерская, изящная работа. Хорошие ребята. Чудесная Аня Синякина с совершенно ангельским голосом. Но появляется Барышников (а собственно, он со сцены и не сходит с самого начала), и всё это отступает на второй план, гаснет, как свет в театральной люстре перед тем, как начнется главное действо. В центре которого, конечно, он. Кто хотел посмотреть на Барышникова танцующего, тоже не будет разочарован. На финал Алексей Ратманский поставил ему танец с шинелью. Той самой, серой на красной подкладке, которую прижимала к себе после похорон рыдающая Ольга Александровна. Но в спектакле никто не рыдал. Просто Барышников делал несколько острых, точных па, как будто набрасывал предсмертную записку с последними распоряжениями. А потом падал, быстро, буднично и как-то совсем не по-балетному.
Мне потом Крымов рассказывал, что по его замыслу Барышников должен был падать раз семь. Как в “Кафе Мюллер” у Пины Бауш. Но тут он остался непреклонен: “Я смогу это сделать только один раз”.
…Через два дня я уже собирал чемодан, чтобы лететь в Москву, когда в номере раздался звонок. Это была переводчица Барышникова и моя давняя подруга Маша Зонина. Накануне мы обсуждали с ней новый книжный проект “Все о Еве” и мое намерение опубликовать что-нибудь о французской певице Барбаре́, которая в России почти неизвестна и которую я очень люблю.
– Слушай, так ведь Миша же с ней дружил. Может, его попросить? – вспомнила Маша.
– Я знаю, но как к нему подъедешь?
– Давай попробую?
– Давай, но шансов нет.
Шансов действительно не было никаких. Поэтому я тут же выбросил из головы Машино предложение и вспомнил о нем только тогда, когда услышал ее голос у себя в телефоне: “Слушай, я дозваниваюсь до тебя уже час. Миша согласился рассказать о Барбаре”. Не буду описывать, как я сражался с вещами, запихивая их в чемодан, как искал такси, которого в Париже никогда нет, как торопил водителя-вьетнамца, совсем не знавшего город, как несся с ним через все мосты и пробки на остров Сен-Луи, где на перекрестке уже поджидала Маша, чтобы сопроводить меня в кафе, спрятанное в лабиринте переулков. Сам я бы его никогда не нашел.
Барышников сидел у окна. Белая панамка, которой он так изящно помахал нам накануне, валялась рядом на столе. В ней лежали ключи и сотовый телефон. Со стороны наше свидание было похоже на встречу двух резидентов. Причем один знал о втором всё или, по крайней мере, очень много, а другой – ничего. Впрочем, нет, скорее я чувствовал себя как взломщик, который после долгих усилий, почти отчаявшись, вдруг набрал ту самую комбинацию цифр или букв, и намертво закрытый сейф вдруг открылся. Бар-ба-ра, спасибо тебе!
Барышников заказал два эспрессо. Я достал диктофон. Можно?
Он примирительно кивнул.
С его первых же слов я понял, что мне не надо задавать ему вопросов. Что этот монолог у него давно сложился в голове, и, может быть, он его уже когда-то проговаривал по-английски или по-французски. От меня не требуется почти ничего: только сидеть и слушать. Он начал издалека. Ленинград, Васильевский остров, коммуналка с двумя стариками за стенкой. Старуха целый день бренчит на балалайке. Старик совсем слепой. Ходил всегда на ощупь, держась за стены. Иногда посреди ночи мог забрести к нему в комнату. Двери никогда не запирались. Страшное видение юности: слепой старик в исподнем, ощупывающий его в темноте. И вот посреди всего этого сиротства и заброшенности, посреди всей этой бесконечной ленинградской ночи, то белой, то черной, голос женщины из недр импортного винилового диска. Голос, молящий и требующий одновременно. Небесный голос, который пел о каких-то страданиях, печалях и любви. Слов он не понимал. Он почти не знал французского. Но что-то каждый раз обрывалось в его душе, когда он слушал ее “Нант”, или “Мариенбад”, или “Геттинген”. У нее было много песен о других городах и странах, о какой-то другой жизни. Голос сирены. Голос искушения и надежды. Надежды, что в его жизни будет что-то еще, кроме балета и Васильевского острова. А потом случилось то, что случилось. И этот голос раздался однажды ночью у него в телефонной трубке. Французский к тому времени он уже подучил и мог говорить, хоть и с трудом. И он уже понимал все, что она ему говорила и что пела. А если не понимал, то мог переспросить.
В жизни она оказалась довольно приветливым и милым человеком. Красавица-ворона, как он ее называл про себя. Барбара. Ударение на последнем слоге. Романа не было. Но была любовь. Какое-то взаимное притяжение, которое бывает между родственными, одинокими душами. Она учила его французскому, учила сочинять и слышать музыку, учила быть по-настоящему свободным. Потому что сама была абсолютно и непререкаемо свободна. От всего – от быта, от докучных привязанностей, от буржуазных предрассудков, от всякой пошлости, которой так много в театре и за кулисами. Были только она и музыка, только она и ее голос, хрустальный голос блоковской девушки из церковного хора. “Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою”. Это и есть репертуар Барбары. С годами голос тускнел, как старинное серебро. Но интонация оставалась, и гордый, запрокинутый над роялем остроносый профиль продолжал волновать и тревожить, вызывая в воображении великие тени прошлого. По странному совпадению, он никогда не был на ее концертах, как и она на его спектаклях. Конечно, можно было все свалить на фатальное несовпадение их графиков и темп жизни: оба много гастролировали. Барышников попытался объяснить это еще и тем обстоятельством, что Барбара была ярая социалистка, а балет – традиционно привилегированное искусство, собиравшее парижский бомонд, который она терпеть не могла. Но смею думать, дело не только в этом. Просто они существовали в жизни друг друга не потому что одна была знаменитой певицей, а другой – феноменальным танцовщиком, а потому что им было хорошо вместе, потому что они понимали друг друга с полуслова. Им не нужны были дополнительные подтверждения собственной значимости, важности, успешности. Все это оставалось где-то за порогом ее дома в Преси, где он два раза останавливался, или его пентхауса в Нью-Йорке, где она однажды жила. Все остальное было неважно: спектакли, концерты, овации, поклонники. Они были друг у друга. И само сознание этого делало их счастливее. Кстати, не одного его. Морис Бежар, хореограф и друг Барышникова, постоянно таскал с собой в портмоне две фотографии: Барбары и Симоны Синьоре – двух главных женщин в своей жизни. И чуть ли не каждый свой разговор начинал с вопроса: “Тебе звонит Барбара? Вот и мне – нет”.
Со смехом Барышников рассказал, как однажды он упросил ее выступить на концерте в Метрополитен-опера. “Да, – согласилась она и тут же лукаво добавила: – Но если ты будешь вместе со мной на сцене”. Пришлось быстро придумать танцевальный номер на музыку ее знаменитой песни “Pierre”, а в финале он подхватывал ее, и они кружились в вальсе. Но на самом гала-концерте они безнадежно запутались в каких-то проводах. Микрофоны трещали, в зале почти ничего не было слышно, а сами они под конец чуть не свалились, еле дотанцевав до кулис. Никто тогда ничего не понял, зачем все это было нужно? Но Барышникова так любили в Нью-Йорке, что готовы были простить ему даже эту странную француженку в черном, которую он зачем-то специально вывез из Парижа.
Жизнь разводила их. Она потихоньку теряла голос, болела и почти завязала с концертами. Он был очень занят. Впрочем, как всегда. Их встречи случались всё реже, как и ее звонки, которые по-прежнему настигали его посреди ночи или ранним утром. А однажды, когда он был на гастролях в Италии, ему позвонил парижский друг и сказал, что она умерла. Не тот диагноз, неправильное лечение и… все. На ее похороны он не смог поехать – билеты на выступления были раскуплены на месяц вперед, и он не мог подвести артистов и зрителей. К тому же он терпеть не может театра в жизни, а что такое похороны, как не еще один театр?
Прошло несколько месяцев. Он снова был в Париже. Спешил куда-то по Елисейским полям, и вдруг прямо перед ним на пути вырос огромный рекламный плакат: последний диск Барбары. С плаката на него смотрела она, насмешливо и строго, как если бы была им недовольна. Он зашел в магазин, купил диск, а когда перевернул его тыльной стороной, чтобы посмотреть, какие там записи, прочитал, что две песни – Pierre и Le Mal de Vivre – didié a Michael Baryshnikov. Посвящается Михаилу Барышникову. Последний подарок Барбары.
И тогда он заплакал. Прямо посреди Елисейских полей. Со всех сторон его обтекала парижская толпа, и только какая-то старушка остановилась, чтобы его утешить: “Ça va?” Ну, и он в ответ: “Ça va, ça va…”, а сам плачет и не может остановиться. Так они и простояли какое-то время, почти обнявшись, молча, а потом каждый побрел в свою сторону.
– Это все? – спросил я.
– Все.
Его и мой эспрессо так и остались стоять нетронутыми вместе с чеком. Несмотря на мои протесты, он захотел сам расплатиться. Мы попрощались. Я сидел у окна и видел, как он уходит по улочке, ведущей вниз к Сене. Маленький, хрупкий, в этой нелепой белой панамке, надвинутой на глаза, чтобы никто его не узнал. Диктофон продолжал зачем-то работать. Там остался его голос, наше прощание, звон его мелочи, звук отодвигаемых стульев. Машинально залпом я выпил свой холодный кофе, потом его. Какой горький! Одну монетку я после некоторого колебания решил оставить себе. На счастье.
2012Место встречи «Бродский / Барышников» Алвиса Херманиса
Добрый день, Ну и встреча у нас.
До чего ты бесплотна…
И. Бродский. От окраины к центруЭто один из лучших спектаклей, которые я видел в своей жизни. На этом можно было бы поставить точку. Но я позволю себе небольшое отступление. Мы с женой специально прилетели на премьеру “Бродский / Барышников” в Ригу из Парижа, где провели несколько дней в целенаправленных хождениях по адресам французской певицы Барбары́: жена как раз заканчивала книгу о ней и хотела проникнуться “гением места”. Разумеется, не обошлось и без ритуального посещения кладбища Банье, куда мы пришли с корзиной темно-вишневых осенних хризантем. Нас предупредили, что Барбара похоронена в еврейской части кладбища и это семейное захоронение. В смысле, никаких помпезных памятников Dame Brunе не ищите! Все скромно. Искали долго, пока мой взгляд не уперся в черную мраморную доску, где была выведена фамилия Brodsky, а под ней множество разных имен. И тут до меня дошло: ну да, конечно, Барбара, она же Моник Андре Серф, была из рода Бродских. И бабушка ее Хава была из Тирасполя. Конечно, Барбара должна была быть здесь. Обилие увядших и свежих цветов, догоревших лампад и полинявших записок подтвердило мою догадку. А еще я восхитился гениальности этого совпадения: мы собирались лететь на спектакль с Михаилом Барышниковым в главной роли, который дружил и с Бродским, и с Барбарой. И фамилия поэта на чужом могильном памятнике читалась как знак, что, пока мы помним тех, кого любили, они с нами, они никуда не уходят.
Место встречи
У этого спектакля – длинная предыстория, теряющаяся где-то в конце 1980-х.
Когда я туда заглядываю, как в бесконечный гулкий туннель, то вижу зал университетской библиотеки в Сан-Диего и молодого прибалта, склонившегося над синей книжкой издательства Ardis “Конец прекрасной эпохи” Иосифа Бродского. Он жадно листает страницу за страницей, что-то лихорадочно переписывает себе в тетрадку. Прочитанные стихи гудят у него в голове и не дают покоя. Скоро вечер, библиотека закрывается. Пора уходить. Он не в состоянии расстаться с книгой, которая здесь никому не нужна. Наконец, не выдержав, он прячет ее за пояс в джинсы – книжка компактная, сам он очень худой. С решительностью самоубийцы он направляется к выходу.
И тут начинается самое ужасное: библиотека и, кажется, весь Сан-Диего оглашаются неистовым звоном. К нему бегут чернокожие полицейские. Книга с позором извлечена из штанов. Любитель стихов уличен и пригвожден к позорному столбу. Такой вот “Конец прекрасной эпохи”! Сегодня режиссер Алвис Херманис вспоминает об этом эпизоде юности с виноватой улыбкой. Американцы его простили, но грозный звон навсегда останется в памяти как звук великой поэзии, за которой неминуемо следует расплата. В октябре 2015 года у себя в Новом Рижском театре в рамках фестиваля искусств Tete-a-Tete, патронируемого Фондом Инары и Бориса Тетеревых, Херманис поставил по стихам Бродского спектакль с участием Михаила Барышникова.
Уже другие сирены будут звенеть вокруг: десанты высоких гостей из Москвы, главная премьера сезона, которую нельзя пропустить, на которую невозможно попасть. Почти все отклики будут переполнять экстатические вопли или подробные отчеты, как доставали билет да кого встретили в зрительном зале. Вот она, сила мифа! Хорошо, когда миф один, но когда их два – это уже целый концерн или холдинг. По иронии судьбы даже само название спектакля “Бродский / Барышников”, если свести его к двум инициалам, можно легко спутать с другим именем-брендом – ББ, Брижит Бардо. А что? Неплохая компания! Почему-то мне кажется, что Иосиф Александрович был бы не против, а вот за Барышникова не поручусь, он серьезный мужчина, хотя и старается производить впечатление компанейского и милого.
И спектакль у них с Херманисом тоже очень серьезный, не рассчитанный на светский ажиотаж.
На сцене тихо, как в библиотечном зале в Сан-Диего. Пустая терраса, похожая на те, которые сохранились на старых юрмальских дачах. А еще больше декорация Кристины Юрлане напомнила мне террасу-корабль из легендарного спектакля “Серсо” Анатолия Васильева, торжественно плывущую во времени и пространстве. Со свечами, людьми, алыми бокалами. Тут ничего этого нет. Корабль давно на мели. Только пыльные стекла и проводка, висящая уродливыми гроздьями и готовая полыхнуть в любой момент настоящим электричеством.
Барышников появляется незаметным прохожим с фибровым чемоданом советских командировочных и отпускников. Устало садится на скамейку, достает фляжку с виски, будильник и ту самую синюю ардисовскую книжечку “Конец прекрасной эпохи”. Сделав два глотка и водрузив на нос очки в модной оправе, медленно начинает читать.
“Мой голос, торопливый и неясный, тебя встревожит горечью напрасной…”
Тихая, монотонная, почти не окрашенная эмоциями читка. Без актерских завываний, но очень внятно. Каждое слово в цель, как из винтовки в тире. Сухо, спокойно, точно. Только один раз он позволит себе чуть подчеркнуть голосом смену ритмов. Но тоже не нарочито, не напоказ. Просто что-то припомнил или на чем-то, понятном ему одному, споткнулся.
Вообще “ББ” – это невероятно интимная история двоих. Даже непонятно, как такой закрытый человек, как Барышников, на нее решился. Может, возраст подошел. Может, Алвис воодушевил или перспектива вернуться в родной город, где прошло детство и могила матери. А может, давняя потребность озвучить эту боль, эту память, эти стихи. И сделать это именно на русском языке, собственно, на котором они и были написаны, прожиты и впервые услышаны.
Во время спектакля латышский перевод будет ползти в виде нечитаемых бескрайних видеообоев по стене террасы. С трудом представляю, чтобы кто-то стал всерьез их разбирать. Скорее это графический декор – дань международности и политкорректности. Но по большому счету это, конечно, очень наша, русская история. Со всем сложным комплексом вин, обид, страхов, бесконечных и бессмысленных выяснений, кто прав, кто виноват, когда уже никого и в живых-то нет. Из главных протагонистов “прекрасной эпохи” собственно один Барышников и остался. И только танец, точнее попытка его, придает этому действу другой масштаб, переводя в иное измерение, где уже не нужен никакой реквизит и зудящие подробности, которые так волнуют общественность.
Я вижу его запавший рот, эти бледные едва шевелящиеся губы, эти совиные, светлые глаза, которые он иногда прикрывает в усталой истоме. В эти мгновения он становится похож на рисунки Леонардо, когда тот рисовал старость. Сходство усиливается, когда Барышников снимает пиджак и жилетку, закатывает, как полотер, брюки, и мы видим его жилистое, немолодое тело, натруженные гладкие, безволосые ноги. Анатомический атлас из старинных увражей.
“И останется торс, безымянная сумма мышц…”
И даже что-то похожее на нежность вызывает эта плоть, этот птичий профиль мальчика-старичка, эти его серые, почти седые волосы. Так остро чувствуешь, что, несмотря на крепкую и выносливую конструкцию, все в этом теле очень хрупко и сложно устроено. И все так ненадолго, как трепыханье бабочки, запертой в оконной раме.
В какой-то момент Барышников попытается ее изобразить. И даже ею станет, когда сведет озябшие лопатки и вздрогнет кистями рук предсмертно. А еще он будет конем (слабый отзвук давнего номера “Кони привередливые” на песню Высоцкого), и цветком (привет Нижинскому с его “Призраком розы”), и Медузой Горгоной (даже не знаю, что это такое было, но что-то невероятное по пластике, похожее на рисунки все того же Леонардо или какие-то мраморные обломки древних скульптур).
Почти никакой музыки. Какой-то церковный хорал – как фон, отдаленным эхом. Только тихий речитатив стихов, как дождь рикошетом по дачной крыше, лишь иногда прерываемый всполохами искрящей проводки. Последний фейерверк в честь гения (двух гениев!), грозящий обернуться пожаром и спалить этот ветхий театрик дотла. Но под конец Херманис выдаст Барышникову белила, чтобы закрасить стеклянные окна террасы, да и то не до конца. И в этот момент я вспомнил Фирса из чеховского “Вишневого сада”. Собственно, Барышников и есть этот брошенный всеми Фирс, помнящий, кто на каких балах танцевал да как сушеную вишню возами в Москву возили. Он последний. И сада нет, и бала больше не будет, а он еще есть. Зачем? Ну, чтобы вот так посидеть напоследок, перебрать старые вещи, отхлебнуть вискарика, что-то вспомнить из старых стихов и балетов. Он читает книгу, пьет, слушает пленку на бобинах дряхлого магнитофона, с которого его окликнет грассирующий, надменный, эпохальный голос.
“Я входил вместо дикого зверя в клетку”.
Да, это он, Иосиф, Иосиф Александрович. Куда без него? Великий Джозеф, о котором мы не перестаем думать и говорить, словно расстались с ним вчера и готовимся встретиться завтра. Барышников играет так, будто ничего в этом сверхъестественного нет. Он в это верит. Он даже знает это наверняка.
2015Три Федры Изабель Юппер
Ее отец владел фирмой по изготовлению сейфов. На этом бизнесе он нажил целое состояние. Всем где-то надо держать деньги, ценные бумаги и фамильные драгоценности. Она из состоятельной семьи. В ранней юности училась в Сорбонне на факультете славистики. Думала стать филологом. До сих пор помнит отдельные русские слова. Странно, не могу отделаться от мысли, что в самой личности Изабель Юппер тоже есть что-то от сейфа. Она очень закрыта. К ней невозможно подобрать шифр или ключ. Что она таит, никто не знает. Например, за всю жизнь у нее был один муж – режиссер Рональд Шама. Но они очень редко появляются вместе. У них трое взрослых детей, но надо очень постараться, чтобы обнаружить в интернете их фотографии. Изабель намеренно избегает любых вопросов о своей жизни, любых опасных откровений. Только фильмы, спектакли, только роли, которым несть числа… Мне довелось однажды брать у нее интервью в Париже, в отеле на rue Madame. Почему-то запомнилось, что у нее были влажные волосы, словно после дождя. Она отпивала маленькими глотками зеленый чай из фарфоровой пиалы и говорила низким, простуженным голосом. Когда я признался, что без грима она похожа на Грету Гарбо, заметно оживилась. “Я знаю. Особенно когда делаю вот так”. И, отбросив волосы с лица, прижала ладони к вискам, как Гарбо на знаменитых портретах Эдварда Штайхена. Действительно, похожа!
Самая провокационная парижская премьера 2016 года – спектакль Театра Одеон “Федра” по мотивам пьес Сары Кейн, Вайди Мувада и Дж. Коетзи – была показана в рамках фестиваля “Lift” на сцене центра искусств Barbican. В главной роли – Изабель Юппер.
Ей шестьдесят два года. У нее жилистое тело гимнастки или цирковой акробатки. Ни грамма жира. Железная мускулатура и гуттаперчевая гибкость при почти непроницаемом лице, как у Греты Гарбо. В какие-то моменты, когда видеопроекция ее крупных планов появляется на стене, даже вздрагиваешь: как же они похожи! Но это еще не все. Надо видеть, что она выделывает на сцене. С каким бесстрашием пускается в эту авантюру – сыграть за один вечер сразу трех Федр! Минуя все могилы, все горы театроведческих исследований, забыв о собственном статусе первой актрисы Франции, Изабель Юппер идет напрямик к поставленной цели. Самое скучное – сказать, что цель эта – развенчание мифа и демонстрация дальнейшей дегуманизации современного общества. Что-то подобное я успел прочитать во французской и английской прессе на спектакль знаменитого поляка Кшиштофа Варликовского. Какая тоска! Спорить с банальностями не хочется, да и зачем? Тем более что любой миф – это не более чем попытка объяснить нам самих себя. Но при чем тут пелопонесская царица Федра? В первой части спектакля это просто девка, проститутка в боевом раскрасе: белый парик до плеч, черные шорты на молнии, лаковые туфли-копытца. Профессиональным жестом она распахивает шубку, чтобы показать: все на месте. Товар без обмана. Плати и бери. Но почему этот отлаженный механизм вдруг дает сбой? Почему тело, так здорово натренированное для чужих и собственных удовольствий, вдруг начинает трясти мелкой дрожью, выворачивать наизнанку, истекать кровью? Из каких таких глубин вдруг вырывается этот истошный, пронзительный, бабий крик, когда-то озвученный по-русски Мариной Ивановной Цветаевой: “Ипполит – болит”. У Сары Кейн, которая взялась своими словами пересказать миф о Федре, все, конечно, проще, грубее, но ведь веришь: болит, мучает, доводит буквально до исступления и рвотных спазмов. Не знаю другой актрисы, которая могла бы, как Юппер, возвести чистую физиологию в ранг искусства. Как она этого добивается – самая большая загадка спектакля. Но великая актриса на то и великая, что способна оправдать самый мучительный текст, самые рискованные предложения режиссера.
Катаясь по полу, задирая на себе рубашку, размазывая менструальную кровь по телу и лицу, она демонстрирует ту степень актерской свободы, которая не дается одной лишь актерской удалью или выучкой. За этим должна быть судьба, сознание своей правоты и абсолютная вера в режиссера. А Юппер играет так, что кажется, скажи ей Варликовский броситься сейчас с третьего этажа, она это сделает не раздумывая.
Одна из самых именитых интеллектуалок европейского экрана и сцены играет бессилие разума перед инстинктом, бессилие культуры перед стихией страсти, бессилие всех запретов и законов перед жаждой самоистребления. Но при этом как снайперски точны ее жесты и интонации, как безупречно выверена каждая поза. Какое железное самообладание в самых рискованных мизансценах! Одна из них – с Ипполитом, когда они оба в постели, а на стене – видеопроекция их лиц, застывших в любовной истоме, и нож, занесенный в ее руке, готовый в любой миг прервать их задыхающееся соитие. Он – юное испуганное животное, губастый Кинг-Конг, только что сбежавший из клетки или слезший с дерева, чтобы сразу оказаться в объятиях белой женщины, как в капкане. Он будет тихо поскуливать рядом, предчувствуя свою гибель. Но ему уже не вырваться. Ипполит обречен. Один взмах ножом, и конец этой муке. Дальше остается только недолгая репетиция ее самоубийства, завершившаяся белой удавкой, наспех сооруженной из простыни, на которой они только что занимались любовью. Конец Федры-1.
Теперь место роковой нимфоманки в белом парике займет холеная буржуазка, будто сошедшая с глянцевых страниц. Федра-2. Розовая юбочка, розовая кофточка, розовые лаковые туфельки. Прическа – волосок к волоску. Все в одной гамме. И играть она будет в такой же гамме чопорной благовоспитанности. Никаких чувств, порывов, страстей. Одна чистая техника, которая не спасает, как и хорошие манеры, потому что на горизонте опять замаячил Ипполит. Только на этот раз другой. Немолодой, обрюзгший, с жирным пивным брюшком. И эти беспрерывные кружения Федры вокруг него, и ее жалкие мольбы, и акробатические номера – всё только ради того, чтобы обольстить и заполучить пасынка. А он привычно расстегивает ширинку при первых же ее любовных признаниях. Этот Ипполит (его грандиозно играет Анджей Щира) другого языка просто не знает. Другая логика поведения ему недоступна. Самое удивительное, что его тупая механистичность героиню Юппер как раз больше всего и возбуждает.
С каким-то веселым остервенением актриса словно перелистывает партитуры своих былых ролей. Да, она все это уже играла когда-то в кино: и сексуальную зависимость, и голодную жажду обладания, и страх унижения, и садомазохистские комплексы, и смерть от нелюбви. В спектакле Варликовский доходит даже до прямых цитат: некрофильский акт, когда отец Ипполита Тесей насилует мертвую Федру в морге, точь-в-точь повторяя аналогичную сцену с Юппер в фильме “Моя мать” Кристофа Оноре. Впрочем, фильмография актрисы такая необъятная, что смысловые повторы в данном случае, наверное, неизбежны.
Во всяком случае, когда она появляется в третьей части спектакля в образе современной писательницы-интеллектуалки, я сразу подумал об Эльфриде Елинек, авторе “Пианистки”, про которую известно, что она не поехала получать Нобелевскую премию по причине врожденного аутизма и социальной некоммуникабельности. Похоже, Юппер взяла ее в качестве прототипа и набросала язвительный и меткий портрет: небрежный, наспех накрученный пучок, очки зануды-училки, высокомерная манера не слышать вопросов, которые ей задает ведущий ток-шоу, и вообще не замечать никого.
Ей неважно, слушают ее или нет, понимают или не очень. Она буквально заворожена своими концепциями и с маниакальным упорством тараторит ученую чушь под растерянный смех зала. Но в какой-то момент вдруг возникает имя Расина, и тогда это нелепое, странное существо, эта дура-профессорша в считанные секунды преображается. И нет уже ни очков, ни пучка, ни многословного напора. Голос опускается на пол-октавы и становится низким, грудным, мощным. Глаза наполняются слезами. Звучит предсмертный монолог Федры, написанный Расином, который раньше все французские лицеисты должны были знать наизусть. Вершина мировой поэзии, музыка страсти, которая до сих пор способна завораживать своим стихотворным ритмом даже тех, кто не владеет французским языком. Нет, Юппер не декламирует. Она умирает, как умирали до нее в роли Федры Рашель, Сара Бернар, Алиса Коонен. Только несколько строк прощания перед тем, как наступит финал, – все, что досталось нам от Театра и его любимых теней. Уже никто не помнит, как это было. Уже никто не знает, как надо это играть, чтобы публика не заскучала и не потянулась за своими айфонами. Знает только Изабель Юппер. Да и та рискнет это сделать только под занавес, когда те две другие Федры будут отыграны.
“Ну, вот, собственно, и все!” – скажет она, обращаясь уже в зрительный зал. То ли от лица собственного, то ли от лица всех своих героинь. А для большей убедительности раскинет руки в прощальном жесте, демонстрируя, что в них ничего не спрятано. Так прощаются парижанки перед тем, как убежать с любовного свидания. И так уходит со сцены потрясающая Изабель Юппер. Быстро-быстро, почти бегом, словно спасаясь от наших аплодисментов.
2015Любительница Рената Литвинова
Она вечно опаздывает, но всегда всё успевает. У нее сто тысяч самых невероятных идей, но не было такого, чтобы она не довела одну из них до конца. Она и сочиняет, и играет, и режиссирует, и сама снимает, и общается со спонсорами, на которых действует как удав на кроликов. Если надо, может собственноручно всех нарядить, и накрасить, и выставить правильный свет, чтобы оператор не терял время. Кажется, она еще не очень умеет монтировать кино на компьютере. Но я уверен, что и эту премудрость она скоро освоит. Редкое сочетание невероятной предприимчивости, железобетонного упорства и абсолютно расфокусированного сияния. Как все это сосуществует в одном человеке – ума не приложу. Тем не менее это и есть Рената Литвинова.
Рената-3. Под этим именем закодирован у меня в телефоне ее мобильный номер. Она меняет его в среднем раз в полгода. Но что-то мешает мне стереть предыдущие номера, и я часто путаюсь, по привычке набирая то Ренату-1, то Ренату-2.
Ее эсэмэски – отдельная песня. Я их тоже храню. Надеюсь когда-нибудь их издать. Всегда удивлялся: откуда в Ренате столько нечеловеческого упорства? Она и пишет, и снимает, и снимается сама, и играет в театре, и на каждый уик-энд летает к дочке Ульяне в Париж, где у них квартира в районе Сен-Дени. И эти бесконечные презентации, где ее имя значится в VIP-списке и куда она непременно опаздывает, а чаще и вовсе не доезжает.
“Она уже в пути”, “Она уже выехала”, “Она просила начинать без нее”… Наивные люди! Они думают, что если у них в айфонах сверкнуло имя “Рената”, им гарантировано чудо ее немедленной материализации. Как бы не так! Это всего лишь голос в телефоне.
Иногда он звучит с нежными и жалобными интонациями Мальвины, навсегда обиженной каким-нибудь свирепым Карабасом-Барабасом (“Ну типа того, я совсем заболела и не приду”). Иногда – строго и требовательно, как если бы взялась играть роль сердитой бухгалтерши (“Платежка не пришла!”). Но чаще голос Ренаты звучит легкомысленно и прелестно, как и полагается звучать голосу красивой женщины, не слишком озабоченной поисками пропитания или новым курсом евро. То есть, конечно, и она может с видом последнего отчаянья выдать свою фирменную фразу: “Как страшно жить!” Но на самом деле Ренате Литвиновой жить совсем даже и не страшно, а безумно интересно, а временами и весьма прикольно.
Все думают, что она дива в мехах и осыпающейся пудре, а на самом деле она – прирожденная клоунесса, комедийная артистка высшей пробы, непревзойденная рассказчица смешных и страшных историй, с которыми ей уже давно пора выступать в концертах на эстраде. Но пока она предпочитает исполнять классику в МХТ, драпируясь в шелка и меха femme fatale. И надо признать, что получается у нее это отлично.
Мы познакомились очень давно. Точнее, вначале было имя, которое запало мне в память. Для будущей актрисы безумно важно, как ее зовут. Мне жаль тех созданий, кто об этом не задумывается перед тем, как заняться актерским ремеслом. И если имя, мягко говоря, не очень, то его надо срочно менять, терять паспорт, подделывать свидетельство о рождении, выходить замуж за обладателя более звучной фамилии. Имя для актрисы – это всё. Или почти всё! Оно входит в состав профессии так же, как рост, цвет глаз, тембр голоса. Всегда надо представлять себе, как ваше имя будет выглядеть на афише или как его будут скандировать поклонники на галерке.
По возможности оно должно быть кратким, как вздох, и эффектным, как название импортного парфюма. “Рената” звучало шикарно. Фамилия “Литвинова” намекало на смутную связь с первым наркомом иностранных дел, который был, конечно, никакой не Литвинов, а Меер-Генох Валлах. Но кого интересуют такие детали! Кстати, сама она однажды призналась мне, что первые свои ученические опусы подписывала фамилией “Рытхэу”. Просто увидела на маминой полке книжку рассказов. Сами рассказы ей совсем не понравились, а вот фамилия сразила наповал. Зачем Рытхэу, почему Рытхэу? Неважно. Главное, что о своем имидже она задумалась уже в седьмом классе. Причем настолько серьезно, что одноклассницы ее всерьез собрались побить. Не фига выделяться из общего ряда коричневых униформ и черных фартуков! “Ваша Ренаточка – врушечка”, – кричали они ее маме, Алисе Михайловне, когда ты пришла разбираться, почему ее дочери объявлен бойкот. Тогда как-то все удалось уладить. Но шрам в душе остался, если спустя годы она вдруг взялась рассказывать мне эту историю во всех подробностях. И почему-то я сразу представил эти ненавидящие лица, запах хлорки в женском туалете и ее, сутулую, нелепую в школьной форме, испачканной мелом, с этими ее тетрадками в клеточку, где написано странное имя “Рытхэу”.
…А впервые я услышал о ней от Инны Шульженко в редакции журнала “Огонек”. В начале девяностых я там заведовал отделом культуры. Инна была знакома со всей московской богемой, сочиняла длинные затейливые тексты и ходила полгода в дубленке до пят, подметая распахнутыми полами грязные тротуары. Тогда в Москве водились такие девушки с русалочьими волосами, рассыпанными по плечам, и вечной сигаретой, элегантно зажатой между тонких пальцев. Бескорыстные любительницы прекрасного.
– Я вот что тебе скажу, Николаевич, – торжественно объявила Инка, появившись на пороге моего кабинета. – Я открыла настоящую звезду. Ты даже не представляешь, какая она клевая. Вот кого надо печатать, о ком писать! Потом будет поздно. А у вас в “Огоньке” – одна сплошная Новодворская. Поэтому ваш журнал обречен.
– Да ладно тебе, напишем и про твою Ренату, места всем хватит.
Кажется, в “Огоньке” мы тогда про нее так и не написали. Хотя “Нелюбовь” по ее сценарию уже вышла и имела успех на Берлинском фестивале, а на подходе были “Увлечения” Киры Муратовой с ней в главной роли. И правда, может быть, новая звезда, думал я.
Про нее мне было известно, что закончила сценарный факультет ВГИКА, что она татарка, что любит красную помаду и черные свитера под горло, как у французских актрис в фильмах “новой волны”. И еще что она литрами выливает на себя бабушкины духи “Красная Москва”, поэтому всегда можно безошибочно отыскать ее по одному только запаху или определить: здесь была Рената… Про ее личную жизнь мне было почти ничего неизвестно. Ходили невнятные слухи о каком-то давнем романе с легендарным кинооператором и первым московским снобом Георгием Рербергом. По странному совпадению я знал одну из его жен – балерину Нину Тимофееву, отзывавшуюся о Гоше (домашнее имя Георгия Ивановича. – С.Н.) довольно небрежно, в том смысле, что алкаш – он и есть алкаш, даже если при этом гениальный оператор.
Когда я уже работал в журнале “Домовой”, наши пути с Ренатой разминулись буквально в несколько минут. Меня не было в редакции, когда она поднялась к нам на третий этаж занести верстку статьи о себе. Но запах душных и крепких советских духов еще долго не выветривался из редакционной комнаты на улице Врубеля, рождая в мечтах образ яркой блондинки, словно сошедшей с полотен Пименова или из фильмов Григория Александрова.
Долгое время считалось, что Рената специально стилизует себя под знаменитых блондинок 1930–1940-х. Кто-то угадывал несомненное сходство с Марлен Дитрих, кто-то – с Любовью Орловой. Сама Рената, конечно же, предпочитала Марлен.
Помню ее на открытии выставки, посвященной великой кинодиве, в Царицыне. Она была в цилиндре и фраке, как Дитрих в фильме “Марокко”. Ей вообще идут аксессуары и реквизит звезд былых времен. Она в них самозабвенно играет, мистифицируя публику, придумывая на ходу свой Театр, выстраивая его тщательно и целеустремленно с прицелом на вечность и обложки глянцевых журналов.
Теперь я понимаю, что и алая помада, и “Красная Москва”, и весь этот набор томных ужимок из арсенала дам былых времен – все это шло от какой-то внутренней неуверенности, от желания привлечь внимание не столько к себе самой, девушке из бедных кварталов, сколько к некоему образу, талантливо сконструированному из многих мифов. Недаром первым и едва ли не лучшим ее опытом в кинорежиссуре станет документальный фильм “Нет смерти для меня” про великих див прошлого.
Я помню время, когда она над ним работала. Даже “Красная Москва” не могла отбить запаха несчастья и какого-то неустройства, которое тогда царило в ее жизни. Рената снимала квартиру в сталинской высотке на Котельнической набережной, где доживали свой век разные заслуженные пенсионерки. Одна из них постоянно звонила ей и требовала, чтобы та “прекратила свою оргию”.
– Какую оргию? – вскрикивала Рената как раненая птица. – У меня здесь никого нет.
И это было чистой правдой. В холодной квартире, продуваемой из всех щелей, не было никого и ничего, кроме ее развешенных на плечиках платьев. Сама она пребывала в разводе со своим первым мужем. Поэтому вокруг нее царила тотальная тишина и стужа, нарушаемая лишь телефонными переговорами с Госкино или с какой-то еще конторой, из которой она выбивала грант на свой фильм. Когда крошечные деньги были получены, она с утра до глубокой ночи бегала с оператором и звуковиком, записывая монологи старых артисток.
У нее подобрался отличный cast: Нонна Мордюкова, Татьяна Самойлова, Лидия Смирнова, Татьяна Окуневская, Вера Васильева. Причем почти весь бюджет сразу ушел на грим и свет. Для Ренаты было важно, чтобы ее героини выглядели не собесовскими старушками, а настоящими дивами, чтобы на экране появились Актрисы. Именно так, с заглавной буквы. Она искренне пыталась им это втолковать, но дамы, умудренные своей долгой жизнью в советском кино, смотрели настороженно. Они не очень-то понимали, что от них хочет эта манерная блондинка в алой помаде, каких таких откровений ждет.
По-настоящему включилась в предложенную игру одна только Нонна Викторовна Мордюкова. Ей было нечего терять и абсолютно все равно, перед кем исповедоваться. Главное – глазок объектива, направленный на нее, и микрофон, в котором были слышны вся ее вселенская печаль и мощь. По-хозяйски расположившись в кадре, она заняла собой и своим монологом чуть ли не полфильма. Кажется, это было последнее появление актрисы на экране. Принципиальное отличие Мордюковой от других героинь именно в этом и заключалось: гениальность нельзя сыграть, личностный масштаб невозможно смонтировать. Кто-то способен жить и умирать на экране, а кто-то умеет только следить колючим взглядом, чтобы не увели серебряные ложечки.
Рядом с Мордюковой все остальные тускнели. И в этом видели просчет режиссера. Первой на Ренату разобиделась Татьяна Кирилловна Окуневская, которая до того числилась в ее подругах. Она-то, бедная, рассчитывала, что именно ей суждено стать главной примой в этом женском царстве. Она и лучшую свою розовую кофточку надела. И в восемьдесят выглядела от силы на шестьдесят. Ничего не помогло: ни дружба с Ренатой, ни кокетство с оператором, ни сверкающая голливудской белизной нездешняя улыбка – все мимо. Мордюкова задавила всех.
– Представляете, когда я монтировала монолог Нонны, мне страшно мешал какой-то посторонний звук: то ли храп, то ли сопение. И что вы думаете? Оказывается, звукооператор взял и задремал, пока она говорила. А ведь она буквально разрывала душу. Ничем этих людей не проймешь. Я думала, потом убью его собственными руками…
В конце концов удалось свести на нет все посторонние шумы и неудовольствия артисток и получился прекрасный фильм. В сущности, это был автопортрет самой Ренаты, составленный из множества лиц и судеб. Она их примеряла на себя. Она пыталась их подогнать под себя. Ничего не подходило, ничего не устраивало.
Никогда ей не хотелось становиться заложницей мужских капризов, жертвой их любовей и привязанностей. Никогда не стремилась к тому, чтобы спрятаться за чьей-то широкой спиной, чтобы кто-то решал за нее проблемы. Никогда не желала произносить чужие слова и проживать чужие роли. Пришла она к этому не сразу. Поначалу честно пыталась ходить по привычному маршруту: муж, ребенок, семья, дом на Рублевке, личный водитель. Все эти атрибуты успеха и преуспевания она обрела во втором браке. Ничего не вышло. И было понятно почему. Не может мужчина, имеющий хоть какую-то рыночную цену, просиживать часами в обнимку с ее шубой и сумкой Hermes, пока она снимается или дает очередное интервью.
Именно эту мизансцену я наблюдал в течение трех дней с участием ее второго мужа Дмитрия Добровского, когда мы приехали в Париж на фотосессию для журнала ELLE.
Рената меняла туалеты, позировала, отдавала указания фотографу и визажисту, параллельно вела бесконечные переговоры по телефону. Ни секунды без дела! Натянутая как стрела.
А в это время в углу изнывал от скуки и безделья муж Дима, вырвавшийся из всех своих московских дел на week-end в Париж с любимой женой.
Немудрено, что и этот матримониальный сюжет закончился крахом. Впрочем, своих выгод в этом браке Рената, похоже, не упустила, и главная из них – рождение красавицы дочери Ульяны. Теперь ей уже семнадцать лет. Летает на водных лыжах, в совершенстве знает французский, снимается, как и мама, для глянцевых журналов. А я помню, как Рената, откуда-то вернувшись, кричала в трубку: “Ульяна, я приеду и приготовлю тебе мясо, как ты любишь!” А я тогда подумал: “Все правильно. Татарская кровь!”
На самом деле Рената умеет всё – сочинять сценарии, брать интервью, давать интервью, режиссировать, находить на свои проекты деньги, выставлять свет и даже подменять, если надо, художника по костюмам. В последнее время стала чудесно рисовать. Раньше совсем не умела монтировать, но после всех страшных обломов, случившихся на фильме “Последняя сказка Риты”, она, кажется, и этому уже научилась. Самое удивительное, что ей удалось не просто занять чью-то нишу, а создать эту нишу самой: не припомню ни в западном кино, ни у нас никого, кто мог бы быть записан ей в предшественницы. Ну, может быть, Сара Бернар, о которой Чехов сказал, что “каждый шаг ее – глубоко обдуманный, сто раз подчеркнутый фокус. Из своих героинь она делает таких же необыкновенных женщин, как и она сама… Играя, она гонится не за естественностью, а за необыкновенностью. Цель ее – поразить, удивить, ослепить”. И еще, “будь мы трудолюбивы так, как Сара Бернар, чего бы мы только не написали! Мы исписали бы все стены и потолки в нашей редакции самым мелким почерком”. Но Сара не сочиняла сценариев и пьес, а Рената сочиняет и даже считает, что это лучшее, что она умеет.
– Все деньги, которые я получала, почему-то никогда не были связаны напрямую с моей профессией. То есть я зарабатываю как актриса, как модель, как дизайнер, как режиссер, но почти никогда – как сценарист. При этом я считаю, лучшее, что я могу делать, – это именно заниматься литературой или писать сценарии. Это нелепость и одновременно закономерность. У нас на родине вообще какая-то неправильная ситуация, у нас авторы не получают ничего. Нет законов, которые защищают авторское право, а люди, которые сидят на табуретках, на скважинах, чиновники – имеют все. Это абсурд! Потому что самое дорогое – это именно талант, способность создавать и любить. И еще, время – самая дорогая субстанция и вовсе не бесконечная для человека. Чиновников и бизнесменов – их очень много, а по-настоящему талантливых людей очень мало.
Рената горячится, сжимая руки в кулаки. Все думают, что она такая рассеянно-податливая, а она, наоборот, может быть очень даже резкой, непробиваемой и жесткой. И в гневе я ее видел, может быть, даже чаще, чем в состоянии улыбчивого покоя и светской безмятежности.
Однажды мы крупно поссорились. Дело было так. Издательский дом “Коммерсант” запускал новый глянцевый проект – журнал Citizen K по французской лицензии. Меня пригласили на место главного редактора. Для первой обложки требовалось что-то сногсшибательно прекрасное. Но что? А точнее, кто? Западные звезды в качестве объектов желания маркетингу “Коммерсанта” не подходили.
Стали перебирать отечественных знаменитостей. Все сошлись, что круче Земфиры на тот момент нет никого. Она как раз готовила к запуску свой новый альбом “Спасибо”. Но как до нее добраться, как уговорить? О невыносимом характере Земфиры знали все. И, разумеется, перед ней трепетали. Только накануне произошел ее разрыв с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Говорят, он кричал ей, когда она выходила из его кабинета: “Будешь петь, как раньше, в подземном переходе в Казани!”
Земфира ухитрилась послать все главные звукозаписывающие компании страны, поэтому выпускать и распространять свой новый альбом ей было не с кем. Ходили упорные слухи, что она даже готова выложить его бесплатно в сеть, как это делают западные звезды. Притом что среди композиций в альбоме были несколько заведомых хитов и такой абсолютный шедевр, как “Мы разбиваемся”.
Далее последовали мои переговоры с Ренатой, выступившей ее доверенным лицом. Про ее отношения с Земфирой я ничего не знал и, если честно, не стремился знать. Ну, дружат и дружат. Какое кому дело? Я был знаком с Димой, знал, что они развелись, когда на горизонте возникла Земфира, но как и в каком качестве, меня это не интересовало.
Странное дело: несмотря на давнюю принадлежность к журналистскому цеху, какой-то инстинкт самосохранения срабатывает у меня каждый раз, когда речь заходит о близких людях. Я не в состоянии ни читать о них в “желтой прессе”, ни смотреть программы по нашему ТВ. Ведь на самом деле это очень просто – выключить телевизор или отправить в мусорную урну газетку. Что-то подобное я проделывал, как только там писали о личной жизни Ренаты.
Речь шла о сугубо деловом предложении. Мы размещаем рекламу альбома “Спасибо” на целую полосу в “Коммерсанте-Daily”, оплачиваем какое-то количество билбордов в центре Москвы, устраиваем громкую презентацию, а заодно договариваемся с Евгением Чичваркиным, у которого тогда еще не отобрали “Евросеть”, что он возьмет диск в продажу, а часть тиража вкладываем в журнал. И все это только ради того, чтобы Земфира снялась на обложке первого номера Citizen К.
Неуступчивая звезда долго думала, но в конце концов под влиянием подруги сказала “да”. Все быстро завертелось. Была устроена специальная фотосессия в Париже, где Рената и Земфира позировали в кутюрных нарядах из последних коллекций. Общение наше было сугубо деловым и конструктивным. Я старался выдерживать максимальную дистанцию, понимая, как многое зависит от этой съемки и как легко может сорваться сложная конструкция по чьей-то неосторожности.
Такая опасность возникла, когда на съемку в парижском отеле Le Bristol заявился главный редактор французского Citizen K месье Капофф. Легендарная личность, немного фрик, немного актер, черный романтик, состоящий в приятельских отношениях со всем Парижем. Совершенно непредсказуемый, безумноватый человек, он появился после очередной “пластики” в леопардовом манто, на высоких каблуках, со спутанной челкой, закрывавшей ему пол-лица.
Ни здравствуй, ни прощай, он направился прямиком к Земфире, готовившейся к очередной фотосессии, со словами: “So nice girl”.
А затем, о ужас, дотронулся и пощупал ее жесткие волосы: “…And so nice hair!”
Земфира метнула в его сторону кинжальный взгляд, а потом процедила сквозь зубы, обращаясь ко мне:
– Переведите этому типу, что если он еще раз до меня дотронется, то получит по яйцам без предупреждения.
В этот момент в номер впорхнула Рената и отвлекла на себя внимание Капоффа.
– О, Renata… – прошептал француз, разглядывая ее в упор.
Он был уже подготовлен моими мейлами, что в Париже его ждет встреча с реинкарнацией Марлен Дитрих и Греты Гарбо в одном лице. Похоже, я перестарался.
– Сколько ей лет? – спросил он меня по-английски.
– Что-то около сорока.
– Скажи ей, что если она будет так красить губы, то всегда будет выглядеть на пятьдесят пять.
Уверен, что Рената не поняла ни слова из нашего обмена репликами, но каким-то шестым чувством почувствовала, что надо дать незамедлительный отпор.
– Пожалуйста, – обратилась она к подоспевшему визажисту, – сделайте мне суперкрасный рот.
В этот момент я понял, что если не изолирую Капоффа, то съемка может не состояться. Каким-то образом мне удалось его нейтрализовать. Впрочем, он сам, почувствовав себя лишним на этом празднике российского гламура, вскоре удалился, сказав на прощание и тыча пальцем в сторону Ренаты: “She is not divine”[1].
А дальше случилось то, что я никак не мог предусмотреть.
Номер “Коммерсант-Daily” был сдан в печать, вышла огромная во всю полосу реклама обложки альбома Земфиры с ее портретом. Полным ходом разворачивалась подготовка к вечеру в галерее “Триумф”, где должна была состояться презентация журнала и альбома Земфиры одновременно, как вдруг в восемь утра раздался звонок Ренаты. Я был в этот момент в аэропорту Шереметьево накануне вылета в Венецию.
– Произошло ужасное, – услышал я сдавленный голос в трубке.
– Что случилось? Что не так?
– На билборды пошла фотография, где мы вдвоем с Земфирой.
Я тут же сообразил, что отдел маркетинга издательского дома для пущей раскрутки решил запустить вместо журнальной обложки фотографию Ренаты и Земфиры вдвоем. В общем, ничего криминального в этом не было, но получалось как-то слишком откровенно и на продажу. Формально я за это не отвечал, но как инициатор и продюсер проекта нес ответственность и за билборды тоже.
– Их надо уничтожить, – последовал приказ, не подлежащий обсуждению.
– Но как, Рената, как?
– Ногтями, – прошипела она и бросила трубку.
Не успел я приземлиться в аэропорту Сан-Марко, как позвонила Земфира с воплем, что мне будет полный … и что ее еще никто так не унижал, как я. О Господи! В тот момент мне хотелось утопиться в Лагуне.
В результате долгих переговоров с генеральным директором ИД Демьяном Кудрявцевым злополучные билборды удалось быстро демонтировать, заменив на другие. Там Земфира пребывала в гордом одиночестве. Как сказал бывший редактор “ОМ” Игорь Григорьев, узнав о моих злоключениях с обеими дамами: “Я бы умер”.
Но я не умер, а продолжал готовить презентацию, вести переговоры с рекламодателями, утихомиривать всем недовольного и капризного Капоффа. Презентация в “Триумфе” прошла с огромным успехом, а номер “Сitizen K” побил все рекорды продаж. Земфира была в ударе и пела грандиозно. Но о примирении не могло быть и речи. Она меня просто не замечала. И ведро роз, которое я приволок, ее не смягчило. Когда я заглянул в гримерку после концерта, ведро было пустым. В мутной воде плавало только два лепестка. Красноречивый символ того, чем обычно заканчиваются знакомства со знаменитостями.
Рената еще долго потом со мной не разговаривала, демонстрируя всяческую обиду. А потом призналась, что вся эта история ей стоила восьми лет жизни.
– Почему восьми, а не шести или девяти, например? – попытался я отшутиться.
– Потому что я точно знаю, что восемь! – сказала она с усталой укоризной в голосе.
В наших вполне добрых отношениях вдруг появилась черная, обугленная страница, которую мы постарались поскорее пролистать. Но она есть. Куда теперь ее денешь?
Время от времени я набираю ее номер. Как правило, попадаю не туда или слышу механический голос, что “этот номер больше не существует”. У нее все время какие-то дела: кто-то ее ждет, куда-то она опаздывает. К тому же она почти ничего не ест, что тоже, наверное, не способствует хорошему расположению духа. Однажды она с гордостью продемонстрировала мне какую-то малопривлекательную на вид траву в своем айфоне. “Это мой обед и ужин”, – сказала она со вздохом.
Борьба за сохранение “вечной молодости” и “ускользающей красоты” стала содержанием многих ее интервью. Женские журналы интересует, что надо делать с собой, чтобы так выглядеть. На этот счет у Ренаты припасена коронная фраза, которая сшибает с ног всех интервьюерш: “Вам это не поможет”.
– Почему все хотят от меня узнать советы и рецепты, что им читать? Пусть сами разбираются. Почему люди такие непытливые? Почему они все время спрашивают: чем вы мажетесь? Что читаете? Из чего состоите? Чем бы я ни мазалась, все равно им это не поможет. Они должны искать свое. Зачем кому-то знать, что я читаю? Чтобы понять, какая я, лучше посмотреть мои фильмы.
Ее фильмы, где она, как правило, играет главные женские роли, автобиографичны не больше, чем мемуары известных див. Правда и вымысел, страхи и иллюзии, самообманы и смутные надежды – все красиво упаковано в формат авторского кино. Но иногда там вспыхивает что-то подлинное и человеческое. Как, например, в финале ее “Богини”, когда она появляется в виде бомжихи, завернутой с ног до головы в какие-то газеты.
Образ безумной брошенной старости преследовал ее с самых молодых лет. Почему она так часто возвращалась к этой теме? Почему так часто рисовала себе и проигрывала одну и ту же ситуацию: районная больница, кровать в коридоре, капельница, из которой что-то уныло капает без всякой надежды на спасение. Все проходят мимо, не замечая в упор. Никому нет дела, что ты умираешь. Бедная, бедная жизнь с нищим рационом радостей и витаминов.
– Вот уж нищей я быть совсем не согласна, – возмущается Рената, когда я припоминаю ее же собственные слова. – Меня это по молодости пугало. А сейчас нет. Я и в районной больнице найду себе точку отсчета. Выбрасывайте меня в любом Бирюлеве-Товарном, и я не пропаду.
На самом деле пропасть было гораздо больше шансов в Камергерском переулке, на сцене МХТ им. Чехова, куда Ренату с подачи режиссера Адольфа Шапиро позвал Олег Табаков на роль Раневской в “Вишневом саде”. Театрального опыта никакого. Голос у нее не поставлен и не в состоянии “взять” зал на тысячу мест. Я сидел в пятом ряду и слышал лишь отдельные слова, которые она произносила. Но странное дело, зал оживлялся только при появлении Ренаты. Почти каждая фраза ее Раневской сопровождалась смехом и аплодисментами. Поначалу было непонятно: чему так все радуются? То ли знакомому и совсем “не театральному” лицу, то ли тому, что чеховский текст зазвучал совсем в другой, непривычной тональности. Входило ли это в замысел режиссера или нет, но в исполнении Ренаты “Вишневый сад” впервые на моей памяти был сыгран как комедия. Нет, она не комиковала, ничего не утрировала. Но глядя на нее, ты верил, что ее Раневская приехала из Парижа, что ее обокрал любовник, что ничего, кроме неприятностей, от встречи с родиной она не ждет, и очень бы ей хотелось поскорее отсюда уехать. Но брат, дочь, воспоминания и, конечно, этот мифический сад, едва угадываемый за знаменитым оливковым занавесом с чайкой, держат, не отпускают, не дают бежать со всех ног. А главное – деньги, точнее, их отсутствие. Вот что ее по-настоящему мучает, вот что является движущей силой всей этой истории. Поэтому она звучит сегодня так современно.
В том, как существовала Рената в предлагаемых обстоятельствах, было что-то непередаваемо самодеятельное. Так играют любители на клубных сценах. Но в этой наивной любительщине была своя несомненная трогательность, на которую мгновенно откликался зрительный зал, уставший от бывалых профессионалов. А просвещенным театралам в ее Раневской виделось даже продолжение некоей большой театральной Игры. В конце концов, МХТ начинался и впервые заявил о себе именно как театр любительский. И вообще, корень этого слова – любить. Слово из лексикона Ренаты.
К слову сказать, спектакль, которому все предсказывали неминуемый провал, держится в репертуаре уже больше десяти лет. Что есть, конечно, абсолютный рекорд. И теперь, когда идешь по Камергерскому переулку, все время натыкаешься на Ренатины портреты – тут и Раневская в “Вишневом саде”, и миссис Ройман в “Свидетеле обвинения”, а сейчас еще появились фотографии из спектакля “Северный ветер”, где она и драматург, и исполнительница сразу нескольких ролей, и впервые театральный режиссер.
…Спектакль уже шел больше года, когда я собрался его посмотреть. Зал был полон. По темному занавесу косо летел то ли дождь, то ли снег. Северный ветер… С первых же реплик я понял, что этот текст надо читать как стихи. Это и были стихи, написанные в только ей ведомом размере и ритме. И только о том, что всегда ее интересовало. О любви “до гроба и после гроба”, о смерти и о том, что “глаза плачут”. В какой-то момент мне показалось, что все киноистории, снятые Ренатой и не снятые, она запрятала сюда, в изящную мхатовскую шкатулку малой сцены. И властную старуху Вечную Алису в инвалидном кресле, сверстницу и соперницу ее героинь из фильма “Нет смерти для меня”. И нежную стюардессу Фанни – двойника ее Лары из фильма “Небо. Самолет. Девушка”, и ее сестру-близнеца Фаину, словно сбежавшую из “Богини”, где тоже звучала тема двойников. И даже чучело хорька на новогоднем столе выглядело репликой из “Последней сказки Риты”, где хорек был живой. Все эти темы, мотивы, сюжетные линии, как всегда, причудливо переплетены, так что и концов не сыскать. Да, может, и не надо?
Рано или поздно все равно появится одинокая почтальонша, вооруженная зонтом-оружием для защиты от навязчивых ухажеров. Обычно она приносит с собой известие о чьей-то смерти, или обвиняет кого-то в шпионаже, или расстреливает новогоднюю елку с криком “Мало безумия!”.
А в конце каждой сцены непременно уводит кого-то из героев с собой за кулисы. И никто не пытается ей сопротивляться. Зачем? Если эта почтальонша и есть сама Смерть. Если ее играет сама Рената Литвинова.
Странное дело, но все эти ее разговоры и игры со Смертью не производят тягостного, гнетущего впечатления. Может быть, потому что в ее текстах всегда много самоиронии, а в спектакле много актерского блеска, уверенного мхатовского мастерства, прекрасной музыки Земфиры…
А может, все дело в ветре? В этом северном ветре, сбивающем с ног, продувающем насквозь, не оставляющем после себя ничего, даже горстки пепла. “Северный ветер и холод воспитали нас. Сжимаешь руку в кулак…”; “Вы такая красивая, такая красивая, что я готов…” Обрывки этих реплик и монологов долго будут звучать в моей голове после спектакля, сливаясь с другими, слышанными или прочитанными в разные времена. И почему-то вспомнится крашеная немолодая блондинка из “Богини”, кричащая прямо в камеру: “Я звезда вашего периода, я звезда вашего периода”. И ведь правда звезда! Кто бы сомневался.
2018Звездные войны Андрей Могучий
По контрасту с “уходящей натурой”, преобладающей в моей книге, нынешний главный режиссер БДТ – человек сегодняшнего времени. Дело даже не в его бейсболке, просто это совсем другой театр, возникший где-то на пересечении цирка, массовых шествий, перформансов на железнодорожных вокзалах и таинственных действ в домах, заколоченных на ремонт. За свою жизнь Андрей Могучий много чего поставил. Для него Театр – это какой-то беспрерывный процесс, где не бывает антрактов на “другую жизнь” или “просто жизнь”. Театр – это самый неподатливый, мучительный материал, который только и знает, что сопротивляется. А Могучий пришел себе его подчинить – волей, талантом, властью, коварством, обманом, деньгами спонсоров… Чем угодно! Но тот должен быть таким, каким он его видит. Со стороны кажется, что в этом его неистовом упорстве есть даже что-то маниакальное. Тем более что режиссирует он сегодня не где-нибудь, а в некогда лучшем театре Советского Союза – в БДТ.
Мы провели в его кабинете в общей сложности несколько часов. В разговоре обнаружилось много странных совпадений: у обоих отцы – врачи. Общие воспоминания о Кубе и Монголии, где прошло детство. Поклонение Алисе Фрейндлих в юности… Мне было с ним легко и интересно, как с человеком, с которым связывает нечто большее, чем только профессиональная обязанность сделать интервью. Что-то из наших разговоров вошло в этот очерк.
Он всегда в черном. Это его униформа и одновременно камуфляж: бейсболка, куртка, джинсы – все черное. А борода белая, седая. Свою бейсболку не снимает никогда, ни при каких обстоятельствах. Так обычно делают, когда не очень хорошо с волосами. Но однажды я заглянул к нему в кабинет во внеурочное время, когда бейсболка валялась рядом на столе. Нет, с волосами все нормально. Густые, с проседью. Перец с солью. Правда, завидев меня, он сразу зачем-то ее надел.
“Кабинет” – это, конечно, сильно сказано. Вот у Г. А. Товстоногова был кабинет, это да. Сразу видно, что театральный деятель всесоюзного масштаба. А у Андрея Могучего – комната для разговоров-переговоров, где нет ничего, кроме случайной мебели и театральных афиш на стенах.
Когда я спросил, не хотел бы он перебраться этажом ниже в апартаменты бывшего шефа БДТ, он испуганно замахал на меня руками, как будто я предложил ему осквернить могилу.
– Вы что, вы что… Это невозможно, потому что невозможно никогда.
Для пущей убедительности Могучий даже закрывает уши ладонями. Почти как Ахматова (“Чтоб этой речью недостойной / Не осквернился скорбный дух”). Но колючие глаза из-под черного козырька смотрят насмешливо и хитро. Скрытый подтекст: “Не дождетесь! Так просто на дешевые провокации не поведусь”.
В БДТ все сложно, чинно и очень запутанно. Тут бесконечные коридоры, переходы и лестницы. Все утопает в бесшумных коврах с сине-голубым отливом. Народный художник Эдуард Степанович Кочергин собственноручно колдовал над их колером.
– Прежний синий кобальтовый мне казался слишком холодным, – раздумчиво признался он.
Ковры заказывали по его эскизам в Австрии. Нынешний цвет получился чуть мягче и как-то нежнее. Но есть в нем что-то нестерпимо имперское. Будто Версаль решил породниться с администрацией Президента РФ на Старой площади, а точнее, на Фонтанке. Так безукоризненно чисто в современных театрах не бывает. Так безукоризненно вежливы были, наверное, капельдинеры во МХАТе при К. С. Станиславском и В. И. Немировиче-Данченко. И даже самые незаметные служители театра, те, кто ежедневно пылесосит голубые ковры и натирает паркет в фойе, кажется, готовы добровольно раствориться или сами замуроваться в стену, если вдруг ты проходишь мимо.
По сравнению с БДТ другие театры, где за кулисами мне довелось бывать, – постоялые дворы рядом с фамильным замком английского баронета. С той же затейливой иерархией положений, с теми же церемониями. При мне на подносе помощник режиссера нес фарфоровую чашку с водой “для Олега Валерьяновича”. Это было величественно. На моих глазах обслуживающий персонал спектакля “Лето одного года” вытягивался по струнке и замирал, стоило кому-то произнести “Алиса Бруновна”.
В БДТ знают, как производить впечатление на московских провинциалов. Потому что даже если ты приехал на “Сапсане” в бизнес-классе, переступив порог этого театра, ты невольно почувствуешь себя бедным родственником из Крыжополя. Это Петербург, малыш! Отключи айфон и старайся, когда говоришь, не очень размахивать руками. Здесь это не принято. Здесь принято говорить всем “вы” и с гордым видом прогуливаться по фойе или залам театрального музея, где стены завешены шедеврами А. Бенуа, К. Петрова-Водкина, Б. Кустодиева, Н. Акимова, А. Тышлера и других выдающихся художников, в разное время сотрудничавших с БДТ.
Можно заглянуть и в мемориальный кабинет Г. А. Товстоногова, если, конечно, заранее записаться к его бывшему помощнику и секретарю Ирине Николаевне Шимбаревич, величественной даме с прекрасно поставленным актерским голосом, главной хранительнице товстоноговских сокровищ.
Больше всего меня поразила недокуренная сигарета Marlboro на столе и огромные, как ведра, хрустальные пепельницы. Известно, что Товстоногов курил без остановки всю жизнь. А когда попытался бросить, чуть не умер. Репетиции его последнего спектакля “На дне” шли плохо. Актеры не понимали, чего от них хочет Мастер. Но в какой-то момент в темноте зрительного зала вспыхнул спасительный огонек сигареты. “Гога закурил”, – пронеслось по театру. И сладковатый импортный дым наполнил актерские души непонятной надеждой, что вот сейчас, еще немного, и произойдет чудо, обыкновенное чудо под названием “спектакль Товстоногова”… Не случилось. Marlboro тогда не помог. А через полгода Георгий Александрович умер.
– Представляете, кто-то из посетителей выдрал из численника на его столе страничку с 23 мая, – сокрушается Ирина Николаевна. – Что за люди!
А я хоть и делаю скорбную мину, про себя думаю: может, это и правильно, что нет в его кабинете траурной даты, этих черных цифр, означающих конец прекрасной театральной эпохи.
Теперь понятно, почему Андрей Могучий сюда ни ногой. И страшновато, и опасно, и неуютно, да и последствия могут быть самые плачевные. Конечно, пять лет тому назад Могучий все это понимал, когда соглашался возглавить БДТ. Ведь его сюда позвали не по мягким коврам ходить и в антикварных креслах сидеть, а надеть каску прораба и всерьез заняться реконструкцией. Она тогда безбожно затянулась, грозя похоронить под своими руинами и былые легенды, и новую театральную реальность, апологетом которой считался Андрей. Это был больше чем вызов. Это уже судьба.
А до исторического назначения была большая жизнь. Я расспрашивал Андрея и про Кубу, где он оказался в раннем детстве, и про Монголию, куда он в более сознательном возрасте переехал вместе с родителями, работавшими в ВОЗе (Всемирная организация здравоохранения). На самом деле мы недооцениваем важность этих первых впечатлений, которые закладываются в подсознании, чтобы потом проявиться самым неожиданным способом. И кто знает, может быть, эта тяга к “яркой картинке”, как он сам любит говорить, к этим карнавальным хороводам и массовым действам идет от первого карнавала, увиденного на улицах Гаваны. С зажигательными танцами на передвижных платформах, с перьями и позументами на размалеванных мулатках, с фейерверками в ночном небе и облаком сладкой ваты на палочке в качестве бонуса ко всей этой красоте. А Монголия – бескрайние степи, одинокие островерхие юрты, буддистские храмы. Ощущение собственной малости и потерянности посреди вечного безмолвия, такое знакомое актерам Могучего на открытой всем ветрам сцене в “Грозе” или на вздыбленных подмостках “Пьяных”.
– На самом деле обе страны очень похожи, – вспоминает Андрей, – в обеих строили коммунизм и жили мечтой о прекрасном будущем. Только у кубинцев были вуду, а у монголов – шаманы. Одни были католиками, а другие – буддистами. Из кубинских впечатлений почему-то в память врезался лохматый Че Гевара в берете. Он как раз тогда уехал в Боливию “экспортировать революцию”, где его и убили. На Кубе был объявлен пятидневный траур. Только и разговоров было, что про Че. Я не очень понимал, что происходит, но чувствовал, что совершается что-то необыкновенное. Фактически на наших глазах рождался один из главных мифов XX века. А Монголия запомнилась бесконечными разъездами по пустынному, абсолютно безлюдному краю. У нас с отцом по пути то и дело возникали дацаны – буддийские монастыри, где нас встречали бритые люди в оранжевых и желтых одеждах. Это были лам-монахи. А внутри этих храмов шла какая-то своя загадочная жизнь, пугавшая и одновременно волновавшая меня. Я не знал тогда назначения круглых зеркал, имеющих охранный смысл. Не мог прочитать мани – тибетские слоги мистической формулы-молитвы. И, конечно, было даже страшно взглянуть на старинные свитки с рисунками, изображающие разные адские пытки и людей с содранной кожей, но где-то в моем подсознании все это и сегодня продолжает жить, влиять, подсказывать какие-то театральные решения.
Могучий не любит старательно застраивать и обживать подмостки. “Уют”, как, впрочем, и “психология” – это слова не из его театрального лексикона. Его любимая мизансцена – фронтальная. Он идет напролом, намеренно сокрушая воображаемую линию рампы и да-же стены сценической коробки. Со зрителем особо не церемонится. Если пришли, включайтесь в работу. На его спектаклях не расслабишься. Там все время что-то происходит: гремит, шипит, взрывается. Какая-то адская смесь булькает у него на плите, которую он только успевает помешивать, подсыпая всё новые и новые снадобья и ингредиенты. На самом деле он – прирожденный доктор Гаспар Арнери из “Трех толстяков”, может быть, последний из театральных колдунов и режиссеров-алхимиков, верящих в существование магического камня. Без этих поисков и безумных экспериментов ему становится невыносимо скучно.
Сам Могучий – человек невероятно деятельный и моторный. Про него доподлинно известно, что он в молодости отменно играл в волейбол за сборную своего Ленинградского института авиастроения. А еще, не имея ни блата, ни денег, кроме стипендии, умел виртуозно прорываться на самые дефицитные ленинградские спектакли. У него был даже разработан собственный оригинальный метод: он набрасывался с просьбой о лишнем билетике уже в самом метро. Причем не у эскалатора, где дежурили другие театралы, а прямо в вагоне поезда на подъезде к заветной станции “Владимирская”.
Почему-то я хорошо вижу эту картину: огромный парень под два метра прочесывает один вагон за другим, повторяя, словно завороженный: “Нет лишнего билета, нет лишнего билета…” И бледные ленинградцы в своих вечных пальто и плащах цвета ненастья испуганно замирают под его нечеловеческим натиском, прижимая к груди портфели и сумки. Такому последнее отдашь, не то что билет в театр!
Вместе со своими сокурсниками Андрей стал заядлым театралом. Самое удивительное, что никто из них потом по специальности не стал работать, хотя все честно защитили свои дипломы. Кто-то ушел в бизнес, кто-то занялся чистым творчеством. Но отношения остались, и даже некоторые из них, с его подачи, теперь вошли в клуб друзей БДТ, оказывая посильную поддержку любимому театру и бывшему сокурснику. Впрочем, во времена юности Могучий и его товарищи больше любили Театр Ленсовета, которым тогда руководил Игорь Владимиров, а в главных ролях блистала Алиса Фрейндлих.
Пройдут годы, и свой первый спектакль в БДТ он посвятит ей. И не просто в виде имени на афиши. Алиса – это пароль, открывающий двери в кладовые памяти его детства и юности. Магия, не подлежащая разгадке, которая, однажды подчинив себе, поменяла Могучему профессию и даже судьбу. И, наконец, это Любовь, которая, как выяснилось, никуда не делась за долгие годы его странствий и поисков, а продолжала жить, чтобы вспыхнуть с новой силой, как только он снова оказался в плену неповторимого голоса и насмешливых, многоопытных глаз в очках учительницы начальных классов.
“Да что вы говорите!” – всплескивала руками Алиса Бруновна, пока Андрей рассказывал ей о своем замысле по роману Льюиса Кэрролла. Она верила и… не верила ему. Верила, потому что пылкими исповедями и признаниями в любви ее не удивишь – за свою жизнь слышала и не такое! И от кого! А не верила, потому что к тому времени уже тридцать лет прослужила в БДТ, куда пришла премьершей, всеобщей любимицей и всесоюзной кинозвездой, чтобы стать одной из ведущих актрис товстоноговской коллекции, неукоснительно подчиняющейся общим правилам и заведенным порядкам. Никому здесь не позволено их нарушать. Даже ради Нового Театра. А бенефис под названием “Алиса” – это, конечно, против всяких правил БДТ, поперек всего. И отсутствие внятной драматургии, которую надо подменять актерскими импровизациями и собственными воспоминаниями, – тоже непорядок. Так в академическом театре не полагается. И, в общем, много еще чего Алиса Фрейндлих могла бы сказать высокому бородачу в черном и бейсболке. Но она говорить не стала, и правильно сделала. А только курила и ласково улыбалась, желая поддержать новоиспеченного главного режиссера. В конце концов, со времен Игоря Владимирова никто не посвящал ей спектаклей. И она уже успела отвыкнуть от особого, единственного в своем роде ощущения – быть не просто исполнительницей главных ролей, но смыслом и содержанием всей постановки.
Собственно, Могучий, придя в БДТ, хотел сделать то, о чем мечтали все театральные реформаторы XX века, – вернуть Театр на подмостки. Не зависеть больше ни от слов драматурга, ни от идеологии разных начальников, ни даже от традиционного пространства театральной коробки.
“Драма родилась на площади и составляла увеселение народное, – общеизвестные мысли Пушкина. – Народ, как дети, требует занимательности действия”. И еще: “Народ требует сильных ощущений…”; “Изображение страстей и души человеческой для него всегда занимательно…” Вот это и есть лучшая формула Театра Андрея Могучего. Он сам, можно сказать, пришел с площади. Его уличные акции и перформансы конца 1980-х, невероятно популярные среди питерской арт-тусовки, составили его первую славу и сделали ему имя лидера нового неофициального искусства. Вместе с Полуниным и его “Караваном мира”, вместе с Курехиным и его “Поп-механикой” Могучий и “Формальный театр” (так назывался его коллектив) стали частью большой Игры, призванной обновить постсоветскую жизнь, привнести в нее новые краски, звуки, ощущения.
Но во всем том, что он делал, было столько драйва, жила такая всесокрушающая энергия и жажда свободы, что публика благодарно откликалась и на медитативные этюды в “Лысой певице” по пьесе Эжена Ионеско, и на бодрый комикс по “Преступлению и наказанию”, где действовало сразу пять Раскольниковых, и на причудливый коллаж из классических текстов в спектакле “Две женщины”, составленный по произведениям Тургенева, Беккета, Софокла, Платона и других.
Принцип театрального коллажа в какой-то момент так увлек Могучего, что свой знаменитый уличный перформанс “Пьеса Констатина Треплева «Люди, львы, орлы и куропатки»” он весь составит из чеховских знаков, кодов и шифров. Там будут и обязательные три сестры, и самовар с чаем, который нужно пить, пока рушится судьба, и Лопахин, бегающий с топором, и дымящийся вишневый сад… Правда, в отличие от шумных и брутальных действ “Формального театра”, к которым он успел при-учить зрителей, “Пьеса” получилась скорее нежной, мечтательной и печальной. Без внятного начала и очевидного финала, как бы постепенно растворяющегося в левитановских сумерках и замирающего под стук колес проносящихся невдалеке электричек.
– Мы делали то, что нам нравилось. Сами и смотрели. Не нравится, что делают другие, – сделай сам. Это самый конец восьмидесятых. Никто не мог помыслить всерьез, что можно организовать собственный театр. Ни к какой тусовке я не принадлежал, никто меня особо не продвигал. Всегда сам по себе. Но “Формальный театр” быстро обзавелся своим кругом поклонников и зрителей. Попасть на наши спектакли было довольно трудно. Не в последнюю очередь потому, что играли мы в самых неожиданных, непривычных для театра местах. У нас не было своего помещения. Точнее, оно было, но очень далеко и довольно неудобное. А нас тянуло в центр. Нам надо было выживать. Мы играли то в здании Мухинского училища, то в театральном музее, то в каких-то лифтах, то на заброшенных складах. Если честно, я не люблю слово “эксперимент”, но все, что мы тогда делали, было вынужденным экспериментом по освоению нового театрального пространства. Тогда через нас прошла вся запрещенная литература: Беккет, Ионеско, Гротовский. Все абсурдисты, все сюрреалисты… Мы вгрызались в них с таким голодным рвением, будто хотели за два-три сезона наверстать десятилетия нашей немоты и вынужденного неведения. Это был ликбез для переростков, которыми мы тогда себя ощущали. У нас и в мыслях не было становиться модными. Более того, считалось, что модным быть стыдно. В эти годы мы прошли через разные опыты, течения, увлечения. Всерьез и надолго погружались в тайны парапсихологического театра.
– А кто больше всего повлиял?
– Огромное влияние лично на меня оказал Анатолий Васильев и его театр. Я даже пытался к нему поступить в Школу драматического искусства. Но после многочасовых собеседований, затягивавшихся порой до утра, он так меня и не взял. Что я тогда почувствовал? Я был убит. Лежал на полу в комнате своего друга и не мог пошевелиться. Жить было незачем. А потом подумал, что это тоже хороший опыт. Васильев первый мне преподал урок: не балдей от себя, а то потом будет очень стыдно.
Вообще у этого большого человека в черной бейсболке оказались, почти как у Лопахина, нежная душа и тонкие пальцы. При всем своем космополитизме и любви к западному театру Могучий – очень русский режиссер. Это было заметно уже в его ранней “Школе для дураков” по прозе Саши Соколова – почти бессловесном, вибрирующем, мерцающем скрытым сиянием действе. И в спектакле “Между собакой и волком”, будто бы собранном из разного помоечного старья, которое душит и давит, заставляя персонажей низко пригибаться к земле, не давая свободно вздохнуть и увидеть голубое небо. (“Этот спектакль – мои разборки с Россией, – скажет Андрей. – Образ страны, с которой я взаимодействую – именно так, под низким потолком, где все постоянно скрючены, будто заглядывают в окошко кассы”.)
И много позднее в одном из лучших своих спектаклей – “Два Ивана” по гоголевской “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”, который он поставит в Александринке – он снова вернется к проклятым русским вопросам “что делать?” и “кто виноват?”.
У него там зрители сидели на сцене, заваленной мятой бумагой разных прошений, жалоб и судебных отчетов. Из телевизоров в однотипных квартирах главных героев неслось нескончаемое “Лебединое озеро”, а на фоне бархатных лож бывшего императорского театра высился одинокий дачный сортир. Действие периодически замирало, чтобы под музыку струнного оркестра вступал хор с бессмертным гоголевским воззванием: “О Русь, куда несешься ты? – Не дает ответа!” И у Андрея Могучего, похоже, его тоже нет. А что есть, спрашиваю я его сейчас? Что для него самое главное в жизни?
– Люблю жить. Люблю жизнь. Люблю, когда интересно, когда мне любопытно и все внове. Иначе зачем тогда все это? (Обводит рукой пустую комнату с афишами на стенах. – С.Н.) Причем интересно мне не только в драматическом театре. Были раньше и цирк, и балет с Дианой Вишневой в Мариинском, а уж церемоний, разных открытий и закрытий – не счесть. Театр – вещь одноразовая. Он не существует вчера, и его не может быть завтра. Театр только про сегодня и сейчас. На наше несчастье, теперь появилось видео – главный развенчатель мифов и легенд, но всегда можно свалить вину на оператора или плохое качество съемки. Видеозапись – это все-таки не театр.
Назначение Андрея Могучего на пост художественного руководителя Большого драматического театра было из разряда странных министерских причуд. Но для себя он воспринял это как некий художественный акт, который надо отыграть в традициях большого стиля. С одной стороны, конечно, чистая авантюра. Подумать только: где он, Андрей Могучий, сокрушитель театральных устоев и бездомный формалист, и где самый прославленный театр в СССР? С другой стороны – дико крутой вираж, в который если не вписаться, то наверняка сломаешь шею.
На встрече с труппой он скажет историческую фразу, которую ему потом часто припоминали: “Все произойдет медленно и не больно”.
– А как было на самом деле? – спрашиваю я.
– Все было быстро и очень болезненно, – грустно смеется Могучий.
Одна из главных проблем заключалась в том, что раньше с БДТ у него никаких лирико-интимных отношений не было. То есть он, как и все, восхищался “Историей лошади”, аплодировал “Хануме” и “Мещанам”. И да-же был немного знаком с Диной Морисовной Шварц, главным советчиком и завлитом Товстоногова, которая и посоветовала Могучему поступать на режиссерский. Но обо всем этом он рассказывает без романтического тремоло в голосе, как-то очень буднично и спокойно. Особенно по контрасту с монологом про Алису Фрейндлих.
– А самого Товстоногова видели?
– Видел два раза, на банкетах.
– Но не смели подойти…
– Нет, конечно. Сидел в углу. Зато запомнилось, как он входил. Всегда со свитой. Все тут же замолкали. Он не шел, а буквально вплывал, как океанский лайнер, которому тесно в любом порту.
И вот теперь каждый день Могучий проходит мимо его бронзового бюста в фойе, общается с его актерами, которые застали Г.А. в силе и славе. Время от времени сталкивается лицом к лицу с его зрителями. Они постепенно уходят. Но они есть. Старая ленинградская гвардия со сменной обувью в полиэтиленовом пакете. Я видел, как в гардеробе БДТ дамы переобуваются в принесенные вечерние туфли на каблучках. Как мужчины поправляют галстуки перед зеркалом и придают своим лицам торжественно-гордое выражение. Как потом они ходят по кругу в фойе, чинно раскланиваясь с другими парами. Это ведь тоже Театр! Уже почти исчезнувший, смытый волнами нового времени, почти ушедший в песок и пепел, но здесь он чувствует себя на своей территории. Еще может встрепенуться и даже выдать какую-нибудь дерзкую колкость, не щадя честолюбия худрука.
– “Трех сестер” Товстоногова я смотрела двадцать шесть раз, а с нынешних “Сестер” ушла после первого акта, – с вызовом скажет ему зрительница, обладательница старинных острых каблучков.
Или уже на собрании труппы он услышит от знаменитой актрисы: “Раньше БДТ был театром для интеллигенции. А теперь сюда ходит публика «Дома-2»”.
И что на это ответить? Надвинуть бейсболку поглубже на глаза и… ставить спектакли. После “Алисы”, признанной главным петербургским хитом, Могучий выпустит “Что делать?” по Чернышевскому. И эта его премьера тоже станет событием, взбудоражившим город. А потом будут спектакли “Пьяные” Вырыпаева, “Гроза” Островского, “Губернатор” по Л. Андрееву. Он соберет свою команду актеров: Ируте Венгалите, Андрей Шарков, Анатолий Петров, Дмитрий Воробьев, Валерий Дегтярь, Василий Реутов, Елена Попова… Всех не перечислить. Поэтому у него обычно масштабные и многонаселенные спектакли. До девяноста человек на сцене в “Трех толстяках”. Это рекорд! Его позицию разделяют и режиссеры, которых он исправно приглашает в БДТ: Виктор Рыжаков выпустит “Войну и мир”, Андрий Жолдак – “Жолдак Dreams: похитители чувств”, Владимир Панков – “Три сестры”.
– Нравиться всем нельзя. Да и нет у меня такой цели. И вообще я думал, что будет хуже. Но мне хотелось, чтобы люди перестали таращиться в свои гаджеты и смотреть по телевизору разные глупости, а пришли в театр. Почему нет? Но для этого надо научиться понимать их язык. Сейчас поколения очень быстро стареют. Смотришь, на вид, кажется, нет двадцати пяти, а рассуждает как замшелый старичок. “Вот в наше время”… “Не в наше время”. А мне необходимо слышать, как пульсирует сегодняшнее время, как рождается новая мысль. Я многому учусь у собственных детей. У меня их четверо. И все они ходят к нам в театр…
– Но БДТ не ТЮЗ!
– Правильно! Но и они не такие уж дети. Если бы вы слышали, как они рассуждают о квантовой механике, какие параллели и ассоциации у них возникают во время спектаклей… Да они стократ более информированы, чем мы, взрослые. А мы пытаемся их чему-то учить, что-то такое втолковывать, что они и без нас знают. Я кожей чувствую, как сегодняшний театр нуждается в “техническом перевооружении”, назовем это так. И в этом смысле проект “Три толстяка”, который мы выпустили в трех эпизодах, как “Звездные войны”, выходит за рамки только театрального действа. Он сам продуцирует собственную жизнь и сам живет ею. Это гигантская история, не подлежащая никакой транспортировке. Но она могла возникнуть только здесь, на этой сцене.
Могучего тянет масскульт. У него в “Трех толстяках” есть лига Света и лига Тьмы. Добрые силы, как им и полагается, слегка туповаты и медлительны, темные – сообразительны и находчивы. Тибул, к ужасу зала, ходит по проволоке над головами партера без всякой страховки. Из радиоприемника несется голос Виктора Цоя про “войну 2000 лет”. Когда война таки доберется до лаборатории профессора Арнери, то на сцену выползет настоящий танк, как в старых спектаклях Театра Советской армии. А потом среди дымящихся руин возникнет цирк-шапито с клоунами, фокусниками и даже медведем в натуральную величину по кличке Мигель (в его костюме попеременно выступают актеры Дмитрий Смирнов или Евгений Филатов).
Кстати, медведь неожиданно прижился в БДТ и теперь ведет свою собственную отдельную от “Трех толстяков” жизнь. К тому же он стал блогером. Бродит по театру с селфи-палкой. Раньше от него в страхе шарахались, а теперь привыкли. Ну вот есть у нас Мигель. Местная, можно сказать, достопримечательность. Иногда он выходит на набережную Фонтанки, где все с ним бросаются фотографироваться и делать селфи.
Может быть, когда-нибудь он станет чем-то вроде мхатовской “Чайки” – эмблемой нового БДТ. Но почему-то не думаю, что эта идея должна понравиться Могучему. Он не любит ни повторять, ни повторяться. В конце концов, образ Мигеля – всего лишь одна из его театральных причуд. Одинокое чучело со стеклянными глазами. Довольно грустное, если вдуматься. Что он может? Сидеть с другими актерами в буфете, фотографироваться со зрителями, выходить на сцену, веселить детишек, которые радостно откликаются на его появление.
– Смотри, это же Мигель, Мигель! – кричат они в полный голос, показывая пальцами на сцену, забыв, что находятся в театре.
Но им никто не делает замечания. Зачем? Пусть кричат. Теперь в БДТ можно.
2018Другая вера Алиса Фрейндлих, Валерий Ивченко, Светлана Крючкова, Нина Усатова
В основном с героями этих очерков я общался во время интервью, отснятых для программы “Культурный обмен” на ОТР. Выглядело это так: пустынное театральное фойе в БДТ, утопающее в осенних петербургских сумерках, три софита, два стула, столик, две камеры… Они приходили ко мне по одному, как в кабинет к дантисту. И смятение, которое читалось на их лицах, было сравнимо разве что с предвкушением от визита в зубоврачебный кабинет. Похоже, это была не самая хорошая идея – снимать их в театре. Под грозным взором бронзового Товстоногова, находясь в непосредственной близости от кабинета А. Могучего, ощущая за спиной всю сложно устроенную махину под названием “Большой драматический театр”, особо не разговоришься. К тому же грядущий юбилей – 100 лет – не слишком располагал к откровениям. К сожалению, тогда поменять на ходу ничего не удалось. Ведь это только на первый взгляд может показаться, что театр сплошь состоит из вдохновенной игры и веселых импровизаций. Вовсе нет! Как правило, это в высшей степени регламентированное и бюрократическое заведение, где все отлажено, просчитано, выверено, где каждый должен знать свое место и никогда не говорить лишнего. Тут все находятся при исполнении, даже народные артисты, любимцы публики, чьи имена “делают кассу”. Не особо помню, как здесь было во времена Товстоногова – все-таки я застал его последние сезоны, – но при Могучем именно так.
К тому же ситуация усугублялась тем, что прекрасные актеры, с которыми мне предстояло пообщаться, прожили свою жизнь совсем в другой театральной вере и поклонялись другим богам, нежели их нынешний главный режиссер. Репертуар, школа, актерская техника, профессиональные навыки и умения, наработанные за годы служения традиционному психологическому театру, по моему убеждению, это не самое главное из того, что сегодня требуется режиссеру Могучему. А вот что требуется, они не всегда понимают и не всегда им это могут объяснить. А время уходит, драгоценное актерское время, которое безнадежно убывает, исчезает с каждой несыгранной ролью, с каждым не прожитым на сцене днем. Смириться с этим нельзя – человек не может смириться с тем, что ему не хватает воздуха. Можно, конечно, нацепить непроницаемую улыбку и отделываться формальными, вежливыми ответами на рискованные вопросы. И правда, зачем сердить начальство и нарываться на неприятности? А можно предаться элегическим воспоминаниям о том, как это было когда-то прекрасно, – самый беспроигрышный ход. Или вообще отказать в интервью, как это сделала вначале Светлана Крючкова. “Со мной надо договариваться ЗАДОЛГО заранее”, – напишет она мне в Messenger. Впрочем, потом сменила гнев на милость, и мы чудесно пообщались по телефону.
О, эти актеры! Эта вечная оборона, линия Мажино, которую они возводят всю жизнь, чтобы защититься от унижений, комплексов и обид, неизбежных при их профессии. С кем-то удалось ее преодолеть, а с кем-то мы так и остались по разные стороны незримого фронта, прошедшего между нами в фойе Большого драматического театра осенью 2018 года.
Очень личное Алиса Фрейндлих
Ее первый спектакль в БДТ назывался “Киноповесть с одним антрактом”. Сколько лет прошло, а было будто вчера. Сине-голубой зал, забитый под завязку; дымчатые очки Товстоногова в импортной модной оправе, поблескивающие где-то в глубине директорской ложи; Дина Морисовна Шварц, главный стратег его триумфов, тревожно и печально вглядывающаяся в сгущающуюся полутьму: все ли критики правильно рассажены, все ли на своих местах?
Я только что получил из ее рук контрамарку, и она сокрушалась, что лучше места устроить не смогла.
– Вы же понимаете, это всё из-за Алисы!
Одним безмолвным жестом, как в балетной пантомиме, она обводила вестибюль, где волны зрителей прибывали, как во время шторма, грозя снести на своем пути невозмутимых билетерш. И вся эта буря носила, как полагается, нежное женское имя.
“Бедствие всеобщего обожания”, любимое выражение Беллы Ахмадулиной, – как раз про Алису Фрейндлих. Тогда, теперь, всегда. На кого-то это бедствие обрушивается в юности, калеча на всю последующую жизнь, а кто-то познает его в зрелые годы, с меньшими рисками для психики и душевного здоровья. Тем не менее актеру всегда надо быть готовым к тому, что за неистовым поклонением может последовать обидное охлаждение, а за массовым ажиотажем – полное равнодушие.
Фрейндлих это не грозило. Ее любили всегда. Страстно, трепетно и пылко. Причем с годами все больше. Как английскую королеву, которая под старость вдруг обрела невиданную популярность и у себя на родине, и за пределами туманного Альбиона. Я думаю, сходство с Алисой Фрейндлих тут в одном: люди крепко держатся за мифы и легенды, дающие им ощущение неизменности бытия. Есть имена, без которых нельзя себе представить нашу жизнь. Есть лица, на которых отпечаталось со всеми своими морщинками наше время. И наконец, есть голос… Неповторимый голос прекрасной сказочницы. Чистейшее сопрано, заставившее нас когда-то поверить, что “у природы нет плохой погоды”. За одну эту песню ей можно быть благодарным всю жизнь. А ведь Фрейндлих не только пела в “Служебном романе” – она там явила одно из самых впечатляющих преображений за всю историю советского кинематографа. Причем без всякого фотошопа и компьютерных изысков. На дворе был 1976 год, мы не знали таких слов, как “ботокс”, “филлеры”, “блефаропластика”. В ее распоряжении была только влюбленная камера Владимира Нахабцева и французская компакт-пудра Lancome, которая ей тогда по случаю досталась. Но и этого хватило, чтобы кадры с участием Алисы светились абсолютным счастьем и немеркнущей красотой.
Это потом она в своих интервью объясняла, что вообще-то очень нефотогенична, что все операторы с ней ужасно маются и что, оказывается, в кино существует “магическая точка” Фрейндлих, которую еще надо суметь вычислить путем долгих проб и ошибок.
“И вот тогда, из слез, из темноты, из бедного невежества былого…”
В жизни прежде всего бросается в глаза, что она очень маленького роста. На сцене это, надо сказать, совсем незаметно. И в кино тоже. Но в жизни она – типичная травести, приговоренная своей внешностью к ролям разных девочек и мальчиков из тюзовского репертуара. Это в наши дни стало дурным тоном назначать на детские роли взрослых актрис. А когда Фрейндлих начинала, только они и играли мальчишей-кибальчишей и томов сойеров. Смотреть на это сейчас без содрогания невозможно. Но тут случайно из бездн YouTube я выудил маленькую сцену и песенку Малыша из “Карлсона” в ее исполнении. И это было так прелестно сыграно, с таким вкусом и правильной дистанцией, с такой трогательной точностью схвачена была интонация застенчивого и странноватого инопланетянина с вихрами, в коротких штанишках. Причем без всякого умилительного сюсюканья, а как-то очень по-взрослому. С чувством бесконечного достоинства, которого совсем не ждешь от маленького мальчика.
Алиса Фрейндлих – это прежде всего и во всех обстоятельствах внутреннее достоинство. Прямая спина, доброжелательный, но как бы отстраняющий от себя все случайное и ненужное взгляд. Особый, мгновенно узнаваемый ленинградский выговор – каждое слово как фарфоровая чашка на блюдце. Никакого даже легкого намека на нервный дребезг.
Фрейндлих по национальности наполовину немка. И не только по крови, но и по западной манере существования на сцене. Очень деятельная, всегда подвижная, привыкшая легко заполнять собой пространство сцены и быстро-быстро, с максимальным напором так произносить свой текст, чтобы никто не успел заскучать. Впрочем, даже когда она молчит, оторвать от нее глаз невозможно. Кто-то называет это “магией”, кто-то – “эффектом присутствия”. Не знаю. Думаю, и то, и другое, но есть и что-то еще – врожденная привычка быть в центре, фокусировать на себе внимание зала, идущая с тех времен, когда вокруг нее выстраивался целый Театр. И делал это ее муж, замечательный режиссер Игорь Владимиров.
От их союза, продлившегося без малого почти четверть века, мало что осталось для театральной истории: какие-то телевизионные фрагменты, обрывки, эпизоды, заснятые второпях и при плохо выставленном свете. Только один их спектакль – “Люди и страсти” – удостоился полноценной записи. И в этом тоже проявлялось отношение к их Театру. Казалось, он обречен всегда быть вторым после товстоноговского БДТ, проходить по разряду многообещающих и талантливых, но так и не достигших первого места в высшей театральной лиге. Впрочем, место там было только одно. И оно было прочно занято. И ни всесоюзная популярность, ни толпы жаждущих “лишнего билета”, ни бешеный успех и аншлаги, ни “Красные стрелы”, привозившие и увозившие толпы московских поклонников, – ничто не могло изменить судьбу Театра им. Ленсовета и его руководителя. Он был приговорен оставаться вторым. Представляю, как это ранило красивого, представительного и обаятельного Игоря Петровича Владимирова.
Тогда мы ничего этого не знали. Тем более что ленинградские дела были всегда скрыты от столичных московских глаз туманом многозначительных умолчаний и тайн. Помню только свое ощущение абсолютного восторга от гастролей Театра Ленсовета в 1976 году, проходивших в Театре им. Маяковского. Столько страсти, столько неподдельной энергии, такая жажда реванша жила в этих зонгах, в актерской игре на разрыв, наотмашь! Режиссура Владимирова была в чем-то прямодушной и даже грубоватой. Изыск и благородство привносила в нее именно Алиса Фрейндлих. Она неутомимо плела свои словесные и вокальные кружева, демонстрируя поразительный актерский диапазон: могла играть старух и детей, красавиц и уродин, королев и простолюдинок.
Наверное, со времен ее тезки Алисы Коонен ни одна актриса в нашем театре не могла похвастаться таким обширным репертуаром, как у нее. Ни у кого не было такой свободы выбора и одновременно такой мощной режиссерской поддержки. Особенно это было заметно, когда она играла в “Преступлении и наказании” Катерину Ивановну. Ее великая роль, выстроенная как пластический монолог, где горячечная речь Достоевского задавала ритм предсмертной пляске. Так вдруг пыталась танцевать на своих последних концертах Эдит Пиаф, зная, что может упасть и умереть в любую минуту. И так играла Фрейндлих, бренча в бубен городской нищенки и сумасшедшей. Эти ее молящие руки, царапающие воздух, какие-то непонятные французские слова, которые срывались с губ в предсмертной горячке перед тем, как она падала замертво. Дорого бы я сейчас отдал, чтобы снова это все увидеть и пережить. Но нет, это невозможно. Этого театра больше нет. И он закончился много раньше, чем Алиса Фрейндлих перешла Фонтанку через Лештуков мост и отдала свою трудовую книжку в отдел кадров БДТ. Ведь она была советская артистка, и ей надо было, чтобы шел стаж.
Но дело, конечно, не в стаже. Надо смириться, что существуют тайны, которые так и останутся нераскрытыми. Почему расстались Фрейндлих и Владимиров? Почему она ушла из Театра Ленсовета? Что послужило причиной их разрыва? Есть разные версии заинтересованных и в меру компетентных лиц, но главная героиня упорно молчит уже больше тридцати пяти лет. Признаем за ней это право. Когда я недавно брал у Алисы Бруновны интервью и вновь задал этот вопрос, она уклончиво сказала, тщательно выбирая слова:
– Наше расставание было горьким для Владимирова, горьким для театра. Я понимала это и поклялась, что буду доигрывать свои спектакли. Но Игорь Петрович этого не захотел, он считал, что ностальгия по прошлому успеху будет только портить всем настроение в театре, что надо двигаться дальше, а мое присутствие – в каком-то смысле помеха. И спектакли с моим участием либо вообще снимались из репертуара, либо туда вводились новые актрисы. В театре было много молодых, на кого можно было оставить мои роли. Вот я и оставила.
Собственно, тогда, в 1983 году, я стал свидетелем ее исторического прихода в БДТ и первого появления на прославленной сцене. Как потом мне рассказывал Эдуард Кочергин, главный художник БДТ, “Киноповесть” репетировала другая актриса. Фрейндлих появилась, кода репетиции были в разгаре. Ни по возрасту, ни по опыту героиня Володина Алисе не подходила. Пришлось переписывать пьесу, менять партнеров. Все эти нестыковки и швы, может быть, не очень бросались в глаза. Тем не менее для БДТ, где привыкли к идеальной выделке всех спектаклей, ситуация с пришлой звездой выглядела поначалу дискомфортной.
Для самой Фрейндлих это был своего рода tour de force, когда она должна была доказать городу и миру, что может выжить сама по себе. В какой-то момент посреди спектакля на всю мощь динамиков врубался рок-н-ролл, и она начинала танцевать одна в луче прожектора. И, наверное, это была лучшая и главная минута в спектакле, на которую зрители неизменно отзывались благодарными аплодисментами. Наглядное доказательство, что Алиса не собиралась сдаваться и могла легко задвинуть соперниц и по ту, и по другую сторону Фонтанки.
Конечно, Товстоногов оценил ее кураж, но за те пять лет, что ему оставалось жить, ничего специально на нее так и не поставил, если, конечно, не считать его кризисный спектакль “На дне”, где она сыграет Настю, и комедию Нила Саймона “Последний пылкий влюбленный”. Надвигались новые времена, и мастерски сделанный бродвейский хит на двух звезд был самым надежным вложением в нестабильной ситуации, когда зрители переставали ходить в театр, переключившись на телевизионные трансляции заседаний и дебатов в Верховном Совете. По иронии судьбы последнее, что успел сделать Товстоногов как режиссер, – это телевизионная запись “Последнего пылкого влюбленного” с Алисой Фрейндлих в главной роли. 10 мая 1989 года он закончил монтаж, а 23-го умер. Наверное, эта смерть и все, что за ней последовало, стало затянувшимся эпилогом Большого Драматического.
В девяностые и нулевые Театр все больше превращался в музей. Благородный, хранящий в безупречном порядке свои сокровища и раритеты, но… музей. И даже отдельные удачи Алисы Фрейндлих, такие как леди Митфорд в “Коварстве и любви” или Москалева в “Дядюшкином сне”, ничего существенного в ее актерской судьбе изменить не могли. Нельзя сказать, что эти годы она скучала без дела. Были у нее и новые фильмы, и концертные поэтические программы, с которыми она гастролировала по миру, и даже два спектакля на стороне. “Оскар и Розовая дама” в постановке Владислава Пази – еще один ее признанный шедевр на тему “вечного детства души”, упраздняющий всякие представления о возрасте и прочих малоинтересных частностях. И, конечно, “Осенние скрипки” у Романа Виктюка, драма последней любви в элегантной оправе из песен А. Вертинского и стихов Серебряного века.
…А потом появился Андрей Могучий. На самом деле рано или поздно он должен был объявиться. Это очень сложная и по-своему увлекательная история, как человек идет за своей мечтой. Проходят годы, даже десятилетия, рушатся режимы и царства, меняются названия городов, рождаются и закрываются театры, а человек, пройдя все, что можно и нельзя пройти, наконец стучится в заветную дверь и с порога произносит фразу, которую повторял, как мантру, долгие годы: “Алиса Бруновна, я хочу поставить с вами спектакль”.
Так это было в действительности или как-то иначе, мне неизвестно. Но что-то подобное было. Он точно знал, про что будет их спектакль и что она там будет делать. И точно знал, как будет называться спектакль. АЛИСА. А как еще? Без вариантов. Ну, а дальше – Льюис Кэрролл как самый очевидный соратник в безумной и странной затее. И долгие репетиции, в которые надо было уйти, как в темный лес, и там потеряться, забыв о своих профессиональных навыках, умениях и непревзойденном опыте. Все впервые, все заново. Точнее, нет, она уже когда-то это играла. Девочки-мальчики из ее актерского прошлого, которых все забыли, кроме совсем уж ветхих театралов, помнящих время ее дебютов. Почему вдруг Могучий захотел вдруг вернуть на сцену ту Алису, маленькую, хрупкую, с хрустальным чистым голосом, в которой никто не хотел разглядеть будущую героиню? При чем тут леди Макбет, какая леди Митфорд! Забудьте! И вот, пройдя круг всех своих великих и главных ролей, она снова оказалась в гуще какого-то другого, неведомого ей Театра XXI века, где требуется от нее, Первой леди русской сцены, вывернуть наизнанку свое прошлое, свои тайны, которые она так тщательно скрывала и берегла, непонятно, впрочем, для кого и зачем. И всю прошлую боль, и страшные воспоминания детства, и забытые девочкины обиды, оставшиеся на самом дне души, и взрослое женское раскаянье, которое по-прежнему не дает дышать. И слезы, не приносящие никакого облегчения. Все это надо было прожить в опасной близости со зрителями, обступавшими ее на расстоянии буквальной вытянутой руки. Но для Могучего было принципиально упразднить линию рампы и разместить зрителей прямо на сцене: пусть видят, что всё по-честному. Без обмана! И грим, и слезы, и подлинные истории из жизни. Такого Кэрроллу не придумать.
Пьеса сочинялась коллективно, а точнее, вскладчину: всяк приносил с собой что имел, что нажил за свою жизнь в театре. Личные истории участников и легли в основу “Алисы”.
– Я не могу сказать, что стала поклонницей такого способа сочинения пьесы, – скажет Алиса Бруновна с насмешливым холодком.
Хотя потом признает, что опыт был интересный.
“Алиса” – не единственный ее спектакль в репертуаре БДТ, есть еще “Война и мир” Толстого, где она играет музейного экскурсовода Наталью Ильиничну, и кассовый шлягер “Лето одного года” по пьесе Эрнста Томпсона “На золотом озере”. Там она на равных состязается с Кэтрин Хэпберн, которая за эту роль в кино получила своего третьего “Оскара”. И, конечно, ее доведенная до актерского совершенства Марья Александровна Москалева в “Дядюшкином сне”, которую надо демонстрировать как наглядное пособие по мастерству студентам театральных вузов. А прошлой осенью она стала голосом музейно-театрального проекта “Хранить вечно”, посвященного загородным дворцам и паркам Петербурга, который с успехом прошел в “Манеже”. И это была новая встреча с режиссурой А. Могучего в пространстве, где не надо было ничего играть, а только быть, присутствовать, звучать в наушниках, как голос из галлюцинации, из снов детства. Так когда-то звучала в радиопостановках Мария Бабанова, любимая актриса Алисы Бруновны. Но у той был неземной голос вечности, хрустальный голос сказочной феи, а тут очень правдивая интонация, отчетливо узнаваемый ленинградский тембр, который ни с каким другим не спутаешь. Никита Михалков, расчувствовавшись, скажет, что у него в наушниках звучал голос XX века.
На сборе труппы в начале сезона 2018/2019 стало известно, что в ближайших планах значится премьера пьесы Ивана Вырыпаева “Волнение” с Алисой Фрейндлих в центральной роли. Ставить будет сам автор. Спектакль состоится при участии внука актриса продюсера Никиты Владимирова. Это не первый его продюсерский опыт. До этого был фильм “Карп отмороженный”, где ему удалось свести сразу двух выдающихся актрис – Марину Неелову и собственную бабушку Алису Фрейндлих. Получился впечатляющий актерский дуэт. И вот теперь “Волнение” – история знаменитой писательницы, для которой литературный вымысел и правда жизни сосуществуют неразрывно, где одно нельзя отделить от другого. И каждый, кто вступает с ней в диалог, рискует оказаться в бесконечном лабиринте, из которого нет выхода и который выбрал ее молодой любовник – открытое окно и прыжок в бездну с двадцатого этажа… Пьеса очень западная. По жанру, стилистике и трагической напряженности она заставляет вспомнить “Затворников из Альтоны” Сартра или “Туманные звезды Медведицы” Висконти. Не удивлюсь, если у “Волнения” будет успешная театральная судьба в Европе или Америке. Но право первой постановки – у БДТ.
…Алиса Бруновна по-прежнему много курит. И, похоже, даже не думает бросать. В ее возрасте это может быть даже опасно. Раньше любила гулять одна по городу. Теперь это стало невозможно. Почему?
– Наверное, я слишком зажилась на этом свете. Всю дорогу, пока иду, ловлю себя на том, что с кем-то здороваюсь. С кем – не знаю. Но со мной здороваются, и я тоже киваю. И потом эти бесконечные селфи. Как же меня ими замучили! Буквально на каждом шагу. Во мне такой протест против этих новых технологий, вы представить себе не можете. И не потому, что я такая тупая и не могу их освоить. А вот просто не хочу. Из одного только чувства протеста. Все бросают курить, а я курю. Все читают электронные ридеры, а я люблю книги настоящие, которые пахнут, которые можно перелистывать.
– А что вы делаете перед выходом на сцену?
– Молюсь. Прошу прощения у моих родных, у дорогих мне людей: папы, мамы, Игоря Петровича, если я что-то делаю не так. Потому что у меня совсем мало горючего остается. Где-то на самом донышке. И я прошу их мне помочь. Ну хотя бы немножко, чуть-чуть. Об этом, наверное, вообще не следует говорить. Это все-таки очень личное.
Слово – душа театра Валерий Ивченко
Впервые я услышал его имя в редакции журнала “Театр” от Вадима Моисеевича Гаевского, одного из лучших наших театральных писателей. Он только приехал после премьеры “Смерти Тарелкина” в БДТ и настоятельно рекомендовал мне бросить все дела и срочно мчаться в Ленинград.
“Там такой актер! Такой актер!” – восклицал Гаевский, зачарованно раскачиваясь из стороны в сторону, будто цадик на молитве.
– Да кто же это? Кто? – заволновался я, мысленно представляя колоду главных товстоноговских тузов.
И вот тогда прозвучала абсолютно незнакомая мне фамилия – Ивченко. Оказалось, что совсем не дебютант. За плечами большая карьера: вначале в Харькове, в Театре им. Шевченко, потом несколько успешных сезонов в Театре им. Франко, где он был ведущим артистом. Играл Астрова в “Дяде Ване” (Гаевский тоже хвалил) и Синьора Папагатто в спектакле “Моя профессия – синьор из общества”.
Потом я увидел его в “Смерти Тарелкина”. Ну, конечно, Синьор! Чем-то даже похож на Ива Монтана. Те же пластичность, музыкальность, породистый профиль. За версту видно, что большой артист на любые главные роли. Г. А. Товстоногов в нем это свойство сразу интуитивно распознал. К тому же в тот момент из театра уходил Олег Борисов, и срочно требовалась замена.
Георгий Александрович так и сказал, буравя его проницательным взглядом сквозь дымчатые стекла очков: “Вы приходите не на место, а на положение Борисова”. И тут же со значением добавил: “Положение надо завоевывать”. Как будто предвидел, что Ивченко не из тех, кто будет толкаться локтями, выторговывать себе роли и звания, биться за призовые места на театральных скачках. И не то чтобы он лишен честолюбия. Вовсе нет! Решился же он на трудный и рискованный переезд из теплого Киева, где его все обожали, в холодный Ленинград, который поначалу показался таким чужим, мрачным и неуютным. Ивченко просто совсем другой актерской породы, с которой сам Товстоногов почти никогда не имел дело, предпочитая более близкие себе типажи. Герои БДТ – это или советские интеллигенты, или морские офицеры в белых кашне (“Океан”), или партийные боссы с “человеческим лицом” (“Перечитывая заново” и “Три мешка сорной пшеницы”), или нервные и обидчивые интеллектуалы (“Горе от ума” и “Фантазии Фарятьева”). Но королей среди них не наблюдалось. И даже Людовик XIV, которого блестяще сыграл Олег Басилашвили в “Мольере”, больше походил на надменного обкомовского сановника, поднаторевшего в изобретении всё новых истязаний для бедных придворных артистов.
Конечно, случались и в БДТ исключения, как, например, Евгений Лебедев. Но он был скорее артистом из разряда явлений природы, как Ниагарский водопад или вершины Джомолунгмы, необъяснимых и не подвластных никаким законам. По странному совпадению, именно Валерию Ивченко суждено будет донашивать башмаки и халат Евгения Лебедева в спектакле “На всякого мудреца довольно простоты”, репетировать роль Тарелкина в сюртуке Олега Борисова и все эти годы занимать гримерную Смоктуновского.
В 1990-е именно он был выбран главным протагонистом БДТ даже не столько по воле или распоряжению благоволившего к нему Товстоногова, сколько по какой-то странной, мистической логике, диктовавшей театру возвращение к собственным истокам и традициям. Отсюда и знаковый в истории БДТ “Дон Карлос”, и “Борис Годунов”, и “Коварство и любовь”… Титульные названия для любого театра, претендующего на то, чтобы называться Большим.
Вряд ли эти спектакли стали возможны, если бы в труппе не было Валерия Ивченко. А каким у него получился Аким во “Власти тьмы”! Театральная традиция диктовала играть толстовского героя косноязычным дедушкой в рваном зипуне и валенках, а в исполнении Ивченко это был таинственный старец Федор Кузьмич, явно благородного, а, может даже, согласно легенде, царского происхождения. Во всяком случае, этому никто бы не удивился, глядя на подтянутого благообразного красавца с седым офицерским ежиком и благородной щетиной на породистых впалых скулах.
Немногословный, очень замкнутый, неистово относящийся к профессии как к служению, очень религиозный, испрашивающий каждый раз благословение духовника на новую роль, Ивченко с этим ощущением выходит на сцену. Для Ивченко это никакое не лицедейство, не актерство, не игра масками, но исповедь, акт покаяния и одновременно очень интимный процесс познания самого себя. Неслучайно о его Тарелкине все тот же Вадим Гаевский пророчески напишет, что это Фауст наоборот. “Молодой человек, захотевший стать стариком, чтобы освободить себя от непосильных жизненных обязательств”.
Увы, освободиться актеру не удалось. Напротив, обязательства, которые он на себя взвалил, как и роли, за которые брался, окажутся действительно неподъемными, способными надорвать куда, может быть, и более стойкие и выносливые натуры. Валерий Михайлович сам мне рассказывал, как оказался на грани нервного срыва после того, как записывал несколько часов подряд на телекамеру монолог “Великого инквизитора”, сидя один в пустом музее-квартире Достоевского на Сенной. Или как умолял Тимура Чхеидзе, тогдашнего главного режиссера БДТ, не назначать его на роль Макбета. И даже в том, что в названии его самого первого спектакля в БДТ присутствовало слово “смерть”, тоже был тайный знак, который он расшифрует для себя много позднее, когда потеряет своего единственного сына.
“И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба”.
А в прошлом сезоне он сам сделал инсценировку, поставил и сыграл моноспектакль по “Кроткой” Достоевского. Не испугался опасных сравнений со своим предшественником Олегом Борисовым в легендарном спектакле Льва Додина. Валерий Ивченко давно существует вне всяких театральных иерархий и рейтингов. К тому же его спектакль идет на малой сцене в старинном, деревянном Каменноостровском театре. Три с половиной часа абсолютной театральной аскезы. На сцене – один железный остов кровати, офицерский китель с красным кантом и золотыми погонами, женские сапожки… Почти буквальный пересказ литературного первоисточника. Слово в слово. Без спецэффектов, чтобы взбодрить или развлечь публику. Но когда Ивченко произносит мертвым голосом: “Я всю жизнь мою проговорил, молча, и прожил сам с собою целые трагедии, молча”, понимаешь, что речь идет не только о герое Достоевского, но и о судьбе поколения, которое сходит, почти уже сошло со сцены. И все, что им осталось, – это попросить, выкрикнуть напоследок самые простые и наивные слова: “Люди, любите друг друга”. Напоминание, призыв, мольба, вспыхивающая в виде финального титра на экране.
…На следующий день после спектакля мы встречаемся с Валерием Михайловичем. Он так же немногословен и ироничен. Но смешливые искры иной раз вспыхивают в его глазах, когда он вспоминает родной Харьков, свое послевоенное детство, пятнадцатиметровую проходную комнату, где он жил с родными вшестером, и соседку Тасю, в которую был тайно влюблен.
– Но у Таси был ухажер. Чем-то он напоминал мне Берию. Важный такой, в габардиновом пальто и фетровой шляпе. Всегда здоровался с нами, когда проходил мимо. Я только и успевал увидеть в приоткрытую дверь оранжевый абажур, накрытый стол, патефон… Потом дверь плотно закрывалась. Но для меня этот вид, мелькнувший на долю секунды, так и остался символом недоступного счастья за чужой дверью.
– А что было потом?
– У Таси был сын Виктор, он был старше меня чуть-чуть. Ему выдавали тридцать рублей, и мы отправлялись в госпиталь или в больницу смотреть кино. Тогда в Харькове в госпиталях по вечерам показывали кино.
Спрашиваю Валерия Михайловича про его нынешнюю жизнь. Он не жалуется, не сетует ни на что. Искренне благодарен Андрею Могучему за то, что поддержал его с идеей моноспектакля.
– Сами понимаете, возраст такой, что последняя остановка уже близко. Нет, я к этому отношусь совершенно спокойно. Главное – успеть правильно подготовиться, тогда прожитая жизнь обретет смысл и даже какую-то завершенность. Не знаю, как будет, когда будет? Но есть ощущение, что скоро моя остановка. Чемодан взял, то взял, это взял… Пора на выход. Собственно, “Кроткая” – это такая своего рода моя подготовка, репетиция прощания. Попытка разобраться в себе самом, понять, почему именно так сложилась жизнь, а не иначе. И если что-то сам недополучил, то это только моя вина, которую не искупить, не загладить, не исправить. Само осознание этого приходит, когда даже не играешь, а просто произносишь текст вслух. Слово Достоевского для меня священно. Без слова нет театра. Вы уж мне тут поверьте! Потому что слово – это и есть душа театра. А с душой надо обращаться бережно, нежно и вдумчиво. Конечно, не все выдерживают: все-таки Федор Михайлович – автор тяжелый, нудный, мрачный. Кто-то уходит посреди действия. Ну и ладно, думаю я про себя, зачем им мучиться! Зато потом два часа в зале стоит такая внимательная, напряженная тишина, идет такое погружение вглубь, что душа моя ликует. Значит, все не напрасно. И может, тогда еще рано с вещами-то на выход?
– Да, конечно, рано! – спешу я уверить Валерия Михайловича.
И мы оба смеемся.
Королева без королевства Светлана Крючкова
Она любит ошеломить с порога. Войти так, как никто до нее никогда не входил и больше уже не войдет. Потому что после нее произносить ее текст бессмысленно, а занять принадлежавшее ей место невозможно. Да и, похоже, претенденток не очень-то наблюдается. Это про нее А. Н. Островский написал: “Пришла королевой, ушла королевой…” Впрочем, никуда Светлана Николаевна Крючкова не ушла, по-прежнему обретается всего в одном квартале от БДТ. “Королева в изгнании” – ее статус и вынужденная роль. В репертуаре сейчас один спектакль с ее участием – “Игрок”. А раньше и того не было. Время от времени она, конечно, заходит в родной театр, где все сразу вытягиваются по струнке – от вахтеров до администрации. Крючкову боятся. Ее невозможно не бояться. Посторонние с ней общаются, как с тигрицей в клетке: очень осторожно, внимательно вслушиваясь в интонации тихого, повелительного голоса и на всякий случай ища глазами запасной выход. Она так себя поставила. От нее можно чего угодно ждать. Опасная женщина.
От сыгранных в кино императриц она переняла повадку надменной невозмутимости. Не идет, а плывет. Не говорит, а дает указания. Наверное, это было бы совсем непереносимо, если бы Крючкова стала “королевствовать” всерьез по системе Станиславского. Но она это делает по-другому, по-брехтовски, отстраняясь насмешливой иронией от того персонажа, которого когда-то сотворила и теперь выдает за себя. С шиком большой актрисы, у которой давно не было больших ролей. Кто в этом виноват? Сейчас уже поздно выяснять. Да и зачем? Светлана Николаевна не из тех, кто будет жаловаться журналистам или вымаливать у начальства бенефис к юбилею. Более того, ее саму надо долго упрашивать, засылая гонцов, придумывать долгую и сложную интригу, чтобы она согласилась просто посмотреть в вашу сторону. Это такой женский тип – гордость превыше всего. И с этим надо считаться. Для нее самое страшное, если вдруг ее заподозрят в жалком искательстве или желании кому-то понравиться. Всю жизнь Крючкова ведет себя так, будто это ей должны нравиться, а вовсе не она кому-то. В БДТ до сих пор ходят легенды, как ей одной, еще совсем юной, без году неделя в театре, было позволительно спорить с самим Г. А. Товстоноговым. Типа, я этого не понимаю. Объясните, что я тут должна делать? И Георгий Александрович прятал куда-то за пазуху свою режиссерскую свирепость и начинал кротко объяснять, чего бы он хотел от “Светланочки”.
Когда она пришла в БДТ в 1976 году, то с ходу заняла долго пустовавшее после Татьяны Дорониной место первой актрисы театра. Даже непонятно: как это ей удалось? Ведь поначалу ее прочили на характерные и даже комедийные роли. Крупная, громкая, с этой московской наглецой в голосе и невозмутимых белесых глазах. Я хорошо помню ее оглушительный дебют в легендарном спектакле “Фантазии Фарятьева” С. Юрского. Эту нелепую старшеклассницу Любу в коричневой школьной форме, укороченной выше некуда. И ее медленный голос, которым она вещала, поучая старшую непутевую сестру, словно юная пифия, знающая наперед, что с ними со всеми будет, а на самом деле не знающая ничего и больше всего боящаяся саму себя и бушевавших в ней скрытых страстей и желаний.
“Посмотрите на меня”, – говорила она в финале, отбрасывая яростным жестом назад свои рыжие спутанные волосы, обращаясь то ли к Фарятьеву, то ли ко всему человечеству, уставившемуся на нее в свои бинокли. “Посмотрите на меня”…
Это был отчаянный призыв, и приказ, и мольба одновременно. Ее Люба умирала от любви, но не могла в этом никому признаться. Она рвалась к счастью, к другой жизни – и никак не могла решиться на первый шаг. Гордые женщины, которых Крючкова так любила изображать в театре и в кино, были на самом деле робкими, закомплексованными созданиями, прятавшими под хамоватой броней свою нежную, одинокую душу. Может, они и рады были бы раскрыться кому-то, расслабиться, отдаться доверчиво простым и понятным чувствам, быть милыми и приветливыми, как другие. Только кто ж позволит? Кто поверит, что они могут быть такими, как все? А главное – все равно до своих подлинных страхов и печалей Крючкова никогда никого не допустит. И не надейтесь! Офицерская дочь, она умеет постоять за себя и как никто хранить свои тайны.
В театре ее невзлюбили с первого дня. За привычку говорить всё в глаза, за независимый нрав, за неумение дипломатничать и встраиваться в существующие группировки. Крючкова была всегда сама по себе, наособицу. Однажды Георгий Александрович подозвал ее для разговора “с глазу на глаз” и сразу оглоушил вопросом: “А вы знаете, что у вас в театре много врагов?” На ее растерянное “почему?” ответил вопросом: “А как вы хотите? Вы получаете главные роли и прекрасно с ними справляетесь. Вы хотите, чтобы вас за это любили? Просто будьте осторожны”. Обычно острая на язык Крючкова на этот раз даже не нашлась, что ему сказать, просто затаилась еще больше.
А потом Товстоногов умер, и все ее спектакли в одночасье сняли один за другим. “У меня оборвалась жизнь”, – признается она. За последующие 26 лет она сыграет в БДТ три роли (!). Конечно, она продолжала сниматься в кино, но чтобы выжить как актрисе, ей нужен был Театр. И тогда она придумала его сама, сосредоточившись на поэтических чтецких программах. Тут она уже не зависела ни от кого: ни от режиссуры, ни от партнеров, ни от администрации. Всё сама. Ей нравится ее одиночество на сцене. Она привыкла к нему. К тому же по большому счету она не одна. Ее любимые поэты всегда с ней. Крючкова не просто заучила их стихи наизусть, но и с головой погрузилась в их жизнь. Она исследовала их творчество в каких-то таких немыслимых, невообразимых подробностях, которые не всем литературоведам по плечу. При этом ей бесконечно важны и самые обычные житейские детали. Например, в Елабуге она держала в руках сковородку, на которой Марина Цветаева в последний раз жарила рыбу для сына Мура. А когда в начале девяностых ненадолго открылись архивы, досконально изучила доносы советских писателей на Ан-ну Ахматову. А ведь это только два имени в необъятной концертной программе Крючковой, охватывающей весь XX век и включающей десятки поэтических и литературных имен.
Мне нравится стиль ее программ, какой-то очень уютный, домашний: круглый стол, покрытый красивым цветным платком – это подарок любимой невестки, жены старшего сына. Лампа, фарфоровая чашка с чаем, по-старокупечески прикрытая платочком с ручной вышивкой. Тихий гитарный перебор в качестве сопровождающего голоса. Временами концерт становится похож на урок по литературе. Крючкова не только читает, но и объясняет, что к чему, кто кому кем приходился. Почему такая строка, а не иная. Это важно: публика разная и не обязана знать все биографические и литературные подробности.
Иногда она переходит на обличительную интонацию – не прощает обидчиков своих любимых поэтов. Но чаще ее концерт – это доверительный разговор, какой, например, может случиться в купе “Красной стрелы” или где-нибудь в транзитной зоне аэропорта, когда понятно, что еще долго никуда не улетишь, а хочется с кем-то поговорить, выговорить душу, поделиться тем, что болит и тревожит. И вот эта ее интонация, по-буддийски спокойная и горькая одновременно, без пафоса и игры в “великую актрису”, может быть, самое сильное и прекрасное, что есть в поэтических программах Крючковой.
Наверное, она давно уже могла бы написать увлекательную книгу о литературоведческих и поэтических исканиях. И если до сих пор этого не сделала, то только потому, что занята сверх меры концертами и детьми. У нее двое сыновей. Старший с семьей живет во Франции, младший – профессиональный музыкант-гитарист – часто выступает с мамой. Она со всеми общается в ежедневном режиме по WhatsApp и Messenger. Интернет под ее руками летает. Гений лэптопа, Крючкова в курсе всех событий в жизни детей и внуков, всех их передвижений и домашних проблем. Как будто, сидя у себя в мансарде дома на Фонтанке, она направляет бинокль то в одну сторону света, то в другую. “Мне сверху видно все, ты так и знай” – пелось в песне ее детства. Кто бы мог вообразить, что “холодная, властная и надменная” Крючкова окажется такой сумасшедшей матерью! Сама признавалась, как буквально в один день, когда делали операцию ее сыну Мите, зашла в храм рыжеволосая – а вышла абсолютно седая. “Мне смешно, когда спрашивают, чем я крашусь…” – царственно улыбается она. Она знает, как произвести впечатление, как сыграть на публике мелодраму. Ей даны эти мгновенные, неуловимые преображения и переходы при внешней статичности и скупой расчетливости каждого жеста, каждой интонации.
На самом деле она настолько привыкла быть независимой, что ее трудно представить в каком-то большом театральном коллективе или многонаселенном спектакле. И все-таки она на это решилась, когда случился очередной юбилей – 40 лет в БДТ. Талантливый режиссер Роман Мархолиа, которого она знала еще по совместной работе над “Квартетом” – антрепризным спектаклем 2003 года, предложил ей роль Бабуленьки в “Игроке” Достоевского.
С самого первого своего появления и первой реплики: “Ну вот и я! Вместо телеграммы-то!.. Живехонька. Что, не ожидали?” – понятно, что Крючкова решила идти ва-банк. Она выезжает на инвалидном кресле наподобие пилота в летном шлеме, рассекая сцену, как на “Харлее”. Без устали меняет парики, очки, модные прикиды. В какой-то момент она надевает цилиндр и запевает песню на немецком из репертуара группы Rammstein. Такое чувство, будто после долгого и вынужденного голода актриса дорвалась до спектакля на большой сцене, как до праздничного стола, и с каким-то свирепым отчаянием набрасывается на все блюда, которые ей предлагает режиссер-выдумщик. Хотите побыть диджеем? Хочу. Хотите попробовать себя в роли интервьюера? Непременно. А как насчет того, чтобы сыграть крупье в казино? Да запросто!
Не говоря уже о самой Бабуленьке, “той самой ведьме, которая никак не умирает и от которой все ждут, что она умрет”, Крючкова все знает про старость. И много раз ее играла в кино. Но ей неинтересно сегодня про умирание, угасание, ей интересно только про Жизнь. По своей актерской природе, по тому игровому началу, который в ней живет и требует постоянного выхода, она – трагическая клоунесса. Да, ее цирк давно уехал в другие края, а она почему-то все еще здесь. Зачем-то задержалась. Значит, так надо. Но нечего лить слезы о былом, надо жить сегодня, играть, дарить людям радость, пусть даже такую безумноватую и странную, как этот их “Игрок”, поставленный назло и вопреки всем обстоятельствам. Как некий вызов всем, кто не верил, не видел, не ждал, кто разлюбил, а может, и не любил никогда? Как некий жест, в чем-то перекликающийся с тем давним, самым первым жестом рыжей девочки в школьной форме из “Фантазий Фарятьева”: “Посмотрите на меня! Посмотрите на меня…”
Женщина с малинового озера Нина Усатова
Она всегда о нем рассказывает как о чем-то самом прекрасном, что было в ее жизни. Наверное, если бы я был художником и взялся нарисовать ее портрет, то в качестве фона взял бы Малиновое озеро, красивее которого в мире ничего нет. По крайней мере, для Нины Усатовой. Она сама родом из этих заповедных, дремучих мест: Алтайский край, река Белокуриха, деревня на сто дворов. Коровы, козы, куры, огороды, трудный крестьянский быт, а вдали розовеет, словно кто-то марганцовкой подкрасил воду и небо, Малиновое озеро. Символ непостижимой, загадочной реальности, куда рвалась душа будущей народной артистки, интуитивно прозревая другую жизнь и свою судьбу.
Никто не ждал ее ни в Москве, ни в Щукинском училище, куда она поступала пять раз. Сколько их, этих провинциалок, атакующих каждый год приемные комиссии театральных вузов, упрямых и несносных созданий, вбивших себе в голову, что осчастливят человечество, если станут актрисами! Кому они нужны там со своими дешевыми чемоданчиками и выученными наизусть стихами Юлии Друниной? И не то чтобы Нина по деревенскому своему простодушию об этом не догадывалась. Наверняка ей и в лицо говорили: поезжай, девка, домой, возвращайся на свое Малиновое озеро. Целее будешь. Да и зачем вкалывать на ткацкой фабрике за койку в общежитии? Все равно в артистки не возьмут.
Но Нина вежливо выслушивала, кивала головой и делала все по-своему. Это ведь она только с виду такая улыбчивая, покладистая, кроткая и безответная. Глаза светятся, улыбка нежная. Ни словом, ни интонацией никогда себя не выдаст. Но внутри… скала. “Несокрушимая и легендарная”. Есть в ней эта тихая мощь, которая не подавляет своим величием, а наоборот, придает силы всем, кто рядом. Мать-земля – вот ее артистическая сущность. Дайте Усатовой любую роль, маленькую, большую, главную, неглавную – все равно она станет эмоциональным центром всей истории. Для таких артистов в Голливуде даже придумали специальный термин – “star presence”. Звездное присутствие. Она может ничего не изображать, только быть, присутствовать в кадре или на сцене – а глаз не отвести. Откуда в ней это?
– Наверное, сказывается моя рабоче-крестьянская закалка, – размышляет Нина Николаевна, – что в детстве в тебя было вбито, так на всю жизнь и останется. Отец мой, Царствие ему Небесное, Николай Иванович, был первым моим наставником. Видел меня насквозь и, как никто, мог оценить мое “актерское мастерство”. Особенно когда я пыталась что-то скрыть или, не дай Бог, соврать. “Что-то ты много говоришь сегодня, дочь, а ну-ка дай мне свой дневник”, – строго приказывал он. А я про себя: “Ну вот, прокололась, стала вести себя неестественно”. Актерской правде лучше всего учиться у детей. И сейчас, когда я мысленно возвращаюсь в свое детство, понимаю, что первые мои профессиональные навыки я получила тогда. Жизнь моя не была легкой и приучила не ждать быстрых результатов. У меня все долго и поздно. Но сейчас я думаю, что так и должно быть, потому что я собирала багаж, которым и сейчас пользуюсь, и ничего из того, что со мной произошло, не считаю случайным или ненужным.
Господь всегда давал мне в дорогу человека, который доводил за руку до нужного места или что-то очень важное подсказывал. Таким человеком стала Людмила Аркадьевна Ярославцева, театральная подвижница, возглавлявшая самодеятельный театр в Боровске. Она до сих пор жива. Мы на связи. Как же она меня поддерживала, вдохновляла, как переживала за меня! Вот я раньше гордилась и всюду говорила, что хоть и с пятой попытки, но поступила в Щукинское без всякого блата. А ведь это неправда! Был у меня блат, да еще какой! Душевное участие и профессиональная поддержка Людмилы Аркадьевны. Разве такое можно сбросить со счетов? А потом в моей жизни появились две Марианны: Марианна Рубеновна Тер-Захарова, режиссер и мой ведущий педагог в Щукинском училище, и Марианна Юрьевна Корбина, работавшая в кабинете самодеятельного театра при ВТО. Они обе меня очень опекали. Тогда ведь театральные эксперты много колесили по стране, отсматривали самодеятельные коллективы, отбирали на всесоюзный конкурс лучшие работы, присваивали звание “народного театра”. И я вам скажу, в глубинке есть такие великолепные актеры, которые могли бы украсить собой любую столичную сцену. Но их имена никто не знает, потому что они не успели засветиться в кино. Да и кто бы, например, меня знал, если бы не кино? А еще в ВТО на шестом этаже на улице Горького проводилась раз в год так называемая театральная биржа. Режиссеры со всей России туда приезжали, чтобы взять актеров к себе в театр. Иной раз контракт был всего на одну роль, на один сезон. Но я готова была к такой кочевой жизни, как у Островского в “Лесе”. И она мне даже нравилась. До тридцати пяти лет я прожила в общежитиях. “Все вокруг колхозное”. Не было привязанности ни к своему углу, ни к виду за окном. Все это пришло много позже, когда я перебралась в Ленинград.
Первым актерский дар Нины Усатовой распознает и раскроет Владимир Малыщицкий, замечательный ленинградский режиссер, основатель знаменитого Молодежного театра.
В моей памяти навсегда остался деревянный театр, стоящий посреди заснеженного Измайловского парка, где в тот вечер молодые артисты играли спектакль по повести Чингиза Айтматова “И дольше века длится день…”. За окнами падал крупными хлопьями снег. Ощущение продуваемого всеми ветрами театрального пространства, похожего на заснеженную оранжерею. Звенящие стекла, неустойчивые доски под ногами. Молодая, какая-то звериная энергия, шедшая от артистов в меховых шапках и с голыми, худощавыми торсами. А посреди шаманского действа медленно и плавно возникала большая женщина в белом платке – мать рода, Укубала, единственная хранительница памяти в этом беспамятном мире, населенном манкуртами. Ее-то и играла Нина Усатова.
Малыщицкий любил ее занимать даже в небольших, но важных ролях. Она стала для него своего рода талисманом, а он был ее первым учителем. И называл ее нежно и почему-то всегда в мужском роде: “маленький”. “Ты что, маленький?” “Зачем тебе это, маленький?”
В этот насквозь придуманный театральный, оранжерейный мир Нина с ее тяжелой походкой и натруженными руками привносила ощущение подлинности жизни, которое нельзя ни сыграть, ни сымитировать. И когда почти два часа сценического времени без устали стирала солдатское белье, как заправская прачка, в “Отпуске по ранению”. И когда вместе со всеми мерзла в своем демисезонном пальтеце на Сенатской площади 14 декабря в “Братьях Бестужевых”. И когда шла с дымящимся чугунком в “Сотникове”, забирая на себя все внимание зала и настраивая его на тяжелый, мучительный разговор о войне. И этот страшный звериный крик ее Демчихи в финале, при одном воспоминании о котором стынет кровь в жилах. А ведь кажется, такая в жизни спокойная, уравновешенная, приветливая женщина, и вдруг этот стон раненой медведицы, утробный звук тоскующей, несчастной, истерзанной плоти, жаждущей только одного – не испытывать больше боли.
Было понятно, что в Молодежном театре появилась грандиозная актриса, какой давно уже не знала русская сцена. Кстати, кинематограф не упустил своего шанса, постаравшись поскорее присвоить ее народный типаж, приписав ее по ведомству “простых русских женщин”, прямых наследниц Нонны Мордюковой. Хотя Усатова, конечно, другая, ни на кого не похожая. Редкое сочетание здравомыслия и наивности, радостного приятия жизни и ощущения ее драматизма, какой-то первозданной мощи и одновременно душевной тонкости, деликатности.
Особенно это стало понятно, когда Нина пришла в БДТ. К тому времени она стойко пережила крушение того Молодежного театра, который так любила, несправедливо ранний уход Малыщицкого, но сохранила о нем добрую память и во всех интервью называла его своим “первым учителем”.
Было понятно, что как актрисе ей требуются другая сцена и другие роли. К сожалению, Г. А. Товстоногова она уже не застала. Он умер за полгода до ее появления в БДТ, где ее ждала встреча с благородным и дипломатичным Кириллом Лавровым. В первом же разговоре он сразу дал понять, что берут ее на роли Светланы Крючковой, уходившей в декрет. Театр искал адекватную замену своей ведущей актрисе. И на первый взгляд Нина Усатова идеально подходила: народная, медийная, любимая. Но оказалось, что все много сложнее. И дублерши из нее не получилось.
– Когда я пришла в БДТ, мне сразу предложили три больших роли в трех спектаклях: “Волки и овцы”, “На дне” и “На всякого мудреца довольно простоты”. Но всё это были роли, сыгранные Светланой Крючковой. И она в них блистала. И не то чтобы я испугалась, что нас будут сравнивать. Для меня это была бы честь! Но я хорошо помню, как однажды, когда еще была в Молодежном театре, у меня пропал голос. Я лежала безмолвная дома и боялась даже радио включить, потому что на посторонние звуки связки начинают реагировать. Меня приехали проведать друзья из театра и, как бы между делом, то ли желая меня подбодрить, то ли утешить, сказали: “Нин, ну как ты? Болеешь? Тогда давай, мы твою роль кому-нибудь другому отдадим”. После этого я вообще говорить не смогла. Моя роль кому-то уходит! Для меня это смерть. Про себя решила: “Вот если мою роль отдадут, я умру”. Такая была боль сердечная, не передать словами! И вот сейчас первое, что мне предстоит сделать, придя в БДТ, – это влезть в чужие платья и парики, в чужие прожитые роли и начать лепить что-то свое. И тогда я твердо сказала: “Нет”. Чужого не надо; если я нужна Театру, буду играть только свое. Это Господь меня надоумил: не хватайся за все, что тебе подбрасывает судьба.
Символично, что первым спектаклем, который она здесь сыграет, будет комедия Островского “Женитьба Бальзаминова, или За чем пойдешь, то и найдешь”. Усатова знала, зачем пришла в БДТ. Чтобы обрести свой дом, чтобы через одно рукопожатие оказаться в непосредственной близости с главными хранителями традиций русского реалистического театра, чтобы насладиться, а заодно и поучиться мастерству у товстоноговских артистов. Она даже специально попросит разрешения постоять за кулисами и не пропустит ни одного представления “Холстомера” с Евгением Лебедевым, жадно впитывая каждую его паузу, каждое слово и жест. Это нужно было изучить самой досконально, до невидимых никому тонкостей. За тем, можно сказать, и пришла сюда.
Но все равно играла по-своему. С каким-то гоголевским размахом и фантастичностью. Ее Белотелова – это Ноздрев в кринолине. Грезя о женихе, она будет прижимать к виску соленый огурец, а к пышному декольте – бюстик П. И. Чайковского. Она вся в мечтах и бантиках, в порывах и желаниях. Женщина-облако, Женщина-гроза, Женщина – Малиновое озеро. Все это она, купчиха Белотелова, словно приехавшая в БДТ на кустодиевской тройке с бубенцами и хрустящим на полозьях розовым снегом.
Театральное пиршество, устроенное Усатовой в “Женитьбе Бальзаминова”, требовало немедленного продолжения “банкета”. Но, увы, скудный рацион академического театра не предполагает столь частых удовольствий. Актеров в труппе много, спектаклей мало. Сидите и ждите своей очереди в длинном-предлинном коридоре вместе с другими народными и заслуженными. А ведь вот уверен: родись Усатова на сто лет раньше, ставили бы на нее и Мейерхольд, и Станиславский. Не говоря уже про Малый театр, который давно по идее должен был выкрасть или перекупить себе такую актрису за любые деньги. Но нет, никто на Усатову не покушается, никто ничего не предлагает.
А она человек скромный, застенчивый, сама биться в закрытые двери не будет. Ни с кем ссориться не хочет, никому дорогу перебегать не собирается. Всем всегда улыбается и, похоже, больше всего боится кого-то задеть или обидеть. Это же театр! Одни самолюбия и амбиции.
Из недавних ее ролей – Мать в спектакле К. Богомолова “Слава” по пьесе сталинского лауреата Виктора Гусева. Поначалу Нина опасалась, что на нее повесят микрофон и заставят в него говорить. Как же без живого звука? Она ведь актриса старой школы, умеет, если надо, шепотом сказать так, что слышно на галерке. Но выяснилось, что с микрофоном даже удобнее.
И вообще Костя Богомолов ее очаровал. Столько всего знает, такой образованный, так был хорошо готов к постановке, о которой, оказывается, мечтал с юных лет.
– Самое приятное для артиста – это сам процесс, когда ты ничего не знаешь, идешь впотьмах: текста не помнишь, в мизансценах путаешься, еще не очень понимаешь, когда выходить, когда уходить. Но вот звучит музыка, специально подобранная или написанная для спектакля. Потом долго ставят свет, наконец видишь всю декорацию… И вот наступает вечер, когда по трансляции до тебя доносится гул зала, как шум морской. Это тебя будоражит настолько, что давление зашкаливает, а про себя думаешь только об одном: “Господи, дай мне память, дай разум, чтобы выйти на сцену и не опозориться”. Это же сплошные стихи, тут нельзя нести отсебятину. Стих на ходу не придумаешь. Но Бог хранит! Спектакль, мне кажется, получился. И в театре у нас его хорошо приняли.
А что же Малиновое озеро? Как оно там без нее? Когда последний раз была у себя на родине? Оказывается, что сравнительно недавно. Долго боялась туда ехать. Ведь никого уже в живых нет! Но выяснилось, что только по последней переписи Усатовых пятьдесят дворов. Ей, как народной артистке, конечно, всё организовали по первому классу. С погодой только не повезло. Ехали из Барнаула со специальной съемочной группой. Но только подъехали к озеру, и тучи рассеялись.
– На закате вода стала не просто малиновой, а розово-малиновой, яркой такой, и мы с сыном пошли по лунной дорожке. А у меня слезы, и я думала в этот момент про свою жизнь. Что бы было со мной, сложись все иначе? Наверное, так бы тут и жила. Никуда бы не уехала. Занималась хозяйством. Я это дело люблю. У меня глаз приметливый. Сразу вижу, что надо починить, исправить. А если бы не было революции, то наш бы род, наверное, продолжался бы и продолжался. Все же были работящие, и детей всегда у всех было много. Да что об этом теперь говорить?
А соли в этом Малиновом озере такая концентрация, похлеще, чем в Мертвом море. Ты просто каким-то каменным изваянием из воды выходишь. Мне потом объяснили, почему оно малиновое: там такие рачки, которые миллионами там жили. Их называют артемии, и вот они-то и дают розовый цвет. Когда выходит луна или когда свет их притягивает, это такая красота немыслимая. Мы ходили и по ягоды, и по грибы. Там сухо-сухо в лесу. И сосны. Такое все породистое. Одним словом, Алтай!
2019Коллаж Евгений Миронов
У него есть проект, который еще никто не видел. Называется “Избранники”. Евгений Миронов решил собрать в одном фильме как молодых, так и очень пожилых актеров. Мужской разговор – глаза в глаза, про жизнь, про сущность актерской профессии, которая считается почему-то женской, про умение слышать судьбу и ждать свою роль. Главными протагонистами фильма должны были стать отец и сын – Олег Павлович Табаков и его младший сын Паша. Ждали до последнего, что Олег Павлович поправится и выйдет из больницы. Не дождались. А без него эта затея для Миронова потеряла смысл. Хотя он не из тех, кто останавливается на полпути.
Миронов обязательно все доводит до конца. Есть в нем это упрямство прирожденного отличника. Как бы ни было трудно, не сдаваться и никогда не сдавать своих. Так было, когда он первым ринулся на защиту Чулпан Хаматовой, на которую ополчилась либеральная общественность за ее участие в президентской компании 2011 года. Так было, когда в Кремле вместо благодарственных слов, полагающихся по протоколу, он вручил В. Путину прошение от деятелей искусства, обеспокоенных судьбой Кирилла Серебренникова. Жест, который, как говорят, стоил ему поста художественного руководителя МХТ им. Чехова.
Евгений – один из немногих, кто вместе с фондом “Артист” возродил и пытается всерьез развивать давние традиции поддержки престарелых деятелей театра, видя в этом свой человеческий долг. Вообще с именем Миронова в нашем театре связано понятие совестливости, порядочности, благородства. Есть Женя, есть его Театр Наций, и как-то от самого сознания этого становится легче на душе. И если даже вокруг мрак, то почему-то веришь, что это не может быть надолго.
Миронов-коллаж
Он может сыграть любого: от Нижинского до Путина. У него такой тип внешности. Лицо как загрунтованный холст или лист бумаги – рисуй что хочешь. Гениальный канадец Робер Лепаж первым угадал это свойство, поэтому и предложил ему сделать из шекспировского “Гамлета” моноспектакль. Никто ему там не нужен! Никаких тебе людей с наклеенными усами и алебардами в руках, никаких накрашенных артисток в платьях со шлейфами. Один за всех. Спектакль-коллаж, спектакль-чертеж, спектакль-патрон, точно вычисленный по мерке его таланта и пропорциям его невысокой хрупкой фигуры.
За двадцать лет, что мы знакомы с Женей Мироновым, он почти не изменился. Все тот же бледный сероглазый юноша, застенчиво мнущий сигарету нервными, тонкими пальцами. Таким я его впервые увидел после выхода фильма “Любовь”. Он все так же аккуратно подбирает слова, чтобы никого не обидеть, не сказать лишнего. Вежливый, замкнутый, осторожный. С журналистами он общается как бы немного вполсилы, давая понять, что главная его жизнь не перед фотокамерами и диктофонами, а там, на сцене или съемочной площадке. Там он – огонь, страсть, безумие, слезы из глаз, немедленный контакт со зрительным залом. Там вас охватывает головокружение от его мгновенных преображений и импровизаций. Там он может все, но главное – хочет! А у себя в кабинете в Театре Наций он, похоже, хочет только одного: чтобы его поскорее оставили в покое.
– Понимаешь, в идеале вообще никакого кабинета здесь не должно было быть, – говорит он мне. – Мне Някрошюс так и сказал: “Хочешь войти в историю театра – не заводи кабинета”. Но куда без него? Ведь надо же где-то давать интервью. Придется заходить в историю с другого входа.
Усталым жестом он обводит рукой довольно стандартные покои худрука Театра Наций: кожаные диваны, кресла, стол, заваленный бумагами, фотографии на стене в дешевых рамках.
– Сроду бы их здесь не повесил, но это подарок поклонников. Надо было что-то с ними делать. Подумал, а ладно, пусть висят.
На фотографиях не только он. Мама, папа, сестра, племянники. Женя – семейный человек не по образу жизни, а по своему менталитету, по привязанностям. Ему необходим дом, уют. Он любит возвращаться хотя бы мысленно в родной Саратов, туда, где прошло детство, где решил, что станет актером. Я пробыл в этом городе однажды полтора дня. Лето, пристань, Волга, скромное облупленное величие губернских дореволюционных особняков и советских присутственных мест с пыльными газонами у входа. По странному совпадению сразу три актерских имени оказались вписаны в историю этого города: Олег Янковский, Олег Табаков, Евгений Миронов. Для всех троих Саратов – строка “Место рождения”, стартовая точка, начало пути. Актерами они стали здесь.
Я спрашиваю Женю, как это с ним произошло. Ну не бывает так, что жил себе человек, жил – и вдруг решил, что будет играть в театре. Тут нужны раскаты грома, солнечный удар, какое-то затмение, все разом прояснившее или, наоборот, запутавшее окончательно. Нет, ничего такого с ним не было. Ну да, любил что-то представлять, как все дети. Устраивал с сестрой домашние спектакли, перегородив кухню пододеяльником в виде занавеса. Даже выучился играть на аккордеоне, хотя мечтал, конечно, о фортепьяно. Но практичная мама рассудила, что аккордеон – верный кусок хлеба. Музыкант да еще со своим инструментом всегда в почете на любых свадьбах, гуляньях и праздниках. “Играй, гармонь” – это ведь и про Женю. Душа горит, грудь нараспашку, голос срывается, пальцы жгут… Именно так он играл в “Бумбараше”, и в “Анкор, еще анкор!”, а потом и в “Рассказах Шукшина”. Нет, не напрасно были потрачены родительские деньги на репетитора! Странно только, что за все эти годы он ни разу не коснулся есенинской ноты. А ведь это его поэт, его песни. “Разбуди меня завтра рано, засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт…” “Друг мой, друг мой, я очень и очень болен! Сам не знаю, откуда взялась эта боль…” Есенин прошел мимо Миронова, взятый в полную и безоговорочную монополию его сотоварищем по “Табакерке” Сергеем Безруковым.
Кто-то сказал, что нет людей счастливых и несчастных, а есть люди, которые умеют слышать свою судьбу, и те, кому это не дано. И пока они не набьют себе всех синяков и шишек, так счастья своего и не узнают.
– Как тебе кажется, – спрашиваю я, – ты всегда слышал свою судьбу, знал, кем будешь, чего хочешь, зачем живешь?
– Слышать судьбу – это как-то, наверное, слишком торжественно сказано. Сразу в одном ухе звучит Бах, в другом – Верди. Ну да, наверное, я всегда пытался прислушиваться к внутреннему голосу, который меня пока ни разу не обманул. А идет все, конечно, из детства, от этих первых робких творческих устремлений, которые во мне звучали, требуя выхода. На мое счастье, они были поддержаны и моими родителями, и моими учителями. Мне как-то сразу удалось обрести правильный камертон, на который следовало настраивать себя. В Саратовском театральном училище это была Елена Александровна Ермакова – актриса традиционной, классической русской школы. Но что больше всего меня в ней поражало – она не боялась сама учиться, пробовать новое. Ей было интересно работать с разными режиссерами, осваивать другой, непривычный театральный язык. Я помню, как она специально ездила в Москву посмотреть спектакли Петра Наумовича Фоменко. Как это было для нее важно – быть в курсе последних премьер, новаций, событий. Ну а потом, конечно, Олег Павлович Табаков и все, что с ним связано. Это тоже судьба, которую надо было дожидаться не только те четыре дня, что я проторчал у него под дверью на улице Чаплыгина, где меня, в общем, никто особо не ждал, но дольше, много дольше… Я никогда не анализировал, не думал, почему мне это было так необходимо, почему ни разу за это время не возникало даже мысли пойти в другой театр, куда меня, может быть, взяли бы быстрее. Это было что-то сильнее меня, что намертво приковало меня к этому театральному подвалу, к этому человеку, без которого я в тот момент не представлял своей жизни.
Почему Миронов решил, что после саратовского театрального училища ему надо непременно идти к Табакову, он и сейчас не может объяснить. Откуда в нем, человеке домашнем, застенчивом и скромном, вдруг проснулась эта непреклонная уверенность? Когда он дождался Табакова и бросился к нему, тот сразу отрезал: набор давно прошел, свободных мест нет, приезжай на следующий год. Какой год! Зачем год? Послушайте меня! Но даже слушать его Олег Павлович тогда отказался, перенаправил к Авангарду Леонтьеву. “Я думал, что к певцу Леонтьеву, – признался Миронов – еще подумал, а зачем к нему-то?” И гениальная деталь, которую нельзя придумать: напоследок Женя потребовал, чтобы Табаков дал ему свой прямой телефон. От такого напора О.П. даже номер свой забыл, промямлил что-то невразумительное.
– Говорите четче, я записываю, – строго предупредил Женя.
Такие реплики срываются с губ только от отчаянья. А это было даже уже не отчаянье, это была судьба.
Первый год в студии Табакова, куда его все-таки определили вольнослушателем (никаких прав, никакой стипендии, одна только койка в общежитии), был, наверное, самым трудным. Надо было приспосабливаться к столичной жизни, научиться преодолевать хмурое сопротивление однокурсников, глядевших на него исподлобья. Откуда такой взялся? Что здесь делает? Кому приходится родственником? Долгое время Миронов считался чужаком, метившим на чье-то место. Любви к нему это, разумеется, не прибавляло. И если бы тогда мама Тамара Ивановна вслед за ним не перебралась в Москву, ничего бы из этой затеи у него не вышло.
– Мои родители совершили подвиг, на который на самом деле мало кто способен, но который они сами никаким подвигом не считали. Просто искренне верили, что если у ребенка есть мечта, то эту мечту надо во что бы то ни стало помочь осуществить. Какая мечта – неважно, важно, что она есть! Конечно, в первый месяц после моего поступления в театральное училище они пребывали в абсолютной эйфории. Ну как же, их сын будет артистом! Какое счастье! Но уже через месяц они поняли, какой на самом деле это изматывающий, каторжный труд, как депрессивно он действует на меня. Что бы в этом случае сделали другие родители? Все, забираем документы, ты идешь в другой вуз, получаешь нормальную профессию. Но они видели мои глаза, они понимали, что я не могу никуда уйти, что я буду биться до последнего, и все, что они могут сделать, – это взять на себя бремя всех бытовых, материальных и прочих забот, чтобы максимально освободить меня для учебы. Чего это им стоило, даже невозможно себе представить! Оба бросили работу, налаженный быт, стали жить на два города: папа – в Петербурге с сестрой, которую взяли в Вагановское училище, мама – со мной в Москве. Причем оба уже в возрасте. А что такое в пятьдесят лет спать на раскладушках и отстаивать очередь в душ? Причем не недели – годы! Табаков сжалился и в обход всех законов (прописки-то не было!) позволил маме работать в столовой “Табакерки”, где она с непривычки обжигала руки о раскаленную плиту и таскала тяжеленные кастрюли. Это потом уже ее взяли билетером в театр, где она до сих пор служит. А папа, чтобы помогать нам, работал разнорабочим то здесь, то там. И все эти годы они не имели своего угла, не потратили лишнего рубля на себя, растеряли друзей… Но, знаешь, в нашей жизни был один момент, который я буду помнить всегда. Мы поехали с папой в Сочи на открытие “Кинотавра”. Все было очень торжественно: красная ковровая дорожка, множество фотографов, вечерние платья. Мы шли втроем: Нонна Мордюкова, папа и я. Нас узнали, нам аплодировали. И вдруг я слышу, как по громкоговорителю объявляют имя папы, и вижу, как меняется его лицо, как вспыхивают счастьем глаза. Такого лица у него не было ни до, ни после. Теперь, когда его нет в живых, мне почему-то хочется думать, что эти секунды, пережитые нами вместе там, на “Кинотавре”, стали для него пусть крохотной, но все же наградой за все лишения, которые он добровольно принял ради меня и сестры. Прости меня, папа!
Глаза Жени наполняются слезами. В считанные мгновения он проживает и проигрывает этот победительный проход по красному ковру, этот миг торжества, который он успел разделить вначале с отцом, а потом и с мамой, непременной зрительницей его премьер, грозной защитницей от всех алчных, бесстыдных, назойливых, упрямо лезущих ему в жизнь и в душу. Она всегда рядом, всегда начеку, на страже его интересов. Если надо, чаем угостит и про Саратов расскажет, а если нет, вмиг всех разгонит. Не зря билетер с двадцатилетним стажем. Халявщиков видит за километр. Мимо нее не то чтобы случайный журналист – муха не пролетит!
– Да нет, мама – очень простодушный человек, – не соглашается со мной Женя. – В чем-то она так и осталось девушкой из поселка Татищево Саратовской области, где двери в домах никогда не закрывались, где любым гостям рады. Всё расскажут, всё покажут. Она долго не могла привыкнуть, что в Москве так нельзя и даже опасно жить.
Он и сам, став вполне себе столичной звездой, обзаведясь “мерседесом” с тонированными стеклами и просторной квартирой на Чистопрудном бульваре, нет-нет да и вздохнет по утраченному провинциальному раю своего детства, по какой-то немудреной, тихой жизни за кружевной занавеской, с геранью на подоконнике. А когда выдается возможность, обязательно туда наведывается, как ответственный городской работник в родную деревню на week-end. Собственно, русская классика – это и есть самая что ни на есть подлинная территория его души, его родовые владения, где только бы жить да радоваться. Есть, конечно, и совсем неизведанные края. Например, мне жаль, что пока не нашлось там места ни одной пьесе А. Н. Островского. Каким бы он мог быть гениальным Бальзаминовым (“Маменька, дайте мне помечтать”)! Сколько тут упущенных возможностей, непрожитых судеб, несыгранных ролей! И нелепо кого-то в этом винить, особенно теперь, когда у Миронова есть свой театр. Вижу в этом даже не злокозненность судьбы, но вполне сознательный и последовательный выбор. Скучновато Миронову среди привычного русского классического пейзажа, манят его другие просторы и горизонты. “Если бы я слушался таких советов, то до сих пор играл бы одну и ту же «Обыкновенную историю»”, – огрызается он на мои сетования по поводу не сыгранного им русского репертуара.
Отсюда европейский фестивальный набор Театра Наций – “Калигула”, “Фрекен Жюли”, “Гамлет”. Отсюда ставка на признанных грандов современной режиссуры – Някрошюс, Остермайер, Лепаж. Все первый сорт, не подкопаешься! И все-таки каждый раз победа ждет Миронова там, где современная режиссура и русская классика сходятся в задорном клинче, давая ему шанс выиграть бой за главную роль по правилам современного актуального театра. Так было с Лопахиным в “Вишневом саде”, которого он сыграл молодым одиноким волком в черном сюртуке, прикинувшимся доброй, домашней дворнягой. Так было с Самозванцем в “Борисе Годунове”, с этим отважным шулером, обставившим вчистую серьезных и взрослых игроков, или с Иудушкой Головлевым в “Господах Головлевых” – этим святым и зловещим уродцем, пропитанным лампадным маслом, изводящим все живое вокруг. Все это роли-вехи, роли-события, поднявшие Миронова на недосягаемую высоту и утвердившие его репутацию лучшего актера России. Он сам не без гордости любит вспоминать, как на гастролях в Лондоне после “Годунова” к нему в гримерку зашли братья Ральф и Джозеф Файнс, ошарашенно пытавшиеся выспросить: по какой системе он играет? Как это у него получается?
А он и сам толком не знает. Наверное, по Станиславскому, как и полагается любому приличному русскому актеру, закончившему высшее учебное заведение.
Хотя сегодня все это очень условно. Раньше Миронова бы точно записали по ведомству “актеров-неврастеников”. А куда ж еще? Столько Достоевского не играл ни один российский актер: тут и Иван Карамазов в спектакле “Карамазов и ад”, и князь Мышкин в фильме Бортко, и сам Федор Михайлович собственной персоной в формате бесконечного телевизионного сериала. Помню, как Женя жаловался: сценарий слабый, диалоги мучительные, типа Ф.М. выговаривает Апполинарии Сусловой: “Ты меня достала” – и дальше в том же духе.
– И что с этим делать? Как быть?
– Да никак! Садись и сам переписывай. Наверняка будет лучше.
Он так и сделал. Миронов вообще любит вникать во все детали, во все мелочи. Очень дотошный и хозяйственный товарищ. Это свойство только усилилось, когда на горизонте замаячил Театр Наций. Так автомобилисты-любители вцепляются в свое первое авто, не в силах свыкнуться с мыслью, что стали обладателями своей мечты. Что-то подобное было на первых порах и с Женей, который начинал страшным голосом кричать, если кто-нибудь посторонний не дай Бог наступал грязными башмаками на деревянный помост в “Рассказах Шукшина” или вдруг ни с того ни с сего ломалась установка по бумажным снежным хлопьям для “Фрекен Жюли”. Он буквально заболевал от всех этих неполадок и сбоев, которые отодвигали на второй-третий план его актерские дела, заставляя вникать в цифры разных смет, ругаться с прорабами, бороться с постановочной частью.
Кто-то недоуменно пожмет плечами: как же все это далеко от “жизни человеческого духа”, от поисков “зерна роли” и прочих изысков все по тому же Станиславскому! Но чистого творчества быть не может, особенно когда речь идет о руководстве столичным театром, да еще устроенным по принципу антрепризы. То есть никакой постоянной труппы, никаких обязательств с обеих сторон: в основе всех отношений – типовой договор-контракт, на который должны скоро перейти все российские театры. Миронов был первым, кто ввел эту систему. И для себя, и для других. Сыграл серию спектаклей – и до свидания. До новых встреч в Петровском переулке!
– Я бьюсь на всех этих советах при президенте, объясняя чиновникам, что они не понимают назначения культуры, что они хотят вырастить стадо баранов, а не культурную нацию, но с другой стороны, мы ведь и сами должны как-то самоорганизовываться, брать ответственность на себя. Почему на Западе худруки уходят сами? Тот же Штайн в расцвете лет ушел из Шаубюнне, и ничего…
На самом деле этот деловой, прагматичный принцип очень даже в его характере. Про него с юности известно, что он всегда старался держаться подальше от тусовки, никогда не застревал после спектаклей за кулисами, никогда не травил анекдоты в актерской курилке. Тем не менее сегодня Миронов не скрывает, что тоскует по Театру-Дому.
– Знаешь, я очень скучаю по какому-то единству крови. Иногда меня посещают мысли: а может быть, набрать какой-то курс совсем молодых ребят или создать студию, из которой потом родится, может быть, новый театр? Каким он будет, я пока не знаю, но уверен, что всё нуждается в развитии и адаптации к новым условиям. И репертуарный театр в том числе.
Новые условия… Я не спешу уточнять, что это такое. Знаю, что последнее время Миронов активно заседает в президентском Совете по культуре, что Путин сам приезжал к нему на открытие Театра Наций, что теперь в его планах – устройство театрального квартала, который будет пролегать от Петровского переулка до Страстного бульвара. И даже на бумаге есть прекрасный проект с репетиционными залами, подземными гаражами и разными кафе. Правда, на пути его осуществления вдруг встали какие-то допотопные гаражи – наследие советских времен, собственность МХАТа им. Горького. Из-за них в Кремле разгорелась целая дискуссия, затмившая все разговоры о прекрасном будущем театрального квартала. Стало понятно, что без участия президента с мхатовскими гаражами не справиться, народную артистку СССР Татьяну Васильевну Доронину не уговорить. Так уж заведено в нашем Отечестве: все решает один человек. И Миронов это знает по собственному опыту, хотя сейчас больше, чем своими ролями, гордится тем, что в короткий срок собрал классную команду профессионалов. Без них нельзя было бы провести ни один из фестивалей под эгидой Театра Наций, развернуть большие благотворительные проекты, вроде фонда поддержки деятелей искусств “Артист”, который Женя затеял в 2008 году на пару со своей знаменитой однофамилицей Марией Мироновой.
На все нужны деньги – куда без них? Но нужны и люди, знающие, как наладить дело, организовать процесс, запустить механизм, чтобы все крутилось и работало почти само собой.
Да и такой спектакль, как “Гамлет-коллаж”, по своей невероятной компьютерной начинке и сложности режиссерского замысла – полет в космос. Логично, что в кабине корабля нашлось место только для одного “пилота”. С шекспировскими перегрузками Лепажа только Миронов и может справляться.
– Для меня “Гамлет-коллаж” – чистый эксперимент. И я не считаю, что это уже законченная, состоявшаяся история. Поначалу мне просто очень хотелось вернуться к трагедии Шекспира, которую сыграл десять лет назад в постановке Петера Штайна. Но даже в страшном сне не мог себе представить, что мне придется играть все роли.
– А есть роль, которая тебе сегодня ближе всего?
– Это пасьянс. Сегодня я могу взять одну карту, завтра другую. На самом деле все происходит в моей фантазии артиста. Это всегда битва со своими демонами, со своими комплексами, которые ты каждый раз выносишь на сцену. Ты одиночка, находящийся во власти своих фантазий. И дальше тебя может унести неизвестно куда. Безусловно, сам спектакль, как он придуман и сделан, – технологическая революция не только в области сценографии, но и как бы в самом существе устройства театра. Еще никому в России не удавалось рассчитать и выстроить такую сложную конфигурацию на театральных подмостках. И хотя актерских задач там заложено немало, для меня в первую очередь это была беспрерывная битва с механизмом. Я должен был его даже не победить, но обуздать, как наездник – коня. Кажется, никогда в жизни я не был так зависим от техники на сцене! Ты выходишь на сцену и не знаешь, в какой момент она тебя подведет. Чего только не случалось за эти полгода: на одном из спектаклей меня чуть не удавили, на другом я проваливался в люк и долго не мог оттуда выбраться. Случалось, что мы останавливали спектакль и меняли засбоивший компьютер. А однажды я так грохнулся головой, что после этого не мог вспомнить не то что шекспировский текст, но даже как меня зовут. Все это я прошел. Сейчас в “Гамлете” уже новый этап – мне кажется, мы с компьютером стали партнерами. Но чем все это закончится, не знаю.
Спрашиваю: не боится ли он, что в нынешней политической ситуации его “Гамлет” так и останется одиноким памятником всем нашим несостоявшимся театральным альянсам и заброшенным территориям нового искусства?
– Ты знаешь, за последнее время было произнесено так много слов. И слова эти зачастую неправильно интерпретируются. Более того, какие-то формулировки намеренно переиначиваются, как это произошло, например, с министерской концепцией, что “мы не Европа”. Ведь там имеется и продолжение “мы и не Азия, и не Восток, мы – Россия”, которое наши оппозиционные СМИ намеренно предпочли не цитировать. А это, согласись, уже припахивает подлогом. Но тут я согласен, что формулировать надо точнее. К тому же я уверен, что какие бы тараканы из каких щелей ни вылезали и ни грозили миру своими указами и постановлениями, повернуть вспять историю нельзя. Точно так же будет и со всеми этими идиотскими ограничениями, которые сейчас активно вводятся. Например, на эпизоды с курением в кино или с нецензурной лексикой на театральных подмостках. Ну что нам делать со сценой в “Рассказах Шукшина”, когда мой герой, узнав цену импортных сапог, произносит емкое и простое выражение, лучшую из всех возможных формулировок, существующих в русском языке. Что же теперь, от нее отказываться? Шукшину при советской власти было можно, а нам, выходит, нельзя? Мне кажется, вполне достаточно, что на наших афишах значится “18+”.
Интересуюсь у него: собирает ли он старые афиши, программки, фотографии? Вообще, жизнь материальная для него что-то значит?
– Я всегда этого страшно боялся. У меня в гримерке никогда не было никаких фотографий, никаких талисманов на удачу. Я боюсь привязываться к чему-либо. Потому что жизнь сама по себе очень интересна, она обновляется, постоянно меняется. Ничто материальное не должно сковывать и держать тебя. Я даже на гастроли не беру никогда с собой фотоаппарата. Все, что я помню, что я пережил, должно оставаться со мной. В моей памяти, в моем воображении.
– Как же ты собираешься писать мемуары?
– Я открою тебе страшную тайну: я никогда не буду писать мемуары.
– Ну хорошо, Бог с ними, с мемуарами. Но ведь были в жизни какие-то мгновения абсолютного счастья, когда ты пожалел о том, что у тебя с собой нет фотоаппарата или какого-то приспособления, которое помогло бы тебе их зафиксировать, чтобы потом, когда будет плохо, к ним можно было вернуться, их как бы снова прожить?
– Ты знаешь, я всегда боялся этих мгновений. Я боялся даже задержаться в этом состоянии. Я торопился его проскочить, чтобы не расслабляться, чтобы к нему не привыкнуть. Все равно жизнь – борьба, жизнь – преодоление. Зачем привыкать к идиллии и покою? Вот сегодня я приехал из тон-студии на Мосфильме, где провел полдня, озвучивая “Солнечный удар”…
– Кого же ты там играешь?
– Представь себе, никого. Хотя Никита Сергеевич с самого начала предложил мне главную роль. К огромному сожалению, я тогда не смог, потому что уже снимался в другой картине. А тут он мне позвонил и сказал: “Ты не смог сыграть у меня в «Солнечном ударе», но теперь ты должен создать образ всей картины. Короче, озвучь нашего героя”. Выяснилось, что замечательный молодой артист, которого взяли на главную роль, родом откуда-то из Прибалтики. Отсюда его легкий акцент, который едва слышен, но до конца он от него избавиться так и не смог. Поэтому позвали меня на помощь. Озвучание – очень тонкая, почти хирургическая работа, ко-гда голосом ты можешь какую-то эмоцию усилить или, наоборот, что-то приглушить, но главная заповедь, как у врачей, – “не навредить”. Ведь это в любом случае чужая роль, не мною сыгранная, не мною прожитая.
Никита Сергеевич Михалков в этом смысле неумолим. Мы пробовали снова и снова. Ничто его не устраивало. Тридцать дублей “легкого дыхания”. В перерыве я вышел покурить на улицу, а там лужайка, поросшая одуванчиками. И я подумал: Господи, одуванчики! И я насильно стал вгонять себя в состояние счастья, потому что какое же может быть “легкое дыхание”, когда черные круги перед глазами и горло пересохло от бесконечных дублей. Но я знаю, что все эти мучительные подробности скоро забудутся, а вот счастье этого единственного дубля, вошедшего в картину, останется в памяти. Как и эти одуванчики на лугу “Мосфильма”.
– И напоследок вопрос на засыпку: веришь ли ты в бессмертную любовь?
– Больше верю в солнечный удар.
– Одно мгновенье – и много неприятностей после…
– Только так со мной и бывает.
2014Вспоминая N Павел Каплевич
Когда произносят словосочетание “театральный человек”, то я представляю себе Пашу Каплевича. Он знает про Театр все. Он им живет. Он сам Театр и есть. Дикий, неукротимый, непредсказуемый, агрессивный и нежный одновременно. Его смех в зале заводит актеров на сцене. Его реакции ждут, как высшего вердикта. Он умеет радоваться чужим удачам. Старается всегда подмечать хорошее во всеуслышание, а про недостатки говорить тихо и с глазу на глаз. Он знает, как театральные люди нервны и обидчивы. Он “сам такой Кармен”, наверное, поэтому постепенно и без отрыва от театра он перешел на гигантские видеоинсталляции, где в центре находятся такие безусловные шедевры, как “Явление Христа народу” Иванова или “Последняя вечеря” Леонардо. Жду, когда он сам засядет за воспоминания. По всему это должна быть Книга театральных судеб, вершителем которых и был Паша Каплевич.
У себя дома на Спиридоновке художник Павел Каплевич завел специальный альбом. Гости оставляют там свои пожелания его двадцатипятилетнему сыну Максу. Традиция, возвращающая нас во времена гостевых книг, именных часов и вышитых монограмм.
Пока хозяин переворачивает пергаментные листы, которыми проложены страницы альбома, успеваю разглядеть размашистые автографы Александра Сокурова, Галины Волчек, Кирилла Серебренникова, Александра Балуева… Мне тоже было предложено присоединиться, но я растерялся и не стал портить парадный альбом скучными банальностями. Надеюсь, что хозяин не обиделся.
…Про Пашу Каплевича мне рассказывать легко и одновременно безумно трудно. И сам он человек сложный, противоречивый, странный, магический и очень театральный в высшем смысле этого слова. Через него прошли судьбы десятков людей, которые бы не состоялись или состоялись бы совсем не так, если бы им на пути не повстречался Паша.
Мы можем общаться, можем не общаться. Иногда вдруг на месяцы он исчезает с горизонта, чтобы потом появиться “весь в стихах и друзьях”. Мы редко звоним друг другу. Без повода как-то не получается. Но раньше я знал, что, если позвоню первым и начну с вопроса “Как дела?”, ответ будет примерно один и тот же: “Потрясающе! Ты не поверишь, но так здорово еще не было никогда”. За почти тридцать лет я ни разу не слышал от него ничего другого. Жизнь у Паши невероятная. Один проект круче другого. Его соратники – сплошь гении и таланты. Сын радует. Что еще к этому добавить? В сущности, ничего.
Радикально тональность поменялась полтора года назад, когда начались неприятности у Кирилла Серебренникова. Особенно по контрасту с привычным мажорным тембром Паша меня сразу накрывает хмурым облаком: “Тяжело, Серый, очень тяжело”. Понятно, что ни слов, ни сил изображать бодрость нет. Все, что нам пока остается, это молча сидеть рядом на казенных скамейках, уставившись в мутную плазму, подвешенную на стене Басманного суда, где разворачивается один из самых горестных и безнадежных спектаклей нашей жизни.
…Я не помню, как и когда мы познакомились. Запомнился первый и единственный визит к нему в коммуналку, на “Войковскую”, где у него была маленькая одиннадцатиметровая комната. Помню его хозяйку, милую бабку Ирину Романовну, добровольно взявшую на себя функции личного секретаря. Она отвечала за его коммуникации с внешним миром. В историю вошла ее фраза: “Павлик, тебе звонила Танька Трупич и какой-то Николай Евич”. Про “Таньку” понятно, это была Татьяна Друбич. Но кто такой “Евич”? Оказалось, что я.
На кровати, занимавшей полкомнаты, были разложены его пастели, рисунки, раскрашенные от руки фотографии. Тогда только закончились съемки легендарного и несчастного фильма Рустама Хамдамова “Анна Карамазофф” с Жанной Моро. Паша там отвечал за костюмы и даже, кажется, отчасти за кастинг. Это такая характерная его черта. Не умеет работать от и до, точно по режиссерской указке. Он фонтанирует идеями, импровизирует на ходу. Его бы воля – он сам все и поставил бы, и придумал, и сыграл, и снял. Кого-то это дико раздражает. Кто-то всерьез обижается и потом всю жизнь сторонится, а кто-то, наоборот, с большой готовностью передоверяет ему часть своих полномочий и обязанностей. Если Паша в игре, значит, все закрутится, завертится. Появятся деньги, все перезнакомятся, те, кто друг с другом десять лет не разговаривал, подружатся вновь, а кто-то обязательно поссорится.
– Ты знаешь, что меня Олег Шейнцис проклял? – ошарашивает он меня откровением.
– Как? За что? – не верю я своим ушам – Олег был такой тонкий, приятный человек.
– Мы рассорились на “Федре”, куда Виктюк позвал его делать декорации, а меня – костюмы. Я все время что-то предлагал, придумывал. Шейнцис был страшно недоволен, что я завладел инициативой, а в какой-то момент просто развернулся и ушел. Со мной он порвал навсегда. А мы ведь были очень близки. Я очень переживал. Считал его своим учителем. И действительно многому у него научился. Но я был молод, горяч, нетерпим. Очень стремительно захватывал территорию вокруг себя. Олег этого не понимал. Рядом с ним должен был быть человек ему в помощь. Самое горькое, что мы так и не помирились. Когда он умер, я даже не успел с ним попрощаться. Помню, как раз только прилетел из Франции. Вдруг звонок Маринки Голуб, Царствие ей Небесное. “Ты сейчас где?” – “В аэропорту Шереметьево. Багаж жду”. – “А мы сегодня хороним Олега”.
Я потом понял, что дело не в Пашиных амбициях быть непременно первым и главным, а в его неутолимой потребности отдавать. Награждать, одаривать всех и каждого. У меня от того давнего визита на “Войковскую” до сих пор сохранился подарок – зеленая пастель “Дама с веерами” с его дарственной: “Серый, удачи и всего разного”. Она потом долго кочевала со мной с квартиры на квартиру, пока не нашла свое место в рамке под стеклом. Кто из учтивых гостей-иностранцев однажды даже поинтересовался: “Это Кес ван Донген?” Можно было бы соврать, но выдавала подпись кириллицей. Интересно, что, кроме Паши, меня Серым никто никогда не звал. Но в устах Каплевича получается даже симпатично. С ним я всегда чувствую себя в одной банде, где много по-настоящему крутых парней и настоящих звезд.
Паша был все время кем-то увлечен, в кого-то влюблен. “Нет, ты посмотри, посмотри, какая красавица”, – говорил он мне, подсовывая фотографии своей будущей жены Кати Бонч-Бруевич, одетой то в хамдамовскую матроску, то в русский кокошник, то в какие-то наряды из негнущегося цветного сукна. Катя обладает гениальным даром оставаться на всех фотографиях и во всех ситуациях дореволюционной красавицей, абсолютно безупречной и… безучастной. “Лед и пламя” – это как раз про их союз с Пашей, продлившийся без малого двадцать лет. Потом они разошлись, но ее фотография по-прежнему висит у него дома. “Нет, ты посмотри, ну она же тут вылитая Ирина Юсупова”… Паша не меняется.
Или вдруг звонок: “Серый, ты можешь приехать, надо посоветоваться”. На дворе поздняя осень 1992-го. Все рухнуло, нигде не платят. Чем заниматься – непонятно. Всеобщая растерянность царит в умах. Все внимают перед телевизором магическим пассам Кашпировского и заговаривают воду с Аланом Чумаком. Мрак сгущается. И посреди этого – Паша в тюбетейке и с шелковым метровым шарфом на шее.
– Как ты относишься к Нижинскому?
В таких случаях самое трудное – не рассмеяться. Ни в коем случае нельзя сбить настрой какой-нибудь глупой шуткой или небрежно отмахнуться (“Паша, что ты несешь”). Я делаю скорбную мину, воображая себя в этот миг у могильного надгробия Нижинского, еще не обезображенного бронзовой скульптурой Рукавишникова.
– Паш, ты о чем? Нормально отношусь.
– Нет, ты меня не понял. Тебя он волнует или нет?
Паше надо, чтобы я включился в игру, и я включаюсь – в меру темперамента и способности верить в предлагаемые обстоятельства. На самом деле есть в этом что-то по-детски прелестное: вот так в одну секунду переключиться, вырубиться из всей этой реальности с унылыми говорящими головами в телевизоре, с карточками на сахар, с вереницами нищих у метро и мусорных контейнеров. Отменить всю эту обветшалую постсоветскую жизнь, где донашиваются старые платья и произносятся старые, уходящие из употребления слова. Выдернуть откуда-то из небытия радужное павлинье перо, чтобы оно затрепетало, заиграло на солнце, приводя в радостное движение все вокруг. Нижинский, Нижинский…
У него в комнате бесконечные рулоны крафтовой оберточной бумаги, на которых танцовщик изображен во всех позах, в профиль и анфас. В чалме, в феске, в колпаке Петрушки… Паша все балеты изучил досконально и теперь кайфует, стремительно заштриховывая поверхность одного листа за другим. Он всегда так работает. Ни секунды простоя. Каждый раз он набрасывается на невинный лист, как зверь на добычу. Карандаш скрипит, пастель крошится. Все вокруг забрызгано красками. Одним словом, экстаз творчества. Лучший и единственный способ справиться с кошмаром, притаившимся в душе и за порогом квартиры. Для Паши ничего этого в тот момент не существует. И, как ни странно, эта его абсолютная погруженность в другую реальность действует на меня всегда ободряюще. Рядом с ним никогда не страшно, а захватывающе интересно.
Но с Нижинским особая история. Паша еще учился на актерском, когда в городской библиотеке в родном Туапсе, куда он приехал на каникулы, ему попалась на глаза книжка Веры Красовской “Нижинский”. У меня тоже такая была – с нарисованной фигуркой Петрушки на темном глянцевом супере. Собственно, с этой книги все и началось. Нижинский стал его тайной, любимым героем, объектом страстных мечтаний. Он мог рисовать только его, думать только о нем. Никто, разумеется, об этом не знал. Да и кому можно в этом было признаться? Но тут из Лондона после триумфального выступления в спектакле “Когда она танцевала” возвращается Олег Меньшиков. Он только что сыграл Есенина в дуэте с великой Ванессой Редгрейв, за что получил престижную театральную премию Лоренса Оливье. Олег – в зените славы и успеха. Молодой, прекрасный, тридцатилетний, с этими глазами-смородинами, прожигающими тебя насквозь. Человек, которому нельзя сказать “нет”, чего бы он ни захотел. А хочет он… сыграть Нижинского. Ему в Лондоне какая-то древняя театралка нагадала, что он обязательно должен это сделать, поскольку они очень уж похожи с Нижинским – одна масть, одна прыгучесть и пластичность. Когда он это все рассказал Паше, гуляя по засыпанному листьями осеннему Ботаническому саду, бикфордов шнур вспыхнул сразу с двух сторон. Пьесы нет, театра нет, свободных средств на постановку тоже нет. Вокруг дефолт и разруха. Зато есть мечта. Совсем не мало! Типичная ситуация для большинства проектов Каплевича в девяностые годы.
– Как ты думаешь, почему тогда это получилось? – спрашиваю я его сейчас.
– Совсем не было эгоизма. Ни у кого! Мы были наивны, чисты, простодушны. Мы жили искусством. Ничего нас в этот момент больше не интересовало.
Задуманный как частный проект, прошедший считанное число раз, спектакль “N”, к которому потом подключилось агентство “Богис” вместе с верной подругой Галей Боголюбовой и Ларисой Исаевой, стал чем-то вроде театрального манифеста нового времени. В данном случае имя Нижинского – это был своего рода пароль, “ключ без права передачи”, тайна, которая открылась только создателям спектакля. И то на очень недолгое время.
Помню крошечную сцену в помещении бывшей гимназии на Остоженке и зал, где все сидели, как на школьном утреннике: затылок в затылок, спина к спине. И только тянули шеи: “Как там наш-то?” А “наш” был в чем-то кремовом, полуспортивном, как на фотографиях из балета “Игры”, где Нижинский изображал теннисиста, вовлеченного в сложный любовный многоугольник. И действительно был похож, хотя танцевать ему там было категорически негде. Да и зачем? На весь спектакль у Меньшикова был один крупный план – в его глазах отражался и сверкал бенгальский огонь легендарных триумфов, свет гениальных озарений и порывов, пламя чужой страсти и тьма подступающего безумия. Но ощущение неповторимости театрального мгновения, вобравшего в себя всю красоту и невыносимость бытия, всю трагичность и кратковременность нашей бренной жизни – все это дано было нам увидеть и пережить, когда Меньшиков играл N.
А потом он взял и… взлетел. Не фигурально, а буквально! В тексте пьесы было что-то про прыжок Нижинского, про его знаменитые “зависания” в воздухе, которые так восхищали и одновременно пугали современников. И тут вдруг на наших глазах актер Олег Меньшиков ласточкой поднялся над сценой и исчез в окне. В задних рядах даже не поняли: что произошло, куда делся артист? Смятение в зале было такое, будто у нас на глазах произошел акт самосожжения или самоубийства. Первую минуту руки не слушались – аплодировать не получалось. Для начала хотелось убедиться, что Меньшиков жив, ну а потом уже хлопать и дарить цветы.
Спустя годы мы шли с Пашей по Остоженке, и он показал мне окно школы во внутреннем дворе, из которого выпрыгивал Олег. Тогда внизу были разложены в несколько слоев маты, и актера, разумеется, страховали, чтобы он ничего себе не сломал. Но все равно ощущение от пережитого шока осталось до сих пор. Меньшиков, может, потому быстро отказался играть “N”, что нельзя безнаказанно приближаться к краю пропасти. Здоровый инстинкт самосохранения, которого, похоже, был начисто лишен Нижинский, отвратил Меньшикова от соблазна кидаться в бездну чужого безумия каждый вечер. Для себя он выберет другой вариант судьбы. И вряд ли стоит его за это осуждать.
Их дороги с Каплевичем разойдутся в начале нулевых. Не знаю, что там приключилось. Каких-то очевидных поводов для разрыва не было. Более того, у них был еще один совместный проект – “Горе от ума”, где Каплевич придумал очень традиционные декорации, пронизанные старинным духом благородного ампира. И в то же время во всей этой нарочитой музейной традиционности было что-то обманчивое, какая-то прихотливая и сложная игра, которую не всегда могла поддержать простодушная режиссура Меньшикова. Может, разлад начался тогда?
– Понимаешь, Олег – это определенный человеческий тип. Я на него не обижаюсь. Он должен уходить от людей. Он – человек недлительного режима отношений. Может общаться очень точечно, по факту. Возникнет необходимость, и мы опять сойдемся. А может, и не сойдемся. Не знаю! Но для меня очень важен факт длительных отношений. Чтобы они развивались, чтобы они были постоянно вписаны в мою жизнь. А для него люди – это такие мгновенные вспышки, как блицы папарацци. Поулыбался, попозировал – и привет! Ваше время истекло. Я так не умею, не могу, хотя понимаю, как и почему это происходит, и не осуждаю никого за это ни секунды.
Спрашиваю Пашу про то, что меня по-настоящему волнует всегда. Театр – такое дело, что занавес когда-нибудь должен опуститься. Рабочие разберут и унесут декорации, актеры разойдутся по другим делам и проектам. В жизни Каплевича таких финалов было много. Считай, они случаются каждый день. Я спрашиваю, трудно это или нет, жалеет ли он об этом. И что все-таки главное? Ради чего он все это делал?
– Ради себя, – удивляется он моему вопросу. – Прежде всего только мне это доставляет удовольствие. Как говорит Рустам Хамдамов, ощущение джаггара. Это по-узбекски “печень”. Меня оно не покидало и не покидает до сих пор. Если появляется возможность где-то кровь пустить или кровь дать, я туда несусь на всех парусах. Как хищник. Для меня это – рецепт жизни.
– Хорошее, кстати, название для статьи – “Рецепт его жизни”. Не молодости, не красоты, не чего-то там еще. А именно жизни!
– В разные моменты определяющими были красота, поэзия, философия. Ум, тонкость. А сейчас – нет. Ощущение крови. Живое – не живое. Все это не зря. Меня абсолютно не волнует, “как наше слово отзовется”. Меня волную только я сам. И еще меня волнует мой сын. Как он на это посмотрит, и не только на то, что я делаю, но вообще на нашу жизнь. Как она его формирует. Я начал подпускать его к своим делам очень близко, когда он еще был маленьким. Помню, как Сокуров приехал ставить “Бориса Годунова” в Большом, и я попросил его разрешения хотя бы в какой-нибудь форме привлечь к работе Макса. Тогда сыну было одиннадцать лет. Мне было важно, чтобы он познакомился с человеком такого невероятного масштаба, как Сокуров. Театр не стал делом для Макса. Он выбрал другую профессию. Но театр научил его разбираться в людях. Помог понять, что такое масштаб личности. Что такое творческий человек, а что – коммерсант от искусства. Он умеет различать, что такое индустрия с техническим заданием, а где – творческий порыв. Макс – бизнесмен. И все эти моменты он включает в свою работу. И вот сейчас я понимаю, что мои усилия были не напрасны.
В моей жизни по-прежнему присутствует много людей. Кто-то появляется, кто-то исчезает, кого-то я сам забываю. Но я знаю свою особенность считывать человека и его судьбу. И я все время подсознательно думаю, как всех соединить, какой интересный может получиться микс. Редко ошибаюсь. Вот давай посмотрим только, кто мне сегодня за полдня позвонил (достает айфон и начинает нежно гладить по экрану одним пальцем). Вот моя фокус-группа. Могу перечислить: композитор Маноцков, режиссер Женя Марчелли, завпост ярославского театра, мой сын. Он звонил из Китая. Еще Вика Севрюкова, Нина Чусова, Алла Демидова, Митя Черняков, Аня Шалашова, Саша Балуев – друг жизни. Никто, как видишь, не потерян. Никто никуда не исчез. А если исчез, значит, так надо. На самом деле театр – это всегда пыльца на пальцах. В этой его мимолетности, быстротечности и есть главное очарование и смысл того, чем мы занимаемся. Часто слышу: “Ах, хорошо бы продлить!” А вот не надо ничего продлевать. Было – и прошло. И слава Богу! Ну что мы перед мирозданием? Проживем мы на сто лет больше или на сто лет меньше. Все канет и пройдет. Ну да, вот книга. Но и книги могут сгореть. А сколько прекрасных книг, которые никто не читает и даже не раскрывает. Стоят себе где-то, пылятся и желтеют. Репутации рушатся, имена забываются. Вот помнишь, в детстве моем и твоем бесконечно по телевизору показывали народную артистку СССР, старуху Малого театра Елену Николаевну Гоголеву. Она все время что-то говорила, звенела орденами. Но вот когда ты о ней последний раз вспоминал?
– Каждый раз, когда хожу на Ваганьковское кладбище к папе и бабушке, всегда прохожу мимо ее памятника на могиле. Она там молодая, шикарная, с мраморными плечами и локонами.
– Ну вот видишь, только на кладбище, когда мимо идешь в лейку воды налить. Но ведь не чаще же?
– Не чаще. Но, кроме Гоголевой, есть еще Элеонора Дузе, Айседора Дункан, Алиса Коонен, Мария Бабанова. Эти-то имена мы помним. Их легенды живы. Про них даже сериалы снимают.
– Перестань. Все придумано. Кстати, я ничего против не имею. Я-то как раз за легенду. Важно, чтобы ты или кто-то за тебя все талантливо сочинил. Ведь никто правды не хочет. Все хватаются за соломинку прекрасной лжи. А дальше радостно передают эту ложь из уст в уста, несут легенду в массы и так от нее сами торчат, что любо-дорого. Тут уже неважно, большой был артист или не большой. Важна магическая аура, его притягивающая сущность. Легенда!
Начинаем перебирать, кто в сотворении собственного мифа преуспел лучше всего. Вспоминаем и Макса Суханова, и Настю Вертинскую, и Игоря Миркурбанова. Сходимся оба, что равных нет Алле Сергеевне Демидовой. Поразительно, что она из того же круга светил, что Смоктуновский, Эфрос, Любимов, Высоцкий. Но при этом остается интересной и сегодня. Почему это происходит? У Паши тут своя теория, что это предначертано свыше и всегда на очень определенный срок.
– Ты знаешь, что Алла мне тут сказала?
– Что?
– “Я жила неправильно. Уходила всегда от скандалов”. Только теперь она понимает, что жить надо по Дягилеву – между триумфом и скандалом. Ну я ее успокоил: “Не обольщайтесь, Алла Сергеевна, – сказал я ей. – Вы спровоцировали самый большой скандал в истории российского театра последних двух десятилетий и в нем участвуете на постоянной основе. Кто из Ростова призвал в Москву Кирилла Серебренникова? С кем он сделал свою первую работу на телевидении? С кем поставил свой замечательный спектакль «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре?»” Алла ведь и свою первую “Золотую маску” за него получила.
Паша любит успех. И не скрывает этого. Он ревниво подсчитывает, кого сколько раз вызывали на поклоны, кого номинировали на ту же “Маску”. С удовольствием цитирует наизусть восторженные строки из положительных рецензий. Отрицательные, впрочем, тоже помнит и при случае может вдарить обидчику так, что мало не покажется. Пашу боятся – его ярости, необузданного гнева, безумных глаз и зычного актерского крика. При мне он наливается яростью, как только слышит имя Андрия Жолдака. Они, кстати, чем-то похожи. Оба крупногабаритные, южные, громкие. Какие-то безумные. Поначалу они и рванули друг к другу, безошибочно распознав друг в друге братьев по горячей крови. И все лучшие проекты Жолдака в Москве – это, конечно, Паша. Его энергия, влюбленность, готовность тратить и тратиться, чтобы довести чужой замысел до победы. А замыслы были все сложносочиненные и дорогостоящие. С лучшими столичными актерами, на трудных, плохо приспособленных площадках. Но именно там, из болотной тины, из чеховской повседневности, подернутой ряской с квакающими лягушками и крикливой Аркадиной, вдруг рванула белым вихрем их “Чайка”, а позднее среди руин и пыли разрушенного филиала МХАТа буйно и мощно проросла “Федра. Золотой колос” с грандиозной Машей Мироновой в роли античной героини. И даже невозмутимо ироничный Марк Захаров, удивленно подняв правую бровь, скажет: “А я и не знал, что у нас есть такая актриса”. Впрочем, когда сама Миронова попытается привлечь Жолдака на постановку в родном театре, все двери и входы окажутся замурованными наглухо. Это ведь особое искусство – проникать в театральные хоромы, уговаривать, договариваться, подбирать нужные ключи и отмычки к наглухо запертым дверям. Этим талантом владеет только Паша Каплевич, но к этому времени они с Жолдаком успели рассориться вдрызг. Почему? Из-за чего? За давностью времени нет смысла выяснять. К тому же театр – это не то место, где стоит искать справедливости. Но я все же спрошу Пашу, не обидно ли ему, что лавры достаются другим.
– Да нет, не обидно. Я-то знаю, что внес в эти проекты. Знаю, сколько там в них от меня. И те, кто меня обидел или кинул, тоже это знают. Даже если и предпочли бы об этом забыть.
– А вообще откуда в тебе такая пробивная сила? И деловая предприимчивость. Ни у кого из нашего поколения ее нет, а у тебя есть?
– Мне всегда была интересна новая жизнь. Я же южный человек. Наверное, у меня это в крови и в подсознании. Туапсе – портовый город. Солнце, море, никаких шуб-пальто никто не заводил. Зачем? В одной рубашечке можно проходить весь год. Жили, как птички божьи. Сколько себя помню, все дорогу в ненасытном поиске: вначале – жвачки, потом – джинсов и западных дисков. Но преувеличивать мой талант бизнесмена тоже не надо. Мы тут с Кириллом говорили, что, наверное, это судьба. Все наши заходы на территорию больших денег завершились печально. Для большого успеха необходима какая-то другая степень концентрации и желания денег. А я легко к ним отношусь. Да заберите все, мне ничего не жалко. Неужели я за это барахло и бумажки буду держаться?
– А за что ты будешь держаться?
– Только за человека. За своего ребенка, за друзей. Больше ничего меня не держит.
– Тебя было много в театре девяностых. Постоянно шли премьеры одна за другой. Похоже, ты решил сбавить ритм…
– Просто я перешел на нормальный режим. У меня за спиной больше двухсот спектаклей. И здесь, и за границей. Но это была работа на износ. Теперь я делаю два-три спектакля в год. И мне вполне хватает. Недавно выпустил “Мадам Баттерфляй” в Новой опере с прекрасной Светой Касьян. Тебе обязательно ее надо послушать. Прямо новая Мария Каллас! За “Орфея” в Новосибирске нас выдвинули на “Золотую маску”. Просто вокруг меня стало меньше шума. Театр теперь меньше занимает места в моей душе. Но я готовлю новый проект – опера-балет-драма “Кармен” с Ксенией Раппопорт, балериной Ольгой Смирновой и Александром Балуевым. На подходе – опера “Рабочий и колхозница”, где я и продюсер, и автор либретто. И потом, не стоит забывать, что пришло новое поколение, с которым я никак не соотношусь. С Кириллом мы договорились, что работать вместе не будем. Человеческие отношения дороже. Богомолов мне не интересен. К тому же у него есть свой постоянный художник. Бутусов работает с Шишкиным. Художник-сценограф не может существовать без своего режиссера. Конечно, никому не запрещается творить свой “Театр художника”, но так ли он интересен? Наверное, мне бы хотелось всерьез заняться модой. И делал бы я это с удовольствием. Но в отсутствие серьезной индустрии все остается на уровне кустарного производства. Последнее время я все время себя уговариваю, что вот выйдет Кирилл, станет внутренне легче жить. Но это тоже иллюзия. Трудно всегда.
Меня тут спросили: если вам подарить машину времени, куда бы вы на ней отправились? Твой вариант? Вернулся бы к себе в Туапсе, когда был маленьким, жарился бы на пляже и выпрашивал жвачку у иностранных моряков, гуляющих по набережной?
– Не угадал. Вот как на духу скажу: я бы хотел оказаться в том времени, когда “Театральное дело” будет закрыто. Меня даже волнует не то, как сейчас Кириллу. Я вижу, чувствую, что он в прицеле, сосредоточен, постоянно находится в защитной позиции. Это помогает ему быть в форме. Но потом эта ситуация закончится. И дай Бог, чтобы она закончилась наилучшим образом для него. А вот что потом? Что с ним будет?
– Тут я посмотрел по YouTube интервью с Чулпан, где она прямо сказала: “Хочу, чтобы Кирилл уехал, чтобы он смог нормально жить, работать, чтобы не оглядывался, не вздрагивал каждый раз при любом стуке в дверь, при любом звонке”. Что ты по этому поводу думаешь?
– Мне будет безумно жаль нас самих, если это случится. Потому что без Кирилла это станет уже совсем другой театр.
– И что же остается?
– Вот это и остается.
Паша распахивает передо мной лэптоп, где на экране медленно оживает, будто проступая сквозь сизый туман, фреска Леонардо “Тайная вечеря”. Это его новый видеопроект для Русского павильона на Венецианской Биеннале в 2019 году. Вначале я вижу пустой стол, потом появляются знакомые фигуры. То они проявляются отчетливо, то почти исчезают, сливаясь с фоном. Каждый новый слайд меняет окраску: пурпур, золото, охра, кобальт… Пока всё не погружается в синюю тьму. Есть в этом что-то завораживающее. Будто тебе кто-то рассказывает твой давний сон.
Раньше Каплевич смешивал свои краски вручную, процарапывал ногтями поверхность бумаги, а сейчас вместе со своим помощником колдует на компьютере. Только и слышишь: “Добавь красного, притуши синеву, а здесь воздушнее, воздушнее…” Новый век, новые технологии – и все тот же одержимый Паша Каплевич, который совсем не меняется.
– Скажи, как ты относишься к Леонардо? – вдруг спрашивает он с той же детской интонацией вызова и надежды, с которой спрашивал меня когда-то о Нижинском.
– Он меня волнует, – твердо говорю я.
И это правда.
2018Лёд Владислав Наставшев
В Риге у него репутация модного режиссера, регулярно получающего главные театральные награды. В Москве в “Гоголь-центре” с аншлагами идут два спектакля. А еще он поет. И это едва ли не лучшее, что он умеет. В том смысле, что так, как умеет петь Владислав Наставшев, не умеет никто. Даже не с кем сравнить. Ну, может быть, французские шансонье? Пение-воспоминание, слабый шелест перевернутых нот и листов, исписанных от руки. Запрокинутый профиль, полузакрытые глаза и пальцы, пробующие клавиши, будто на ощупь пытающиеся определить их температуру. У самого Влада, как у прирожденного романтика, она всегда повышенная. Не то чтобы совсем уж чахоточный жар, но мечутся руки по клавиатуре, лоб в легкой испарине, и голос срывается на какие-то пронзительные, почти дискантные ноты, которые раньше могли выдавать только пионеры из хора Свешникова или солисты католических приходов во время рождественской службы. И во всем этом есть какая-то странная, царапающая пленительность, так идущая стихам Михаила Кузмина, которые Влад поет давно. А прошлым летом в Новом пространстве Театра Наций он дал серию концертов под названием “Я говорю, что люблю тебя”. Это был уже другой и не очень привычный для него формат – советские шлягеры 1940–1970-х годов. Интуитивно он выбрал просто красивые песни, бесхозные, полузабытые, смытые волной в бескрайние воды Стикса, где теперь и обретаются любимые голоса. Но Влад Наставшев их расслышал, запомнил и понял, как надо их петь сегодня. Я очень дорожу нашей дружбой, люблю его спектакли и могу бесконечно слушать, как он поет.
Звезда на сцене
Пятиконечная конструкция, похожая на залитый каток, зависла под углом над подмостками. С нее так легко упасть. Под ней светящаяся бездна, похожая на аквариум, и обдает мертвенным холодом. А вокруг темнота. Но что-то потом начинает происходить. Как будто враз потеплело, и лед начинает таять у вас на глазах. Весна? Любовь? Один удар, другой, третий… Невероятный голос, какой-то почти альтовой пронзительности и чистоты, споет про “шабли во льду”. И совсем другая реальность вдруг завибрирует и заживет поверх сценографической конструкции и литературного монтажа, составленного из стихов Михаила Кузмина и выдержек из мемуаров Ольги Гильдебрандт. Стихи станут музыкой, объятиями, танцем, “полетами во сне и наяву”… Вспыхнет четвертый луч в самом успешном проекте сезона 2017 года – поэтическом цикле “Гоголь-центра”, начатом спектаклями “Пастернак. Сестра моя – жизнь”, “Мандельштам. Век-волкодав” и “Ахматова. Поэма без героя”. Теперь очередь дошла и до Михаила Кузмина. “Форель разбивает лёд” в постановке Владислава Наставшева.
«Последний стыд и высшее блаженство»
Впервые имя Наставшева я услышал в Риге, где до сих пор невозможно попасть на его хит “Озеро Надежды”. Все билеты распроданы за месяц вперед. Единственный спектакль, который идет на русском языке в Новом Рижском театре. Сам Наставшев русский, родился в Риге, учился в Петербурге на курсе у Л. А. Додина. Потом были в его жизни и Лондон, и Париж. И вот теперь – Москва, новый “порт постоянной прописки”. Здесь у него в “Гоголь-центре” идут два спектакля – “Митина любовь” и “Без страха”. Была еще “Медея”, но ее по не зависящим от театра обстоятельствам больше не играют.
Наставшев – из поколения режиссеров новой формации. Не бунтари по темпераменту, не главари по судьбе – скорее волки-одиночки со своими историями охот и облав. У каждого свои повадки, свой голос. Сам Наставшев прекрасно поет. Стиль довоенных берлинских кабаре. Надтреснутый тенор, блондинистый пробор, узкий галстук на шее, как удавка. Запрокинутый профиль в профессорских очках. И что-то такое пронзительное в ля-миноре. Голос из подполья, человек из тени, персонаж, “одетый в ночь”. То ли незнакомец из фильмов Линча и Вендерса, то ли герой прозы Кристофера Ишервуда и Альбера Камю. Есть во Владе не поддающаяся объяснению угловатая иностранность, которую не сымитируешь, не изобразишь. С такими лицами, как у него, раньше любили брать на роли умных гестаповцев или наших разведчиков. Холодная непроницаемость и невозмутимость во всех жизненных обстоятельствах. Впрочем, чему тут удивляться? Все-таки он рижанин, пусть и из спального района, который прославил в своем “Озере Надежды”. Пусть его прошлое, как когда-то шкафы его мамы, переполнено бедным советским скарбом и воспоминаниями, оставшимися от прошлой жизни, которая то и дело врывается шаровой молнией в пространство его спектаклей и снов, заряжая их каким-то таинственным и тревожным электричеством.
Может, поэтому он предпочитает минимум декора и пустую наклонную сцену. Он не любитель шумных эффектов. Знает, как работать в театре с тишиной, как на-учить актеров выражать самые сложные мысли и чувства предельно просто – жестом, взглядом, позой. Он умеет безошибочно настраивать зрительный зал на ответную волну нежности. А еще он пишет музыку. Ее много в новом спектакле. “Музычка”, как любил говорить сам Кузмин. Ведь кроме всего прочего, автор “Форели” вошел в историю как неподражаемый исполнитель собственных “песенок”, манерных, прелестных, игривых. Не знаю, сохранились ли их ноты. Но даже если и так, то Наставшев ими не воспользовался, а сочинил свою музыку, придав кузминским стихам совсем новое звучание. Музыка – это то, что происходит со льдом, когда он тает. Чистая, сверкающая вода. В нее бросается с крутого обрыва возлюбленный главного героя. Она тихо плещет за бортом, отражаясь в иллюминаторах океанского лайнера.
“Последний стыд и полное блаженство” – вот ключевая формула для понимания поэзии и философии жизни Михаила Кузмина. Никто не умел так обольщать, очаровывать и развлекать, как этот стареющий Калиостро. Он никогда не числился в первых рядах литературного пантеона страдальцев, праведников и гениев. Не страдалец – все-таки умер своей смертью в пожилом по тогдашним меркам возрасте, на больничной койке. Совсем не праведник и даже наоборот. Что касается гениальности, тоже до последнего времени имелись на этот счет сомнения. Хотя его последний поэтический сборник “Форель разбивает лёд” снимает любые вопросы. Конечно, гений, но так и не ставший гранитным памятником. Отечественное литературоведение задвинуло его в какую-то странную резервацию, в душную гейскую глушь, о которой полагается говорить со снисходительной улыбкой. (“Ну мы же с вами все понимаем, о чем эти стихи”.) Что стало тому причиной? Ориентация, которую Кузмин никогда не скрывал, или демонстративное отсутствие интереса ко всякой политике и борьбе за “место у колонн”? Или, может, отсутствие высоких покровителей и правильных промоутеров? Трудно сказать. Тут все сошлось, включая клеймо “неудачника”, так и не сумевшего вписаться в высшую литературную номенклатуру. К тому же его окружение и привязанности тоже не располагали к попаданию в школьные хрестоматии. Это и многолетний любовный треугольник с участием Юрия Юркуна и “снежной Психеи” Ольги Гильдебрандт. И какая-то вполне себе второстепенная, мятая питерская публика, которая, судя по дневнику Кузмина 1934 года, беспрерывно закусывает, выпивает, флиртует, злословит, раскладывает пасьянсы и танцует под патефон в ожидании своей участи. А где-то в углу сидит пожилой поэт в нищих обносках. Он уже не поет, не шутит и не язвит, а только сипло квохчет, невозмутимо фиксируя собственное тихое угасание (финальный диагноз – сердечная недостаточность) и маленькие радости, “признаки неистребимой, милой жизни”, которые время от времени еще случались и без которых, наверное, было бы совсем грустно.
В своем спектакле Наставшев сознательно старается уйти от любых намеков на советскую бедность и унылый ленинградский быт. У него Кузмин – старый граф или маркиз с собственной прислугой. У него есть “бой” с кудрявым чубчиком и “экономка” в накрахмаленном фартучке и наколке. А сам он – персонаж из поздних фильмов Висконти, доживающий, переживающий, доигрывающий сюжеты ушедшей любви. Только очень страшный. Почти мертвец, будто вынутый из гроба. Самое удивительное, что Кузмина в спектакле играет совсем молодой актер Илья Ромашко. Резиновая маска поначалу полностью скрывает его лицо, но руки и голос живут своей отдельной жизнью. Ее нельзя назвать ни молодой, ни старой. У любви нет возраста, у страсти нет пола. Но есть благородный, чуть глуховатый, “петербургский” голос, красивые, изнеженные руки, бессильно тянущиеся к небу или жалко цепляющиеся за ускользающую юность. Наставшев услышал и срежиссировал “смертельную любовь” так, как мог это сделать, наверное, только сам поэт – бесстрашно, целомудренно и горько. А любовный дуэт Ольги Гильдебрандт и Юркуна в исполнении Марии Селезневой и Георгия Кудренко он поставит в прямом смысле на ходули. Актеры, как заправские циркачи, будут передвигаться на них, изображая любовь, вознесенную над бытом и сценическими подмостками.
Как выяснилось, к стихам Кузмина Наставшев шел давно – больше двадцати лет. До сих пор он его бесконечно читает и перечитывает. Может наизусть цитировать его дневник с любой страницы. В Риге он уже ставил спектакль по роману Кузмина “Плавающие и путешествующие”, за который получил несколько премий. Несколько лет назад он собирался продолжить свое театральное путешествие в эту сторону, но помешали внешние обстоятельства.
«Озеро Надежды»
Тогда одновременно с “Форелью” возник замысел автобиографического “Озера Надежды”. Как ни странно, этот спектакль родился из подготовки к ремонту в собственной квартире.
– Мы с мамой стали разбирать ее вещи, – рассказал мне Влад. – И это была просто какая-то древнегреческая трагедия. Медея прощается со своими детьми. Представляете, да? И даже не прощается. Какой там! Она выхватывала эти старые вещи у меня из рук, прятала от меня. Она не могла представить, что я сейчас отнесу все это на помойку. В какой-то момент я позвонил своей давней подруге, прекрасной актрисе Гуне Зариня, и сказал, что у меня дома происходит самый настоящий театр. Просто готовые сцены из спектакля. Собственно, я ей тогда и предложил: “А хочешь сыграть мою маму?” Она сказала: “Давай, круто”.
Я видел Гуну на сцене. Она латышская Мэрил Стрип. Раньше про таких актрис говорили, что они могут сыграть все, даже телефонную книгу. Сумасшедший диапазон – от высокой трагедии до фарса. Маму Наставшева Гуна играла в подлинных очках своей героини. С веселой легкостью прирожденной лицедейки она присвоила себе ее походку, манеру говорить, прическу и даже какие-то отдельные словечки и фразы. И этот изумленный вопль “Ты олатышился!” – под хохот и неизменные аплодисменты в зале.
– Мы понимали, что это должен был быть спектакль на русском языке о русских и латышах, – рассказывает Влад. – Я долго искал литературный материал, пока не наткнулся на сборник рассказов русских писателей, живущих в Латвии. Больше всего меня потрясло то, что там ни на одной странице нет ни слова о латышах. Как будто их нет в природе, словно все происходит в другом измерении, на другом свете. Мне понравился рассказ об одной маме. По настроению он поразительно совпал с тем, что у меня происходило в доме. В общем, это был еще один импульс и одновременно знак, что надо приступать к работе.
– Вы стопроцентно русский?
– Да. И папа был русский, и мама.
– Тогда почему время от времени на афишах и в прессе я вижу, что ваше имя написано с буквой “с” в конце – Наставшевс?
– Так у меня написано в паспорте. Все латышские фамилии пишутся с буквой “с”. Другой вопрос, хотите вы это принять или нет. Русские в Латвии это не принимают. А я подумал: почему нет? Пусть будет. Еще одна буква добавилась к моей фамилии. Это же круто!
– После 1993-го вы почувствовали какую-то свою второсортность по сравнению с титульной нацией, чистокровными латышами?
– Это выбор человека – чувствовать свою второсортность или нет. Мне это неинтересно, вот я и не чувствую.
– В советское время, когда вы были совсем юным, вы ощущали напряженность в отношениях между латышами и русскими?
– Наверное, я слукавлю, если скажу “нет”. Был один эпизод, который я не люблю вспоминать. Меня отдали заниматься бальными танцами и отправили в специальный лагерь, где были одни латыши…
– Вы умеете хорошо танцевать?
– Нет.
– Так вы же учились?
– Ну и что. Это еще не значит, что я хорошо танцую. В общем, в этом лагере я почувствовал себя изгоем. Пытался говорить со всеми по-латышски, наладить какие-то отношения. Кое-как это в результате получилось. Но я помню этот холод, эти невидящие глаза. Я был чужак. И это ощущение запомнил навсегда.
Удар, еще удар
Вся “Форель” в “Гоголь-центре” – это один развернутый жест. Ты невольно подсчитываешь “удары”, на которые поделена кузминская поэма, как фуэте балерины. Каждая стихотворная глава становится очередным пластическим номером. Для любой поэтической метафоры Кузмина режиссер находит свой пластический ключ. Следить и разгадывать его находки – удовольствие для театральных гурманов. Но главное, Наставшеву удалось уловить внутренний ритм и молчаливую боль стихов Кузмина. Чем острее страдание, тем сладостнее пение главного протагониста, певца и актера американца Одина Байрона. У него роль молодого Кузмина, каким, наверное, тот представлял себя в мечтах. В жизни, судя по сохранившимся портретам и фотографиям, Кузмин был маленьким, субтильным, рано облысевшим. А тут неотразимый, черноокий, бородатый красавец с нежным голосом Сирены. По сути, на голосе Одина и держится вся сложная, замысловатая конструкция спектакля. Он именно пропевает стихи Кузмина, сохраняя при этом их красоту, лиризм и интимность.
Благодаря ему в “Форели” наметились контуры какого-то другого, непривычного театра, какого в “Гоголь-центре” до сих пор еще не было. По жанру, наверное, это ближе всего к кабаре или к тому, что называется “one-man show”, хотя на сцене задействовано несколько персонажей. Но это именно шоу в западном смысле по внутреннему напору, музыкальной пластике и энергетике, а никак не только поэтическое представление, где все по очереди читают стихи.
Мой вопрос Наставшеву, хочет ли он иметь свой театр, похоже, застал его врасплох.
– О своем театре не мечтаю. Мне бы подвал какой-нибудь… Впрочем, один приятель мне однажды сказал: “Успокойся, подвал не для тебя. Это не твое. Ты слишком привязан к деньгам и славе, чтобы уйти от них в какие-то маргинальные поиски”. Может, он был и прав? Вот я все жду, что меня погонят из всех этих престижных театров, лишат хорошо оплачиваемых постановок, и мне придется искать что-то совсем свое.
– На самом деле вся логика последних сезонов убеждает в обратном. Призы на театральных фестивалях, премьеры, выгодные и престижные приглашения…
– Это как сон. Мне все время кажется, что это происходит не со мной. Мне это сладостно и приятно. У меня есть деньги, я работаю с интересными, талантливыми людьми в “Гоголь-центре”, сижу в дорогих ресторанах. Я могу что-то себе позволить. Но это не есть реальность, в которой я живу.
– А что дает ощущение реальности?
– Реальность – это когда не получается. Когда тебя отовсюду гонят, когда захлопывают перед носом двери, когда тебе некуда идти и тебя никто не ждет. Вот это и есть настоящая реальность!
– Вы приучены именно к этому?
– Наверное, многое тут идет от воспитания. С одной стороны, мне всю дорогу внушали, какой я неповторимый и удивительный. Это была любимая песня мамы. А с другой… У нас была бабушка, мамина мама, которая говорила мне: “Ты – ноль, ты – никто, ты – бомж”. Бабушка про настоящую жизнь знала лучше, чем мы с мамой, и хотела меня к ней подготовить. Так получилось, что потом мы вынуждены были съехаться с ней. Фактически она нас содержала. Она как-то выгодно и умно сумела распорядиться своей собственностью. В общем, денежки у нее водились. В 2008 году она умерла, и тогда мама из той суммы, что ей досталась в наследство, выдала мне несколько тысяч долларов на мою первую самостоятельную постановку. Бабушка, разумеется, никогда бы их мне не дала. Театр она считала занятием бессмысленным, никчемным и даже позорным.
– Кто был ваш отец?
– Он был моряк. Умер, когда мне было четырнадцать лет. Он все время где-то плавал. То есть и дома-то он почти не бывал. Одно сплошное ожидание. Вот когда папа приедет! Так что, можно считать, его никогда и не было толком.
– Удивительно, что первый ваш спектакль был поставлен на деньги бабушки.
– Второй, кстати, тоже. Я хорошо запомнил свой разговор с одним главрежем. Мне он тогда прямо в глаза сказал: “Ну с чего ты решил, что тебя пустят на лучшую сцену в городе, дадут прекрасных актеров и ты станешь с ними экспериментировать?” А хотел я тогда поставить “Фрекен Жюли”. Там всего-то три человека, к тому же пьеса одноактная. То есть расходы не большие. Но и на них никто не собирался идти.
– Как к вам приходит очередной театральный замысел? Почему вчера “Озеро Надежды” или “Кровавая свадьба” Лорки, а сегодня “Форель разбивает лёд”?
– Многое происходит незаметно, исподволь. Например, я сейчас не вспомню, как у меня в руках оказались проза и стихи Евгения Харитонова, поэта андеграунда. Он умер в 1980 году. А до него – Кузмин. То есть мне очень важно какое-то прямое, лирическое высказывание. Ты должен рассказывать про себя, не отделять свою жизнь от жизни героев. Ничего особо эксклюзивного в этом нет, просто все дело в степени откровенности. Ну и таланта, наверное? Например, магнитофонные записи Харитонова – ключ к пониманию его литературы. Для него покупка пишущей машинки была нарушением всех законов творчества. Печатать – это же так шумно! Нет, надо как-то иначе. Вот зимние вечера, ты пишешь, оставаясь наедине с собой и листом бумаги, а тут какой-то назойливый стук клавиш. Нет, так нельзя. Надо что-то придумать. Так и с Кузминым. Из всех поэтов прошлого он кажется мне самым живым, самым незабронзовевшим.
– Кузмин – поэт во многом недооцененный и довольно сильно зашифрованный. Вы хотели его как-то объяснить и приблизить современной публике?
– Да, пытались, но в какой-то момент поняли, что это бессмысленно. Надо просто слушать стихи. По-моему, Илья Ромашко их очень хорошо читает, так что даже закодированные тексты Кузмина становятся понятными. А Один Лэнд Байрон просто прекрасен. У него, кстати, музыкальное образование. Он раньше играл в мюзиклах. Людям, которые смотрят телевизор, он знаком по сериалу “Интерны”. По-моему, он потрясающий. Таких тут нет. Внутренняя сдержанность, интеллигентность и одновременно какая-то холодная отстраненность.
– А вы сами пишете прозу или стихи?
– Нет, я сейчас веду дневник. Ставлю спектакль и что-то записываю себе в блокнот. Дневник – это такие гаммы, ты проигрываешь, проговариваешь что-то, что не успел или не смог сформулировать на репетиции.
– Как вам жизнь в Москве?
– Скучно. То есть одиночество – это прекрасно. Только не очень понятно, что делать вечерами затворнику латвийского посольства. Выпиваю иногда один. В общем, у каждого свой ад. Я бы сказал так, это спартанское существование, наполненное горестями творческого быта.
– Почему вы живете в посольстве?
– Потому что у посольства есть своя маленькая гостиница, куда меня поселили. И это почти ничего не стоит театру.
…В финале спектакля появится Она. Ольга, разлучница и прелестница, та самая, которая увела Юркуна от Кузмина, хотя надолго удержать не смогла. Жестокосердная судьба вырвет его из ее объятий. “Я не помню, махнул ли он рукой на прощание…” Юркун сгинет в подвалах Ленинградского НКВД или, как тогда говорили, Большого дома, а вместе с ним и все его бумаги, и проза, и посвященные ему стихи Кузмина. А то немногое, что останется, украдут и распродадут чужие люди. Не до стихов тогда было, не до стихов! Ольга лепечет про какой-то чернослив и удаляется, как пришла, на своих цирковых ходулях.
…И снова ледяная звезда, залитая мертвенным, искусственным светом. Снова пустыня, которая давно уже никому не внемлет. А на вершине, на самом острие звезды застыл одинокий старик, склонившийся над телом мертвого юноши.
Кто выдумал, что мирные пейзажи Не могут быть ареной катастроф? 2017Лето и дым Кирилл Серебренников
Без него этой книги бы не было. Хотим мы этого или нет, но нынешнее театральное время войдет в историю под названием “Театр времен Кирилла Серебренникова”. После его спектаклей в “Гоголь-центре” стало невозможно играть и ставить, как было принято прежде. Так же как нельзя все происходящее воспринимать в отрыве от “Театрального дела”, которое разворачивается уже второй год на наших глазах. Я очень надеялся, что к моменту выхода моей книги случится долгожданное чудо и Кирилл будет на свободе. Похоже, что нет. К привычным театральным адресам, по которым мы ходим всю жизнь, прибавились еще и адреса Басманного и Мещанского судов, где зрители спектаклей Серебренникова теперь завсегдатаи. И то, что там происходит – тоже в каком-то роде Театр, этакий док-дивертисмент к “Изображая жертву”, “Отморозкам”, “Мученику” и другим постановкам Кирилла. Раньше дивертисментом называли некое бравурное и искрометное действо, выдававшееся под занавес в качестве театрального десерта для гурманов. А тут – многотомное уголовное дело, чье заунывное чтение способно усыпить даже самых стойких и выносливых. Тем не менее его эхо присутствует в этой книге, придавая всему происходящему трагическую акустику повседневности. Невозможно смотреть, как поднимается театральный занавес, и не думать о Кирилле и его товарищах. Невозможно аплодировать актерам, выходящим на поклоны, и не вспоминать, что скоро опять идти в суд. Во всяком случае, у меня это не получается.
Я знаю, что ему разрешено выходить из дома на два часа. Часто, проходя по Остоженке, где он живет, ловлю себя на мысли, что могу его встретить. Не встретил ни разу, хотя бываю в том районе регулярно. А тут лето, жара, и мне навстречу идет он. Тащит какие-то пакеты из магазина. Загорелый, поджарый. Вначале я не поверил своим глазам. И он тоже как-то неуверенно замер: подойду я к нему или не подойду. На всю жизнь запомню эти полсекунды ожидания, наш мгновенный обмен взглядами: Да? Нет? Да!
Как в старом кино про разведчиков, когда взгляды красноречивее слов. Но мы не разведчики, не резиденты, мы – обычные, штатские, театральные люди. Ведь и в страшном сне мы не могли представить, что будем вот так, в нерешительности, стоять друг против друга на раскаленном асфальте Смоленской площади, придавленные всем, что случилось, что ему уже пришлось пережить и что еще предстоит.
Я не помню, что мы тогда сказали друг другу. Наверное, обычные банальности, типа: Держись, Кирилл! – Держусь! Мы просто обнялись, как добрые знакомые, которые давно не виделись, и каждый пошел дальше, не оглядываясь назад.
Ростовский гость
Кирилл Серебренников появился в Москве загадочным ростовским принцем в черной шапочке, серебряных перстнях и с разбойничьей серьгой в ухе. Новый посланник миллениума, он приехал оживить сонное царство столичного театра начала нулевых годов. Такая у него была тайная миссия. Но одних только невесомых поцелуев для спящей красавицы, как в балете, было явно недостаточно. Требовались какие-то другие, более радикальные средства и способы. Кирилл выбрал два направления, два пути, которые должны были привести к желанной цели: актуальная драматургия, приправленная современным абсурдом и хоррором – “Пластилин” в Центре драматургии и режиссуры, “Изображая жертву” в МХТ – и западная классика – “Сладкоголосая птица юности” Теннесси Уильямса в “Современнике”.
“Пластилин” пролетел мимо меня, “Жертва” оставила более или менее равнодушным, зато на “Сладкоголосой” я понял, что теперь буду ходить на все премьеры ростовского гостя.
Недавно я встретил Юру Колокольникова – Чанса Уэйна из “Сладкоголосой”. Задумчиво поглаживая свою красивую голову, на которой почти уже не осталось никаких кудрей, он с растерянной улыбкой сказал мне: “Вы, наверное, не в курсе, но «Сладкоголосая» до сих пор идет в «Современнике»”.
Бог мой! Столько всего произошло, поменялось, рухнуло, закрылось, исчезло бесследно, а тот давний спектакль Кирилла жив. Именно тогда ему удалось вывести формулу своего будущего театра. И ужасная, карикатурная, невыносимая женщина Принцесса Космонополис в исполнении Марины Нееловой – монстр из монстров, актриса из актрис, дива из див – стала героиней его театрального романа. Именно она обладала тайной, которую Кирилл будет развенчивать со всем своим прямодушным провинциальным задором и бесстрашием молодости.
Тогда из-за его спектакля я вдрызг разругался с Виталием Яковлевичем Вульфом. Он, главный лорд-хранитель заветов и традиций русской сцены, восстал против “Сладкоголосой”, почувствовав опасного чужака на вверенной ему территории. И пригвоздил, и проклял, и потребовал снять свое имя с афиши (он был переводчиком пьесы). И больше никогда не переступил порог “Современника”, с которым был кровно связан всю жизнь, и даже демонстративно порвал с Мариной Нееловой, которую очень любил.
Почему он мне простил мои восторги в адрес Кирилла, не знаю. Но, в конце концов, я был всего лишь театральным критиком, имевшим право на свое личное безумие. А Кирилл – другое дело. Из ростовского принца он был быстро переквалифицирован в осквернителя праха, посягнувшего на святое. Не помогли ни лестные рецензии, ни даже заступничество Аллы Демидовой, которая тоже сразу выделила его в новом поколении режиссеров.
Кирилл любит слово “звезда”. Любит им награждать как орденом вполне себе безвестных актеров и персонажей. И его последний по времени театральный проект в “Гоголь-центре”, посвященный великим поэтам, тоже так назвал. Звезда для Кирилла – что-то очень личное, что горит синим пламенем и сверкает бриллиантовой россыпью, освещая наши бедные, скучные будни. Треск блицев, блеск глаз, шуршание длинного шлейфа по лестнице, неумолимо ведущей вниз.
Это ведь на первый взгляд кажется, что звезды где-то там, в космосе, на вершине мироздания. А они тут, рядом, стоят в очереди в актерском буфете, считают рубли, чтобы расплатиться за кофе, изучают расписание репетиций на неделю, вывешенное на служебном входе, а вечером после спектакля, усталые, едва смыв грим, рулят домой или вызывают Uber – так проще. Их просто надо увидеть, узнать, придумать им новую роль, выставить правильный свет, не грузить никакими сверхзадачами, а только попросить, как умеет только Кирилл: “Сыграйте, пожалуйста, сегодня трогательно”. И они всё сами сыграют, придумают, зажгут. Так было с той же Нееловой в “Сладкоголосой”, а потом с Чулпан Хаматовой в “Голой пионерке”. Так было с Евгением Мироновым в “Господах Головлевых” (лучший Иудушка в истории русского театра!), и с грандиозной Натальей Теняковой в “Лесе”, и с безвременно ушедшим Алексеем Девотченко в “Зойкиной квартире”, и с неукротимой Светланой Брагарник в “Мученике”, и с великой Аллой Демидовой в “Ахматовой”. Перечисляю тех, кто сейчас первым пришел на ум. На самом деле этот список гораздо длиннее. Список тех, у кого с Серебренниковым получилось стать звездой.
В конце концов, звезда сама по себе мало кому интересна. Ее необходимо каждый раз заново открывать, придумывать современное обличье, одаривать влюбленными глазами партера. И то, что Кирилл согласился взяться за балетный байопик в Большом о Рудольфе Нурееве, тоже не случайно. Кто, если не Руди, был настоящей, планетарной звездой?
Опытные театральные люди утверждают, что Кирилл – небольшой мастак по части подробного разбора роли. У него никогда не хватает на это времени и терпения. Он, дескать, не мастер старой школы, чтобы подолгу копаться в пружинках затейливого театрального механизма. У него совсем другая технология: компьютерный расчет, безошибочное чувство целого, мгновенные и точные реакции. Он видит цель и прямиком идет к ней, отбрасывая частности, не утруждаясь поисками более сложных, обходных путей. Зачем? Когда и так все ясно.
Он легко переключается с одного проекта на другой. Не любит тратить время на говорильню, успевая за сутки сделать столько всего, что не под силу целому штату высокооплачиваемых профессионалов с их ассистентами и секретарями. А у него на все про все одна Аня Шалашова, верный оруженосец и соратник многих лет. Его постановочный опыт во время домашнего ареста – это особая тема будущих театроведческих диссертаций. Может быть, это и есть новая бесконтактная режиссура XXI века, когда постановщик придумывает спектакль, не репетируя с актерами, не видя сцены, не вступая в долгие и мучительные переговоры с постановочной частью? Есть продуманный до миллиметра чертеж, есть выверенный хронометраж каждого действия, есть идеально натренированные помощники, способные понимать своего Мастера с полуслова. Все их коммуникации, происходящие через адвоката, – это еще один отдельный сюжет, который войдет в историю мирового театра. Можно только догадываться, чего это стоило. Тем не менее оперные спектакли “Гензель и Гретель” в Штутгарте и “Так поступают все женщины” в Цюрихе вышли точно в срок, как и премьера “Маленьких трагедий” в “Гоголь-центре”.
В русском театре Кирилла всегда раздражал обязательный пафос обличений и нудного морализаторства. У него все заведомо снижено и как бы не всерьез. Во всех, даже самых трагических обстоятельствах, он старался отыскать скрытый комизм или иронию. Ревнителей большого стиля это выводит из себя. Но во всех ситуациях Кирилл продолжает хранить буддийское спокойствие, он равнодушен к любой хуле и похвалам. Это всего лишь привычный режим его существования. Все надо делать быстро, не задерживаясь на малозначащих частностях. Вперед, быстрее, еще быстрее. Спектакли должны следовать один за другим в режиме нон-стоп, причем на разных сценах с разными актерами.
Точно так он снимает кино. Рука не поднимается написать в прошедшем времени. Особенно после “Лета”, его лучшего фильма, доснятого и смонтированного тоже под домашним арестом. Что это за кино, никто не смог толком определить и объяснить. Черно-белая нежнейшая лирика без всякого тошнотворного привкуса социума и политики. Хотя социум есть, и политика тоже имеется. Но они гаснут и тушуются под натиском музыки, любви и какой-то необъяснимой печали, пронизывающей город с его вечными дождями и туманами. И юные лица, давно сгинувшие и растворившиеся в ленинградских сумерках. И песни с их страстным заклинанием перемен, обернувшихся, как мы знаем, лишь новыми потерями. Но Смерти нет. А есть лишь серая линия Финского залива, куда бежит по белому песку, сбросив с себя всю рокерскую амуницию, сумасшедший музыкант. И есть ночь, где заблудилась маленькая стриженая женщина, пытающаяся дозвониться до кого-то в телефоне-автомате, сожравшем все ее “двушки”. Есть молодые люди на сцене и в зале, которые еще не знают, как их сметет, разбросает, состарит или убьет Время. Они юные. Они любят, ревнуют, поют, плещутся в ледяной воде. У них еще Лето. И об этом прекрасном и единственном сезоне в предчувствии вечного холода и стужи снял свой фильм Кирилл Серебренников.
Несколько раз я останавливался в той питерской гостинице, где он жил во время съемок. Она называется DOM и находится в двух шагах от Летнего Сада. С претензией на английский стиль, тихая, уютная, с хорошими завтраками. Туда за ним и пришли ночью 19 августа 2017 года. В интернете выложены кадры, где какие-то люди в камуфляже ведут его к лифту. Он в куртке, в бейсболке. Быстро заходит в лифт. The End. Такое вот кино.
Как и все, я не перестаю задавать себе вопрос: почему это произошло с ним? Почему именно Кирилл был выбран в искупительные жертвы? Неужели все дело в сожженной документации “Седьмой студии” и показаниях бухгалтерши Нины Масляевой? Или тут что-то другое, что нам не дано знать? Какая-то тайна, обрастающая все новыми слухами, сплетнями, версиями? Копаться в них сейчас неохота. Но есть тут определенная логика, и если ее проследить, что-то станет понятно.
«Седьмая студия»
Знаю, что уже к концу нулевых Кириллу смертельно надоело быть супермодным столичным ньюсмейкером, от которого все время ждут экстравагантных провокаций. Столько лет прожившему в Москве на съемной квартире, ему захотелось наконец своего угла, собственного дома. И еще он никогда не скрывал, что изрядно устал от академических театров с их гарантированным зрительским контингентом, состоящим на девяносто процентов из немолодых дам, исправных потребительниц прекрасного. Захотелось другой, молодой, отзывчивой публики, способной разделить его желания и поиски. Кирилл был уверен, что она есть, просто пока не подозревает о своем существовании. Именно тогда в его планах нарисовалась роковая цифра “7”, которая теперь мелькает в прокурорских бумагах и судебных отчетах вместе со словом “Платформа”.
“Седьмая студия” – первый актерский курс, который Серебренников набрал в Школе-студии МХАТа. По его замыслу, он был предназначен красиво закольцевать один из магистральных сюжетов в истории русской сцены. Как известно, не все мхатовские студии обязательно становились театрами, но все они были поставщиками таланта и энергии для отечественной сцены и кинематографа. Его ребята должны были продолжить эту традицию. С самого начала он знал, что должен построить с ними свой Театр. А на это нужны были средства.
Как любили говорить в старину, время и обстоятельства складывались в пользу Кирилла. В тот момент начальство разглядело в нем перспективную фигуру, которая могла бы пригодиться в большой политической игре. Спектакль Серебренникова “Околоноля” на сцене “Табакерки” по повести кремлевского кардинала Владислава Суркова, вызвавший столько пересудов в театральных кругах, со стороны воспринимался как довольно рискованный и сомнительный жест. “Бойтесь данайцев, дары приносящих”.
Во все времена художников влекла близость к власти, действующая на них как афродизиак. Совсем другая реальность открылась перед взором Серебренникова за километровыми заборами Рублевки с круглосуточной охраной. И, наверное, глупо было отказываться от такого шанса. И было заседание в Кремле у тогдашнего президента Дмитрия Медведева, где собрали всех театральных первачей, и четкая концепция, которую Кирилл доказательно презентовал. А дальше завертелась большая государственная машина со всеми резолюциями и печатями, в рекордно короткие сроки выдавшая необходимую сумму для старта нового театрального дела под названием “Седьмая студия”.
Увы, весь ход дальнейших событий подтвердил худшие предположения: художник беззащитен перед лицом государственной машины. Любой сбой, любое малейшее нарушение, и он оказывается в заложниках финансистов и разных проверяющих институций. И все, что в этой ситуации дано – это писать покаянные письма, демонстрировать солидарность театрального цеха, чтобы в какой-то момент в ответ на осторожные сетования по поводу чрезмерной жестокости правоохранительных органов услышать сановное: “Да дураки!”
Нет, они не были дураками, когда спонсировали “Платформу” и “Седьмую студию”, а потом отдали Серебренникову Театр им. Гоголя.
«Гоголь-центр»
Я хорошо помню, как это было. Какое-то время редакция журнала “Сноб”, где я работаю, и Театр им. Гоголя обретались по соседству. Закопченный кирпич позапрошлого века, толпы приезжих, очередь из бомжей, приходивших сюда по четвергам в центр социальной помощи, где доктор Лиза Глинка раздавала им бесплатную еду. Ну и, конечно, Курский вокзал – главный энергетический центр, заряжающий своей предотъездной, предстартовой лихорадкой.
“Поезд до Симферополя отправляется с восьмого пути”. Сколько раз моя душа тоскливо обмирала, слыша этот механический голос. Бросить все, купить билет, через сутки увидеть море… “Давно, усталый раб, замыслил я побег”. Но нет, тащишься дальше по бесконечному тоннелю, где торгуют черешней, колготками и черствыми пряниками, где до сих пор висят указатели: “К Театру им. Гоголя”.
Уже шесть лет, как нет такого театра, но почему-то никому в голову не придет поменять таблички. Может, потому что там, в темных подземельях и катакомбах, где скребутся мыши и решаются наши судьбы, знают, что “Гоголь-центр” – это ненадолго? Зачем зря стараться? Может, завтра это опять будет Театр Транспорта, каким он был когда-то в конце 1940-х.
Кирилл сам рассказывал мне, что этот Театр открыли по приказу какого-то сталинского наркома, мечтавшего увидеть свою пассию, опереточную артистку, в главных ролях и на собственной сцене. Что она там пела, уже никто не помнит. Как водится, наркома сгнобили, пассию прогнали вон, но массивная бронзовая люстра и деревянные панели на потолке от времен их любви и владычества остались. Кирилл их не тронул, когда задумал все сломать и переиначить в пространстве бывшего Театра им. Гоголя.
– Завтра уже ничего здесь этого не будет, – радостно повторял ты, показывая пальцем в сторону изношенных кресел партера и дряхлых кулис.
Про судьбу актеров Театра им. Гоголя он мне так тогда ничего и не сказал, хотя вопрос, что будет с ними, напрашивался сам собой. Ведь многие из них прослужили в театре по тридцать и более лет. Не то чтобы они так уж были страшно привязаны к своему бывшему худруку Сергею Яшину, но страх оказаться выброшенными на улицу заставил их сбиться в дружную стаю и начать атаку за свои права в министерских кабинетах. В конце концов компромисс был найден и скандал кое-как погашен, но эхо первого конфликта прозвучало тревожно, как удар колокола, “который звонит и по тебе”: надо быть осторожнее, дипломатичнее, осмотрительнее. Не рубить сплеча, не обещать слишком много, не спешить менять все слишком радикально.
Впрочем, сил и денег на что-то капитальное у Кирилла все равно не было. Новое название придумали, стены кое-где побелили, а где-то ободрали до кирпичной кладки. Туалеты стали ярко-красными, как пожарное депо. Получилось модное транзитное пространство, где можно было пересидеть в окружении разных милых теней прошлого. Тут же фото в полный рост К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, Вс. Мейерхольда, А. Эфроса с их мудрыми сентенциями. Зачем-то они были ему нужны, домовые русского театра.
Вообще я много раз замечал, что к былым легендам и мифам Кирилл гораздо чувствительнее, чем может показаться на первый взгляд. Он о них думал и читал больше, чем все его сверстники-режиссеры. До сих пор помню его давнее интервью в “Коммерсанте”, где он с жаром объяснял, как хочет извлечь Татьяну Васильевну Доронину из ее колумбария на Тверском бульваре, чтобы все увидели, что она все еще живая и прекрасная. И может быть, один из лучших его театральных эпизодов в “Маленьких трагедиях” – это “Пир во время чумы”, поставленный как его персональное “Соло для часов с боем”. Здесь царят и торжествуют те самые актеры и актрисы Театра им. Гоголя, которых он не уволил. Очень пожилые люди в окружении ветхих афиш и пожелтевших фотографий, во всеоружии своих воспоминаний и актерских штампов, разыгрывают прощальный бенефисный “Пир” перед тем, как санитары грубо разведут их по больничным палатам. И кто знает, может быть, это был своего рода оммаж Серебренникова тем, перед кем он испытывал чувство вины, кто был им обижен или несправедливо отвергнут? Многие увидели в этом иронию и сарказм, а я почувствовал нежность и раскаянье.
Но не за тем Серебренникова поставили во главе нового Театра, дав полный карт-бланш. Полагаю, его тогда готовили на роль ключевой фигуры российского художественного истеблишмента. Не маргинальный персонаж, а новый властитель умов, распорядитель судеб и бюджетов. Крепостные актеры, твердящие по телевизору заученные тексты про стабильность и “Единую Россию”, были не слишком-то интересны. Нужен был лидер-интеллектуал с международной репутацией, умеющий слышать время, способный доводить свои замыслы до конца. Последнее тоже важно.
Начальство оценило в нем человека дела. Просчиталось в одном: художник оказался в Кирилле сильнее политика. Жажда творчества сильнее желания власти, влияния и денег. Его опрометчивые порывы, как, например, устроить массовое действо в поддержку Pussy Riot, за которым немедленно последовал начальственный окрик, или вполне сознательные и продуманные акции, как документальный перформанс “Похороны Сталина”, – всё это вступало в очевидное противоречие с возлагавшимися на него надеждами и существующими установками. К тому же ситуация на Старой площади после марта 2014 года сильно поменялась, а с уходом Сергея Капкова с поста в московской мэрии рассчитывать на былую поддержку не приходилось.
В какой-то момент Серебренников остался почти без министерских денег, но с бесконечными долгами, в полуразрушенном театре, нуждающемся в капитальном ремонте, с молодой труппой, которой, чтобы круглосуточно репетировать и выходить на сцену, надо что-то есть. Мало кто представляет размеры финансовой катастрофы, накрывшей черным облаком “Гоголь-центр” в се-зон 2014/2015. Кирилл готов был браться за любую работу, режиссировать даже корпоративы. Из собственных сторонних гонораров он доплачивал премии особенно заслуженным и сверхзанятым, даже покупал рулоны бумаги для зрительского туалета. Это было время ежедневной, изнурительной битвы за жизнь, о которой никому не полагалось знать.
У нас не любят бедных, а еще меньше – проигравших. Поэтому он не жаловался и не подавал вида, как ему тяжело, а просто упрямо, как вол, работал. Зато теперь можно сказать, что “Гоголь-центр” – один из немногих государственных театров в России, кто смог перейти на частичное самофинансирование. Жизнь затихает здесь только на несколько предутренних часов.
Все остальное время – бесконечные репетиции, тренинги, лекции, презентации, кинопоказы. Не говоря уже о ежевечерних спектаклях, которые идут в бесперебойном ритме приходящих и уходящих пассажирских поездов. Конечно, театр не может стать особо прибыльным бизнесом, но он вполне в состоянии прокормить себя сам. Давняя мечта о “театральной реформе”, которой грезили просвещенные умы еще в начале перестройки, была наглядно осуществлена всего за два-три сезона в отдельно взятом пространстве “Гоголь-центра”.
И, конечно, публика. Его публика! Ни у кого в Москве такой нет. Молодая, думающая, разбирающаяся во всех последних трендах и новациях. Красивая. Для нее “Гоголь-центр” – не светский выход и не политическая манифестация (хотя может быть и то, и другое), а потребность души, необходимость пережить что-то подлинное, чего никогда не смогут заменить даже самые совершенные технологии и самые продвинутые сети. Театр как приключение, как коллективное переживание, как лучшая часть жизни, проведенная в общении со стихами Пастернака, Кузмина, Ахматовой, Мандельштама, в постижении драматургии Шекспира и Мюллера, прозы Бунина и Гоголя, кинематографа Ларса фон Триера и Лукино Висконти.
В каком-то смысле “Гоголь-центр” под водительством Серебренникова стал университетом для поколения, рожденного в девяностые. К тому же за время его борений за “Гоголь-центр” возникла и утвердилась новая плеяда режиссеров: Константин Богомолов, Влад Наставшев, Максим Диденко. Как прирожденный театральный лидер, Кирилл первым делом пригласил их в “Гоголь-центр” и дал каждому работу. Что-то из этого получилось блестяще, что-то, может, не очень. Но главное, благодаря их спектаклям возникло ощущение талантливого многоголосия, нового театрального поколения, которое работает локоть к локтю и которое заставляло его самого быть в форме и помнить, что он не один.
Хотя, конечно, он один. И других таких нет. Я снова убедился в этом на генеральной репетиции “Нуреева” в Большом.
«Нуреев»
Шел декабрь 2017 года. До последней минуты было непонятно, состоится спектакль или нет. Говорили, что не обошлось без давления со стороны Романа Абрамовича и Валентина Юмашева, пригрозивших выходом из состава попечителей в случае отказа дирекции выпустить спектакль до конца года. Ставки были слишком высоки. На кону стояла не только репутация Большого театра, но и совершенно очевидный выбор российского общества.
В этом смысле премьера Большого, состоявшаяся как раз в дни официального объявления о том, что Владимир Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, воспринималась как очевидный жест в сторону вечно недовольных либералов. Вот вам ваш “Нуреев”! Кто после этого скажет, что в России нет свободы или кого-то лишают права на творчество?
И как парадоксально личная ситуация режиссера-постановщика и сценографа, остающегося под домашним арестом в ожидании суда, совпала с историей его героя, который, как известно, полжизни прожил под статьей Уголовного кодекса, приговоренный к семи годам за измену Родине! Нурееву, конечно, не пришлось сидеть в клетке Басманного суда. Но ситуация мучительной изоляции, невозможности связаться с близкими, а также полной неизвестности ему тоже была хорошо знакома. Жаль, что Серебренников, репетировавший свой спектакль больше двух лет, никак не мог предвидеть печальные аналогии.
На них навела жизнь, которая сама себе Режиссер, и, конечно, свойство настоящего таланта притягивать к себе чужие страсти и страдания, познавая через них заодно и собственную судьбу. На этот раз Серебренников поставил свой самый исповедальный спектакль. По нынешним временам, когда танец трансформировался в сложную систему импульсов и точечных движений, когда хореографам интереснее исследовать собственный генокод, чем чужие биографии, “Нуреев” – прямой наследник таких традиционных балетов-байопиков, как бежаровская “Айседора” или “Нижинский” Ноймайера. Главный сюжетный ход – аукционные лоты на торгах Дома Christie’s, когда за два дня в январе 1995 года с молотка было распродано все его имущество. Собственно, это станет одним из главных мотивов спектакля – “все на продажу”. Продаются ковры и килимы – их, как восточный человек, обожал Нуреев. Продается музейный антиквариат из его бесчисленных домов и квартир по всему миру. Продаются балетные костюмы, бархатные и шелковые балетные колеты, еще хранящие запах его тела. Продается коллекция его картин, состоявшая из мужских ню разных школ и веков. Висевшие в большом количестве по стенам апартаментов Нуреева на набережной Вольтера в Париже, они производили впечатление какой-то вселенской бани, перегруженной лоснящимися мускулистыми телами. Всех их тоже можно было купить оптом и в розницу. А вместе с ними – личные письма, интимные фотографии, рукописный дневник…
Прежде такая бесцеремонность вторжения в сугубо приватное пространство личной жизни возмущала и лишала дара речи. Как это возможно? Как они смеют? На самом деле ничего особенно ужасного в этом нет. Во-первых, на все есть своя цена. Во-вторых, обычно те, кто заплатил немалые суммы за обладание вожделенным раритетом, стараются его сохранить даже с большим трепетом, чем равнодушные наследники или музейные архивисты. И, наконец, жизнь таких “священных чудовищ”, как Нуреев, с самого начала была отдана на съедение публики. Так пусть уже все насытятся напоследок. Но спектакль Серебренникова не только об этом. Его “Нуреев” – о неистовом стремлении преодолеть барьеры, границы и даже законы земного тяготения. О жажде обладания славой, несметным богатством, бессмертными душами, прекрасными телами. Ведь, в сущности, чем стал танец Нуреева, как не победой над собственной участью дикого татарчонка из Уфы? И даже больше – победой над банальной судьбой обычного танцовщика. Кто как не он первым отменил все рыцарские церемонии и условности?
Ненавистную роль послушного пажа и осторожного партнера Нуреев решительно переделал под себя. Отныне он был примой, звездой и объектом желания. Это его домогались, под него подстраивались. Это он упивался своей властью и невиданной свободой, о которой не смели мечтать даже самые талантливые из его предшественников.
Станцевать это, не будучи самим Нуреевым, едва ли возможно. И, похоже, предвидя грядущие сложности, Серебренников вместе с хореографом Юрием Посоховым сознательно ушли от балетных реалий и конкретных прототипов в сторону тотального театра, где причудливо соединяются и танец, и актерское слово, и внушительный оперный хор с солистами, и огромный кордебалет.
Спектакля такого размаха давно не знала сцена Большого театра. И дело не в количестве персонажей и массовки, не в бесконечной смене костюмов и декораций. Есть забытое ощущение грандиозности. “Нуреев” возвращает нам то, что казалось безнадежно утраченным. Магию большой сцены, больших страстей и большой судьбы. Особенно остро это чувствуется в финале, когда в бетонную преисподнюю, расписанную граффити, где только что полуголые мужики, словно сошедшие с рисунков Tom of Finland, равнодушно смотрели на метания Белого Пьеро – Нуреева, медленно, одна за другой, начинают спускаться белые тени из третьего акта “Баядерки”. Вперемешку с балеринами появляются танцовщики. Каждый новый такт прибавляет еще одну тень, еще один арабеск. И так, кажется, до бесконечности, пока хватит пространства сцены и музыки в оркестре. Царство арабеска, царство мертвых. А еще это похоже на волнующееся море, которое так любил Нуреев. Недаром одним из самых безумных и странных его приобретений станет остров Ли Галли в Средиземном море, купленный незадолго до смерти.
Еще один лот, еще одна собственность, доставшаяся кому-то в память о великом танцовщике. А в финале он появится в черном фраке и белой чалме, делающими его похожим на Принца Калафа из вахтанговской “Принцессы Турандот”. Он спустится в оркестровую яму, чтобы продирижировать последними мгновениями спектакля. И даже успеет увидеть со своего пульта, как две половины золотого занавеса, медленно качнувшись, поплывут навстречу друг другу, чтобы закрыться уже навсегда.
Суд
…В день первого заседания суда художник Павел Каплевич, с которым я дружу больше тридцати лет, показал мне в своем айфоне эсэмэску, которую прислала мама Кирилла, Ирина Александровна. Не берусь воспроизвести ее дословно, но смысл был такой: “Ты знаешь, сынок, что я немного ведьма. И я знаю совершенно точно, что все будет хорошо”.
Через полгода Ирина Александровна умерла.
По странному совпадению первое заседание Басманного суда было назначено на 22 августа. Как выяснилось, это День борьбы со сталинизмом и немецким нацизмом. Разумеется, РФ этот день не признает, а наш МИД периодически выступает с гневными протестами, что не мешает странам ЕС его скорбно отмечать. Именно в этот день 78 лет тому назад был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией, вошедший в историю как пакт Молотова – Риббентропа.
На втором этаже Басманного суда всей прессой и публикой распоряжался высокий молодой человек в модном галстуке. По иронии судьбы его тоже звали Кирилл. И, похоже, он чувствовал себя здесь главным героем. Дирижировал массовкой из фото и телекорреспондентов, пропускал знакомых журналистов в зал суда, выстраивал мизансцены из прорвавшихся друзей и доверенных лиц, напоминая в какие-то моменты распорядителя танцев на балу. Впрочем, танцевать было негде. Можно было только стоять, вжавшись друг в друга и обливаясь потом.
– Сеанс мокрой йоги, – пошутил художник Савва, он же Андрей Савельев, соратник Кирилла Серебренникова по съемкам фильма “Лето”. Тут же были его актеры Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов, Рита Крон, Вика Исакова, директор “Гоголь-центра” Леша Кабешев. И, конечно, Аня Шалашова. Перечисляю имена тех, кто был в пределах моей видимости. Многие стояли за спиной. Потому что на самом деле все взгляды были устремлены на лестницу, по которой должны были привести Кирилла. И в тот момент, когда он наконец появился в своей бейсболке козырьком назад, в рубашке поверх черной майки и в кроссовках без шнурков, весь наш зал ожидания, словно по команде, взвыл: “Кирилл!” Это был звук реактивного двигателя. В нем не слышалось слез мелодрамы, так орут только в одном случае – когда хотят предотвратить несчастье, когда никакого другого способа нет. Одна надежда на голосовые связки, на это последнее усилие удержать на краю пропасти. Кажется, даже охранники вздрогнули от нашего крика и поспешили захлопнуть за Кириллом дверь.
В зал суда меня не пустили. Там всего двадцать пять мест. И конечно, должны были попасть самые близкие.
Но и без зрелища тоже не оставили. На большой плазме можно было разглядеть и клетку, и подсудимого, и адвоката, и следователя, и прокурора. А когда очередь дошла до доверенных лиц, то и они каким-то боком попадали в кадр. Слышно было не очень. Тем более что толпа на улице периодически начинала что-то скандировать типа “Свобода” или “Позор”, заглушая прокурорские и адвокатские речи.
Но все, что говорил Кирилл, можно было легко разобрать. Тем более что говорил он какие-то очень простые, понятные, человеческие слова. Совсем не агрессивно, я бы даже сказал, смиренно и кротко. И это спокойствие, кротость и грусть звучали таким контрастом косноязычной казенщине, которую предъявляло обвинение. “Я не согласен… Я никогда ничего не крал… Я очень скромно живу”.
Потом в течение года заседаний этих слов будет много. Не могу сказать, что атмосфера стала суровее или жестче. Так же охранники в черной униформе не без любопытства поглядывают на известные телевизионные и театральные лица, тот же казенный судебный речитатив, раздающийся в качестве заключительной арии в финале. Но все стало очевидно безнадежнее. Опытный судебный эксперт, правозащитник и журналист Зоя Светова говорит, что поначалу бывает очень трудно сдерживать истерический смех или совсем разучиться реагировать на очевидный бред. Но тогда ты рискуешь нарваться на еще большие неприятности. Поэтому делать этого не надо. А что надо?
На самом деле это ключевой вопрос, который продолжает терзать многих. И тех, кто был в Басманном суде, и тех, кто следит за делом “Седьмой студии” по Фейсбуку и другим соцсетям. Что было сделано не так? Почему не сработали письма и воззвания народных артистов? В чем был главный промах по линии общественной защиты? Вот и Константин Богомолов уже заявил, что меньше надо было поднимать шума, а стоило искать обходные пути и более опытных переговорщиков. А разве сам Кирилл каждый раз, как только появляется в Басманном суде, не делает страшные глаза и не произносит, словно заклинание, фразу: “Только тише! Умоляю, тише!”
И что после этого делать? Покорно исполнить его просьбу? Жить и дальше как ни в чем не бывало? Надеяться, что кто-то другой, более влиятельный и властный, найдет обходные пути и обо всем с кем надо договорится? Но только похоже, что все пути давно перекрыты. Следствие закончено. Состав преступления определен. Миллионы подсчитаны. Суд идет.
Вообще все, что сегодня происходит вокруг этого дела, меняет не только наш театральный ландшафт, но и отношения со временем, в которое мы живем. Время вдруг резко рвануло совсем в другую сторону, туда, куда мы не собирались и не хотели заглядывать даже из чистого любопытства: все эти суды, судьи, охранники, следователи в брюках с кантом, бумажные океаны справок и разной скучной документации. И в эпицентре всего этого вдруг оказались люди, которых знаешь всю жизнь и которых привык видеть совсем в других декорациях.
Я хорошо знал и любил Аллу Юрьевну Шполянскую, маму директора “Седьмой студии” Юрия Итина и многолетнего сподвижника и помощника Олега Табакова вначале в “Табакерке”, а потом в МХТ. Ровно пять лет назад мы ее похоронили. Каждый раз, когда сейчас вижу Юру, вспоминаю ее и думаю, что, наверное, правильно, что она ничего этого не видит.
Искренне восхищаюсь Алексеем Малобродским. Физически и морально ему приходилось тяжелее всех, но держится он прекрасно и, кажется, за эти месяцы в тюрьме вполне освоил юридическую науку. Во всяком случае, его речь на суде была доказательной, абсолютно внятной и убедительной в каждом слове.
Мы не знакомы лично с Соней Апфельбаум, тоже проходящей по этому делу, но мне много рассказывал о ней один из самых уважаемых людей нашего театра Алексей Владимирович Бородин, художественный руководитель РАМТа, где до последнего времени Соня служила директором. Умная, благородная, невероятно ответственная. Не могла она покрывать правонарушения, не похожа она на расхитительницу министерских денег.
И, конечно, Кирилл… Мне показалось, что он как-то внутренне успокоился. И это было, может быть, самое важное впечатление последнего времени. На последних заседаниях я увидел и услышал человека, безусловно настроенного бороться до конца, но который при этом внутренне отпустил ситуацию. Он читал в перерывах судебных заседаний “Войну и мир”, жил своей интенсивной духовной жизнью, воспринимая вынужденную изоляцию как временную паузу, как возможность подумать, разобраться в себе, понять, чего ты на самом деле хочешь.
Не надо много слов, только один-два взгляда, только поза, в которой он читал книжку, чуть повернувшись боком ко всем, как бы от всех отгородившись. Но это уже другой Серебренников, не тот, который стоял в августе 2017-го, хмуро опершись руками на прутья клетки под треск фотовспышек. Ушло напряжение, вернулась ирония, появилась какая-то новая сосредоточенность и отстраненность.
Мы недавно говорили с Аллой Сергеевной Демидовой о том, как меняет человека тюрьма. Помянули Солженицына. Его, как известно, тюрьма сделала великим писателем. И тут же вспомнили Николая Робертовича Эрдмана, которого тюрьма раздавила, откуда он вернулся абсолютно сломленным, утратившим писательский дар и даже желание жить, хотя потом жил долго и умер в преклонных годах.
– Если человек сильный, то он должен выстоять, – строго сказала Демидова.
– А Кирилл, по-вашему, сильный? – спросил я.
– Сильный.
Значит, мама Кирилла права, подумал я. Ведь Алла тоже немного ведьма.
2018Послесловие
Аплодисменты, аплодисменты… Они никогда не бывают одинаковыми. Вяло-формальные после малоудачных спектаклей: как сыграли, так вам и похлопали. Уважительно-дружные: честная работа заслуживает честного вознаграждения. Триумфально-громоподобные, как лавина с гор. Их ни с какими другими не спутаешь. Триумф он и есть триумф. Настоящие аплодисменты повышают тонус и снимают напряжение, как душ Шарко. В них последняя растрата накопившейся энергии и радостный азарт самоотдачи. В них – любовь! Пусть на миг, но и его довольно, чтобы сделать счастливыми тех, кто стоит на подмостках, смущенно вглядываясь в бушующий под ногами партер.
А потом всё кончается. Всё когда-нибудь кончается, даже самые «долгие и продолжительные» аплодисменты. Зрители привычно спешат в гардероб, актеры веселой гурьбой убегают за кулисы. С этого момента начинается время критика, театрального рецензента. Есть в его тоскливой фигуре что-то от месье Мегрэ или от мистера Шерлока Холмса, побывавшего на месте преступления. Загадочный, непроницаемый, стоящий последним в очереди со своим номерком. Раньше среди моих старших коллег считалось высшим шиком надиктовать рецензию дежурной стенографистке прямо в набор, чтобы наутро свежая газета как главная улика была предъявлена всем заинтересованным лицам. Вот любуйтесь, что натворили! Теперь проще – ни гранок, ни версток, ни стенографисток. Накатал сам 2000 знаков в Facebook и свободен. Всё, что длиннее, считается лонгридом, который никто не осилит, кроме завлитов старой школы. Да и их уже почти не осталось. Сейчас в театрах сплошные директора PR, помощники по художественной части и прочее начальство, которым не до чтения рецензий. Они считают лайки и количество упоминаний.
Раньше я задавался вопросом, кому всё это надо, зачем тратить жизнь на то, чтобы объяснять, что вот это – талант или, наоборот, не талант. Потом перестал: работа есть работа. Сейчас понимаю, что мне невероятно повезло: так сложились обстоятельства, что я почти всегда мог себе позволить писать только о тех, кто был мне по-настоящему интересен, чье присутствие, краткое или продолжительное, делало мою жизнь осмысленной и ненапрасной. При этом мало с кем из моих героев я по-настоящему сближался. Между нами всегда существовала линия рампы, дарившая пространство для фантазии. Мне нравится быть просто зрителем, сочувствующим, сострадающим, всеми нервами и силами души старающимся поддержать тех, кто сейчас на сцене. Знаю, как они беззащитны и уязвимы, несмотря на свой актерский апломб. Как они ловят любой, даже еле слышный знак одобрения, любое, самое незаметное движение навстречу…
Собственно, эта книга – о них и для них.
А теперь мне остается лишь поблагодарить всех, кто помогал в ее создании. Прежде всего – Елену Шубину, моего издателя и соратника, которая на мой вопрос, кому нужна эта книга, несколько лет подряд упорно отвечала: “Мне”. Моя искренняя признательность Белле Нисан, Президенту Межпрофессионального Альянса по Охране Зрения, с такой нерассуждающей стремительностью и щедростью поддержавшей нашу затею. Поклон художнику всех наших книг талантливому Андрею Бондаренко, внимательному и терпеливому редактору Дане Сергеевой, собирателю редких фотографий Гелле Слабко. Не могу не назвать важное для меня имя – Сергея Алещенка, шеф-редактора журнала “Сноб”, многолетнего моего товарища и помощника. Я счастлив, что в работе над этой книгой вновь пересеклись наши пути с выдающимся фотографом Валерием Плотниковым, автором большинства портретов “Театральных людей”. Моя признательность директору ГЦТМ им А. А. Бахрушина Дмитрию Родионову и специалисту по маркетингу Наталье Машечкиной за их отзывчивость и доброту.
Ну и, конечно, моя бесконечная благодарность той, кому посвящена эта книга и кто был первым читателем, критиком и редактором всего, что написано мною за последние почти тридцать лет. Нина, я люблю тебя!
Занавес.
С.Н. Февраль, 2019Сергей Николаевич с Аллой Демидовой. Фотограф Данил Головкин.
С Инной Чуриковой. Фотограф Владимир Васильчиков.
С Джереми Айронсом. Фотограф Ольга Сперанская.
С Майей Плисецкой. Фотограф Юрий Феклистов.
Фотографы и правообладатели
Владимир Блиох / ГЦТМ им. А. А. Бахрушина
Беттина Реймс (Bettina Rheims)
Михаил Гутерман
Валерий Плотников
Игорь Александров / Музей МХАТ им. А. П. Чехова
Лев Новиков
Рене Хабермашер (René Habermacher)
Митя Ганопольский
Владимир Васильчиков
Мария Баранова
Янис Дейнатс (Jānis Deinats)
Арно Бауманн (Arnaud Baumann)
Виктор Паскаль (victor Pascal) / Artcomart
Али Мадави (Ali Mahdavi)
Евгений Петрушанский / БДТ
Стас Левшин / БДТ
Данил Головкин
Иван Кайдаш
Тимофей Колесников
Информационное агентство России ИТАР-ТАСС
Из архива Сергея Николаевича
ЦГТМ им. А. А. Бахрушина
Из архива Анатолия Васильева
Из архива Глеба Панфилова
Из архива Гоголь-центра
Из архива Большого театра РФ
В числе прочих в книгу вошли расширенные и переработанные тексты, ранее опубликованные в журналах:
СНОБ
“Майя навсегда” (№ 06–07 (83–84), 2015)
“Кутузовский” (№ 01 (92), 2017)
“Конец театрального романа” (№ 04 (95), 2017–2018)
“У воды” (№ 09 (48), 2012)
“Большая иллюзия” (№ 05 (70), 2014)
“Кто сыграет Королеву” (№ 01 (92), 2017)
“Двойной эспрессо” (№ 06 (46), 2012)
“Коллаж” (№ 09 (74), 2014)
“Место встречи” (08 (85), декабрь 2015 – февраль 2016)
“Лёд” (№ 01 (92), 2017)
Citizen K
“Без вины виноватый” (№ 3, весна 2008)
Современные записки
“Время сложилось в мою пользу” (№ 1, 2000)
1
“Не такая уж она божественная” (англ.).
Вернуться
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


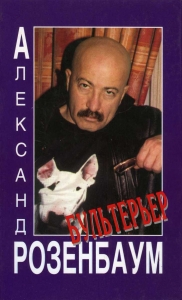
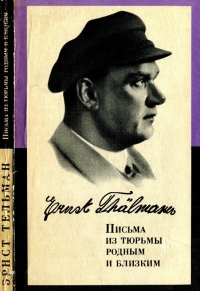



Комментарии к книге «Театральные люди», Сергей Игоревич Николаевич
Всего 0 комментариев