Тан (В. Г. Богораз) Колымские рассказы
КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ
Вместо предисловия
Трагедия «Народной Воли» — один из этапов революционного движения, неизгладимого процесса, который переделал старую «Рассею», «разсею», «россыпь земелю» в великий коллектив — в Союзе советских социалистических республик.
Трагедия «Народной Воли» совершилась в различных местах, и прежде всего в Петербурге. Я вспоминаю нашу боевую песню, и старая кровь загорается воинственным огнем:
И опять палачи… Сердца кровь, замолчи… Снова в петлях качаются трупы, На погибель бойцов, Руси лучших сынов, Смотрят массы бесчувственно-тупы… Нет, покончить пора, Ведь не ждать нам добра От царя с его сворой до века, И приходится вновь Биться с шайкой врагов За свободу, права человека. Не щадить никого, Не продать ничего, Кровь за кровь, смерть за смерть, месть за казни! И чего ждать теперь, Если царь — дикий зверь, Затравим мы его без боязни…Ведь, кажется, все это прошло и быльем поросло. И пугало чугунное стоит на площади Восстания (памятник Александру III), а живые гороховые чучела и пугала недобитков проклятого строя рассыпались по разным вертепам Европы и Америки. Сердце же не может успокоиться.
Другая частица этой страшной эпопеи совершилась в Шлиссельбурге. Петербург был плацдармом, Шлиссельбург — усыпальницей. Уцелевшие пленники прошли по Владимирке пешком, в кандалах, в Восточную Сибирь. И мы имеем здесь другие памятники — Кару, Акатуй и пространную Якутию.
Южная Якутия питалась молоком и мясом. Здесь можно было жить, даже строить якутские школы и жениться на якутках. Но где-то, за тридевять земель, а точнее — за три тысячи верст от города Якутска, лежал Колымский угол, неведомый, баснославный. Именно туда даже Макар Короленки не осмелился гонять захудалых якутских телят.
В Колымском углу низкое небо сходилось с бесплодной землею.
Ехать туда казалось последнею гибелью, и разбитая дружина отказалась и дала на пороге Колымска неожиданную битву, так называемую первую якутскую историю, которая окончилась снова убитыми и повешенными.
Колымские рассказы — это история той половины, которую все же принудили поехать в Колымск и которая доехала до Колымска. Ведь не все погибают в боях, — часть остается в живых и продолжает историю.
Первые ссыльные попали в Колымск еще до народовольческой эпохи, но это было несколько случайных единиц. Были, например, Рябков, Вацлав Серошевский, который сделался после известным писателем, русским и польским, а потом переделался дальше и стал польским фашистом.
Но эти разрозненные пришельцы скоро вернулись обратно, и к концу 80-х годов в Колымске не было ссыльных.
Мы, народовольцы, пришли, как первый плотный пласт нового переселения, первая когорта. После того стали приходить и другие. За студентами — рабочие, за народниками — социал-демократы, сначала вообще, а потом меньшевики особо, а большевики особо. Были пепеэсовцы, — конечно, не та современная сволочь, — и были социал-демократы Полыни и Литвы.
Было множество всяких «нацмен»: поляки и литовцы, украинцы и донские казаки, и, конечно, прежде всего евреи. Евреев было столько, что в одном из своих очерков я прямо говорил о «Колымской Иудее».
Головы все собирались отчаянные, ибо всякий строптивец, неуемник непременно доходил до Колымы. Дальше девать его было некуда.
В конце концов оказалось, что не так страшен чорт, как его малюют. Жить в Колыме было можно. Правда, трудно, холодно, сурово, но зато была воля. Российское начальство власти не имело над полярной Колымой. Мы ушли от начальства в глубь истории, можно сказать — в глубь этнографии, вплоть до каменного века, и жили среди первобытных племен: рыболовов, охотников, оленеводов, по тому же основному закону трудовой побеждающей жизни: «не половишь, — не поешь».
Среди колымских обитателей, рядом с якутами и ламутами, чуванцами, чукчами, юкагирами, мы были новое племя, заметное даже по численности и готовое в случае нужды биться за место под солнцем с оружием в руках. Но никто с нами не бился, было довольно и места и солнца — безграничный простор и морозное солнце холодной полярной весны. Таким образом, началось страшной колымской дорогой, от которой топились и сходили с ума, а окончилось ранней Колымской республикой, первой из русских республик, которую провозгласили мы, колымские народовольцы, еще в 1893 году, как это описано в одном из колымских рассказов.
История колымской ссылки была написана не раз и не два. Но бытового отражения ссылка вообще не получила. То, что писалось о ссылке даже беллетристами, была агитка, или — еще хуже — либеральная кадетская мазня.
Надо было непременно разжалобить, обелить, показать, что вот — пострадавшие агнцы, герои.
А между тем жизнь была интересная, сочная, по-своему красивая и глубоко плодотворная. Ссылка переделала Сибирь и сама переделалась в Сибири.
Мои «Колымские рассказы», выдержавшие в прошлом не мало изданий, тоже не дали полного бытового отражения этого характерного этапа русской революции, но они дали для этого довольно частей и осколков. Ибо нельзя одними и теми же руками строить эпопею, а потом ее описывать. Эпопея взрывается, как бомба, и фейерверки жизни падают на землю осколками. Я подобрал лишь несколько осколков.
Рассказы мои имеют мало вымысла. Я мог бы раз’единить некоторые эпизоды, восстановить фамилии, особенно теперь, когда все это стало историей, но, пожалуй, не стоит.
Вторая половина этой книги представляет ряд эпизодов из подлинной истории последних дней «Народной Воли», с именами и датами. Об этой заключительной главе народовольческой истории, к слову сказать, до сих пор известно очень мало. Эта глава по времени предшествует ссылке, но она связана с ней в одно неразрывное целое. Она документирует ее.
«Народную Волю» именно мы довели до конца — ее организацию, особую партийность, идеологию, литературу. Наша южная группа ее воскресила и опять похоронила в 1886 году. Ульяновская группа довела до конца ее боевое устремление, центральный политический террор, в 1887 году.
Первое марта 1881 года и Первое марта 1887 года — это начало и конец раскаленной добела народовольческой дуги.
А далее следуют последние строфы нашего боевого народовольческого гимна:
Братья, труден наш путь, Надрывается грудь, В этой битве с бездушною силой. Но сомнения прочь, Не всегда будет ночь. День взойдет и над нашей могилой. И покончив борьбу, Вспомнив нашу судьбу, Обвинять нас потомки не станут, И в свободной стране Оправдают вполне, Добрым словом погибших вспомянут.Ну, что ж! Мертвому — рай, живой дальше играй…
Пьяная ночь
Гей, пье Байда мед-горилочку. Та не день, не два…Бинский запевает высоким бархатным баритоном, и мы подхватываем дружно, все сразу, с треском, с пламенем. Лянцер выводит рулады своим козлиным тенорком, и Полозов вторит октавой, и Андриевич выделывает горлом странные переливы, как будто волынка играет.
Мы называем эту триаду: цыган, коза и медведь. Андриевич — цыган, Лянцер — коза, Полозов — медведь. И на самой высокой ноте Ирман вкладывает пальцы в рот и свищет. От его свиста звенит в ушах и будто раскалываются тесные избы. Весело, душа горит. Мы празднуем новый год, наступающий 1897-й.
А мы будем пить, Горилочку лить…Нас шестеро. Мы сидим в избе перед пылающим огнем и пьем. Не горилочку, а крепкий спирт, вдобавок неочищенный. Пьем большими чайными чашками, как будто воду. И закусываем мерзлым маслом, которое Бинский принес из чулана. Оно затвердело, как камень, и дымится от холода. И каждый кусок так и прикипает к небу. Но мы привыкли. Костер или сугроб, кипящий чай или ледяная рыба — нам все равно. Двадцать раз на день мы пробегаем взад и вперед всю шкалу тепла и холода. Щеки у нас поморожены, и пальцы позноблены, и все давно зажило. Горло и небо у нас как будто луженые.
Все, что окружает нас, мы сделали собственными руками. Бревна для этой избы мы срубили в лесу и сами вывели стены. Эти тяжелые лавки мы сколотили из собственных досок, сами поймали рыбу, сами сбили это белое масло. У нас на дворе свои собаки, коровы, лошади. Даже шкуры для наших одежд мы сами привезли с тундры, за пятьсот верст. Только спирт мы купили на деньги: в казенном кабаке — во «царевом кабаке», как говорят и поют на реке Колыме, по старомосковскому слову:
Меня матушка плясамши родила, Меня кстили во царевом кабаке, А купали во зеленым вине.Мы живем теперь, как новые полярные Робинзоны. Всего у нас много. Пьем-едим, не считаем.
В первые годы мы голодали и бедствовали. Но теперь мы приспособились. В летнее время мы можем работать не хуже туземцев, «на круг», «как солнце ходит», бессонное летнее солнце. Мы косим сено на болоте, по пояс в ржавой воде, ловим рыбу сетями и неводом, вершами и мережами, солим и сушим, квасим в ямах, морозим и запасаем целые горы. Наши лесные плоты удивляют даже якутских дровосеков. У нас три гнезда собак, и щенки нашего завода продаются дороже других во всем околотке. Мы стали крепче телом и даже как будто шире в плечах от этой дикой жизни и вольной работы. Слонообразный Полозов внушает общий страх. Его не дерзает затронуть ни один борец, русский или чукотский, на весенних игрищах Анюйской ярмарки. Бинский — это красавец и гордость наша. За ним бегают все русские девицы и молодые молодицы. Его соблазняют жены местных Пентефриев статского и духовного ведомства. Впрочем, нравы его далеки от нравов Иосифа, скорее они похожи на нравы турецкого султана.
Так мы живем на реке Колыме. Зато мы отказались от прежних привычек, мы спим на шкурах, без белья. Носим меховые рубахи шерстью вверх, едим пальцами. Мы все забыли, что было там, за Уралом, всякие предметы житейского обихода, телегу и лампу, сукно и полотно. Мы не помним, какие листья у дуба и какой запах у яблони. Кругом нас только осина да хвойная листвень[1]. Мы утратили все детали минувшей картины, даже детали наших идей. И нет у нас партий, нет направлений. Одна общая партия, партия ссыльных. Мы живем все вместе и мало ссоримся.
Мы утратили детали, но целое осталось. Одно широкое, большое, родное, навеки дорогое — родина. Мы отошли от нее на тысячи верст, подробности исчезли, но общий образ горит лучезарнее и ярче. Все, что есть в нас духовного, отдано ей. Мы мечтаем о ней, мы молимся ей. То, что мы пишем, — ибо мы пишем в долгие зимние ночи, — обращено к ней. Имя ее попадается через каждые два слова.
И каждый из нас дает ей одну и ту же клятву:
Клянусь дышать и жить тобой, И каждый сердца трепет жаркий, И каждый мысли проблеск яркий Отдать тебе, тебе одной…Теперь много говорят о патриотизме чистыми и нечистыми устами. Но я могу сказать, положа руку на сердце, что наше чувство было самое пылкое и честное и бескорыстное, ибо мы все отдали и ничего не взяли взамен.
И какая есть во мне любовь к великой России, я выковал ее всю, звено за звеном, как золотую цепь, в этой далекой полярной ссылке, в долгие зимние ночи.
Жить нам зимою было трудно, труднее, чем летом. Зимою мало работы и много досуга. Разве в лес с’ездишь, привезешь хворосту, дров нарубишь, печку истопишь. А еще до полудня далеко. Время тянется, как тонкая пряжа. Что делать? Иные спали день за днем, как спят сурки и медведи; другие сходили с ума. И для этого у нас были две торных дороги: мания преследования и мания величия. То или другое. И никаких вариантов. Помню, от мании первого рода Эдельман утопился, а на следующую зиму привезли Янковского с урочища Сен-Кель. Он весь зарос волосами и покрылся корою грязи. Даже якуты его чуждались. Он называл себя вселенским духом Адамом Невилле и выл по ночам, изображая музыку сфер… Брр… Не нужно об этом…
Но, в сущности говоря, в зимнее время никто из нас не мог поручиться за здравость рассудка. Лянцер ходит, ходит и вдруг начинает делать таинственные намеки о своем знатном родстве и, видимо, метит в Фердинанды Седьмые. У меня были кошмары, а у красавца Бинского припадки полярной истерии. Мы укрепили свое тело, но расстроили нервы. И полярную истерию мы унесли с собой обратно, через десять и пятнадцать лет, на позднюю русскую волю.
Чего только мы не затевали, чтобы рассеять зимнюю скуку! Запрем двери, завесим окна — и режемся в карты. И карты у нас были черные, кучерские, как в песне поется:
В черны карты играть, Козырями козырять, Прикозыривати.Резались мы все больше в «винт», простой «классический», и с прикупом, с присыпкой, с пересадкой, с гвоздем и с эфиопом и с треугольником. По тысячной и по двадцатой, благо платить доведется разве на том свете угольками. 9 робберов, 18 робберов, даже 48 робберов, не вставая с места, пока в глазах не зарябит и дамы и короли не станут казаться все на одно лицо.
Читали мы запоем, устраивали спектакли, выдумывали «умственные» игры, не хуже новейшего клуба одиноких.
Но больше всего мы любили зимние праздники, с выпивкой, «с дымом пожаров», чтобы чертям тошно стало. Обольешь душу спиртом, и всякий сугроб по колено, а сугробы на Колыме бывают глубокие, в две печатных сажени, и то до земля не достанешь…
— Бинский, налей по одной, чтоб дома не журились…
Гей, пье Байда…Бинский выпивает и встает. Глаза у него сделались большие, круглые, как у филина. Он ударяет с размаха кулаком о стол. Посуда звенит.
— Идем! — кричит он неистовым голосом. — Едем, летим!..
Во все эти годы каждый наш порыв, движение души, постоянно переходит в движение тела. Как только захватит за живое — и ноги уже не стоят, бежал бы, — куда? — все равно, — куда глаза глядят.
Два раза мы принимались делать судно, чтоб спуститься до устья реки, а потом плыть в Ледовитое море. Хорошо, что дело это не дошло до конца! Быть бы нашим костям на дне морском, рядом с Андре и бароном Толем. И после того, зимою и летом, чуть кто выпьет, и душа разойдется — сейчас же садится в челнок или на лошадь верхом и несется сломя голову, без дороги, по дикому лесу и мерзлой тундре. Промнется, вернется назад — и опять ничего. Пьет с другими, как прежде.
— Едем! — кричит Бинский. — Сто чертей!
Мы схватили шапки и вышли на двор, к собачьим навесам. Здесь были привязаны три упряжки, больше тридцати псов, каждый на отдельной цепи. Всякие тут были — черные, белые, пестрые, умные и глупые, рядовые и передовые, моя любимая сука Игла и огромный серый вожак Бинского — Комель. И все они вскочили с мест и стали рваться с визгом нам навстречу, ибо они застоялись на месте от праздничного безделья и по лицам нашим видели, что предстоит ночная радость, буйная скачка.
Привычными руками на лютом морозе мы стали надевать упряжь и застегивать псов в петли потяга. Шесть пар, десять пар…
— Подь, подь!..
Справа и слева мы вскочили ногою на полоз, держась рукой за дугу и налегая на тормоз, как подобает собачьему гонщику.
— Подь, подь!
И по сигналу Бинского длинная свора вытягивается, как змея, встает на дыбы и будто взлетает вверх.
— Ух, ух!..
Нарта вылетает из ворот, круто сворачивает вправо и катится по косогору вниз.
Только в ушах свистит… Крепче держись, не то угодишь в сугроб или в прорубь!.. Мы выезжаем на льдистое лоно реки. Хорошо, что нас двое, справа и слева. Одному бы не сносить головы.
— Подь, подь!.. Ух, ух, ух!..
Упряжка так и стелется по затверделому снегу. Нет на свете езды быстрее. Ветер бьет в лицо. Дыханье выходит из груди со свистом и мерзнет и падает инеем вниз. Крупные редкие звезды глядят с вышины таким холодным, колющим, ранящим взором, будто бросают на Землю острые светлые иглы.
— Холодно, звезды?.. Комель, подь, подь!..
Фю-юить!.. Знакомый пронзительный свист. Кто это свистнул? Тьфу ты, да это Ирман! Он сидит в грядке на барском месте, как будто начальник. И даже ноги протянул.
— Откуда ты взялся?
Но он не отвечает и складывает снова губы и напрягает шею и весь как будто переходит в острый, почти невыносимый звук.
Все двадцать собак отвечают воем. Упряжка обезумела. Мы мчимся, как курьерский поезд.
— Ух, ух, ух, кусь, кусь!..
Трах!.. Нарта с разбега налетает на торчащую льдину и отскакивает в сторону. Мы с Бинским вспрыгиваем вверх, как акробаты, и подсовываем палки. Одно усилие — и нарта перелетает через льдину и катится дальше.
— Ну, как ты?.. — обращаюсь я к Ирману, но мой вопрос обрывается на полуслове. В грядке никого нет. Ирман исчез. Неведомо откуда взялся, неведомо куда девался. Или нам показалось?..
— Подь, подь!..
На левом берегу мелькают искры над низкою трубой. Это заимка Шатунина. Мы проехали девять верст. Надо вернуться.
— О, нах, нах, лево, лево!.. О, домой, домой, домой!..
Комель и Игла сворачивают в сторону и увлекают упряжку. И, описав полукруг, вся свора мчится обратно еще быстрее, чем прежде.
Вот и город. Церковь, кладбище на взгорьи, приземистые избы с плоскими крышами, с высокими трубами. Вот там, ближе к берегу, наша изба. И над трубою стоит прямой высокий сноп багрового дыма. Искры так и скачут, крупные, яркие. Как будто извержение вулкана. Или же это почтенная троица — цыган, медведь и коза — подожгла избу?..
Собаки влетают во двор. А Ирман уже тут.
— Что за нечистая сила! Или ты на помеле приехал? Ну, если ты тут, то распряги собак.
Ирман ворчит.
— Катался, небось…
Мы бросаем ему упряжку и входим в избу. Лянцер и компания действительно жгут избу. Ломают перегородку, снимают пол, рубят на части и ставят в камин. Камин пылает, как огненное жерло.
— Что вы, черти, делаете?
В моей голове мелькает трезвая мысль: завтра придется вытесывать доски и плахи и заново чинить все эти из’яны.
Но они увлеклись и не слушают.
Полозов декламирует гимн огню в стихах собственного сочинения, ибо мы все до одного сочиняем стихи, особенно в пьяном виде.
Пламя встает до небес, Красный, разнузданный конь…— Брось! — кричит Бинский. — Пойдем.
Мы опять выходим на двор.
— Пойдем? — повторяет Бинский.
— Пойдем, — откликаюсь я.
Мы стоим друг против друга и перекликаемся, как два перепела.
— Куда пойдем? — наконец спрашиваю я.
— Пойдем на колокольню, звонить в набат, — предлагает Бинский.
— Нет, это старо. В прошлом году Шиллер звонил в набат. И даже ни одна собака не вышла на звон.
— Идем к магазинам сменять часовых, — решительно предлагает Бинский.
— Зачем? — спрашиваю я с минутным удивлением.
— А зачем их ставят? — кричит Бинский. — В такую ночь… Кто украдет?
Действительно, на Колыме никто не украдет. Разве смотритель только. Но он крадет днем, а не ночью, и расписывает по книгам.
— В такую ночь, — повторяет Бинский значительно, — все пьют, пируют, а они мерзнут. Пошлем их домой. Мы станем на часах, мы, го-су-дар-ствен-ные пре-сту-пни-ки…
— Идем!
Он заражает меня своим мрачным энтузиазмом.
— Идем, ура!
— Allons, enfants de la patrie…
Бинский надувает щеки и выдувает марш.
Мы стараемся итти в ногу, хотя это и трудно.
Магазины в трех шагах за первым углом. Там сложена казачья мука и казенная соль. И два поста, спереди и сзади. Вот старая школа и городские весы. Ну-ка, кого они поставили мерзнуть в эту пьяную ночь?..
Перед дверью стоит мальчик-с-пальчик, в большом тулупе, с большущей берданкой в руках. Это Лучка Гусенок, самый маленький казак на всей Колыме и самый безответный. Ему двадцать пять лет, но бороды у него нет. Его красный носик наивно выглядывает из-под мехового капора.
— Лучка, ступай домой, — говорит басом Бинский.
Лучка склоняет головку набок и отвечает тоненьким, сюсюкающим голоском:
— А вы бы сами шйи, Айександр Яковйевич!..
Бинский радостно смеется и с высоты своих двенадцати вершков протягивает руку над головою Лучки, снимает с него капор и ласково гладит его до темени, потом опускает капор.
— А где другой? — говорю я озабоченно.
Мы обходим амбары и подходим к другому часовому. Мы знаем наперед, что это старик Луковцев. Он нанимается стоять за других в очередь и не в очередь. Можно сказать, что это бессменный часовой всей колымской законности.
Вот он стоит на своем месте, в оленьем балахоне, с ружьем в руках.
— Здравствуй, старик! — приветствует его Бинский.
Но это другое лицо. Бинский делает шаг вперед и сердито плюет в сторону:
— Тьфу, баба!
Это не старик, а старуха, старая Луковчиха. Бессменный часовой зашел погреться домой, а вместо него под ружье встала его верная супруга. Ибо казенный пост не должен оставаться пустым ни одной минуты.
— Тьфу, тьфу, тьфу! — плюет Бинский. — Баба, баба, баба!..
— Идем назад.
Мы повернули обратно. Бинский почему-то пылает гневом. Он останавливается посреди дороги и произносит грозные речи, авансом нарушает все статьи новейшего закона, 126-ю и 128-ю и 1-й, 2-й и 3-й пункты 129-й статьи.
— Где исправник? — спрашивает он в заключение. — Подать сюда исправника!
Никто не откликается.
— Пойдем, поищем, — предлагаю я скромно.
Здание полиции и вместе с тем квартира исправника находится по ту сторону улицы, как раз против нашей избы. Там тоже, должно быть, идет пир горой. Из труб поднимается дым. И сквозь снежные льдины окон мерцает огонь и перебегают смутные человеческие тени.
— Идем туда!..
Ворота открыты настежь, во дворе люди. На ступеньке крыльца скорчился Сергушка, исправничий драбант, он что-то жует и вертит жестяную форму, — должно быть, делает мороженое. Кухарка Палага перетряхает в решете мерзлые ягоды со снегом.
И дверь открыта. Оттуда тянется струею тонкий пар. Должно быть, внутри слишком жарко.
Мы входим в сени, потом в горницу.
Бинский щурится от света, но вопрошает попрежнему грозно:
— Где исправник?
— Здравствуйте, — отвечают нам хором двадцать голосов. — Пожалуйте, гости дорогие.
Все встают с мест и обступают нас.
— Мы послать хотели за вами, — повторяют они наперерыв.
Бинский обводит их глазами, и лицо его смягчается. На кого тут сердиться? Все это наши соседи, близкие знакомые.
Вот почтеннейший исправник Шпарзин, Владимир Петрович. В трезвом виде мухи не обидит. А в пьяном виде чистейший сахар и даже часто плачет от избытка чувств. Он подскочил к Бинскому и трясет за руку, и нос его лоснится от умиления.
Он, правда, злостный взяточник и проигрывает в карты купцам не только казенные деньги, но также и соль и муку. А когда проиграется вдрызг, посылает казаков отобрать у счастливых партнеров казенные продукты.
Казаки заодно, пожалуй, захватят и собственный купеческий запас. Но это — в местных нравах и входит как бы в правила игры.
Если выиграл у вышнего начальства, сумей поскорее запрятать. Тогда не отнимут.
Вот Ваньковский, помощник исправника. Его рыбная избушка стоит на заимке рядом с нашей, и во время промысла мы состязаемся — кто больше наловит. Вот отец Александр, безносый священник, безносый и гундосый. Он уже два раза горел от пьянства, но его оттирали снегом. Вот Сашка Судковский и вдова Елисанова, они живут в гражданской любви и, когда играют в карты с чужими людьми, подают друг другу сигналы пальцами. Высунут средний палец, и это значит — туз козырей, а указательный — король, безымянный — дама. Если их поймают, то слегка обругают, и игра продолжается дальше. Вот Соловьев — торговец; у него плоский череп и веселые глазки, а вместо носа широкая черная дырка. И кажется, что сквозь эту дырку можно насыпать внутрь черепа мерку зерна или фунтов пять дроби. Он танцор и балагур, дамский любезник и душа общества. Вот две дамы, две попадьи, — одна попадья Кириллиха, а другая Гаврилиха.
А вот девицы.
Дука-Беленькая. О ней парни сложили игривую песню:
Ай, Дука, Дукашок, Дука, сахарный душок!Вот Монька, поповская дочь. О ней сложили иную песню, не сладкую, а терпкую, как черная ягода сиха:
От соленой рыбы вонько, У поповских дочи Монька. Она ходит колесом, Продает парням весом…Вот Нимфодора, а прозвище такое, что и написать нельзя… Чичирка, Анюрка Черная…
Они обступили нас. Мы для них — дорогие, желанные гости. Девицы льнут к Бинскому.
Закуска, спирт. Ужин, еще спирт. Все наспиртовались.
Прекрасные глаза Бинского заволоклись легким туманом.
Полночь бьет.
— С новым годом, с новым счастьем, с новым весельем… Ура!
Сергушка выбегает на улицу и стреляет из ружья.
— Ура!..
Бинский саркастически улыбается.
— Давайте хороводы играть, — предлагают девицы.
Ибо на Колыме летом некогда играть хороводы, надо работать, даже в праздник. И хороводы играют зимою, ночью, в закрытой избе.
Мужчины становятся по левую сторону, а женщины — по правую.
Дука-Беленькая выходит вперед и, посматривая на Бинского, спрашивает своим сладким «сахарным душком»:
Бояра, вы зачем пришли? Молодые, вы зачем пришли?..Бинский молчит. Владимир Петрович слегка подталкивает его в плечо, но Бинский упорствует.
Соловьев выскакивает вперед и отвечает веселой скороговоркой:
Княгини, мы пришли невест смотреть, Молодые, мы пришли невест смотреть.Хоровод развертывается. За каждым коленом мы обнимаемся и целуемся, мужчины и женщины попарно.
Время идет. Мы разыгрываем Перепелку, Вьюна, Голубя, Вен-венок, все эти прекрасные хороводные игры, которые на коренной Руси давно исчезли, а в этом диком углу еще сохранились во всем цвету, как будто замороженные в снегах. Поцелуи не прерываются. Девицы поют:
Кинуся, брошуся милу другу на руки, Поцелую, обойму, надеждушкой назову…Бинский вышел из круга. Он сел на лавку и опустил голову на грудь.
— Что с тобой, Саша?
Он плачет горькими слезами, всхлипывает, как ребенок.
— О чем ты плачешь?
— Домой хочу…
Заплетайся, труба золотая, —поют девицы, —
Завивайся, камка хрущатая. Сера мала уточка потопила детушек, Что во пади, во паводе, что во меде сахарныем…— Саша, полно тебе! Ну, пойдем домой!..
Но Бинский толкает меня в грудь.
— Пошел к чорту с твоим проклятым колымским домом… Я хочу туда!..
Он вскакивает и запевает сразу, во весь голос:
Россия, Россия, прекрасная страна…Глаза его блистают ярче прежнего. Он круто обрывает песню и надувает щеки и снова выдувает прежний бравурный марш:
Allons, enfants de la patrie…Все подхватывают дружно и в тон. Ибо поречане певучи и переимчивы. И уже давно мы переняли ихние песни, а они — наши. Они знают также и слова, конечно, русские. Но Бинский почему-то упорно поет по-французски. И в открытые двери катится стройный напев, и громче всех раздается его глубокий, бархатный голос:
Contre nous de la tyrannie L'etendart sanglant est levé…Собаки откликаются вдали. Пьяная ночь…
Любань, 1906 г.
На каникулах
— Марья Николаевна, неужели никто из нас не имеет права на личное счастье?
Разговор происходил в лодке, плывшей вниз по течению, посредине большой реки. Говоривший гребец, чтобы задать свой вопрос, выпустил на минуту из рук короткие ручки неуклюжих весел, как будто ему необходимо было сосредоточить всю энергию в своих словах. Он даже немного приподнялся на скамье, возбужденно заглядывая в лицо собеседнице.
На корме, в узком углу сходящихся набоев, сидела молодая девушка. Она сидела праздно, и кормовое весло лежало перед нею поперек лодки. Она примостилась внизу, положив дощечку сиденья на внутренние выступы днища, и небрежно откинулась назад, опираясь спиной о деревянную иглу, продетую сквозь верхние доски лодки. Глаза ее лениво и несколько устало смотрели вперед, обнимая в одно время и гребца, сидевшего на передней скамье, и гладкую поверхность блестящей реки, широко разостлавшуюся по обе стороны, и узкую полоску лесистого берега, чуть выступавшую, кто знает на каком расстоянии, за носом лодки.
Услышав вопрос, молодая девушка на минуту остановила взгляд на лице своего спутника.
— Что такое счастье? — сказала она, без запинки задавая ему тот самый вопрос, над разрешением которого тщетно трудилось столько беспокойных умов и взволнованных сердец на полях человечества.
Но у человека, сидевшего на веслах, ответ, повидимому, был приготовлен заранее.
— Счастье? — пылко сказал он. — Высшее счастье на земле есть любовь!
Дав этот короткий, но энергичный ответ, он опять схватился за ручки весел и сделал несколько долгих и сильных взмахов, как будто желая подчеркнуть ими свои слова.
— О, любовь! — сказала с сомнением девушка, откидывая назад голову.
Странно было слышать из таких молодых уст этот пренебрежительный тон.
Человек на передней скамье вдруг выдернул оба весла из воды и с шумом бросил их на дно лодки. Он, очевидно, хотел сосредоточить все свои силы для этого разговора и не мог ограничиться минутной остановкой, как прежде.
— Я не виноват! — горячо заговорил он. — Таков закон природы. Любовь — это высшее, что на земле дано вкусить человеку. Кто не знал любви, тот не имеет права сказать, что он жил на свете. Любовь — это выше всего, она стоит впереди всего…
Он вдруг спутался, не находя слов для дальнейшего выражения своей мысли.
— А после любви что стоит? — спросила молодая девушка, поддразнивая.
Но у гребца, очевидно, были приготовлены ответы на все вопросы.
— После любви — слава! — сказал он без малейшего колебания.
Девушка посмотрела на него с удивлением. Она не ожидала такого ответа.
— Не говорите! — быстро продолжал ее собеседник. — Я знаю, что вы хотите сказать. Конечно, десять лет назад я бы ответил иначе. На первое место я бы поставил сознание долга к ближнему, самоотвержение и тому подобные вещи.
— А теперь вы разве не цените этого, Рыбковский? — сказала молодая девушка почти строго. Голос ее звучал упреком.
— Я не говорил этого! — несколько смещался ее собеседник. — Но теперь мы находимся не в том положении, мы живем сами по себе… От того, что было когда-то, мы отрезаны такой непреодолимой преградой, как будто его вовсе не было.
— Ну, так что же? — спросила девушка.
— Марья Николаевна, — сказал человек на веслах, — слава — эти след, который человек оставляет за собой на земле. Знаете ли вы, как тяжело еще заживо погрузиться в бездну, оторваться от всех человеческих интересов и сознавать, что на широком свете имя твое забыто и след твой исчез так всецело, как будто бы ты уже был призраком.
— Молчите, я не хочу вас слушать! — сказала девушка. — Вы сами забываете, а вам кажется, что вас забывают другие. Если кто сделал хоть крупицу доброго или смелого или полезного, — это никогда не исчезнет бесследно.
— Одна крупица — плохое утешение, — с горечью сказал Рыбковский, — особенно, если человек еще не собрался умирать. И кто может определить, стоила ли она действительно тех эпитетов, которыми вы изволили ее наградить? Кто захочет успокоиться на том, что там, по ту сторону межи, много лет тому назад и он ступал по извилистым дорогам лабиринта, которые с тех пор успели отразить на себе тысячи тысяч шагов? Если бы мертвец после смерти мог незримо летать над миром живущих, как вы думаете, захотел бы он утешиться тем, что несколько человек, знавших его при жизни, случайно поминают его имя среди своих занятий и развлечений?
Девушка не отвечала. Взгляд ее опять скользнул через голову собеседника и потонул в сияющей дали, на рубеже небесной и речной глади.
Рыбковский с беспокойством смотрел на ее лицо. Она была так молода, что на расстоянии ее можно было принять за ребенка; только всмотревшись ближе, можно было различить две небольшие морщинки около углов рта и две другие на углах тонких, красиво очерченных бровей, придававшие этому бледному личику более взрослое выражение. Когда она думала о чем-нибудь, между бровями возникала еще одна короткая вертикальная морщинка, которая становилась более или менее явственной соответственно ходу ее мыслей. Спутник ее, напротив, не мог похвалиться ни молодостью, ни свежестью. Беспорядочная копна темнорусых волос, украшавших его голову, была как будто присыпана мукой, пореже на темени и погуще на висках, лоб был прорезал глубокими бурыми складками, и общее выражение лица в достаточной степени усталое.
— Марья Николаевна, — начал он снова, — знаете ли вы, что такое одиночество?.. Когда человеку не с кем перекинуться словом, он кончает тем, что забывает слова, постепенно утрачивает способность связывать мысли и впадает в такое душевное оскудение, от которого потом уже трудно оправиться…
— Вы разве один? — сказала молодая девушка. — У вас всегда были товарищи.
— О, товарищи! — пренебрежительно протянул Рыбковский. — Мы были, как хлебы из одной печи, нам и говорить-то было не о чем, мы знали вперед, что каждый из нас должен подумать о любом предмете.
— Будто вы все из одной печи? — возразила девушка.
— А, вы говорите об этих, — сказал Рыбковский тем же тоном, — которые приехали потом, — о господах эсдеках?.. Да они тоже совсем прозрачны. Стоит только изменить один из отправных пунктов, а там предугадать их мнения еще легче, чем наши.
— Зачем же вы с ними так часто спорите? — сказала девушка.
— Темперамент такой, — комически оправдывался Рыбковский. — Что ни скажешь, а они наоборот. Ну и я наоборот, и пошла писать. А только и в этом нет ничего интересного.
— На вас трудно угодить! — сказала девушка. — Если разбирать по-вашему, то ни один человек не покажется представляющим интерес.
— Совсем нет! — живо возразил Рыбковский. — Вы — свежий человек. Я именно хотел высказать, как я рад, что впервые за столько лет опять увидел свежего человека…
Молодая девушка не отвечала. Наступило непродолжительное молчание. Рыбковский все посматривал на свою собеседницу, хмурясь и меняя положение головы. Быть может, это происходило оттого, что солнце било ему прямо в глаза, и ему было неловко смотреть вперед.
— Марья Николаевна, — опять заговорил он, — вы еще внове. Вам трудно себе представить, как здесь приходится чувствовать. Но вы все-таки попробуйте. Живет человек год за годом, один, без общества, без цели, без занятий, не знает, для чего он живет теперь, и теряет надежду, что когда-нибудь будет жить для чего-нибудь. Ему не к чему приложить свои силы, нечем занять свой ум, а грудь его переполнена чувствами, которые еще ни разу не успели найти себе удовлетворения на земле, которые просятся излиться, ищут выхода и не находят его…
Голос Рыбковского вибрировал красноречивее его слов. Разговор положительно принимал опасный оборот, но никто из собеседников не думал об этом. Впрочем, молодая девушка, быть может, немного думала.
— Не знаю! — сказала она после короткой паузы. — Я с вами не согласна. Когда человек оторван от людей, ему остается природа. Природа — это откровение, новая жизнь. Посмотрите на этот свет!
Она широким жестом указала на блестящую реку, расстилавшуюся вокруг лодки и горевшую под яркими лучами июльского солнца, как расплавленное золото.
— Этот блеск имеет язык. Он может заменить то недостающее общество, о котором вы говорили. Боже мой! Как долго я была лишена всего этого!.. Посмотрите на эту прозрачную глубину, где так ясно отражаются наши тени! Мне кажется, будь я одна, я в состоянии была бы заговорить с призраком, что глядит мне в глаза из сверкающей воды…
Рыбковский хотел возразить, но молодая девушка перебила его.
— Смотрите, — сказала она весело, — вон лодка плывет. Это ваши кататься едут.
Лицо ее осветилось чисто детским оживлением. Глядя на нее теперь, трудно было бы подумать, что минуту тому назад она вела меланхолический и отвлеченный разговор.
От широкой серой песчаной полосы, протянувшейся над низким и ровным угорьем лугового берега и испещренной неводным вешалами и опрокинутыми карбасами[2], отделилась небольшая лодка, довольно быстро двигавшаяся поперек течения. Река была так широка, что нельзя было разглядеть людей, сидевших в лодке. Видно было только, что их несколько — четыре или пять человек. На передней скамье гребли двое, и можно было различить, как их головы расходятся при каждом взмахе весел. На корме сидел один с кормилом в руках. Посредине лодки тоже были люди, один или двое. Рыбковский и его спутница, впрочем, хорошо знали, кто может выехать кататься на реку из пустынного Нижнеколымска в это теплое летнее время, когда коренные жители разбрелись по отдаленным тоням и заводям и с ожесточением занимались промыслом, запасая себе на зиму рыбу.
Рыбковский вдруг схватил весла и, проворно надев дужки, уже собрался сделать первый взмах, но спутница остановила его.
— Вы куда? — сказала она с удивлением. — Видите, они сюда едут. Разве вы не хотите дождаться?
Она поднялась со скамеечки и приложила руки к глазам в виде щита, пристально присматриваясь к лодке, прорезывавшей реку.
— Четверо! — об'явила она наконец. — А посредине еще что-то чернеет, но это не человек — не движется.
— Ау! — звонко и весело крикнула она, вдруг отнимая руки от глаз и прикладывая их ко рту в виде рупора.
— У-у! — донеслось с берега. Это отвечали люди, ехавшие в лодке.
Рыбковский смотрел довольно сердито. Он, повидимому, не разделял оживления своей спутницы.
— Чего вы хмуритесь? — капризно сказала она, заметив его кислое лицо. — Я не люблю, когда на меня глядят так сердито.
Рыбковский не отвечал.
— Семен Петрович, — заговорила она просительным тоном, — разгладьте ваши морщины. Ей-богу, я не могу выносить, когда мои собеседники имеют такое лицо, — тем более вы. Вы делаете меня нервною. Ваши глаза хотят сглазить мой праздник. Улыбнитесь, пожалуйста, прошу вас.
Рыбковский вдруг улыбнулся.
— Какой праздник? — спросил он, недоумевая. — Кажется, именины ваши уже были.
— Праздник солнца, — сказала с важностью девушка. — Я ведь вам сказала, что я солнцепоклонница. Такой чудный день лучше всяких имении.
Через несколько минут вторая лодка уже выходила на середину реки, придвигаясь ближе и ближе.
Гребцы выбивались из сил, быть может, стараясь показать свое рвение перед лицом юной зрительницы.
Человек, сидевший слева, засучил рукава до локтей и при каждом взмахе закидывал веслом, как можно дальше назад, потом изо всей силы двигал его вперед, приподнимаясь на ноги и крепко стискивая круглую деревянную ручку своими сухощавыми руками. Это был высокий молодой человек с длинными белокурыми волосами, закрывавшими уши, в белых очках с золотой оправой, как будто подобранных под цвет волос и приставших к тонкому и острому носу так крепко, как неотделимая составная часть этого бледного лица. По лбу гребца катились крупные капли пота, стекавшие под очки, но он не имел времени утереться и только поматывал головой, стараясь придать стекавшей влаге иное направление. Наряд его состоял из парусиновой блузы, подпоясанной ременным кушаком, и высоких мягких сапог местной работы, покрывавших всю ногу и скрывавшихся под вздутыми парусиновыми полами блузы.
С правой стороны греб маленький коренастый человек с коротким туловищем, облеченным в куртку серого сукна, и с такими короткими ногами, что они не достигали даже до перекладины, служившей точкою опоры. На голове его сверкала небольшая, но яркая лысина, еще более лоснившаяся от пота и от лучей солнца. Недочет в волосах на голове, впрочем, с изобилием возмещался широкой рыжей бородой, разросшейся во все стороны наподобие чертополоха.
Он греб, откидываясь назад и отбрасывая голову вверх с такой энергией, как будто ему хотелось оторвать ее долой и бросить в воду через нос лодки.
На корме сидел человек могучего телосложения, с совершенно седыми волосами и длинной седой бородой, спадавшей веером до половины груди. Несмотря на жаркую погоду, он был в куртке из копченой замши, подбитой пыжиковым, правда, довольно вытертым, мехом. Через плечо на самодельной ременной перевязи висело двухствольное ружье, с замками, заботливо перевязанными лоскутом весьма грязной тряпки, чтобы предохранить их от водяных брызг.
Посредине лодки на двух тонких досках, брошенных поперек опругов[3], стоял человек с обнаженной головой, совершенно лишенной волос и блестевшей на солнце, как биллиардный шар. Он был одет в старое летнее пальто светлозеленого цвета, повидимому с чужого плеча, так как оно ему достигало до пят. Лодка была довольно неустойчива, а гребцы гребли сильно и неровно, и ему стоило большого труда сохранять равновесие стоя. Но он ни за что не хотел под’ехать к передней лодке в непрезентабельной позе пассивного пассажира, скорчившегося на дне рядом с кладью. Его беспокойные руки то-и-дело порывались согнуться фертом для пущего удальства. К сожалению, его поминутно качало то вправо, то влево, и он должен был хвататься за борта, чтоб не свалиться в воду. Черная кучка, лежавшая возле него на середине лодки, оказалась больший пестрым ковром, сложенным вчетверо и брошенным поверх какого-то ящика или корзины, стоявшей на досках.
Наконец лодки поравнялись. Гребцы вдруг затабанили[4]. Человек в зеленом пальто, не ожидавший этого, пошатнулся вперед, споткнулся ногами о ковер и упал прямо на ручки весел, поднимавшихся ему навстречу.
— Марья Николаевна, здравствуйте! — сказал кормщик, прикладывая по-военному два пальца к круглой, до невозможности засаленной шапке, покрывавшей его голову.
— Смотрите, Кранц как низко вам кланяется!.. Падает к ногам!..
— Разве к моим? — сказала, смеясь девушка. — Он хочет поблагодарить Ратиновича и Броцкого за то, что они его везли через реку.
Человек в зеленом пальто поднялся на ноги.
— А, чорт! — выругался он со свирепым видом. — Вы это нарочно. Я знаю, я хорошо знаю, — нарочно!
— А вы не стойте среди людей, как воронье пугало! — высоким и жидким тенорком возразил Ратинович, человек в белых очках, сидевший слева. — Стоит, как волжский атаман на разбойничьем корабле!.. Здравствуйте, Марья Николаевна, — отсалютовал он в свою очередь и, пользуясь тем, что его сиденье приходилось борт о борт с первой лодкой, протащил свою лодку вперед, перехватываясь руками по верхним набоям, и с торжествующим видом перегнулся в чужую лодку, протягивая руку молодой девушке. Кранц, гнев которого еще не успел остыть, вдруг качнул лодку так сильно, что Ратинович чуть не вылетел в воду и удержался только за борт лодки Рыбковского. Она в свою очередь тоже качнулась, так что Марья Николаевна, вставшая на ноги, опять повалилась на свое сиденье, не успев вложить свою ручку в руку Ратиновича.
Общий крик негодования одновременно вырвался у всех.
— Вы, должно быть, с ума сошли! — кричал коротенький гребец хриплым голосом. — Смотрите, Марья Николаевна упала. Мы вот вас оставим на том берегу.
Звук его голоса напомнил хриплые тоны растерянной гармоники с прорванными мехами и изломанными клапанами. Он совсем был лишен силы и как будто ежеминутно задевал за что-то.
Но Кранц был до того смущен неожиданным результатом своей мести, что гнев товарищей не произвел на него особого впечатления.
— Извините ради бога, Марья Николаевна, — прошептал он, — я и в мыслях не имел толкнуть вас.
— Пустое! — сказала девушка весело. — Смотрите, господа! — прибавила она со смехом, указывая на кормчего, — у Ястребова ружье так и висит на плечах!.. Дедушка, — обратилась она к кормчему, — отчего вы не положите ружье в лодку?
— Не хочу! — пробормотал кормчий себе в бороду.
— Отчего? — приставала девушка.
— Им и так тяжело грести, — указал Ястребов на гребцов, — я не хочу прибавлять им груза.
Все засмеялись.
— Скорей, скорей! — возбужденно торопил Ратинович. — Поедем!
— Куда вы торопитесь? — лукаво спросила молодая девушка. — Куда вы собрались?
— Вас чаем поить собрались! — важно сказал кормчий.
— Были у вас, видим, что вы уехали, а чайник на шестке. Ну, мы и решили привезти вам подкрепление.
— Поедем взапуски! — волновался Рабинович. — Сядем по двое на весла, поедем на стрелку. Там хорошо чай пить!..
— А если я не доеду? — сказала Марья Николаевна шутливо.
— Не поедете? — испуганным тоном повторил Ратинович. — А мы как?
— Ну, ну! — успокоительно заметил коротенький гребец. — Пусть только она заглянет в нашу корзину, не сможет не доехать!.. — Марья Николаевна, глядите-ка сюда! — прибавил он, сдергивая ковер и открывая большую корзину, грубо сплетенную из ивовых ветвей и до половины наполненную бумажными и холщевыми свертками. — Сахар, белая юкола[5], свежий хлеб, все — первый сорт! — продолжал он. — Даже печенье есть! Подумайте только: пшеничное печенье… с ягодами… на масле…
— Где взяли? — с интересом осведомилась девушка.
— Крану у дьячихи «под натуру»[6] взял. Обещал отдать после почты.
— Почему после почты? — спросила девушка. — Вы разве получите с почтой крупчатку, Кранцик?
— Могу и получить! — уклончиво ответил Кранц, принимая глубокомысленный вид.
— Как же, держи карман шире! — прохрипел Броцкий. — Не верьте, Марья Николаевна! Только дьячиху обманул, безбожник!..
— А где Беккер? — спросила Марья Николаевна. — Броцкий, где вы оставили Беккера?
— На дежурстве у Шиховых! — сказал Броцкий. — Возится на кухне и собирается стирать белье.
— А вы как же?
— Будет с меня на сегодня! Я сменился.
Шиховы были супружеская чета, обремененная многочисленным потомством. Троцкий и Беккер по очереди помогали им управляться с работами по домашнему хозяйству.
— Ну, что ж, поедем! — настаивал Ратинович. — Наперегонки, по-двое. Кранц пусть помогает Рыбковскому, а мы — как прежде.
— Не надо, не надо! — заговорил Рыбковский, отмахиваясь. — Какой он помощник? Лучше я один.
— Я хоть на корму сяду! — упрашивал Кранц. — У вас ведь некому держать корму!
Ему очень хотелось пересесть в одну лодку с молодой девушкой.
— Нельзя! — возразил Рыбковский сурово. — Лишняя тяжесть, а шансы и так неравны. Не нужно кормщика!
— Ну, господа! — крикнул он, хватая весла, и, оттолкнувшись от соседней лодки, стая грести вперед, с треской вскидывая весла и в такт хлопая дужками о деревянные уключины.
Гребцы второй лодки тоже заворочали веслами, стараясь отнять у него берег. Они попрежнему гребли мельницей, и когда левая лопасть высоко стояла над водой, правая только опускалась в воду.
Ястребов смотрел на их движения, улыбаясь в бороду. Ему нужно было постоянно поворачивать кормило то влево, то вправо, чтобы сохранить одно и то же направление.
Рыбковский успел выиграть довольно значительное расстояние, задняя лодка никак не могла сократить его сколько-нибудь ощутительно. К несчастью, молодая девушка вздумала помогать ему.
— Я буду держать корму! — об’явила она, снимая кормило с бортов лодки и погружая его в воду ребром.
Лодка немедленно повернулась вдоль по течению. Рыбковский с ожесточением стал грести левым веслом, стараясь воротиться на прежний курс. Задние гребли изо всех сил, стремясь воспользоваться как можно лучше неудачей соперника. Они уже почти настигли переднюю лодку.
— Догоняют, догоняют! — воскликнула девушка. — Не надо кормы! Я тоже буду грести, Семен Петрович! Сядем грести вдвоем!..
И, бросив кормило на дно лодки, она стала пробираться в носовую часть, чтобы завладеть одним из весел Рыбковского. Рыбковский с широкой улыбкой посторонился, давая ей место на скамье.
— Правда, вдвоем лучше? — спрашивала Марья Николаевна, обхватывая ручку весла своими небольшими ручками, затянутыми в старые черные перчатки, потертые и заштопанные на пальцах.
— Конечно, лучше! — энергично подтвердил Рыбковский. — Какое может быть сравнение — двое или один?
Но в это время он сделал такой сильный взмах веслом, что лодка повернулась, и нос ее направился в сторону лугового берега.
Задние уже проплывали, но Ястребов вдруг сделал сильное движение кормовым веслом и тоже повернул свою лодку носом к нижнепропадинским неводным вешалам.
— Зачем вы? — закричали гребцы. — Куда вы правите?
— А они куда едут? — проворчал Ястребов.
Гонка поневоле прекратилась. Рыбковский греб, едва шевеля руками, чтобы не пересиливать спутницу, которая ни за что не хотела оставить весло. Общество медленно переезжало реку, обмениваясь веселыми замечаниями. Кранц успел-таки пересесть в лодку Марьи Николаевны и, поместившись на корме, добросовестно ворочал кормилом в воде, стараясь направлять лодку, куда следует. Впрочем, умение его не соответствовало усердию, — каждый раз он забывал, куда нужно поворачивать кормило, и, желая повернуть лодку вправо, поворачивал ее влево. Наконец, лодки стали огибать стрелку, вытянувшуюся вдоль устья другой большой реки, Анюя, впадавшей в Колыму как раз против города.
Через полчаса обе лодки вошли в Анюй и толкнулись носом в пологий песчаный берег.
— Марья Николаевна! Я вас вынесу! — решительным тоном об’явил Ратинович, быстро соскакивая в воду в своих высоких сапогах и подходя к первой лодке.
Рыбковский стоял в воде с другой стороны, тоже простирая руки и безмолвно предлагая свои услуги.
— Разве я ребенок? — возразила девушка. — Я сама выйду! Вы лучше подтяните лодку на берег!
Рыбковский и Ратинович ухватились за носовую иглу и дотащили лодку. Кранц тоже поспешно выскочил из лодки и подскочил к Марье Николаевне с ковром в руках. В ту самую минуту, когда она готовилась соскочить на песок со скамейки, он ловко раскинул ковер на земле перед ее ногами.
— Сюда, сюда ступайте! — с торжеством говорил он.
Марья Николаевна со смехом соскочила на ковер.
— Разве я королева, — шутливо спросила она, — что вы мне под ноги подстилаете ковры?
— Все равно, что королева! — ответил Ратинович, вытаскивая на песок корзину с припасами.
— Больше, чем королева, — заявил Кранц с убеждением.
— Ну, если я королева, — весело сказала девушка, — не хочу ступать по голой земле. Давайте еще ковер!
И она остановилась в ожидании на краю ковра.
Кранц поспешно сорвал с себя зеленое пальто и разостлал его на песке в виде импровизированного продолжения ковра.
— Марья Николаевна, — сказал Ястребов в виде предостережения, — не ступайте, запачкаете!
— Пускай, — заявил Кранс, беспечно махнув рукой, — не жалко!
— Запачкаете ноги, — выразительно прибавил Ястребов, — это такая грязная ветошка!
— Наденьте скорее ваше пальто! — воскликнула Марья Николаевна, разглядев костюм Кранца. — Боже, какой ужасный человек! Посмотрите, на что вы похожи.
Костюм Кранца, скрывавшийся под пальто, состоял из коротенькой блузы без пояса, невообразимо засаленной и покрытой какими-то странными зеленоватыми и желтоватыми пятнами, наслоившимися друг на друга.
Кранц занимался медицинской практикой, постоянно возился над составлением лекарств и имел привычку обтирать руки о полы после манипуляций латинской кухни.
— Он еще жалуется, что у него нет лекарств! — ворчал Ястребов. — Да на этой блузе целая аптека. Выварить ее, так можно пользовать больных по крайней мере год.
Кранц смущенно надел пальто. Его судьба была вечно попадать впросак именно в ту минуту, когда он намеревался блеснуть ловкостью или другими талантами, дарованными ему природой.
— Хоть бы у него не было! — с негодованием сказал тогда Ратинович. — Этакой скаред! В сундуке две новых блузы, пиджак, сюртук… И куда вы бережете? — обратился он к Кранцу. — На похороны, что ли?
— Я забыл переодеться! — жалобно оправдывался Кранц. — Прибежал из больницы, заторопился и совсем забыл.
— Отойдите от него, Марья Николаевна! — воскликнул Ратинович трагическим голосом. — О, несчастный! Он прямо из больницы и не переменил одежды! В порах его платья скрыта зараза!
Броцкий и Ястребов хлопотали у костра наверху песчаного косогора. Девушка, взойдя на косогор, опустилась на землю на тот же ковер, снова услужливо разостланный Кранцем, успевшим подхватить его по дороге. Она устала от недавней работы веслом и рада была отдохнуть в ожидании чая. Комары, которые в этот жаркий день боялись вылетать на открытые места, здесь, вблизи леса, проявляли большое оживление. Над костром уже толокся целый рой, стараясь пробраться сквозь густые облака дыма, закрывавшие участников пикника. Те в свою очередь размещались с таким расчетом, чтобы держать голову на окраине густой и широкой струи дыма, валившей от костра и уносившейся течением воздуха. Впрочем, было совсем тихо, и движение клубов дыма постоянно переменяло направление, отклоняясь в сторону соответственно каждому порыву случайно пахнувшего ветерка. Как только дым отклонялся в сторону, комары налетали дружным строем, заставляя все общество отмахиваться и чесаться. Ратинович, как более экспансивный, уже успел несколько раз выругаться. Впрочем, он тотчас же взапуски с Рыбковским занялся защитой Марьи Николаевны от надоедливости комаров. В две минуты они разложили вокруг нее на некотором расстоянии несколько небольших огоньков и набросали на угли нежных побегов гусиной травы.
Тонкие струйки дыма потянулись в разных направлениях, перекрещиваясь, догоняя друг друга и собираясь в белое облако над головой девушки. Можно было подумать, что это фимиам, который ее спутники приносят ей в жертву.
Кранц начал выкладывать припасы и размещать их на краю ковра.
— А это что? — спросил он, вынимая склянку, тщательно обернутую, в полотенце. — Наливка, смородиновка!.. А, как вам покажется?
— Ах, чорт! — выругался Ратинович. — Вот ловко! А нам ведь не сказал!..
— Марья Николаевна! Рюмочку!.. Перед чаем!.. Для здоровья полезно!.. — юлил Кранц, не обращая внимания на других.
Наливка представляла высшую степень роскоши, доступной для Нижнепропадинска, и являлась там совершенно необычайной драгоценностью, своего рода lacrima Christi, столетним рейнвейном или чем-нибудь в этом роде.
Но Марья Николаевна отняла у него бутылку.
— Кутим, господа! — весело воскликнула она. — Дед, идите! — позвала она Ястребова, который возился у костра, укрепляя чайник на длинном шесте, подпертом двумя рогатыми ветками.
Ружье попрежнему висело у него за плечами.
— Бросьте ваш чайник! — продолжала девушка. — Посмотрите, тут питье покрепче!
Ястребов тотчас же подошел. Выпивка была слишком редкой вещью на Колыме, чтобы можно было от нее отказываться. Ратинович, за неимением рюмок, расставил на ковре чашки и стаканы. Через минуту бутылка была пуста. Марья Николаевна храбро выпила свою долю, и щеки ее окрасились чуть заметным румянцем. Ей стало еще веселее, чем прежде. Другие тоже выражали свое довольство наливкой, кроме Ястребова, который, обтерев усы, лаконически определил: «Слаба!» — и тотчас же возвратился к своему костру.
— Дедушка, будет вам возиться, — обратилась к нему снова девушка, — присядьте, а молодые люди пусть похлопочут!
Ястребов что-то проворчал. Он не любил, когда ему намекали на его пожилой возраст. Может быть, поэтому кличка «дед» так плотно пристала к нему.
— Да снимите вы ваше ружье! — не унималась Марья Николаевна. — Вы, кажется, хотите кого-нибудь застрелить?.. Николай Иванович, снимите ружье!..
— Замки обвязаны, — упрямо возразил Ястребов, подкатывая к огню огромную кокору, которую с трудом притащил с берега.
— А где ваша волчица? — спросила молодая девушка, вдруг припомнив. — Зачем вы не не взяли с собой? А еще охотник!.. Где волчица?..
— Волчица дома, — насупившись, ответвит Ястребов.
У него, действительно, была волчица, которую он выкормил с великим трудом, уделив ей угол в своей избе и отказывая себе для ее прокормления в последнем куске. Он надеялся выдрессировать ее, как охотничью собаку, и после водить за собой во время своих экскурсий по соседним лесам и болотам. На колымских собак, бока которых были потерты от упряжи, он смотрел слишком презрительно, чтобы выбрать в их среде об’ект для дрессировки.
Волчица оказалась, однако, еще хуже пропадинских собак. Она думала только об еде и пожирала все, что попадалось ей на глаза, а на преподавательские попытки хозяина отвечала рычанием. Единственной штукой, которой она научилась у Ястребова, было вставать и ходить на задних лапах. Но и это произошло само собой, благодаря тому, что Ястребов всю зиму держал ее на короткой железной цепи, прикрепленной к кольцу, ввинченному в стену. Пытаясь вырваться, волчица, естественно, должна была вставать на задние лапы и привыкла проводить в таком положении целые часы, натягивая цепь изо всех сил и плавая в воздухе передними лапами. К весне она научилась ходить на задних лапах, как ученая собака. В конце концов, когда Ястребов решил спустить свою питомицу с цепи, эта ученая привычка волчицы оказалась рокового для его холостого хозяйства. Волчица тотчас же научилась обшаривать столы и подоконники, поднималась во весь рост, как человек, и, вытягиваясь на цыпочках, обыскивала полки, безжалостно уничтожала все с’естное, роняла посуду, разбрасывала вещи. Она донельзя надоела Ястребову, и он не знал, как от нее отвязаться, тем более, что, вопреки пословице, ужасное животное весьма привязалось к спокойной жизни под кровом человека и ни за что не хотело уходить в лес, простиравшийся у самого порога избы, дававшей ей приют. Волчица составляла теперь больное место жизни Ястребова, и он тем более не любил, чтобы ему напоминали о ней другие.
Кранц посмотрел на Ястребова торжествующим взглядом. Он чувствовал, что теперь наступило время для реванша за недавние насмешки.
— На вашу волчицу весь город жалуется, — сказал он, — она изо всех силков куропаток вытаскивает!..
Ястребов, не отвечая, продолжал возиться у костра. Куропатки в буквальном смысле слова ходили по улицам Нижнеколымска, и любимым занятием мальчишек было ставить на них силки. Волчица повадилась таскать этих куропаток и в последнее время даже заметно стала жиреть на легкой добыче.
— Отец Трифон жалуется, что на прошлой неделе она бросилась на него, — продолжал Кранц.
— Врет он! — сердито возразил Ястребов, ловко поддевая вскипевший чайник на новую палку и устанавливая его с подветренной стороны костра, чтобы пламя не било на крышку.
Действительно, пресловутая волчица была труслива, как хорек, и убегала от последней собаки, проходившей мимо нее, не говоря о людях. Это не мешало колымским жителям питать к ней и ее хозяину суеверный страх. Они считала Ястребова шаманом и утверждали, что он приручил волчицу какими-то таинственными чарами и теперь раз’езжает на ней каждую ночь по окрестным болотам.
— Я слышал, что вашу волчицу хотят отравить! — приставал Кранц.
— Пусть попробуют! — буркнул Ястребов, принимаясь мыть сковородку при помощи пучка свежей травы, мало-по-малу окрасившей ее в красивую зеленую краску.
Лицо его насупилось еще больше. Несмотря на все грехи волчицы, он не мог выносить, чтобы посторонние люди вмешивались в его отношения к ней.
Он опять вернулся к костру и уже собирался жарить мясо, но Кранц, взявший на себя роль распорядителя, предупредил его.
— Вы, что же это, хотите приготовить мясо под зеленым соусом? — засмеялся он. — Смотрите, господа! Он весь сок из травы оставил на сковородке. Так нельзя!
— Правда! — поддержала его Марья Николаевна. — Давайте лучше на рожнах!
Ястребов послушно принялся строгать длинные и тонкие палочки и нанизывать на них маленькие кусочки мяса. Рыбковский, ходивший по берегу, возвратился с букетом, составленным из красивых белых и розовых цветочков кипрея с небольшими плотными темнозелеными листочками, перемешанных с мелкими бледноголубыми колокольчиками и маленькими белыми звездочками буквиц.
— Ах, какая прелесть! — воскликнула Марья Николаевна. — Где это вы набрали?
— Тут много! — ответил Рыбковский, отдавая букет. — После чаю пойдем собирать, я вам покажу. Я знаю место, где растут незабудки, настоящие незабудки, как у нас на полях.
Ястребов снял с рожна последние куски зарумянившегося жаркого. Сложив все жаркое на большую железную тарелку, он поставил ее на ковер перед Марьей Николаевной, но вместо того, чтобы усесться рядом со всеми, повернулся и неторопливо отправился по тропинке, уходившей в лес.
— Куда вы? — кликнула Марья Николаевна.
— На охоту! — отвечал Ястребов, не оборачиваясь и продолжая свой дуть.
— Стойте, стойте! — кричала Марья Николаевна, видя, что его высокая фигура готова скрыться между кустами. — Вы разве не будете есть с нами?
— Что еда? — донеслось уж из кустов. — Сами ешьте!
Ястребов с юности поставил себе правилом поступать не так, как другие люди, и мало-по-малу до такой степени привык выбирать своеобразный способ действий, что теперь ему трудно было подойти под общий уровень даже в самых ничтожных пустяках. Он ел, одевался и спал иначе, чем люди, которые составляли его общество. В каждом отдельном случае он как будто задавал себе вопрос: «Как поступил бы на моем месте обыкновенный средний человек?» — и поступал как раз наоборот. Логики в его поступках не было. Весною, когда чай дешевле, он вдруг отказывался от чаю, а осенью, напротив, платил до рублю за четверть кирпича и выпивал его в два приема. В февральские сорокаградусные морозы он ходил на охоту без теплой шапки и рукавиц, а летом, напротив, надевал меховую шапку. Он никогда не читал книг и не держал свечей в своей избушке и долгие зимние ночи просиживал один в четырех стенах, повидимому, не тяготясь одиночеством и не прибегая даже ко сну, чтобы скоротать время. Впрочем, он не чуждался и общества товарищей, но имел обыкновение покидать его так же неожиданно, как он сделал это теперь.
Однако другие мало обратили внимания на его уход. Они уселись на траве вокруг ковра и дружно уничтожали привезенные припасы.
— Хороши французы! — сказал Ратинович, прожевывая кусок.
Рыбковский поднял голову как боевой конь, почуявший запах пороха.
Почта пришла с неделю тому назад и принесла ворох газет и журналов. Они успели уже по десяти раз поспорить о каждом предмете, но не могли наспориться досыта. Это были люди различных мировоззрений, и словесные препирательства между ними иногда разрешались довольно крупными стычками. Они так увлекались, что нередко, в пылу желания одолеть противника, менялись ролями, и один защищал, а другой опровергал совсем несоответственно своей «программе».
— Хороши французы! — повторил Ратинович, беря еще кусок жаркого. — Мужчины колотят женщин палками и по их телам пробираются к выходу.
Он говорил об известном парижском пожаре в улице Жана Гужона.
— Это все буржуазия, — прохрипел Броцкий, — правящие классы.
— Я о них именно и говорю, — подтвердил Ратинович, — однако, какое беспримерное падение Франции…
— Не в том дело, — сказал Рыбковский, нахмурившись, — тут есть другая сторона, важнее…
— Какая? — задорно спросил Ратинович.
— Как болезненно задевает за нервы эта катастрофа, — продолжал Рыбковский, — из всех трагических происшествий последнего времени это самое трагичное…
Ратинович хотел возразить, но Рыбковский успел опередить его.
— Это пустое, что буржуазия! — торопливо говорил он. — Пустое даже, что французы. Не в том дело! Это ведь люди, наконец, просто люди!
— Ну так что же? — успел вставить Ратинович.
— Помните барыню, которой разбили руки молотком, — продолжал Рыбковский, не обращая внимания на вопрос, — или тех дам, которые подрывались под стену?.. Пятнадцать минут! Ужасно, нестерпимо читать! Как крысы в западне!.. Подумать, что за четверть часа до того они, может быть, не находили для себя достаточно утонченными самые изысканные предметы роскоши. Как мало времени нужно, чтобы весь лоск культуры сошел, и явилась трепещущая тварь, обезумевшая от желания сохранить шкуру.
— Ну, не все таковы, — упрямо возразил Броцкий, — рабочие классы проникнуты иным духом!
— Как уверенно вы говорите! — едко сказал Рыбковский. — Как будто не бывало паники в простонародной толпе. Кажется, есть примеры… отечественные… Припомните Ходынку…
— Я говорил о Франции! — с угрюмым видом возразил Броцкий. — Рабочие вели себя геройски! Только интеллигентные классы способны на такие штуки.
— Интеллигенция! — подхватил Ратинович. — Интеллигентность — это ширма, за которую прячутся утробные инстинкты. Только физический труд закаляет человека.
Марья Николаевна молча слушала. Она не любила вмешиваться в эти запутанные споры, где никак нельзя было разобрать, кто прав, кто виноват.
Спор перешел на назначение интеллигенции и возобновился с удвоенной силой.
— Разве может быть какое-либо движение без интеллигенции? — кричал Рыбковский. — Каждая общественная партия должна выделить из себя интеллигенцию, иначе она превратится в беспастушное стадо.
— В том-то и дело, что интеллигенция сословна! Интеллигенция интеллигенции — розь! — кричал Ратинович.
— Интеллигенция — сама по себе сословие, — возражал Рыбковский, — у нее есть множество однородных интересов, независимо от интересов желудка, на которых вы так настаиваете!..
— На интересах желудка зиждется весь свет! — сказал Броцкий.
— Интеллигенция является носителем всего прогресса, — продолжал Рыбковский, — это буфер, ослабляющий общественные столкновения.
— А reptilien-литература что? — спросил Ратинович. — Разве не интеллигенция?..
— А вы-то сами что? — спросил, обозлившись, Рыбковский.
— Как я-то сам? — с удивлением переспросил Ратинович. — Разве я — reptilien-литература?
— Нет, — сказал Рыбковский, — но так как вы отрицаете интеллигенцию, то я хотел спросить, к какому классу вы причисляете себя самого?
— Что я, — просто сказал Ратинович, — не обо мне речь, а о том, что посильнее меня! Меня на этом не собьете!..
Спор затянулся. Ожесточение спорящих не ослабевало.
Пестрые куропатки, несколько раз с коканьем подлетавшие к самому месту пиршества, испуганно улетали прочь. Вдогонку им неслись резкие фразы, отрывистые как хлопанье бича и не связанные между собою никакой внутренней связью.
Спорящие перешли на теоретическую почву. Отсюда было недалеко и до личностей, ибо, странно сказать, вопрос о принципах миросозерцания гораздо больше возбуждает страсти, чем вопрос об их практическом применении к действительности, и человек готов скорее простить противнику дурной поступок, чем теоретическое разногласие по вопросу о факторах и процессах.
Но Марья Николаевна, посмотрев на реку, прервала спор.
— Господа, — сказала она, — не пора ли домой? Смотрите, поднимается ветер. Пока мы тут спорим, еще разыграется непогода, заставить сидеть здесь.
— А Ястребов? — сказал Ратинович. — Он как переедет?
— Надо его подождать! — сказал Кранц.
Он был близким приятелем отсутствующего Ястребова и как бы представлял здесь его интересы.
Рыбковский пытливо посмотрел на воду. В качестве старожила он лучше всех знал изменчивый нрав реки и ветра.
— Это полуночник идет, — сказал он, — хочет разыграться, кажется. Если будем ждать, раньше ночи не перепустит на ту сторону.
— А он никому не говорил, когда вернется? — безнадежным голосом спросила Марья Николаевна, разумея Ястребова.
— Как же, скажет он! — проворчал Броцкий. — Видите, сколько куропаток! Он теперь целые сутки прошляется!
У Ястребова, действительно, была привычка, уходя невзначай, пропадать по целым суткам. Пища и отдых, кажется, ему совсем не были нужны.
— Давайте кликать его! — предложила Марья Николаевна. — Может быть, он близко. — Ау! Николай Иваныч! — протянула она высокой грудной нотой, звонко отдавшейся где-то далеко в глубине кустов, скрывавших за собою большое озеро, местами совсем близко подходившее к реке.
— Ау! Ау! — подхватили другие.
Броцкий издавал самые несообразные звуки. Можно было подумать, что это выпь стонет над озером. Кранц надрывался в тщетных усилиях перекричать его.
Но ответа не было.
— Видно, далеко ушел! — сказал Ратинович, утирая пот, выступивший на его лице от натуги. — Нечего делать, пусть кто-нибудь останется.
— Пусть Кранц останется! — решительным тоном об’явил Броцкий.
Кранц был всеобщим козлом отпущения. Самые неприглядные вещи выпадали всегда на его долю.
— Я тоже хочу переехать, — жалобно сказал Кранц. — Зачем я тут буду сидеть один и ожидать этого чорта?
— Ну, так идите его искать, — насмешливо возразил Ратинович.
Но трудность положения окрылила сообразительность Кранца.
— Постойте, господа, — радостно сказал он, — зачем же оставаться людям? Оставим ему просто одну лодку!
— А в другой как переедем все вместе? — возразил Рыбковский не без лукавства. — Смотрите, зыбь поднимается!
Кранц с сомнением взглянул на реку. Он боялся волны.
— Как-нибудь переедем! — сказал он, утешая себя.
Броцкий уже складывал посуду в корзину, как вдруг высокая фигура Ястребова неожиданно вынырнула из кустов.
— А чтоб вас! — накинулся на него Броцкий. — Отчего вы не отзывались? Мы кричали, чуть не охрипли.
— Охота вам кричать, — возразил Ястребов.
— Как — охота? — горячился Броцкий. — Видите, домой надо ехать!
— Так ведь я пришел, — сказал Ястребов.
— Слышите? — настаивал Броцкий. — А мы откуда знали, что вы придете?
— Я сам знал! — сказал Ястребов с важным видом. — Довольно и этого…
Все засмеялись. Ястребов спокойно посмотрел кругом, потом неторопливо сошел к берегу, столкнул на воду лодку и, вскочив через борт, стал отгребать от берега.
— Куда вы, куда?.. — кричал Кранц.
Но Ястребов уже выплыл на средину и не обращал внимания на крики.
Через пять минут другая лодка тоже двинулась. Рыбковский держал корму. Ратинович и Броцкий изображали мельницу из своих весел еще усерднее прежнего, и глаза Ратиновича были совсем ослеплены от едкого пота, стекавшего под очки. Марья Николаевна уселась на ковре, сложенном вчетверо, опираясь спиной на корзину. Кранц сидел на корточках в самой средине лодки. Сесть на дно было невозможно, так как доски были мокры. Утлая лодка при каждой набегавшей волне поднималась вверх и потом грузно опускалась вниз кормовою частью, как будто желая зачерпнуть воды через заднюю втулку. При каждом таком прыжке Кранц вскрикивал и хватался руками за борта. Вдобавок гребцы немилосердно плескали веслами, и ветер относил брызги как раз на пункт, который досталось занимать Кранцу. Светло-зеленое пальто приобрело темно-бутылочный цвет от промочившей его влаги. Марья Николаевна только смеялась. Она не боялась непогоды, а может быть, также верила в кормчего, при пробеге волны каждый раз искусно отворачивавшего корму и потом немедленно придававшего ей прежнее направление.
— Пройдемте к Шиховым, посмотрим, что у них делается, — сказала Марья Николаевна, когда пятиверстная ширина реки осталась, наконец, сзади, и маленькое общество стояло на берегу.
— Я только сбегаю, переоденусь, — сказал Кранц. — Я весь промок!
— В добрый час! — лукаво сказала девушка. — Нет худа без добра.
Молодые люди, болтая и смеясь, поднялись по косогору. Нижнепропадинск лежал перед ними во всей неприглядности своего убогого вида. Он отделялся от речного берега длинной и узкой «курьей», которая посредине была наполнена стоячей водой, а по краям мелела, загибаясь и охватывая город как будто руками двумя топкими и вонючими болотами. Для перехода через курью были устроены узкие и дрожащие мостки без перил, которые не отличались безопасностью, особенно ночью.
Кучка жалких избушек с плоскими земляными крышами, вместо кровель, вытянулась за курьей, в одном углу смыкаясь и образуя зачаток улицы, а в другом снова прихотливо рассыпаясь во все стороны как стадо испуганных оленей. Большая часть избушек была заколочена, так как жители раз’ехались на лето по заимкам. Было несколько домов побольше, но все они зияли пустыми оконными отверстиями и выбитыми дверьми. Это были жилища торговцев, которые, за упадком торговли, все давно выселились из Нижнепропадинска, оставив свои постройки на произвол судьбы.
Две деревянные церкви возвышались на пригорке, совершенно подавляя своей величиной окружавшие избушки. В городе было три священника и соответственное количество дьячков и причетников, и в настоящую минуту, за отсутствием других обывателей, духовенство составляло главный элемент наличного населения.
Шиховы жили в большой избе в две связи, которая первоначально назначалась для школы, но много лет стояла пустая, пока ее не заняли приезжие. Им стоило большого труда отопить это огромное помещение, но они поневоле должны были занимать его. У них было четверо детей, и жизнь в тесной квартире во время суровой зимы, когда ребятишки почти не выглядывают на улицу, для них являлась немыслимой.
В просторной горнице, занимавшей большую часть связи, расположенной направо, было довольно темно, благодаря небольшим окнам, с толстыми рамами, на которых вместо стекол был наклеен грубый холст, совсем серый от насевшей пыли. Горница была почти совершенно пуста. Только в глубине ее, в левом углу, сиротливо приютились стол и короткая скамья, плотно приставленная к стене, чтобы придать больше устойчивости ее кривым ножкам. У двери был большой кирпичный камин с таким широким жерлом, что маленький чугунный горшочек, стоявший в глубине шестка, совершенно терялся в окружавшей его кирпичной пустыне.
Влево от камина высокий и тощий человек с приятным лицом, обрамленным жиденькой русой бородкой, одетый в длинный балахон из сурового полотна, засучив рукава, мыл белье в широкой корчаге, поставленной на деревянный табурет. По комнате ходил другой человек, тоже тощий, но невысокий, с костлявыми плечами и огромной черной гривой. Он был одет в старую блузу серого сукна с прямым разрезом ворота, который внизу переходил в длинную прореху, доходившую до самого рубчика, окружавшего подол. На ногах его красовались непарные сапоги, которые вдобавок оба были скривлены внутрь, так что владельцу их приходилось держать ноги носками вместе, как будто он собирался сделать па какого-то мудреного танца.
На правой руке он держал грудного ребенка, завернутого в серые тряпки. В левой руке он сжимал маленькую тощую книжонку, развернутую посредине и от угла до угла мелко испещренную частыми линиями убористого немецкого шрифта, очевидно одно из изданий «National Bibliothek». Книжонка была захватана и исчитана почти до дыр, а листки, на которых она была развернута, в разных местах носили следы жирных пальцев. Человек с ребенком то поднимал ее к лицу, внимательно вглядываясь в мелкие строки, то опускал ее вниз, сосредоточенно соображая. На столе в углу комнаты лежала кипа журналов в серых и красных обложках. Один из них был раскрыт на первых страницах и лежал на краю стола. Человек с ребенком, совершая свою прогулку по комнате, каждый раз подходил к столу и читал развернутый журнал. Руку с немецкой книжонкой он опускал вниз, но, дойдя до конца страницы, поднимал книжонку и, ловко поддернув ею листок журнала, переворачивал и принимался читать снова. Дойдя до конца в другой раз, он поворачивался и возобновлял прогулку по направлению к двери.
Ребенок плакал, но как-то негромко. Быть может, он догадывался, что из его плача ничего не выйдет и не хотел надрываться понапрасну. По временам, когда ребенок возвышал голос, человек в серой блузе машинально прижимал его к груди, как будто стараясь надавить пружинку, которая могла бы захлопнуть эти беспокойные звуки. При этом он все время напевал довольно громко, но совершенно бессознательно, какой-то странный мотив, очевидно собственного сочинения: «Бэум, бэум, бэм!» — с целью убаюкать ребенка.
Свита Марьи Николаевны вся разом ворвалась в комнату.
— Здравствуйте, Шихов, — сказал Ратинович, подойдя к человеку с ребенком, и хотел было протянуть ему руку, но удержался, сообразив, что обе руки Шихова заняты.
— Ага, — ответил Шихов, — здравствуйте! — он подошел к столу и положил на него немецкую книжку, очевидно, отказываясь от нее на время посещения гостей.
— Это что, опять Спиноза, — насмешливо сказал Ратинович, — доучиваете наизусть?
— Как же, — добродушно ответил Шихов, — Спиноза в руках, а на столе что? — и он показал на развернутый журнал.
— Мой, Беккер! Не стой! — сказал Рыбковский, подходя к человеку, мывшему белье. — Бог труды любит!
Беккер был его приятелем и сожителем по квартире, но ему и в голову не пришло предложить Беккеру свои услуги по части белья.
— Если вы устали, Михаил Самойлович, — прохрипел Броцкий с наивысшей вежливостью, на которую только был способен, — то я заменю вас.
— Нет, ничего! — возразил Беккер, поднимая над корчагой какое-то белое одеяние, весьма смахивавшее на женскую рубашку, и принимаясь его скручивать и выжимать из него воду.
Дети, игравшие в соседней комнате, услышав приход гостей, выскочили из-под ситцевой драпировки. Их было трое. Впереди бежала девочка лет четырех, с большой головой, смуглым личиком и большими черными глазами, в одежде, сшитой из темного ситца и состоявшей из коротенькой кофточки и таких же коротеньких панталончиков.
Увидев Рыбковского, она тотчас же обхватила его ногу обеими ручками и стала карабкаться вверх.
— Дядька, дай гостинца, гостинца принес, дядька? — кричала она.
— Цицинца! — повторил маленький толстый мальчуган в красной рубашонке и с вязанной шапочкой на голове, ковыляя сзади на своих коротких ножках.
В одной руке он держал щепку, а в другой огромный остроконечный нож туземного изделия и даже на ходу продолжал скоблить лезвием кусочек дерева, тщетно стараясь срезать с него стружку.
Девочка лет шести, с белокурыми волосами, рассыпавшимися по плечикам, одетая в короткое бумазейное платье, из которого она уже успела вырасти, шла сзади всех, волоча за собой несоразмерно длинную и тонкую куклу или, лучше сказать, обнаженный остов куклы, так как на ней не было ни малейших признаков одежды. Девочка держала куклу за ногу, и фарфоровая голова ее со стуком подскакивала по неровным доскам пола, вздрагивавшим как фортепианные клавиши, когда кто-нибудь наступал на их другой конец.
— Вот гостинца, — сказал Рыбковский, нагибаясь к младшей девочке. В руках у него, неизвестно откуда, оказалось крошечное берестяное лукошко, наполненное мелкими красными ягодами. Он успел собрать смородины, когда ходил за цветами для Марьи Николаевны.
Девочка жадно схватила ягоды.
— И с Мишей поделись, — сказал Рыбковский. — Мишенька, хочешь ягодки? — спросил он, переходя от девочки к мальчику.
— Хочешь! — ответил Мишенька, поднимая вверх свое невообразимо замазанное личико.
— Не дам, — сказала девочка, прижимая к груди лукошко, — я сама с’ем!
Несколько ягод, перекатившись через край лукошка, расплюснулись и окрасили розовым пятном ситцевую грудь кофточки.
— Не дает! Драннит (дразнит), — пожаловался мальчик, указывая на девочку рукой.
Марья Николаевна, замешкавшаяся сзади, только в эту минуту вошла в горницу.
— Здравствуйте, Шихов! — сказала она громко и весело.
В ее глазах как будто еще блистало отражение свежих зеленых волн реки, на которых недавно она колыхалась в лодке.
Шихов, успевший снова углубиться в журнал, повернулся так быстро, что задел прорехой блузы за угол стола и окончательно перервал ее. Она получила теперь вид камзола с болтавшимися полами.
— Здравствуйте, — сказал он, протягивая гостье свободную левую руку.
Ребенок, которого он, вероятно, неловко придавил, вдруг возвысил голос на несколько тонов.
— Дайте, дайте сюда ребенка, — сказала девушка, — а где Сара Борисовна? Он, вероятно, есть хочет.
— Сара там возится с коровой, — сказал Шихов, делая неопределенный жест рукой куда-то в сторону. — Хотите чаю? Я затоплю камин, — прибавил он, делая слабую попытку выказать гостеприимство.
— Не надо, мы только что пили, — сказала девушка, — лучше я маленького посмотрю.
И она принялась развертывать ребенка на одном углу того же большого стола, ибо в комнате не было никакой другой подходящей мебели.
Кранц, успевший переодеться, тоже вошел в комнату. Теперь он был облечен в серый суконный костюм, почти не ношенный, но видимо слежавшийся от долгого пребывания в ящике. Ворот его рубашки был повязан разноцветным шелковым шнурочком с кистями на концах. Другой черный шнурок простирался по серому жилету, оканчиваясь в кармане и указывая на присутствие часов. Кроме переодевания, Кранц, очевидно, помылся, ибо лысина его блестела как заново вычищенная кастрюля.
— Как на бал, — сказал Броцкий, окидывая его с ног до головы испытующим взглядом.
Кранц, не отвечая на задирания, подошел к столу и стал помогать девушке возиться с ребенком. Беккер положил на скамейку, стоявшую возле него, еще один жгут выжатого белья.
— Что вы там читаете, Шихов? — спросил он, останавливаясь, чтобы перевести дыхание, и вместе с тем свертывая папиросу из обрывка бумаги, вверху которого еще можно было прочесть заголовок «Русская мысль».
— Глупости, — отвечал Шихов, не оборачиваясь.
Освободившись от ребенка и от немецкой книжки, он, очевидно, считал, что может безраздельно посвятить свое внимание журналу, и теперь перевертывал страницы, не отходя от стола.
— Какие глупости? — спросил Беккер, пуская клуб дыма. — Что именно?
— Просто-таки: «Глупости», — повторил Шихов, — Pur sang. Это заглавие такое. Повесть.
— Ах да, видел, — сказал Беккер. — Что там есть?
— Да глупости, я вам говорю, — не удержался Шихов от остроты, напрашивавшейся на язык. — Молодой человек оставил свой идеал, чтоб сделаться директором банка, и автор оплакивает потерю его добродетели.
— Полно врать, — сказал Ратинович, — там и молодое поколение есть.
— Ну да, есть, — возразил Шихов, — в самом конце, а вся середина — авторские слезы.
— Как это надоело! Ноют, ноют, конца нет, — сказал Беккер, пуская новый клуб дыма.
— Безвременье, должно быть, — возразил Шихов примирительным тоном.
— Какое безвременье, — с досадой сказал Беккер, принимаясь опять за белье. — Конечно, мы не знаем в этой дыре… А все-таки может ли быть, чтобы ни одного живого человека не было? Вот в ваших «глупостях» хоть в конце молодое поколение есть, а вы попробуйте разобраться в других рассказах. Номер первый. Человек соблазнил танцовщицу, потом хотел соблазнить другую девушку, но она оказалась вовсе не девушка, тогда он с горя решил добиваться вице-губернаторского места. Номер второй. Какой-то приват-доцент, просидев полвека над гвоздеобразными и сам превратившись в гвоздеобразный знак, вдруг вздумал ухаживать за девушкой, которая, однако, предпочла выйти замуж за музыкального лон-лакея, а он с отчаяния напился как стелька. Это один журнал. В другом журнале чуть ли не на семистах страницах курсистка падает в об’ятия какого-то невозможного хлыща, и все это с этаким легоньким символическим гарниром, хотя вместо символа дело очень скоро дошло до «момо»… Потом община самоусовершенствующихся забралась чуть не на Казбек, чтобы уединиться от жизни… Потом белокурое безумие в оленьей дохе едет по реке в лодке сам-друг и собирается отдыхать. И так везде. Они как будто сговорились.
Слушатели смеялись, но Беккеру было вовсе не до смеха. Запустив свои длинные руки в корчагу, он принялся растирать какую-то штуку белья с таким ожесточением, как будто бы это был один из столь ненавистных героев безвременья.
— Не верю я, — повторил он сердито, — может ли быть, чтобы нигде живого человека не было!? Разве русская жизнь до такой степени клином сошлась? Напротив, кажется, в последнее время она немного отмякла.
— Жизнь-то отмякла, да люди не успели отмякнуть, — сказал Рыбковский.
— Не знаю! — сказал Беккер с сомнением. — Но если это правда, — он вынул из корчаги руку, покрытую мыльной пеной, и трагическим жестом указал на стол, — так это черт знает на что похоже, — докончил он. — Я не удивляюсь, что эти… — мыльная рука сделала поворот в воздухе и уставилась на лицо Ратиновича, стоявшего напротив. — Я не удивляюсь, что эти так пялят глаза на Европу. Там, по крайней мере, жизнь, черт возьми!
Ратинович коротко засмеялся.
— Не отвертитесь! — сказал он с сознанием спокойного торжества. — Чумазый слопает всю славянскую подоплеку.
— Что вы так торжествуете? — сказал Рыбковский, опять обозлившись. — Ну пусть слопает или уж слопал. Зачем же так громко потрясать кимвалы? Разве чумазый — такая привлекательная фигура?
— За чумазым идет другая сила, которой вы не видите или не хотите видеть, — сказал Ратинович.
— Никакой нет силы, — возразил Рыбковский. — Два с половиной человека… Одна ласточка не делает весны.
— Есть, есть сила! — кричал Ратинович. — Вы не знаете, у меня есть факты. Жизнь меняется. Современная Россия не похожа на вашу. Вы проморгали целую новую полосу!..
Дети успели покончить с ягодами. Под влиянием Марьи Николаевны маленькая девочка согласилась поделиться с другими. Теперь берестяное лукошко обратилось в повозочку, в которой мальчуган возил деревянный чурбанчик, изображавший собаку, с четырьмя бугорками вместо ног и цилиндрически вальковатой головой. Девочка опять подбежала к Рыбковскому.
— Дядька, — сказала она, — посади на шейку! Хочу на шейку!
Рыбковский нагнулся и, подхватив девочку, посадил ее к себе на плечи.
— Ходи, ходи! — кричала девочка.
Рыбковский стал бегать по комнате, топаньем ног подражая коню. Девочка визжала от восторга, но вместе с тем, опасаясь упасть, цепко хваталась за уши и волосы «дядьки». Младенец успел уже перейти на руки Кранца. Так как в комнате было тепло, то его оставили в одной рубашонке. Марья Николаевна ушла на поиски вещей, необходимых для обновления его туалета. Кранц ходил по комнате с ребенком на руках и напевал точно так же как недавно Шихов: «Бэум, бэум, бэум, бэм!»
Девочка с куклой ходила сзади него, напевая тоненьким голоском: «Кранц, плешивый до ушей, хоть подушечки пришей!»
— Отстань, Люба! — отмахнулся Кранц. — Посмотрите-ка сюда, Наум Григорьевич!
Шихов неохотно оторвался от журнала.
— Что? — спросил он рассеянным тоном.
— Посмотрите-ка, что это у ребенка во рту? Видите, белый налет!
У Кранца была страсть отыскивать самые невероятные болезни у кого попало. В диагностике их он отличался большим красноречием и в изобилии рассыпал направо и налево латинские термины и имена болезней. Он был фармацевт и в совершенстве помнил номенклатуру фармакопеи, вытвердив ее еще во время выучки. Терапию же он изучил потом на досуге. Его красноречивая уверенность в определении мнимых болезней была чрезвычайно заразительна и передавалась пациенту и его друзьям с первых же слов «доктора». И на этот раз Шихов тотчас же стал внимательнее присматриваться к ребенку.
— У него желудок засорен, — громко сказал Кранц, — наверное, у него запор. Вот посмотрите, с утра пеленки чисты.
Но ребенок, по-видимому, не доверял диагностике врача и вознамерился наглядно доказать ее несостоятельность. Он сделал то же, что Фемистоклюс на руках у Чичикова и с равным успехом. Вслед за этим он залился оглушительным плачем, очевидно, считая, что ему кто-то нанес нестерпимую обиду.
— Ах, черт! Возьмите этого постреленка, — кричал в отчаянии Кранц, — что я теперь буду делать?
Марья Николаевна явилась с ворохом белья и снова приняла ребенка на свое попечение, но он не унимался.
Он кричал, как будто его режут, захлебываясь и закатываясь на такие долгие промежутки, что слушателям каждый раз начинало казаться, что он совсем задохнулся.
— Где это Сара? — сказал нетерпеливо Шихов. — Чего она там копается?..
Высокая худая женщина отворила дверь в комнату. Перед тем как войти, она нагнулась к земле и подняла обеими руками широкий низкий подойник, наполненный молоком. Она не могла удержать его в одной руке и, чтобы отворить дверь, должна была предварительно поставить его на пол. Теперь она несла его перед собой, вытянув руки и тихо колебля локти на каждом шагу, наподобие рессор экипажа, поддерживающих кузов.
На лице ее была написана стремительность. Было очевидно, что если бы не подойник, она влетела бы в комнату как буря и выхватила бы ребенка из неопытных рук, не умевших справляться с ним. Но теперь она выступала мелкими и медленными шажками, боясь расплескать молоко.
Рыбковский поспешно спустил девочку на землю и сделал шаг вперед навстречу новопришедшей, намереваясь принять из ее рук подойник, но дети оказались быстрее его.
— Молоко, молоко, — закричали они с азартом и через мгновение уже облепили мать со всех сторон, теребя ее за подол юбки и еще более замедляя и путая ее шаги.
— Мама, дай молока! — кричали они на разные лады.
— Постойте, — говорила она почти с отчаянием, — дайте поставить на стол. Я расплескаю молоко!
— Не надо, Семен Петрович, — сказала она Рыбковскому, который протянул руку к подойнику. — Пусть уж лучше я сама! У вас они, наверное, все выльют.
Наконец, ей удалось достигнуть стола, и, не имея времени выбирать место, она поставила подойник прямо на две низкие горки журналов, сдвинутые вместе, и принялась кормить ребенка тут же на глазах у всех присутствующих, устроив себе занавеску из ветхой шали, наброшенной на плечи.
— Зачем ты поставила молоко на журналы? — с упреком сказал Шихов. — И без тебя журналы чересчур треплются. Из рук вон!
— Маленький шибко кричал, — сказала жена, извиняясь. — Я сейчас приму.
И прижимая к груди ребенка, она встала со скамьи и хотела свободной рукой привести в порядок вещи на столе.
Но Рыбковский облегчил ей задачу. Отставив подойник в сторону, он собрал в охапку все книги, лежавшие на столе и сбросил их в угол. Два разрозненных листка при этом вылетели из одного разбухшего и растрепанного тома и отлетели в сторону, наглядно подтверждая слова Шихова.
Но Шихову было не до них.
— Спиноза, Спиноза, — кричал он. — Вы захватили мою этику.
Он подбежал к куче и стал доставать оттуда свою книжонку, которая как овсянка с воробьями попала в общую груду со своими дебелыми и легкомысленными соседями. Вытащив ее оттуда и не зная, куда девать, чтобы предохранить от духа разрушения, которым были проникнуты все его гости, он уселся у окна, продолжая держать ее в руках, и кончил тем, что опять стал внимательно вглядываться в мелкие строки и обдумывать смысл заключавшихся в них истин.
Быть может, он хотел наверстать время, потраченное на легкомысленное чтение журнала.
Поведение его не обратило на себя ничьего внимания. Люди, жившие в Пропадинске, привыкли не стесняться друг с другом, и он был один из наименее церемонных.
Шихов посвятил себя изучению философии и отдавал ей каждую свободную минуту с немалым ущербом для своего расстроенного хозяйства. К сожалению, в Пропадинске совсем не было подходящих книг и пособий, но он не особенно страдал от этого недостатка и вчитывался в немногие имевшиеся у него книги, находя в них все новый и новый смысл. Он не обращал большого внимания даже на качество этих книг и с одинаковым интересом переходил от этики Спинозы к очерку материализма какого-то Лефебра. Умозрению он также посвящал немало времени, но в своих философских построениях отличался замечательным непостоянством и то-и-дело переходил от крайнего идеализма к такому же крайнему сенсуализму. Амплитуда его колебаний заключала в себе все расстояние от Фалеса Ионийского до Авенариуса и Риля, и если он не побывал еще последователем Ницше, то только потому, что не читал его.
Вокруг стола происходила настоящая осада.
— Молока! — кричала отчаянным голосом младшая девочка.
— Мол-ока!
Мишенька как мужчина решил прибегнуть к более энергическим мерам. Он пододвинул к столу большой деревянный стул, стоявший у стены, и, взобравшись на него с великою опасностью, теперь взлезал на стол, намереваясь погрузить в подойник свою запачканную мордочку.
— Я пойду за чашками, — сказала Марья Николаевна, но старшая девочка решительно отклонила ее предложение.
— Сиди! Сиди! — кричала она, усаживая ее на скамью рядом с матерью. — Я принесу, я!
И она вприпрыжку выбежала из комнаты.
Младшая девочка вдруг забыла о молоке.
— Любка, Любка! — крикнула она, выбегая вслед за сестрой. — Постой! Я принесу! Я лучше! Аа! — послышался ее плач из-за притворенной двери.
— Они разобьют чашки, — сказала Шихова с беспокойством.
Марья Николаевна встала и последовала за детьми. Мишенька уже добирался до подойника. Рыбковский снял его со стола и в виде утешения хотел подбросить его вверх, но мальчик стал так неистово брыкаться, что он был принужден спустить его на пол. Мишенька немедленно повалился на спину и стал кататься по полу в конвульсиях гневных рыданий.
Шихов, наконец, оторвался от книги.
— Перестань, Мишка! — сказал он, не поднимаясь с места.
Марья Николаевна вернулась вместе с девочками. Все трое несли по одной чашке. Мир, очевидно, был водворен на началах равномерного распределения.
— Отчего же только три чашки? — сказала хозяйка. — Разве вы и они, — она мотнула головой в сторону других гостей, — не выпьете молока?
— Мы не маленькие! — возразила Марья Николаевна. — Лучше будем пить чай!
— Чай! Чай! — поддержали другие.
Молоко было слишком дорого для взрослых. Но чай был в Пропадинске главным общественным занятием, можно сказать, центральным узлом всей общественной жизни. Когда три человека сходились, они не могли пробыть вместе десяти минут, чтобы не подвесить чайника над огнем.
Шихов сделал вид, что хочет отложить книгу в сторону, но его деятельность, как это бывало слишком часто, оказалась излишнею. Беккер, который успел при помощи Броцкого вынести мокрое белье на двор, возвратился с охапкой щепок. Продолжительная возня с водой, по-видимому, возбудила в нем жажду, и он немедленно принялся растапливать жерлообразный камин.
Ребенок, наконец, заснул. Сара Борисовна скрылась за занавесями и через минуту вернулась без ребенка, но с большим медным поддонником в руках, заменявшим блюдо и загроможденным грудой крупных звеньев вареной рыбы.
— Не хочет ли кто-нибудь закусить перед чаем? — предложила она, вытащив стол на середину комнаты при содействии Рыбковского и отправляясь за ложками и солью.
Гости презрительно поморщились. Рыба составляла главную пищу в Пропадинске, и они успели возненавидеть ее до глубины души. Их нельзя было в этом отношении подкупить ни нельмой, ни осетриной. Из рыбных блюд они относились терпимо только к мерзлой сырой строганине, но теперь было лето, и о строганине нечего было думать.
Однако, Шихов поднялся с гораздо большей быстротой, чем раньше, и подсел к столу. Он был необычайно прожорлив, ибо философия, по-видимому, предполагала усиленный обмен веществ. Зато он был совершенно неприхотлив относительно качества пищи и никогда не разбирал, что стоит перед ним на столе. Про него рассказывали, что, однажды, усевшись обедать в отсутствие жены, которая ушла в гости, он перемешал котлы и по ошибке уничтожил полный котелок сырой рыбы, вычищенной к ужину, и заметил недоразумение только по странному виду костей, оставшихся от трапезы.
Беккер тоже сел к столу, глядя на рыбу меланхолическим взглядом. Он был голоден, но ихтиофагия надоела ему до-смерти.
Хозяйка и Марья Николаевна кормили детей, заботливо выбирая кости и складывая мякоть на белую железную тарелку.
— Чудаки, — резонировал Шихов с полным ртом, — не хотят есть нельмы! Да знаете ли вы, что эта нельма в Петербурге стоила бы по рублю за фунт? Таким обедом не побрезговали бы вельможи.
— Настоящий философ, — недоброжелательно возразил Ратинович. — Разве я тюлень, чтобы питаться рыбой?
Кранц снова явился. Он решился в этот день истощить все богатство своих сундуков. На нем была надета коричневая шерстяная блуза, широко вышитая по вороту и груди и подпоясанная толстым шелковым жгутом с длинными пышными кистями. Черный шнурок по-прежнему простирался по его груди, оканчиваясь в маленьком кармашке, скромно приютившемся слева от вышивки.
— Те же и Кранц, — сказал Ратинович. — Григорий Никитич, который час?
Часы Кранца служили предметом вечных насмешек его товарищей. Они были испорчены уже около года, и Беккер, занимавшийся немного починкой часов, решительно отказался исправить их. Тем не менее Кранц в редкие минуты, когда на него нападал дух франтовства, считал необходимым засовывать их в карман как разрядившийся башмачник, по злобному выражению Ратиновича.
Шихов, окончив обед, опять принялся за этику. У камина возился Броцкий так же как на недавнем гулянии. Хозяйка убирала со стола, а Марья Николаевна помогала, но каждый раз, как она снимала со стола тарелку или отодвигала стул, под рукой неизменно оказывался Кранц, который тарелку уносил на кухню, а стул ставил к стене.
Рыбковский и Ратинович опять затеяли спор. Теперь дело шло о ценах на хлеб, которые в то время служили точильным камнем для стольких острых умов и хорошо привешенных языков. Противники, по обыкновению, не сходились ни в чем и вслушивались в чужие слова только для того, чтобы сделать одно из них отправной точкой для крылатого возражения.
— Народ покупает хлеб, — кричал Рыбковский, — низкие цены убыточны только для крупных производителей.
— Чем он покупает? Трудом, — возражал Ратинович, — значит, он принадлежит к пролетариату.
— Пролетариату дешевый хлеб еще нужнее, — говорил Рыбковский.
— Это статистическое воззрение, — возражал Ратинович, — низкие цены тормозят естественный ход движения…
— Пусть тормозят, — кричал Рыбковский. — Легче будет перенести эпоху кризиса. Народное хозяйство не подготовлено… Пусть ему дадут время…
— Низкие цены — отсталость, — выходил из себя Ратинович минуту спустя. — Для страны не может быть выгодно, если ее продукты плохо оцениваются рынком.
— Что такое страна? — спросил Рыбковский.
— С экономической точки зрения страна — это совокупность хозяйств.
— Нет, страна — это совокупность производителей и потребителей…
— При дешевом хлебе смертность меньше, — возражал Рыбковский еще минуту спустя, — жизнь более обеспечена.
— Но в менее культурных странах смертность вообще выше, — возражал противник.
— Зато и рождаемость выше!
— Рождаемость нищих, — возражал Ратинович.
Когда чаепитие окончилось, настала пора расходиться по домам. Вместе с последним глотком желтоватой воды, как будто иссякла струя общественности, соединявшая этих людей. Охота спорить пропала у самых задорных, и каждый внезапно почувствовал, что окружающие лица ему смертельно надоели, и что нужно вернуться к своим домашним пенатам. В этом фантастическом углу было слишком тесно для того, чтобы центробежная сила по временам не давала себя чувствовать, явственно перевешивая центростремительную.
Беккер тоже ушел вслед за другими. Собственно говоря, его дежурство должно было окончиться только утром, но Броцкий, не участвовавший в стирке белья, чувствовал некоторое угрызение совести и предложил заменить его в эту ночь. Вдвоем они составляли настоящую женскую «прислугу» и весьма действительно помогали Саре Борисовне нести бремя ухода за ее хозяйством и детьми. Беккер специализировался в стирке белья и мытье полов. Броцкий, напротив, с особенным старанием укладывал детей в постель, просыпался ночью на их крик, удовлетворял их просьбы и вообще заменял няньку, а в случае надобности и сиделку, хотя, замечательный факт, днем он избегал возиться с детьми, и дети даже не любили ластиться к нему.
Рыбковский куда-то исчез. В периоды человеконенавистнического настроения он избегал четырех стен жилища, которое ему приходилось делить с другим человеческим существом, и предпочитал проводить их под открытым небом в лесу или на берегу реки.
Марья Николаевна ушла вместе с Кранцем. Она была в Пропадинске еще недавно и не успела себе расстроить нервов настолько, чтобы чувствовать хроническую потребность уединения, но из всего человеческого общества на долю ей остался один Григорий Никитич.
Они прошли вдоль болотной набережной, направляясь на другой конец города, где находился приют Марьи Николаевны.
Кранц никогда особенно не страдал от уныния, но внезапное распадение чайного общества произвело впечатление и на него, и он находился в довольно минорном настроении.
— Нет, теперь какая скука, — заговорил он вдруг, — вот зимою, правда!.. А теперь ничего!..
— Я не говорю, что теперь скучно, — с раздражением сказала девушка, чувствуя, что мир начинает перед нею окрашиваться однообразной серой краской.
— Как же, — подтвердил Кранц. — Теперь ничего. А вот зимою!.. Темнота, холод, на улицу выйти нельзя… Собаки воют, свечей нет. Ах, Марья Николаевна, вы еще не испытали этого!..
Девушка молчала. Прежнее усталое выражение проступило на ее лице как будто в сгущенном виде.
Наступило непродолжительное молчание.
— Я все думаю, — заговорил Кранц нерешительным тоном, — как это вы будете жить одна зимой? В избе мало ли работы? Дрова натаскать, печь вытопить, оконные льдины вычистить, прибрать… Случится угореть, — так и вытащить некому будет.
— Как-нибудь справлюсь, — сказала Марья Николаевна, — живут же другие.
— То мужчины, — сказал Кранц, — да и им трудно.
— Марья Николаевна, — продолжал он еще нерешительнее, — если бы вы захотели… У меня квартира такая удобная… Вы могли бы прожить без всякой заботы!..
— То есть как это прожить, — с удивлением спросила девушка, — а вы как?
Она думала, что Кранц предлагает ей меняться квартирами.
— Я готов быть вашим рабом, вашей тенью, — заговорил пылко Кранц. — Позвольте мне служить вам, Марья Николаевна! Сердце у меня изболело! Я буду ходить по вашим следам, Марья Николаевна! Буду беречь вас как зеницу ока, ветру не дам на вас повеять, пушинке не дам упасть!..
Марья Николаевна повернула к нему смущенное и все-таки несколько удивленное лицо. Она была так молода и провела столько времени под спудом, что это было первое об’яснение в любви, которое ей довелось услышать.
— Это невозможно, — тихо сказала она, — благодарю вас, Григорий Никитич, но это невозможно!..
— О, вы меня не поняли, — поспешно заговорил Кранц, — мне ничего не нужно. Я хочу только служить вам! Позвольте мне хоть немного облегчить вам бремя этой суровой обстановки, и я буду считать себя счастливым…
Но девушка уже успела оправиться.
— Полноте, Григорий Никитич, — сказала она, — вы преувеличиваете! Мы здесь добрые товарищи и живем так близко друг к другу… Если понадобится помощь, стоит только перейти через улицу. А на одной квартире вышли бы взаимные стеснения.
Кранц сконфуженно молчал. Он и сам видел теперь полную неосуществимость совместной жизни на предложенных им основаниях, а сделать более смелый шаг у него не хватало духу. Впрочем, теперь он был более, чем уверен, что всякая попытка с его стороны в этом направлении была бы бесполезна. Они стояли уже у самой избы, где жила его спутница, и он вдруг вспомнил, что обещал навестить одного пациента именно в этот вечер.
— Прощайте, Марья Николаевна, — сказал он все-таки не без сожаления. — Мне нужно идти!
Девушка, оставшись одна, повернулась было, чтобы войти в избу, но передумала и снова сошла вниз с крыльца. На дворе все еще стояла такая чудная погода, что она не могла решиться войти под кровлю. Она посмотрела по сторонам и пошла по дороге мимо «курьи», направляясь к озеру, лежавшему позади города. Не считая речного прибрежья, это была единственная полоса земли в Нижнепропадинске, по которой можно было пройти, не замочив ног.
Солнце свернуло к северу и медленно катилось над ближним лесом, как будто высматривая, с какого места ему будет удобнее начать новое восхождение. Наступавший вечер сказывался только некоторой свежестью да, пожалуй, удлинением теней. Правда, немногие жители, остававшиеся в городе, попрятались по домам, но говорушки по-прежнему щебетали в кустах и не думали умолкнуть ни на минуту. Птицы, вообще, не признавали этого вечера и занимались своими обычными делами. Хохлачки-бекасы дрались на полянке перед новой церковью с не меньшим ожесточением, чем два часа тому назад. Куропатки перелетали с одного берега «курьи» на другой. Небольшая утка-шилохвостка с целым выводком утят дерзко плавала у самых мостков, не обращая внимания на косматую черную собаку, которая медленно пробиралась по краю воды, быть может, с затаенным намерением совершить нападение на счастливую утиную семью. Стадо гусей протянулось так низко над городом, что можно было подумать, будто они хотят сесть на крыши.
— Гуляете, Марья Николаевна?
Рыбковский вырос так внезапно около молодой девушки, что она даже вздрогнула.
— Теперь такая погода, — сказала она, — что сидеть дома просто грешно.
Она бросила беглый взгляд на своего нового спутника. Рыбковский, очевидно, бродил по болоту, так как сапоги его были испачканы глиной.
— Вы одна? — сказал Рыбковский полуутвердительно.
— Кранц был, — сказала девушка.
Рыбковский посмотрел на нее пристальнее.
— Он предлагал мне жить вместе, — сказала вдруг девушка, — но я отказалась.
В Пропадинске не было и не могло быть тайн, даже самых крошечных. Туземцы по цвету и густоте дыма, выходящего из соседней трубы, узнавали характер еды, варившейся у чужого огня; пришельцы по выражению глаз товарища с точностью определяли предмет его размышлений. Впрочем, никто и не думал скрываться. Вся жизнь проходила нараспашку, на глазах у всех, как будто в общей тюремной камере.
Дорога перешла в тропинку, извивавшуюся среди целого строя огромных кочек, и такую узкую, что им нельзя было идти рядом. Рыбковский пропустил девушку вперед, а сам следовал сзади. Лицо его было мрачно. Он думал про себя, что решительная минута настала, и что ему нужно пустить в ход все свое красноречие, если он не хочет, чтобы другие предупредили его. Но он решительно не знал, как приступить к делу.
Наконец, они подошли к озеру и остановились на зеленой лужайке, прорезавшейся по берегу между двумя густыми щетками тальничной поросли.
— Марья Николаевна, — начал он, наконец, — вот я тоже собираюсь вам сказать… Я думаю об этом каждый день и каждую ночь с тех пор, как вы приехали… Хотите услышать?
Он так и не мог придумать никакого предисловия и решился сразу схватить быка за рога.
— Не надо, не говорите, — сказала молодая девушка почти со страхом.
— Поймите же, поймите, наконец, — воскликнул он с мучительным выражением в глазах, — я, ведь, был еще моложе вас, когда жизнь вдруг втолкнула меня в западню. Что может понимать шестнадцатилетний мальчик? Ум его опутан прописями. Жизнь представляется ему вроде ложноклассической трагедии, где парадируют герои, и раздаются возвышенные речи, и он мечтает только о том, чтобы не отстать от своих образцов… Потом я стал старше, но было уже поздно. Мне приходилось не жить, а отбиваться от стаи напастей, которые набрасывались на меня как настоящие фурии. Как бросить вокруг себя широкий взгляд, когда приходится думать о том, чтобы не умереть с голоду? В этой безжизненной пустыне единственная возможная мечта вызывается желанием получить хоть смутную весть из полузабытого далека, которое зовется светом.
Рыбковский торопился говорить и перескакивал с предмета на предмет и от одного образа к другому.
Марья Николаевна не отвечала, но и не останавливала его больше. Она стояла, потупив голову и безмолвно внимая потоку этого книжного и беспорядочного красноречия.
— Знаете, иногда, не наяву и не во сне, мне грезилось что-то смутное, но сладкое, веявшее теплом и дышавшее очарованием, которому я не мог найти имени, — но оно улетало как неуловимый призрак, и мне становилось холоднее прежнего. В долгие зимние ночи, когда я изнывал в одиночестве и тщетно искал вблизи живую душу, пред которой я мог бы обнажить свои наболевшие раны, я пробовал иногда создать себе неясный, но пленительный образ друга и мечтал о слове утешения из его приветливых уст, но в эти последние дни я, наконец, увидел перед собою воплощение моей мечты…
Марья Николаевна сделала несколько шагов вперед, как будто желая уйти от этого потока страстных слов, и, наконец, уселась на лежащий древесный ствол, обрубленный в виде скамьи для пользования гуляющих. Рыбковский последовал за ней и уселся рядом, нисколько не смущаясь. Он закусил удила; кажется, и землетрясение не могло бы остановить его.
— Марья Николаевна, — продолжал он стремительно, — пожалейте меня! Пожалейте нас обоих! Неужели мы такие пасынки жизни, чтобы нам ни разу не видеть ни одного светлого луча? Если судьба подставляет нам золотой кубок, зачем отворачиваться? Разве мы не заслужили себе радости за эти долгие тоскливые годы?..
Марья Николаевна не отвечала, но молчание ее только подстрекало Рыбковского. Он все время пристально и тревожно следил за выражением ее лица, и вдруг ему показалось, что он уловил там какой-то новый луч. Температура его экстаза сразу повысилась на сто градусов.
— Хотите соединить наши жизни в одно, — заговорил он еще стремительнее прежнего, — идти весь век рука об руку, давать друг другу опору в самые тяжелые минуты?..
Он опять взглянул ей в лицо и прочел там тот же неуловимый ответ.
— Милая, дорогая, — заговорил он, задыхаясь, — будь моим другом! Будь моей женой!
Он обвил рукою стан девушки и привлек ее к себе. Марья Николаевна совершенно лишилась силы сопротивления; голова ее кружилась, она чувствовала потребность опереться на что-нибудь, а у скамьи не было ни стенки, ни ручек. Она кончила тем, что прилегла к плечу Рыбковского.
— Я так устала, — сказала она, как будто жалуясь, — я думала отдохнуть здесь…
— Радость моя! Подруга моя! — твердил Рыбковский, уже наполовину не сознавая своих слов.
Прошла минута или две. Потом Марья Николаевна быстрым движением вырвалась из рук Рыбковского и вскочила со скамьи.
Рыбковский тоже вскочил и простер к ней руки.
— Этого не может быть, Семен Петрович, — сказала она мягко, но решительно. — Сядьте, прошу вас!
Рыбковский вздрогнул и рванулся вперед, но тут же остановился и уселся на прежнее место на скамье.
— Я тоже сяду, — сказала девушка, — но вы должны обещать, что больше не тронете меня!..
Рыбковский кивнул головою.
— Была минута забвения, но она прошла, — продолжала девушка. — Надо покориться судьбе, Семен Петрович!
— Почему? — спросил Рыбковский отчаянным голосом.
— Вам уезжать, а мне оставаться, — сказала Марья Николаевна, — или вы хотели бы остаться в этой глуши, вдали от света и жизни, еще столько лишних лет?
— Хочу, останусь, — упрямо и страстно сказал Рыбковский. — Ты — мой свет, ты — моя жизнь!
— А я не хочу, — сказала девушка. — Я не могла бы смотреть вам в глаза. На ваших ногах мне бы чудились цепи…
— Ты уже сковала их, — сказал Рыбковский, — а я не хочу расковывать.
— Неправда! — возразила девушка почти резко. — Это теперь так. Потом ты измучил бы меня… Каждый час нашей жизни был бы отравой…
В пылу увлечения она вдруг тоже перешла на «ты».
Рыбковский хотел возразить, но она опять остановила его.
— Полно, Семен Петрович! Будем благоразумны. Посмотрите на Шиховых, — худая это дорога. Целая стая птенцов, маленьких, голодных… Чем их кормить? Чему их учить?.. Лучше убить себя, чем наделать столько греха.
— С ума сойду, — сказал Рыбковский глухо. — Жестокие ваши речи, Марья Николаевна.
Марья Николаевна не отвечала, но лицо ее вдруг искривилось детской гримасой, и губы беспомощно затряслись.
— Что я наделал? — с ужасом сказал Рыбковский.
И соскользнув со скамьи, он упал к ее ногам и скрыл свое лицо в складках ее платья.
— Марья Николаевна! Не плачьте, — сказал он умоляющим тоном, — я не стою этих слез.
Девушка сделала над собою усилие, и подбородок ее перестал трястись.
— Мне тяжелее вашего, Семен Петрович! — прошептала она. — Милый мой, — продолжала она, кладя обе руки ему на голову, — подумай только, мне еще здесь годы коротать. А тебе что? Уедешь и забудешь все, как будто век не было…
— Никогда, — пылко возразил Рыбковский. — Пусть меня забудет последний взгляд счастья, если я когда-нибудь забуду эту минуту…
— Забудешь, — уверенно повторила девушка. — Жизнь подхватит тебя и понесет как на крыльях. Волна новых впечатлений хлынет тебе в душу и затопит все прежнее…
Рыбковский не отнимал лица от ее платья.
— И лучше забыть! — она провела рукой по его голове. — Подумай только! Тебе предстоит всю свою жизнь построить сначала, как будто ты снова родился на свет, воскрес из мертвых… Целый мир перед тобою. Ты еще можешь быть счастливым… Там много людей… Есть чуткие сердца… Тебе не придется оставаться одиноким…
В голосе ее слышались материнские звуки. Она утешала его, как утешают ребенка.
Рыбковский поднялся с земли и стоял перед нею, упорно избегая глядеть ей в лицо. Помимо разочарования неудовлетворенной страсти, он чувствовал себя виновным и пристыженным как провинившийся школьник.
— Что же мне делать? — спросил он, наконец, как бы призывая Марью Николаевну распорядиться его судьбой.
— Уезжайте в Среднерецк, — сказала девушка, — что вам тут с нами? Все-таки там иная обстановка. Хоть лица у людей иные. Может быть, по дороге где-нибудь поживете… А там и время подойдет…
Среднерецк, или Большой Пропадинск, был другой пункт средоточия пропадинской жизни, расположенный в пятистах верстах вверх по течению реки Пропады. Для пришельцев оба эти города по отношению друг к другу играли роль предохранительных клапанов. Тот, кому слишком надоедало жить в одном из них, перебирался в другой, рассчитывая покинуть часть одолевшей его скуки. Впрочем, они были так схожи между собой, что после двух-трех переездов ощущение их индивидуальности исчезало, и перемена местожительства переставала приносить облегчение.
— Я уеду, — покорно сказал Рыбковский и остановился.
По лицу его было видно, что он хочет сказать еще что-то.
— Марья Николаевна, — выговорил он, наконец, — хотели наши дороги сойтись да не сумели. В этом лесу разошлись в разные стороны… Попрощайся же со мной теперь, пока люди не видят!.. Все равно, раз’едемся, не увидимся больше! — голос его дрогнул.
Девушка подошла и положила ему руки на плечи.
— Прощай, — сказала она, — будь мне как брат, а я тебе — как сестра… Не поминай лихом!
Она обняла его за шею и, пригнув к себе, поцеловала его в губы. Потом оттолкнула его руку и пошла назад по дороге, направляясь к городу.
Рыбковский смотрел ей вслед, пока она не скрылась между кустами, потом подошел к скамье, упал на колени и приник головою к твердому дереву. После того, поднявшись на ноги, он повернулся и направился по тропинке, огибавшей озеро и уходившей в корявый лес, заполнявший все пространство между озером и рекой.
Рыбковский вернулся домой перед рассветом. Прошатавшись в лесу несколько часов, он решился предпринять поездку в челноке на ближайшую рыбачью заимку, но для этого ему нужно было сделать несколько приготовлений. Он рассчитывал застать Беккера в постели и избавиться от его расспросов, но, к его разочарованию, Беккер еще не спал. Он сидел у единственного стола избы и чинил штаны.
— Что с тобой? — невольно спросил он, увидев осунувшееся и как будто постаревшее лицо Рыбковского.
Рыбковский прошел вперед и уселся на кровати.
— Она говорит, чтоб я уехал, — пояснил он без обиняков.
Беккер опустил иглу.
— Что ж? Правда! Тебе уехать следует! — подтвердил он.
Рыбковский не отвечал. Он облокотился на стол, опустив голову на руки, и, как будто, думал о чем-то.
Беккер окончательно отбросил штаны и прошелся по комнате.
— Перестань нюнить! — сказал он сердито. — Что ты за баба! Да и баба лучше тебя…
Ответа не было.
— Откуда вы только беретесь? — продолжал он с негодованием. — Кажется, чтобы достигнуть гиперборейских пределов, нужно иметь душу довольно мозолистую, а у вас кисель какой-то, студень, черт знает что!..
Рыбковский не оборачивался и, кажется, даже не слушал.
— Или вы помешались?.. Или на вас поветрие напало?.. — продолжал говорить Беккер так же сердито. — О чем думали, к чему стремились, все вы забыли… Думаете только о собственной особе…
Рыбковский не отвечал, но плечи его внезапно начали вздрагивать. Упреки Беккера имели, впрочем, больше основания, чем его собственные недавние упреки, вызвавшие слезы Марьи Николаевны.
Беккер тотчас же смягчился. Он подсел к нему и положил руку на его плечо.
— Ну, полно, Сенька, — заговорил он совсем другим тоном, — на что это похоже? Разве тебе больше думать не о чем? Ведь, перед тобою, можно сказать, дверь готова открыться. Тебе придется начинать новую жизнь. Думай лучше о ней, а не о здешних дрязгах и мелочных волнениях.
Рыбковский поднял голову, оторвавшись от стола. Не только мысли, но и слова Беккера совпадали с тем, что недавно он слышал из других уст.
— Обойдется, — сказал он, — это я так!
Но, выговорив эти слова, он крепко стиснул зубы, как будто удерживая готовый сорваться вопль.
— Вспомни, — продолжал Беккер, — какие мы были, когда сюда приехали. Ведь, мы люди были, а не эдакие себялюбивые тряпки. Мы жили не в себе, а вне себя, интересами людей, а не первобытных инстинктов…
Рыбковский слушал молча, но уже не отвертывал лица.
— А теперь погляди-ка! Старую краску как дождем смыло… В пять-шесть лет все испарилось… Только эгоизм остался, да и эгоизм какой-то дешевенький и ни на что не способный… «На жизненном пиру нам прибора не достало!» — продолжал Беккер, вспоминая отрывки какого-то автора. — Разве это новость? И разве хорошо на старости лет тесниться к столу вместе с лакеями и поднимать крик: «Дайте и мне кусок пирога! Я еще не закусывал».
Голос его опять обострился. Это был ригорист, сохранивший без изменения все мечты своей юности, и, сталкиваясь с распущенной разочарованностью других старожилов, он обливал ее потоками желчных сарказмов.
— Встряхнуться надо! — продолжал он мягче. — Можно ли вывезти с собою такую душевную слякоть? Стряхни с себя пыль десятилетней неопрятности! Уйди отсюда и думай, что вся эта жизнь была кошмаром. Очнись от него и попытайся воспрянуть духом!
— Это легче сказать, чем сделать, — отозвался Рыбковский.
— Ну, так говори хоть! Обманывай себя!.. Что толку ныть? И без тебя много нытиков. Целые поколения залезли в глухой угол… Что вам нужно? Жить вы хотите, вы еще не жили? Ну, так не будьте кислятиной, черт вас возьми! Боритесь с жизнью, завоюйте свою долю! К черту ваши иеремиады! Идите в толпу, туда, где людей больше! Теснитесь, работайте, пробивайтесь вперед!
Он весь выпрямился, бросая свои энергические фразы как бы вызов orbi et urbi[7] и подчеркивая их характерными жестами десницы. Этот неисправимый идеалист как будто заматорел в своей упрямой бодрости. Проходившие годы не изменяли его судьбы, но не могли ничего изменить и в его настроении. Люди приезжали на его глазах, раскисали, падали духом, потом уезжали, а он оставался все таким же непоколебимым.
Рыбковскому стало легче. Он чувствовал себя так, как будто побывал под холодным душем.
— Ладно! — сказал он. — Может, и твоя правда!
Он выдвинул из-под кровати высокий ящик, обитый кожей, и стал рыться в нем, собирая вещи, необходимые для предполагаемой поездки.
— Обедать меня не жди, — сказал он, — я уеду в Столбухино.
Беккер кивнул головой в знак одобрения и опять взялся за штаны. Он вырезал ножницами огромную дыру и теперь собирался вставить заплату другого цвета, величиною почти в квадратный фут.
* * *
Через несколько дней на речном берегу у Нижнепропадинска можно было заметить необычайное оживление.
Толпа народа, по крайней мере, человек в двадцать, если считать женщин и мальчишек, стояла на берегу. Длинноногий писарь, похожий на огородное пугало, то и дело взбегал вверх по косогору, скрывался между городскими избами и вскоре возвращался обратно.
Очередная почта в Среднерецк готовилась к отходу. Неуклюжий карбас уже был спущен на воду, и четверо гребцов усаживались на скамейках, примащиваясь половчее к веслам. Рыбковский тоже уезжал. Он сидел на корме с кормилом в руках. Старый придурковатый Кека, которому собственно надлежало держать корму, важно сидел среди карбаса на куче узлов, наслаждаясь бездействием и стараясь придать своему лицу соответственную степень важности.
Колония пришельцев тоже была на берегу в полном составе. Даже Шихов со своими чадами был налицо. Только Сара Борисовна с грудным младенцем осталась дома.
Марья Николаевна стояла впереди всей группы. Лицо ее казалось бледнее обыкновенного. Кранц попробовал было подойти к ней, но она встретила его так сухо, что он мгновенно ретировался. Церемониал прощания уже кончился, но публика еще стояла на песке и смотрела на карбас, который медленно волокся по мели.
— Толкай, толкай, — кричали гребцы, — на реку!
Рыбковский вместе с другими толкался, изо всех сил упираясь веслом в вязкую тину. Наконец, карбас очутился на вольной воде.
— Отчаливай! — закричали передние гребцы. — Пошел! Пошел!..
— Прощайте, господа, — кричал Рыбковский, — не поминайте лихом!..
— Ух, ух! — кричали гребцы, подгоняя друг друга. — Поца, подь, подь!
Все крики, которыми ямщик погоняет собачью упряжку, раздавались над водой. Между правою и левой гребью на носу и на корме началось отчаянное состязание в силе гребки. Карбас быстро уплывал вдоль песчаного берега.
— Прощайте, господа! — еще раз крикнул Рыбковский издали. — Беккер, прощай!.. Марья Николаевна!..
Публика на берегу дружно откликнулась, потом поплелась наверх. Через две минуты у воды уже никого не было. Только Ратинович остался и, прикрыв рукою свои белесоватые очки, смотрел вслед исчезавшему карбасу, мелькавшему как чайка в дальнем блеске речных волн. Быть может, он думал о том, что, за удалением главного соперника, он может выступить более деятельным претендентом на драгоценный приз, и ничто не может помешать его удаче…
Среднеколымск, 1897 г.
Рыбаки
«…Ибо они были рыболовы… И говорит им:
„Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков“».
От Матфея, гл. IV, 19.Их было трое. Они сидели среди широкой речной косы на мокром песке, поджав ноги и опираясь спинами друг на друга. Было так темно, что за пять шагов их группа, наверное, показалась бы кучей сплавного хвороста, случайно нагроможденного на косе последней прибылью воды. Впрочем, смотреть было некому, ибо на косе не было ни одного живого существа кроме этой группы людей. Тот из них, чья спина была шире всех, сидел сгорбившись, и, отвернув обмерзшие полы кожаной рубахи, сжимал свои руки между колен. У него зябли пальцы, и он старался отогреть их хоть немного этим импровизированным способом, но ноги его были мокры, далеко выше колен, и из его стараний ничего не выходило.
Двое других сидели рядом, прижавшись друг к другу и опираясь об эту широкую спину. Они насиживали тоню, и у них не было времени развести огонь, ибо промежутки между тонями составляли не более десяти минут.
— Бр!.. холодно! — сказал человек с широкой спиной, выдергивая руки из-под колен и начиная тереть их одна о другую.
— Ну, холодно! — недовольно повторил один из его товарищей.
Он тоже озяб, но отдых ему был дороже тепла, и он предпочитал сидеть, совсем не шевелясь. Голос его звучал глухо, так как выходил из-под мехового треуха, низко натянутого на лицо. Повидимому, он дремал, и оклик товарища разбудил его.
— Мои пальцы совсем закостенели! — пожаловался первый, продолжая растирать руки.
— Мои тоже! — ответил человек в треухе.
— А в Неаполе теперь теплее! — вдруг сказала спина.
— В каком Неаполе? — с удивлением спросил треух.
— В Неаполе… в Италии! — кратко пояснила спина.
— Не знаю! — проворчал треух сомнительным тоном. — Я не знаю!
— Как это — не знаешь? — убедительно доказывала спина. — Теперь начало сентября. В Неаполе теперь как раз лимоны зреют. «Dahin, dahin, wo die Zitronen blühen!»[8] — продекламировал он нараспев…
Он перестал растирать руки и начал хлопать в ладоши, как будто подавая сигналы кому-то, скрывавшемуся во тьме.
— Не знаю цитронов! — сурово отпарировал собеседник. — И Неаполя никакого нет!..
— Как — нет? — настаивала спина почти с ужасом. — Неаполь в Италии, в Европе…
— Нету, нету! — непоколебимо отвергал треух. — Ничего!.. Италии нет, и Европы нет. Все враки!.. Есть только река, и в ней рыба.
Третий из сидевших, не говоривший до сих пор ни слова, вдруг поднялся на ноги.
— Пойдем, пора! — коротко сказал он и стал подтягивать вверх наколенники из тюленьей кожи, защищавшие его ноги от воды.
Двое других тотчас же поднялись. Человек с широкой спиной, желая размяться, проделал даже несколько неуклюжих курбетов, каждый раз звонко щелкая мокрыми пятками бродней о полузамерзшую тину.
На самом берегу, у воды, было светлее. Мелкие лужицы, набравшиеся в песчаных вымоинах, замерзли и отсвечивали серебристым блеском. У мелкого края матерой воды набился белый приплесок, который действием прибоя постепенно оттеснялся на сухой песок и лежал там в виде узкого вала неравной вышины, окаймлявшего воду. У берега было так мелко, что некоторые пластинки приплеска, оседая, достигали дна и, присоединяя к себе несколько других пластинок поменьше, образовывали крошечные ледяные островки, блиставшие, как звездочки, среди темной и спокойной воды.
Лодка, упертая днищем в вязкий песок, чернела в десяти или пятнадцати шагах от берега. Подтащить ее ближе не было возможности. Они дошли к ней, шлепая по воде своими разбухшими броднями из плохо выделанной коровьей кожи. Человек в треухе порылся в корме и достал оттуда «кляч» — огромный свиток толстой волосяной веревки. Он был бережничим, и на обязанности его лежало, идя по берегу, волочить на этой веревке бережное крыло, ползущее по мели. Кляч весь обмерз и закостенел, и все кольца его топорщились в разные стороны. Бережничий снял несколько колец себе на руку, а остальное бросил в воду, чтобы оттаяло. Двое других открыли невод, заботливо укутанный шкурами, и теперь оттаскивали лодку дальше на реку.
— Выгребайте, Барский! — сказал бережничий, выходя на берег с концом кляча в руках.
Он сделал два шага по направлению тони, но поскользнулся и чуть не упал.
— Идите по воде, Гуревич! — в свою очередь посоветовал человек с широкой спиной, только что названный Барским. — Там дно мягкое!
Бережничий только оглянулся в его сторону. Обувь его протекала, и брести все время в ледяной воде было для него тяжелым испытанием. Ему пришла на минуту в голову мысль выйти на сухой берег, за пределы скользкого приплеска, но он победил искушение и вошел в воду. Тоня была отлогая, и для успеха промысла невод нужно было отпустить как можно дальше на реку.
Речные выгребли. Через четыре или пять взмахов лодка исчезла из глаз, потонув в густом мраке, и бережничий мог определить ее местонахождение только по плеску весел, долетавшему с реки. Он сделал еще два шага и остановился, чувствуя, как постепенно одно волосяное кольцо за другим выходит из воды и вытягивается на реку. Наконец кляч натянулся и задрожал в его руке.
— Выметывай! — крикнул он в пространство, к невидимым товарищам, и, перекинув конец веревки через левое плечо, медленно побрел вперед, стараясь не опережать невод, чтобы дать ему время развернуться.
Люди в лодке тоже делали свое дело. Барский сидел на носу лодки на веслах и выгребал, стараясь придать линия выметываемого невода наиболее выгодное направление. Спутник его, скорчившись на корме, кое-как отковыривая от полузамерзшего невода жесткие комья и попросту спускал его в воду, стараясь только, чтобы ни одна ячея не задела за борт. Через две или три минуты весь невод был кое-как выброшен. Промышленники прикрепили к борту конец речного кляча и, повернув лодку вдоль реки, поплыли вниз по течению, плавя тоню. Течение довольно быстро понесло лодку, поворачивая ее то вправо, то влево. Среди реки ночная тьма соединялась с туманом и была еще гуще, чем на берегу. Матовая черная вода не отсвечивала ни одним слабым лучом. Только низкие волны, гонимые поперечным ветром, выходившим из-за речной пади, слегка ударяли о борт, да речная струя со слабым рокотом переливалась через веревку, волочившуюся за кормой.
Молчаливый суб’ект, окончив свою часть работы, судорожно скорчился в крошечном свободном пространстве на плоской корме, откуда при первом неловком движении можно было вывалиться в воду. Со своей скамьи на носу Барский различал только смутные очертания этой фигуры, похожей на кучу тряпья.
— А где каменный берег? — вдруг сказал Барский после довольно продолжительного молчания. — Ей-богу, я не разберу!
Ответа не было.
— Как бы нас не пронесло, — озабоченно продолжал Барский. — Тут дальше задевы. Можно изодрать невод.
Тоня была им хорошо знакома, но в темноте даже с опытными промышленниками случаются несчастья. В качестве самого знающего промышленника Барский чувствовал на себе ответственность за благополучие невода перед всей среднерецкой компанией, которая сидела в городе и голодала в ожидании рыбы.
— Отчего Андрей не кричит? — продолжал беспокоиться Барский. — Пора пригребать!
— Пригребай! — внезапно долетел крик из темноты.
Барский вздрогнул и быстро обернулся на голос. Течение незаметно повернуло лодку кормою вперед, и он рассчитывал услышать окрик совсем с другой стороны. Одним сильным движением правого весла он заставил лодку описать полуоборот и принялся подтягивать невод к берегу, налегая изо всех сил на весельные дужки и закидывая лопасти как можно дальше вперед.
Через несколько минут они уже копошились у берега, по колено в воде, торопливо выбирая в лодку речное крыло и в то же время быстро отводя ее вперед до линия приплеска. Фигура бережничего тоже обрисовалась сзади. Он собирал свое крыло, нагибаясь к реке так низко, как будто ему хотелось хлебнуть холодной воды. Расстояние между обоими крыльями становилось все менее и менее.
— На берег, на берег! — озабоченно говорил Барский, передавая товарищу оба конца тетив. — Хрептовский, на берег!
Он с силой вытолкнул лодку носом на песок и, взяв со своего сиденья короткую деревянную колотушку, вошел в прибор невода.
— Рыба ходит! — заговорил он возбужденно, подражая туземным промышленникам и чувствуя, как тупые рыбьи носы толкаются в воде об его ноги. — Нельма, нельма ходит!
Он придавил ногой нижнюю тетиву, а колотушкой нащупал и приподнял верхнюю, для того, чтобы какая-нибудь проворная щука не могла переброситься через нее в вольную воду.
— Много рыбы! — сказал Гуревич, чувствуя подергивание и судорожное трепетание веревок в своих руках.
— Тащи, тащи! — азартно кричал Барский. — Волоки!
Улов вместе с неводом очутился на песке. Промышленники открыли невод и вытряхнули добычу на песок. На песке немедленно поднялась невообразимая возня. Серебристые максуны, тускло поблескивавшие в темноте, подпрыгивали так высоко, как будто они были сделаны из резины; скользкие налимы ползали, извиваясь во все стороны и постоянно подвертываясь под ноги; толстые нельмы, напротив, лежали смирно и неподвижно, как обрубки дерева. Барский торопливо переходил от рыбы к рыбе и ощупью укрощал ее ударами палки по голове.
Теперь нужно было убирать невод. Вместе с рыбой в него набралась целая куча мягкого ледяного сала, быстро примерзавшего к тонким ячеям на обнаженном песке. Но хуже всего была сельдятка. Она набивалась в крыльях невода целыми сотнями, туго протискиваясь в каждую нитяную ячею. Ее нужно было всю выдергать и набросать в кучу на берегу. Эта рыба была самая трудная. Плавники седьдятки застревали в ячеях, небольшое вальковатое тело поминутно выскальзывало из рук, нить ячеи при каждом неловком движении больно резала пальцы, мелькая, сельдяжья чешуя прилипала к ладоням, противная рыбья слизь застывала на коже и больно щипала тело.
Промышленники были забрызганы водой до самого ворота. На рукавах, которые то-и-дело погружались в воду, образовалась такая твердая кора, что она стесняла движение рук. Очистка невода подвигалась очень медленно, так как каждый аршин сети нужно было, очистив от рыбы, тщательно промывать в воде, чтобы удалить песок и слизь. Какая-то вертлявая щука завила вокруг себя целый клуб, предварительно набив полон рот изодранными нитями ячей, и они насилу распутали ее, прорвав при этом в доводе большую круглую дыру. Сельдятка, попавшая в ячеи с наружной стороны, то-и-дело уходила, но добычи было много, и они не обращали на нее внимания.
Наконец, вся рыба была убрана, и они повели лодку на бечеве вверх, против течения, на место замета. Барский сидел на корме, чтобы не давать лодке садиться на мель. Двое других торопливо шли берегом, натягивая бечеву плечами изо всех сил, для того, чтобы согреться напряжением усилий, и в то же время, просунув руки под одежду, старались отогреть у собственного тела свои покрасневшие пальцы.
Следующая тоня началась почти без отдыха. Рыба ловилась в темноте несравненно лучше, и нужно было воспользоваться как можно продуктивнее временем, оставшимся до рассвета. Когда они в третий раз вытащили добычу на берег, туманное утро забрезжило, наконец, над рекой. С противоположного берега, где немного повыше лежала заимка, то есть группа рыбацких избушек, донесся стук деревянных поплавков, падающих на борт лодки. Там копошились люди, собирая снасти и приготовляясь выехать на смену очереди. Товарищи поспешно отправились метать свою последнюю тоню. Быстро становилось светлее и ярче. Густой туман тяжелыми клубами опускался на гладкую воду, на реке попрежнему ничего не было видно, но вверху сквозь редеющие облака уже промелькнули первые клочки синевы. Верхушка круглой сопки на противоположном берегу слегка начинала золотиться. Можно было ожидать, что погода совсем разгуляется.
Когда промышленники снова вытащили невод на берег, из молочного тумана на реке внезапно вынырнула лодка и, разгоняемая сильными ударами весел, далеко проскочила вперед по прибрежному мелководью. Новые промышленники вышли на берег. Их было трое: старик и две женщины. Они были одеты в такие же странные, полукожаные, полумеховые одежды; только на женщинах поверх кожаных штанов, заправленных в высокие сапоги с мягкой подошвой, были еще короткие синие юбки, высоко подобранные и подвязанные веревкой пониже пояса. Старик был маленький, безбородый, с тусклыми глазами и растрепанными седыми волосами, вылезавшими из-под платка, повязанного по-бабьи, по обычаю туземных жителей. За щекой у него была табачная жвачка, и он постоянно цыркал, обнажая беззубые десны и разбрасывая направо и налево тоненькие струйки черной слюны. У одной из его спутниц было широкое темное лицо, похожее на измятую лепешку, и плоская длинная фигура, как будто вырезанная из доски. Другая была моложе и больше походила на женщину. Ее лицо, тоже круглое и смуглое, напоминало цыганку и не без кокетства выглядывало из-под алого платочка, подвязанного под подбородком.
— С пйомусйом, Иййя Осипович! (С промыслом, Илья Осипович!) — сказала она, делая ударение на «о» и приветливо улыбаясь Барскому, который относил в это время в лодку десяток крупных рыб, поддев их под жабры пальцами обеих рук, по рыбе на каждый палец. Товарищи его возились над укладыванием невода в лодку.
— Спасибо! — ответил Барский, взмахивая руками и сбрасывая добычу на дно лодки со всех десяти пальцев.
Ему тоже было приятно видеть эту смуглую девушку, лицо которой было постоянно весело, а маленькие, но крепкие руки могли поспорить в управлении веслами с любым мужчиной.
— Каково пйомушйяйи? (Каково промышляли?) — спросила девушка. Сюсюкающие звуки местного наречия звучали в ее устах мягко, как детский лепет.
— Хорошо! — ответил Барский не без некоторой гордости, поворачиваясь к берегу и указывая на кучу рыбы, лежавшей поодаль.
Она была так велика, что старая белая палатка, брошенная сверху, не покрывала всего, и крайние рыбы выкатывались вон, к великому удовольствию чаек, которые назойливо вертелись кругом и успели выклевать глаза нескольким, подальше откатившимся максунам.
— Слава бог! — сказал старик, подходя к чужой лодке и заглядывая внутрь, чтобы определить удачливость последней тони. — Еды много! Рыба, еда!..
— Еда! — повторил Барский, продолжая разглядывать кучу на берегу.
Припадок ночного малодушия по поводу Неаполя и цитронов отошел куда-то далеко, и он чувствовал себя в настоящую минуту таким же непосредственным сыном природы, как и стоявшие перед ним туземцы. Он ясно читал простые и бесхитростные побуждения, наполнявшие душу этого старика и девушки, и ощущал, что и в его душе навстречу им поднимаются такие же простые и сильные чувства.
— Не половишь, не поешь! — сказал старик, приводя один из любимых местных афоризмов.
Гуревич, покончив работу у лодки, подошел к группе и достал из кармана кисет с махоркой и лоскут газетной бумаги, собираясь свернуть собачью ножку.
— Очень просто, — продолжал старик. — Еда — беда! Голодом насидишься.
Барский и Гуревич переглянулись. Их называли в среднерецкой компании «рыбными патриотами», и они, действительно, любили эту жизнь на промысле именно за ее первобытную простоту. Даже в забытом полярном городишке, который лежал на пятьдесят верст от заимки и в котором собралось вместе несколько десятков молодых людей, вообще не знавших, что с собой делать, — жизнь была уже гораздо сложнее и пред’являла вопросы, на которые не всегда можно было найти ответ. Там шли споры о преимуществах физического и умственного труда, о необходимости сохранять свою культурность, о культурном воздействии на туземцев и о взаимной меновой стоимости привезенных с собой товаров и местных продуктов, которую приходилось определять по произволу, за отсутствием всяких законов обмена. Здесь, на тоне, не было ни туземцев, ни пришельцев, здесь для всех была одна нива и одна цель — рыба, вертлявая и живая, норовившая ускользнуть прямо из рук, и нужно было напрягать все внимание, чтобы победить ее проворство и нежелание попасть в котел. Эта борьба с природой была так первобытна, что труд, необходимый для нее, превратился в азартную страсть, заражавшую даже собак, бродивших без привязи по берегу и не без успеха пытавшихся хватать зубами сельдятку в мелкой воде.
Небо совсем просветлело, но мороз еще не ослабел, и обледенелые одежды промышленников попрежнему стояли коробом. Молчаливый суб’ект, немного замешкавшийся у лодки, вышел на берег и, подняв ивовую корзину, лежавшую на песке, направился к рыбной куче. Барский поспешил к нему на помощь с коромыслом в руках. Началась деятельная нагрузка лодки, но рыбы было так много, что вся она не могла поместиться.
— Придется еще раз с’ездить! — сказал Барский довольны голосом.
Перспектива возвращаться за рыбой с заимки на тоню не могла иметь ничего привлекательного, но его слишком радовало обилие добычи, чтоб опасаться лишнего труда. Молчаливый суб’ект, сбросив на дно лодки последнюю груду рыбы, вдруг остановился и оперся грудью о борт. Лицо его побледнело, как у мертвеца, синие губы дрожали, и зубы были крепко стиснуты, чтобы остановить предательскую дрожь. Глаза молчаливого суб’екта были закрыты, так как он стыдился своей слабости и не хотел смотреть в лицо товарищу.
— Поедем скорей! — торопливо сказал Барский. — Хрептовский, садитесь на весла, согреетесь!
Хрептовский, перемогаясь, вошел в лодку и принялся с ожесточением ворочать веслами.
Лодка, несмотря на груз, так бойко перебивала течение, что через десять минут уже была на другом берегу, против заимки, где просушивающиеся невода были растянуты на длинных двойных вешалах, походя на огромные куски грязно-серой паутины. Было совершенно тихо, только легкие поплавки неводов, свободно свешивавшиеся вниз, слабо и мелодично побрякивали, как будто к ним прикасались чьи-то невидимые руки. За рекой, на тоне, раздавался плеск весел очередного карбаса. Где-то в глубине протока громко и тревожно шикал молодой лебедь, один из последних оставшихся, так как почти все лебеди уже улетели.
Заимка состояла из пяти избушек, сложенных из тонких бревен, с земляным очагом посредине и широкой дырой над потолком, куда выходил дым. Четырехугольные дыры окон были затянуты грязными платками, снятыми с голов обитателей. У одной избушки не было даже двери, и вместо нее висела бурая оленья шкура. Это было обиталище только что приехавших промышленников, но прежде чем войти в свой дом, им нужно было переделать еще много работы: вытащить и развесить для просушки невод, перетаскать рыбу из лодки в амбар, вычерпать воду, скопившуюся в лодочном днище. Барский, как только лодка опустела, уехал на другой берег за рыбой, а двое других принялись разводить огонь и варить чай.
Через два часа все трое спали мертвым сном на лавках кругом огня, подостлав под себя оленьи шкуры и кое-какую рухлядь. На очаге тлели огромные суковатые корни, представлявшие ту выгоду, что их можно было не перемещать в течение нескольких часов, не опасаясь, что огонь погаснет. Все свободное пространство над очагом было завешено мокрой одеждой и обувью, вывороченной наизнанку.
Влажные травяные стельки, разложенные на одной из верхних грядок, издавали прелый запах, и время от времени мутная капля с шипением падала на угли, очень близко к тому месту, где стоял котел с вареной рыбой, прикрытый сковородкой. Рядом с обувью висели ряды вяленой рыбы, которая докапчивалась в дыму, тоже время от времени посылая на угли светлые капли жира, вспыхивавшие языком тонкого и светлого пламени.
С.-Петербург, 1899 г.
На Красном Камне
I
Мы лежали на песке на самом конце низкой косы, выходившей на реку почти поперек и составлявшей Парашкину тоню. Было ясно и жарко. От небольшого костра, где тлели несколько сучьев сплавного леса, полусгнивших и из’еденных водой, подымался голубоватый дымок прямой струей, тонкой внизу и немного развихренной вверху. Воздух реял и переливался неуловимыми прозрачными волнами, а вместе с ним реял и колебался дымовой столб и временами становился извилистым, как струйка воды, или зигзагообразным, как тонкий след китайского дымового фейерверка, растаявшего в небе.
Было совершенно тихо. Июльская жара, стоявшая уже неделю, растомила всех пернатых и косматых обитателей северной тайги, привычных больше к вьюге и морозам.
Даже комары не пытались раскрывать свои крылья, высохшие, как пленка, и зарывались поглубже в траву, отыскивая влажность и дожидаясь прохладной сырости вечера.
Мы успели отметать с утра десяток тонь и теперь отдыхали, пережидая полдень, когда даже омуль, торопливо идущий вверх по реке на поиски мест, удобных для метания икры, теряет энергию и перестает попадать в сеть. На пятьдесят верст кругом не было ни одной живой души. Мы забрались со своим неводом в эту безлюдную глушь, слишком отдаленную для ленивых туземных рыбаков, и уже второй месяц жили, не видя человеческого лица и снимая сливки с нетронутого рыбачьего богатства, накопившегося по заводям и курьям, где по два или по три года ничье весло не возмущало воду.
Пойманную рыбу мы складывали во фляги, плоские трехведерные бочонки, в которых на реку Колыму привозят спирт и которые потом продаются у местных купцов по рублю за штуку. Населения на реке Колыме мало, но фляг этих так много, что их хватает на засол рыбы для всего округа, и других кадок или бочонков на Колыме не знают.
Набив флягу до половины свеженарезанной нельмой, мы насыпали туда три фунта соли — по одному фунту на пуд рыбы, потом наполняли бочонок доверху, присыпали слегка мелкой солью и забивали втулку. Это называлось у нас «крутая солка», которую туземцы не одобряли, предпочитая на каждый пуд рыбы употреблять только пол фунта соли. Фляги с рыбой мы спускали в небольшой погреб, вырытый в вечно мерзлой земле на противоположном берегу реки, где была полуразвалившаяся рыбачья избушка, которую мы кое-как привели в жилой вид и куда мы большей частью переезжали на ночлег с тони. Погреб, впрочем, давно был наполнен, и мы выкопали в земле вторую и третью ямы, выбирая высокие места, где земля оттаяла больше вглубь. Мы спускали туда фляга рядами, потом закрывали яму хворостом и заваливали травой. Мы, разумеется, знали, что в конце концов почти вся рыба протухнет и получится продукт немногим лучше якутской мундушки (мелкой рыбы), квашенной в ямах, но это не имело особого значения в наших глазах. В городе было пятьдесят голодных желудков, которые обещали зимою подобрать какую угодно тухлятину, лишь бы артельный староста отпускал ее в изобилии и не резал порций к завтраку маленькими кусочками, как в пансионе для благородных девиц.
Покамест число наших фляг с рыбой росло с каждым днем, и сердце наше радовалось, когда мы видели, что из восьмидесяти бочонков, взятых с собою из города, не более полутора десятков еще остаются пустыми.
На неводе нас было трое, и мы почти никогда не разлучались. Колымская неводьба требует трех человек для правильной работы, и после двадцатичасового труда мы ложились на лавке вокруг очага избушки или падали на землю у костра и засыпали, как мертвые, а проспав ночь, вставали в одно и то же время и опять отправлялись неводить. Летний промысел, несмотря на продолжительность рабочего дня, не был особенно труден и превратился для нас в особого рода спорт, который не давал нам спать по утрам и сокращал наши роздыхи у огонька на ночной тоне постоянным стремлением довести в последнем подсчете размеры промысла до возможно большего количества пудов. Я считался хозяином невода в качестве более опытного промышленника, и на мне, можно сказать, лежала наибольшая часть ответственности за успехи промысла. Поэтому часто мне приходилось вставать еще раньше и ложиться позже других.
— Каково-то теперь в городе? — сказал Барский, поднимаясь на локте и машинально поворачивая лицо влево, где на три версты простиралась гладкая речная даль вплоть до большого красного гранитного быка, уставившего поперек реки свою крепкую голову. Этот бык назывался Красным Камнем. Вокруг этого быка течение делало крюк почти под прямым углом, и именно оттуда могли приехать люди из города. Мы привыкли во время работы и во время отдыха постоянно направлять свои глаза на этот угол красного утеса, откуда могла каждую минуту вывернуться лодка.
В нашем диком уединении мы совершенно не думали о Европе и вообще обо всем цивилизованном мире, но мысли наши незаметно для нас самих направлялись к «городу», собственно говоря, к маленькому глухому полярному городишку с полусотней полуразрушенных избушек и четырьмястами вечно голодных обитателей, к тому Среднеколымску, который однако для всего огромного округа имел значение urbs[9], единственного и незаменимого центра. Для нас там было место, где жила вся наша колония и сосредоточивались общественные учреждения и даже в том числе общественное мнение. Вокруг «Павловского дома» — большой избы, служившей нам складом, столовой и местом для митингов, жило в маленьких избушках около пятидесяти человек пришельцев. В период зимнего бездействия в передней половине Павловского дома существовал перманентный клуб, и всегда можно было найти группу людей для того, чтобы затеять спор о каком угодно предмете — божеском или человеческом.
Правда, клуб занимался преимущественно распространением «полезных сведений», а попросту говоря — сплетен, полушуточного, но иногда довольно обидного характера, а общественное мнение слишком внимательно присматривалось к каждому ничтожному поступку обывателей или пришельцев. Так что в мае, когда ледяная печать внезапно спадала с полярной природы, половина обитателей колонии немедленно хваталась за возможность убежать от жалких остатков цивилизации в настоящую пустыню.
Но теперь, после двухмесячного отсутствия, мы ясно чувствовали всю крепость связи, соединявшей нас с общим центром, и напряженно ожидали приезда очередной лодки, которая должна была захватить нашу рыбу и поднять ее вверх по течению на собственных плечах, при помощи лямок и долгой бечевы.
— В городе, — переспросил Хрептовский, поднимаясь прилаживать чайник над костром, — голодают, должно быть!..
В городе всегда голодали, летом и зимой. Сколько бы ни было привезено пищи, молодые желудки быстро справлялись с ней, и через неделю уже приходилось переходить на суровый режим неумолимого старосты, в глазах которого каждая лишняя четверть маленького ржаного хлебца установленной формы, составлявшая наш завтрак, приобретала совершенно мистическое значение. Клуб «полезных сведений» иначе назывался артелью «жиганов» и действительно занимался взаимным разжиганием аппетитов. У нас на неводе царствовали обилие и полная сытость, но попадая в город, мы немедленно превращались в жиганов, и я даже предводительствовал знаменитой артелью. Описывать все подвиги ее было бы слишком утомительно. Мы, например, таскали у старосты так называемое «утопленное сало», вытопленное из жира коров, утонувших в Колымских болотах, которое он спускал специально для литья свеч. Даже свечи из этого сала выходили прескверные, какие-то полужидкие, с трупным запахом; кроме того, для защиты от покушений, староста примешивал к салу разную химическую дрянь, но мы этим нисколько не смущались и не отказывались даже от готовых сальных свечей, которые растапливали на сковородке и превращали в жир. На этом жиру мы поджаривали лепешки из полугнилых комьев муки, выброшенных за негодностью даже нашим экономом, раздробив их предварительно большим кузнечным молотом на артельной наковальне. Я не знаю, почему нам ни разу не пришло в голову попробовать деревянные опилки, которые, конечно, оказались бы нисколько не хуже.
В виде завтрака, как сказано, нам выдавалась четверть маленького хлебца, и многие с’едали свою порцию заранее и мало-по-малу уходили на несколько месяцев вперед, попадая в неоплатный долг старосте. Такие нераскаянные должники постоянно возбуждали смуту в надежде добиться амнистии или по крайней мере частичной скидки своего долга…
— Вот рыба!.. — сказал Барский, широким жестом указывая вокруг себя и имея в виду наши рыбные ямы. — Пусть едут!..
Хрептовский продолжал возиться у костра, прилаживая пару расщепов, то есть рожнов с поперечными палочками, где были укреплены жирные распластанные рыбы.
Он был очень деятелен и обыкновенно исполнял три четверти мелких работ у невода и в хозяйстве. К сожалению, он был податлив на всякую мелкую хворость и, между прочим, чрезвычайно плохо выносил укусы комаров, которые преследовали нас тучами. Есть люди, которых комары почти совсем не трогают; пахнут ли они неприятно, или кожа у них такая твердая — трудно сказать, но они могут щеголять без сетки в такое время, когда даже дикие олени выбиваются из сил и издыхают от истощения в непосильной борьбе с «гнусом». Хрептовский, напротив, принадлежал к комариным любимцам и подвергался непрерывным нападениям, не хуже дикого оленя. Его нежная белая кожа покрывалась волдырями, похожими на ветреную оспу, и он не мог спастись ни в избе, ни в палатке и почти ежедневно доходил до особой комариной лихорадки. Эта лихорадка мало известна в науке, но мне приходилось испытать нечто подобное самому в одной из сибирских кутузок, где я два дня выдерживал атаку целого полчища клопов, тысячами покрывавших стены и нары. К комарам, к счастью, я был довольно равнодушен, хотя они не пренебрегали и моею кровью и набивались сотнями под перчатки и за ворот одежды.
В настоящую минуту, впрочем, благодаря полуденному зною, Хрептовский тоже был свободен от комариной язвы, а потому чувствовал себя совершенно счастливым.
— Давайте есть! — произнес он торжественным тоном, выкладывая испекшуюся рыбу на лопасть весла, служившую нам обеденным столом. Если бы он чувствовал себя хуже, он не сказал бы ни слова и даже не присел бы к закуске вместе с другими.
Барский вдруг поднялся и стал всматриваться вдаль по направлению к Красному Камню.
— Ветка[10] едет! — сказал он через несколько секунд. — Толкается…
Мы словно по команде обратили лица в ту же сторону.
Через минуту возле камня на воде блеснул острый и мокрый нос небольшого челнока, и в воздухе мелькнули белые кончики палок, которыми проталкивался вперед неведомый гость. От камня начинался широкий залив, имевший обратное течение, и гребцу приходилось держаться близко от берега и переталкиваться при помощи пары небольших шестиков, похожих издали на игрушечные. Через минуту челнок выдвинулся вперед, плавно и проворно забирая дорогу своими тонкими деревянными ногами. Он походил на бойкого водяного жука, приспособленного для того, чтобы весь век бегать взад и вперед по этим пустынным водам. Дорога его тянулась прямее шнура, один шестик не поднимался выше другого даже на полдюйма.
— Якут едет! — вдруг сказал Барский с оттенком разочарования.
Действительно, никто кроме туземца не мог подвигаться вперед так плавно и красиво. Лицо Хрептовского тоже опечалилось. Несмотря на свою неразговорчивость, он любил общество, и в городе у него было много приятелей. Он между прочим рассчитывал, что в челноке едет Кронштейн, один из самых заядлых скитальцев, который все лето таскался в челноке из одной заимки в другую на протяжении двухсот верст вверх и вниз от города и служил живой почтой для всех промышленников, которые не имели возможности отлучиться с невода в город.
Человек в челноке между тем под’ехал к берегу. Он разогнал свою утлую посудину и, заставив ее проскользнуть далеко на мокрый ил, одним легким прыжком выскочил на сухой песок. Он был в рваном кожаном кафтане, штанах из синей дабы и старых сапогах из желтой замши, более похожих на дырявые чулки.
— Здорово! — сказал, он, подходя к костру.
— Капсе![11] — поспешно отозвался Барский.
— Хорошо! — ответил якут на своем родном наречии самым невозмутимым тоном.
— Что нового? — продолжал Барский тоже по-якутски.
— Ничего! — отвечал якут.
— Садись! — пригласил я его. — Кушай-да надо!
Якут взял в руку кусок рыбы.
— Почта пришла! — заявил он самым равнодушным тоном, приступая, наконец, к сообщению новостей.
— Где почта? — воскликнули мы все вместе. — Давай!
Мы вдруг вспомнили, что там, где-то в бездне, за десять тысяч верст, у нас есть близкие и дорогие люди, что там есть целое человечество, живущее сложной лихорадочной жизнью, полною интереса, напряжения и борьбы.
Якут поднялся с места и, порывшись в челноке, достал оттуда пачку, обернутую в обрывок рубахи и перевязанную бечевкой. Я поспешно сдернул обвязку. В пачке оказались старые номера «Новостей» и две книжки «Недели». Я перебрал газетные листы один за другим. Между ними не было ни одного письма, ни одной даже коротенькой записки.
Якут полез за пазуху и достал огнивный мешочек и из самой глубины его вытащил сначала два кремня, огниво, комок черного трута и амулет из горностаевой головы. На самом дне был сверток оберточной бумаги, величиной в вершок, выпачканный сажею трута и обвязанный во всех направлениях ниткой, ссученной из коровьих жил.
— Ме![12] — протянул он его мне.
Я сорвал оболочку еще поспешнее.
Это была небольшая записка карандашом, написанная Кронштейном, нашим обычным корреспондентом.
«Водяные! — писал он своим лаконическим слогом. — Писем вам никому нет, а посылаю лохмотья никому ненужных газет. Им двенадцать месяцев от роду. От долгой перевозки по российским дорогам они успели превратиться в трупы. У нас их никто не читает, поэтому посылаем их вам. Новостей из-за рубежа нет никаких. В городе то же. Еды у нас нет, есть только рыба. Мы возненавидели ее от всей души, но скоро и рыбы не будет, и придется ехать к вам за вашей рыбной падалью. Пока прощайте!..»
Мы молча поглядели друг на друга. Газеты валялись на песке, но всякий интерес к ним пропал. Нам казалось, что это действительно газетные трупы, и на серой бумаге «Новостей» даже как будто проступили тусклые гнилые пятна.
Это было самое глухое время нашей жизни на далеком севере. Уже четыре года не появлялось ни одного живого человека. Родные и близкие постепенно забывали нас, отделенные огромным расстоянием, как забывают мертвецов или без вести пропавших. Письма терялись. Люди, по году напрасно ждавшие ответа, теряли надежду, теряли и охоту писать.
— Агабыт илер![13] — сказал якут, прерывая течение наших мыслей.
— Какой агабыт? Александр? — спросил я.
Отец Александр был молодой попик, недавно приехавший в Колымск и уже успевший спиться с круга. За два года он три раза горел от водки, и его отливали водой, как затлевшуюся балку. Жители любили его за простоту и за то, что он, к великому негодованию матушки, не требовал приношений. Многие из нас были дружны с ним; он был принят в нашем кругу, как равный, и спасался в Павловском доме каждый раз, когда матушка слишком вз’естся на него с попреками.
— Чем болен? — спросил я опять, не без тревоги.
— Илер! — настойчиво повторил якут. — Букатын илер!.. Барда!..[14]
Я невольно вскочил с места. При всем несовершенном знании якутского языка я внезапно вспомнил, что болезнь и смерть выражаются у якутов одним и тем же словом, и понял, что якут разумеет именно смерть…
— Умер? — спросил я. — Нет!.. Скажи правду!..
Якут быстро затрещал словами, как будто сыпал горох на железный лист: «Тогорохтох, сорох тох!..», но мы, к сожалению, не могли уловить смысл его речи. Тогда он закрыл глаза и, вытянув ноги, принял неподвижный вид, чтобы изобразить мертвеца. В то же время он не переставал есть, и от двух рыб оставались теперь только кости. Он проехал пятьдесят верст от последнего жилья и, очевидно, сильно проголодался.
Мы печально смотрели на его неподвижные ноги, не умея понять подробностей его рассказа. Небо затуманилось. Солнце покрылось серыми облаками, неизвестно откуда приплывшими, и как будто печалилось вместе с нами о смерти бедного пропадинского попика. Главное все-таки было ясно. Отец Александр умер, и в нашем обществе стало человеком меньше. Эта неожиданная смерть показалась нам даже недобрым предзнаменованием.
— Умер!.. — сказал громко экспансивный Барский. — Так и мы умрем!..
— Будет вам каркать! — прервал его Хрептовский изменившимся голосом. Он был мнителен и не любил разговора о болезни и смерти. — Пойдемте лучше неводить! — прибавил он сурово. — Пора!
Комары, подстерегавшие минуту прохлады, уже были тут и нападали на нас стадами. Хрептовский натянул длинные кожаные перчатки и надел на голову сетку из темного ситца, сшитую в виде четырехугольного мешка, с жестким волосяным наличником, очень похожую на большой самодельный фонарь.
— А не поехать ли нам в город? — вдруг предложил Барский. Ему всегда приходили в голову романтические идеи.
Я решительно воспротивился. Поездка в город должна была отнять неделю, а теперь было самое горячее время летнего хода рыбы, которое нельзя было пропустить без непоправимой потери.
Через пять минут мы были уже на средине реки и занимались обычным делом. Я «выгребал», поворачивая одно весло влево, а другое вправо, и заставляя лодку описывать разнообразные зигзаги, соответственно изгибам сети. Барский с Хрептовским собирали невод в лодку с обеих сторон, ловко подхватывая извивавшихся омулей, похожих на гибкие серебряные пластинки. Лов по обыкновению был обилен. Якут улегся на берегу у костра и заснул в ожидании нашего возвращения. По беспечному обыкновению жителей полярных пустынь, он собирался прожить у нас день или два или целую неделю, тем более, что еды было много и он мог рассчитывать на обильную трапезу.
Прометав три тони, мы решили перегрести на противоположный берег, для того чтобы угостить гостя получше. Там жила в рыбачьей избушке наша стряпка Манкы, странное существо, отличавшееся дикостью даже среди диких обитателей полярного севера. Манкы было только семнадцать лет. Она была «девичья» дочь якутской сироты Соготох, вскормленной на общественный счет и сызмальства переходившей из юрты одного зажиточного тойона в юрту другого. По якутским обычаям, сирота или вдова, если у нее нет родственников, желающих принять ее на свое частное попечение, переходит именно таким образом из дома в дом, с рук на руки. Смолоду Соготох была не только работницей, но и наложницей своих многочисленных хозяев, их сыновей и работников, вообще каждого, кто только мог польститься на ее рябое лицо и четырехугольные плечи. Ей так же мало приходило в голову отвергать такие требования хозяев, как и отказываться от работы, наваливаемой на нее хозяйками. В результате она прижила двух дочерей, которые случайно уцелели и выросли, кочуя вместе с матерью от одного порога к другому. Это было уже четвертое поколение париев по женской линии, рожденное вне брака и вскормленное пинками, в вечной работе у более зажиточных соплеменников.
Под конец родовой князец отдал Соготох в наложницы поселенцу Павлюку, родом хохлу, который был прислан с юга за двукратный побег и успел стать грозой всех окрестных поселков и одиноких жилищ, собирая с них дань, как настоящий господин. Манкы, однако, не захотела поселиться у Павлюка и не пошла по дороге матери. Она нашла себе убежище в кухне Павловского дома и поселилась там, не спрашиваясь никого и не принимая на себя никаких обязанностей, как приблудная кошка, облюбовавшая теплое место под чужою печкой.
От матери Манкы унаследовала необычайную, почти баснословную умеренность в пище. Якутские женщины вообще едят мало, а общественные сироты довольствуются несколькими волокнами вареной рыбы, оставшимися на хребтовой кости чира или щуки, об’еденной хозяином. Но Манкы перещеголяла их всех. По необ’яснимому капризу, хотя и не беспримерному среди колымских женщин, она возымела непреодолимое отвращение ко всей пище туземного происхождения и приготовления и употребляла только сахар, крупичатое печенье, белые аладьи и тому подобные деликатесы из продуктов, привезенных за десять тысяч верст. Сахар и крупчатка продавались на Колыме по рублю за фунт, и даже для нас они составляли редкое лакомство. Можно поэтому судить, как редко и в каком небольшом количестве они доставались этой дочери нищих, которая по странной прихоти усвоила себе повадки аристократов.
Таким образом Манкы, повидимому, приходилось не есть решительно ничего по неделе и по две, пока на ее долю не выпадал кусочек сладкой русской еды. Я говорю — повидимому, так как вообще физическое существование Манкы оставалось для нас тайной. Мы пробовали сторожить ее по целым неделям, предполагая, что она тайно от людей принимает пищу, но никогда не могли ничего открыть. В конце концов у нас в общине установилось обыкновение отдавать Манкы некоторую долю редких русских продуктов, хотя она постоянно возвращала половину, утверждая, что с нее «хватит». Зимою Манкы обыкновенно ничего не делала и большую часть времени спала в углу за печкой, как полярный сурок в своей норе. У нее не было потребностей, и она могла не тратить на их покрытие никакой работы. Подарков, впрочем, она тоже не любила принимать и решительно отвергала все европейские обноски, которыми у нас были завалены кладовые и которыми мы пытались наградить ее вначале. Одевалась она, однако, опрятнее других девушек, и в ее черные волосы была постоянно вплетена какая-нибудь пунсовая ленточка. Истина требует прибавить, что я все-таки видел на ней европейские рубашки и чулки. Вероятно, она брала из кладовой вещи без нашего разрешения, по примеру других, оказывавших нам личные услуги, мужчин и женщин, которые обкрадывали нас с утра до вечера с наивностью ребенка и бесцеремонностью голодного дикаря. Мы, впрочем, мало обращали на это внимания и все желающие поживиться от нашего имущества, а в том числе и Манкы, пользовались почти открытой безнаказанностью.
Первую зиму Манкы проспала в нашей кухне довольно благополучно. Однако, когда пришла весна, снег стал таять на пригреве, полетела перелетная птица и река готовилась вскрыться. Манкы затосковала. Не сказав никому ни слова, она уехала вдруг с якутами из своего рода на отдаленное урочище Сенкель, где ее мать и сестра ловили рыбу и рубили дрова для своего русского господина. Но черед месяц она снова появилась так же внезапно, как исчезла. Мы нашли якута, который привез ее с Сенкеля, и он рассказал нам, что Павлюк, сделавший себе вторую любовницу из старшей дочери Соготох, захотел приобщить и Манкы к своему гарему, но девочка, молча принимавшая ухаживания вотчима, вдруг схватила нож со стола и распорола бы Павлюку брюхо, если бы он во-время не обратился в бегство. Хохол так испугался, что в ту же ночь запряг коня и поехал к князьцу, требуя, чтобы тот убрал из его дома Манкы, которая покушалась его зарезать. Волей-неволей пришлось вывезти Манкы обратно в город.
— Этакая стерва!.. — закончил якут, крайне возмущенный тем, что на его долю выпала экстренная натуральная повинность. — Людей резать задумала, а!.. Об’явить бы исправнику, пускай посадит ее в казематку, да выдрали бы ее хорошенько… Перестала бы на людей бросаться!..
Манкы опять поселилась в артельной кухне, но через месяц, когда мы снаряжали невод на заимку, она в самую минуту от’езда спустилась с угорья и вошла в воду, чтобы сесть в лодку. Она была босая и в руке несла свою обувь и узелок с одеждой. Мы не отвергали ее, и она очутилась на Красном Камне вместе с нами. Сверх ожидания, Манкы оказалась порядочной кухаркой, по-местному — стряпкой. У нее всегда к нашему возвращению с тони был готов чай и какое-нибудь лакомое рыбное блюдо. В избе было чисто; посуда была вымыта и вытерта. Одним словом, Манкы внезапно оказалась на высоте положения, достойная тех сухарей и сахара, которые она с’ела на своем веку. Она помогала нам также солить рыбу и заготовлять вяленую яколу для человеческого и собачьего употребления.
С самого начала, когда Манкы поселилась в артельной кухне, у нее не было недостатка в ухаживателях. На севере женщин мало, девушек совсем нет, а голос природы в уединении пустыни говорит громче и понятнее, чем в шуме городов. Уже не один из пришельцев неожиданно для других и для самого себя приобрел себе подругу из рода якутов или русских казаков, которые нисколько не были культурнее. К чести пришельцев надо сказать, что почти всегда временные союзы превращались в постоянные и не разрушались даже от’ездом в Россию. Я помню одну семью, которая потом уехала из Якутска на запад в большой фуре, наполненной старыми перинами и детскими головками.
Кроме того, лицо Манкы не подходило под обычный якутский тип, и ее большие черные глаза смотрели дико и задумчиво, как глаза молодой оленьей важенки, еще не знающей недоуздка.
Но, подавленная зимней спячкой, Манкы относилась равнодушно ко всем молодым людям, наполнявшим кухню и столовую. Здесь, на неводе, она стала живей и внимательней и, сколько можно было судить при ее неразговорчивости, относилась с предпочтением к Хрептовскому, быть может потому, что он был меньше ростом, моложе и слабее других. По крайней мере, она всегда оставляла для него лучшие куски и делала даже попытки чинить его белье, хотя в первый раз наложила на ситцевую рубаху тонкую кожаную заплату.
В конце концов она поднесла ему кисет собственной работы, разукрашенный старинными вышивками из конского волоса и шелка.
По обычаям пропадинской молодежи, кисет этот обозначал недвусмысленное об’яснение в любви. Вдобавок Манкы, подражая женщинам юкагирского племени, с которыми ей доводилось жить в детстве бок-о-бок, изобразила на нижней стороне кисета целое любовное письмо живописным рисунком собственного изобретения. Две продольные черточки, поставленные на некотором расстоянии друг от друга, изображали ее и Хрептовского. Две другие поодаль относились ко мне и Барскому. Каждая продольная черточка для большей вразумительности была снабжена четырьмя маленькими косыми, означавшими руки и ноги. Черточка Манкы была кроме того снабжена внизу поперечной чертой, изображавшей юбки. Возле Хребтовского была небольшая черточка с раздвоенным концом. Она обозначала рыбу, и Манкы хотела ею выразить, что из нас троих лучшим промышленником она считает именно Хрептовского. От средины изображения Манкы шла линия, поднимавшаяся полукругом и спускавшаяся к верхнему концу Хрептовского. Это означало, что сердце Манкы наполнено мыслями о молодом промышленнике…
Но собственное сердце Хрептовского было заковано в гранит. На родине у него осталась невеста, от которой он до сих пор еще получал по временам письма, и кисет молодой якутки казался ему слишком грубым, чтоб даже класть в него табак. Барский был другого мнения и говорил, что это замечательная вещь, которую хорошо увезти с собою на память, и кисет через очень короткое время перешел к нему. Он был доволен, но откровенно заявил, что было бы еще лучше, если бы кисет с живописными письменами с самого начала попал в его собственность, как законный подарок. Все это было не дальше как с неделю тому назад, и Манкы три дня ходила мрачнее обыкновенного, и от нее нельзя было добиться в буквальном смысле ни слова, как будто она онемела. Но все-таки она продолжала подкладывать лучшие куски Хрептовскому и заботиться о его белье и одежде.
Берег у избушки представлял узкую полоску ила под крутым угором. Мы вышли и принялись развешивать невод, чистить лодку — исполнять обычные работы рыбаков.
Я заметил, что Хрептовский хромал и вообще двигался несвободно.
— Ногу стер, — об’яснил он мне неохотно. — Одежду надо переменить!..
Манкы вышла с ивовой корзиной и стала складывать в нее рыбу из лодки. Проходя мимо Хрептовского, она посмотрела на него пытливым взглядом, но под волосяной маской лицо его было совершенно скрыто. С таким же успехом можно было бы разглядеть человека сквозь водолазный колокол.
Якут вытащил свой челнок на угорье и спрятал его в кусты, — верный знак, что он намеревался погостить у нас подольше.
Барский повесил последнюю связку веревок на вешала и, посмотрев вслед девушке, которая уже поднималась на гору с корзиной на плече, слегка вздохнул с комическим видом.
В избе было чисто и пахло свежей хвоей, так как земляной под был устлан пушистыми веточками лиственницы. На открытом очаге посреди избы тлело несколько больших коряг, наваленных друг на друга. На чисто выскобленном столе стояла жареная рыба на сковородке и котелок с вареными потрохами нельмы. Чайник с готовым чаем тихонько жужжал на краю шестка. Вся избушка, несмотря на сквозные дыры в стенах и окно, затянутое грязным головным платком вместо рамы со стеклами, дышала особым уютом, который придает каждому жилищу забота женщины, будь это дикая чукчанка или пугливая, как заяц, ламутка.
Манкы по обыкновению уселась в дальнем углу на край своей постели и молча смотрела, как мы уничтожали приготовленные ею припасы. Хрептовский, впрочем, не стал есть. Он уселся, нахохлившись, на лавке и принялся смотреть на искры, перебегавшие в угольях. Мы окликнули его раз или два, но не добившись удовлетворительного ответа, оставили его в покое. Это была его обычная манера, когда он чувствовал себя не совсем хорошо, а случалось это так часто, что мы давно успели привыкнуть. По его хлипкому здоровью ему совсем не следовало бы приниматься за такую мокрую и трудную работу, как неводьба, но из всех нас он был самым пылким «рыбным патриотом» и готов был плескаться в холодной воде до заморозков, когда по реке несло толстые пласты шуги и мокрая одежда замерзала коробом и резала руки и шею.
После целого дня, проведенного на реке, мы тоже чувствовали утомление. К вечеру стало прохладно и сыро, но от тепла избы по спине приятно пробегали мурашки. Глаза слипались. Через пять минут мы уже лежали на лавках вокруг очага, готовясь ко сну. Хрептовский кряхтел и ворочался, но мы не обращали на него внимания и заснули, как убитые, чтобы с раннего утра, проснувшись, снова приняться за работу.
II
На другой день, поднявшись с постели, я спустился к реке, чтобы заняться починкой невода. Это была нетрудная, но довольно кропотливая работа, так как верткие омули усеяли все сто саженей сети маленькими круглыми дырками. Покончив с неводом, я отправился в амбар, где нужно было осмотреть пустые бочонки и замазать дыры в них сырой древесной смолой. Я плотно притворил двери, чтобы закрыть доступ комарам, и принялся за дело. Но не успел я перевернуть кверху дном первый бочонок, как за дверью послышался разговор. То были Манкы и наш вчерашний гость, которые о чем-то спорили по-русски и по-якутски. Заинтересовавшись, я подошел к стене и осторожно поглядел сквозь бойницу. Манкы стояла у самой стены амбара, выпрямившись и с поясом в руках. Она вынесла на свет корзину с рыбой, собираясь приготовлять юколу, и на доске перед нею лежала раскроенная рыба с отрезанной головой и вырезанной костью. Нож, который она держала, был запачкан кровью, и с первого взгляда, пожалуй, могло показаться, что она только что совершила убийство. Нахмуренное лицо и сердито сжатые губы могли только подтвердить это заключение.
— Зачем злишься? — сказал якут. — Я человек молодая, богатая… Есть чем бабу кормить!..
К моему удивлению, он пытался говорить по-русски, перемешивая русские слова с якутскими и употребляя невозможные обороты. Выходило очень смешно, как будто бы он нарочно ломался, но я мог понимать почти каждое слово. Вчера в разговоре мы не могли извлечь из него ни одного русского слова, но якуты обыкновенно скрывают свое знание русского языка для того, чтобы иметь преимущество при торговых или иных об’яснениях на своем родном наречии.
— Уйди! — резко сказала Манкы по-русски, размахивая ножом. Она ненавидела якутский язык и презирала даже сюсюкающее наречие русских троглодитов, а сама говорила замечательно правильным языком, с меткими словечками и старинными оборотами.
— Что же ты ножом машешь? — проговорил якут обидчиво.
— Отвяжись! — коротко заявила Манкы.
— Зачем — отвяжись? — настаивал якут. — Я ведь по-хорошему!.. Эй, пойди! Женой буду держать, лисью шубу носить станешь!..
— Поди к черту! — сказала Манкы.
Для такого чрезвычайного случая, как сватовство, она забыла свою немоту, но уста ее не произносили ничего кроме бранных слов.
— А-и!.. — взвизгнул и вместе вздохнул якут. — Видно, тебе нюча[15] лучше нравятся!..
— Поди к чорту! — повторила девушка еще выразительнее.
— Какой? — приставал якут. — Толстый?.. Ледяные глаза, голый лоб, с носом, как кедровый сучок?..
Это было посильное описание моей наружности в переводе на туземные термины.
Манкы не отвечала.
— Другой?.. С топором на лице, шерстяными руками и толстыми усами на лбу?..
Это относилось к длинному носу и косматым бровям Барского.
Манкы и на этот раз ничего не ответила.
— Еще другой?.. — перечислял якут. — С двойными каменными глазами?
Это относилось к очкам Хрептовского.
— Хромой?.. — продолжал якут. — Одна нога так, другая так!..
И он прошелся взад и вперед, смешно подражая походке Хрептовского.
— Перестань! — сказала Манкы, угрожающе взмахивая ножом.
— Или меня резать хочешь? — спросил якут. — Сердитая кобыла!.. На вотчиме научилась, видно…
Он взглянул в лицо Манкы и тотчас же раскаялся в своих последних словах.
— Я сто верст в челноке ехал, — жалобно сказал он. — Ночь не сплю, день думаю!.. Мяса на костях не осталось…
Его гладкая фигура и круглое румяное лицо противоречили его утверждениям, да Манкы и не обратила на них никакого внимания. Она с решительным видом повернулась к нему спиной и уселась перед своей доской, принимаясь за рыбу.
— Уеду, сейчас уеду! — взвизгнул якут. — Чтоб тебе сгнить без носа с твоими тремя любовниками!..
Дверь избушки внезапно отворилась, и монументальная фигура Барского появилась на пороге. Он, очевидно, только что проснулся, и последний окрик якута долетел к нему сквозь неплотно прикрытый вход. Кулаки его были сжаты, и лицо не предвещало ничего доброго. Но молодой якут не стал дожидаться. Он нырнул в кусты и через полминуты уже бежал вниз с угорья, волоча за собой свой челнок. Еще через минуту он колебался на легких волнах реки, направляя свой челнок против течения в обратный путь. Повидимому, он приезжал на нашу заимку нарочно для своего неудачного сватовства и теперь находил, что ему у нас нечего делать. Манкы посмотрела на Барского глазами, пылающими от гнева; через минуту, с сердцем бросив нож на землю, она тоже скрылась в кусты. Неожиданный защитник, очевидно, разозлил ее больше, чем неудачный жених, который к тому же быстро скрывался из поля зрения. Барский с недоумением посмотрел ей вслед. Такой оборот дела был для него совершенно неожиданным.
В это время на пороге избы показался Хрептовский с полотенцем и мылом в руках. Из всех нас только он одни тщательно соблюдал обряд ежедневного умывания. Мы обыкновенно довольствовались теми омовениями, которые приходилось производить при ежедневной работе у реки. Лицо Хрептовского было невесело. Он ступал как-то осторожно, широка расставляя ноги и делая небольшие шаги.
— Больно! — об’яснил он на мой вопрос.
— Посиди дома! — посоветовал я. — Пройдет к вечеру.
Но Хрептовский отрицательно покачал головой.
Мы, конечно, могли отправиться на промысел и вдвоем с Барским или взять с собой Манкы в качестве третьего члена, но Хрептовский слишком ретиво относился к неводьбе, чтобы пропустить очередь без крайней нужды. Манкы, услышав его голос, вышла из своего убежища и, войдя в избушку, принялась за приготовление чая. Барский предпочел спуститься к неводу, хотя все дыры были починены и делать у невода было нечего.
Я пошел в лес собирать сухие дрова и коряги для Манкы, так как обычай относил это к мужским работам. Солнце уже выходило из-за леса, хотя после полуночи минуло только три часа. Утро обещало развернуться такое же погожее, как и вчера, и чрезвычайно удобное для ловли омулей, которые уже начинали подниматься на поверхность, чтобы хватать комаров, падавших на воду. В ближнем лесу дятел громко и часто стучал о пустое дерево, и эхо гулко раздавалось на другом берегу узкой горной речки, впадавшей в реку Колыму. За рекою гагара, уже успевшая, несмотря на ранний час, набить брюхо свежей рыбой, истерически хохотала и хлопала крыльями о воду. Стайка линяющих гусей выплыла из-за мыска и остановилась прямо перед нашим неводом, а пролетавший мимо орел повис в воздухе и начал целиться в самого крупного гуся. Белка перескочила с ближайшего дерева прямо на нашу крышу, на секунду остановилась у отверстия посредине, откуда тянул легкий дымок, и, как молния, скользнула дальше. Тонкий горностай, в некрасивой грязно-серой летней одежде, выскочил из-под пня и обежал вокруг избы, не обращая внимания не только на мое присутствие, но даже на пару больших собак, стороживших у дорога. Собаки, впрочем, тотчас же сорвались с места и опрометью бросились ему вслед, но с таким же успехом они могли бы гнаться за тенью птицы, летящей мимо. Деятельная жизнь всего того, что бегает, ползает, летает, прячется и нападает в глубине полярной тайги, начиналась с утра, окружая нашу избу со всех сторон и не обращая внимания на кучку странных двуногих тварей, явившихся на короткое время, неизвестно откуда, для того чтобы урвать себе долю в общей добыче хищников пустыни.
III
Невеселое лето досталось нам в этом году. Известие о смерти отца Александра оказалось как будто роковым и для Хрептовского. Он продолжал хромать и жаловаться на боль, но мы с Барским не могли определить, до какой степени серьезны его жалобы, так как он упрямо отказывался об’яснить ближайшие свойства своей болезни. Наша мирная трудовая идиллия была разрушена. Из города приезжали дважды на большой лодке за рыбой. Мы попробовали было отправить Хрептовского обратно в город, но он решительно отказался.
— Скучно в городе! — сказал он коротко. — Там мне нечего делать!..
Он продолжал крепиться и старался не пропускать очередей, но теперь наш промысел уже не был так удачен, как прежде. Вместо того чтобы при хорошем лове метать двенадцать тоней подряд, мы рано уезжали домой и отдыхали гораздо больше, чем это требовалось условиями работы. Ночной неводьбы мы избегали, хотя, начиная с августа, рыба ловится всего лучше ночью. Теперь обыкновенно мы с Барским подавали голос за сокращение работы, а Хрептовский настаивал на том, чтобы все продолжалось попрежнему, но не мог пересилить нашего решения. Так прошел промысел омуля и чира, и начался ход максуна со второй половины августа. Поневоле нам пришлось промышлять ночью, потому что днем максун не имеет хода; но после первых шести тоней в холодной ночной воде Хрептовский улегся в постель и на следующее утро уже не мог подняться. Повидимому, он застудил свою болезнь, и положение его сразу ухудшилось. Если кто-нибудь упрекнет нас за то, что мы допустили его до такой неосторожности, в оправдание я отвечу, что на Колыме мы привыкли обходиться без доктора и лекарств и в общем так же мало внимания обращали на свои болезни, как туземцы, признающие только такую болезнь, от которой у них мясо валится кусками, как при сифилисе или проказе. К счастью, в это время у нас гостил Кронштейн, которого мы тайно от Хрептовского попросили остаться во время его последнего приезда. Хрептовскому мы сказали, что он собирается отправиться пешком через горы в ближайшие поселки якутов на озерах, богатые рыбой, молочными продуктами и красивыми девушками. Конечно, мы имели в виду, чтоб невод не остался без рабочих рук, так как главный осенний промысел, дававший три пятых всей добычи, был еще впереди, и нам непременно хотелось наверстать осенью то, что мы могли потерять за лето.
Итак, Хрептовский слег. У него оказался большой нарыв на промежности, который медленно созревал, причиняя ему мучительную боль. Нужно было обладать изумительным геройством или упрямством, — назовите это, как хотите, — для того, чтобы с таким нарывом изо дня в день ездить в лодке, тянуть и закидывать невод и участвовать в тысяче других работ, нетрудных для здорового, но мучительных для человека, который не может даже ступить как следует. Преувеличенная стыдливость заставила Хрептовского скрывать свою болезнь, пока она не разрослась до таких опасных размеров. Разумеется, если бы мы знали о нарыве, мы настояли бы, чтобы Хрептовский бросил неводьбу во-время.
Теперь Хрептовский оставался дома на попечении Манкы, а мы усердно занимались промыслом, развешивая осеннюю рыбу на вешалках и складывая ее в погреб в свежем виде… Было так прохладно, что рыба не портилась даже без соли.
Одну ночь за другой мы проводили без сна, переезжая с тони на тоню и вырывая у темной и ненастной реки все новые и новые сотни рыб. Приезжая наутро в избу, мы были слишком утомлены, чтобы обращать особенно много внимания на больного товарища, тем более, что мы не могли ему ничем помочь. Отправлять его в город не имело никакого смысла. Жилища там мало превосходили по удобствам нашу избушку, а уход мог быть только хуже. Правда, в городе были кое-какие лекарства, но полусумасшедший фельдшер, единственный на весь огромный округ, давно утопил в вине последние остатки медицинских знаний, и обращаться к нему было опасно. Только минувшей весной он разрезал одному туземцу вместо больной правой руки левую, совершенно здоровую. В нашей избе было тепло, у нас была ежедневно свежая рыба, а горожанам приходилось питаться лежалою, из погреба.
Мы решили оставить у себя Хрептовского до самого конца промысла, когда приходится покидать заимку и спускаться к городу по быстро мерзнущей реке, наполненной шугою. Быть может, это решение было все-таки опрометчиво, но Хрептовский сам настаивал на том, чтобы оставаться с нами до конца, а промысел не давал нам ни минуты досуга, чтобы подумать о возможных последствиях.
Куропатки и горностаи побелели, дикие олени покрылись новой, лоснящейся шерстью. Медведь собирался лечь в берлогу. Свежераспластанная рыба, пролежав ночь на крыше, замерзала до такой твердости, что ее можно было строгать ножом, приготовляя строганину — любимое блюдо северян. А ледяная заберега росла да росла и под конец стала задергивать мелкие курьи, заливы и тихие речные заводи. Наступила пора оставить заимку и перекочевать в город, где предстояло провести долгую полярную зиму в общей куче, по пословице: «На людях и смерть красна»!
Мы стали собираться домой в одно пасмурное утро, ибо ясная погода была теперь редкостью. Было тихо и сыро. Густой туман лежал на реке, мелкий снег сыпался с неба, как сырая крупа, таял в воде, но покрывал белым налетом землю и обнаженные деревья. Мы связали вместе три лодки, которые нам привели недавно из города, и сложили на них вяленую и соленую рыбу и свое несложное имущество. Большая часть рыбы осталась в амбаре, и мы должны были вывезти ее уже зимою, на собаках. Для Хрептовского мы устроили ложе посредине самой большой лодки, составив вместе несколько бочонков одинаковой величины и положив на них сверху тонкие доски. Мы разостлали на них все наши постели, чтобы ему было помягче, и покрыли его всей теплой одеждой, какую только имели. Он молчал и даже не отвечал на вопросы, удобно ли ему лежать. Только его острый, слегка воспаленный взгляд переходил постоянно с лица на лицо и с одного предмета на другой. Его томила жажда, и Манкы, научившаяся безмолвно угадывать его желания, несколько раз поила его из чайника холодным настоем кирпичного чаю. Потом чай весь вышел, и она стала давать ему холодную воду прямо из реки. Ему было, повидимому, жарко, и он все порывался сбросить с себя покровы, но смуглая женская рука каждый раз натягивала их обратно до самой шеи.
Мы выплыли на середину течения и поплыли вниз. Река так обмелела, что нужно было смотреть в оба, чтобы не сесть на мель. Водовороты у Красного Камня давно обсохли, и даже для наших мелких лодок оставался доступным только фарватер не шире тридцати-сорока саженей. Мы обогнули Камень и выплыли в широкий круглый залив, который теперь представлял лабиринт протоков между бесчисленными островками. Туман стал еще гуще. Мокрый снег повалил крупными хлопьями, заваливая все в нашей лодке. Мы устроили над Хрептовским навес из старой палатки, но край отвисал под тяжестью снега, и белые хлопья падали Хрептовскому на одеяло и даже на лицо.
Поздно вечером добрались мы до города. Толпа товарищей выбежала нам навстречу и стала разгружать лодки, а мы раскутали Хрептовского из его многочисленных покровов и, положив его вместе с постелью на широкий четырехугольный кусок ткани, понесли на угорье. Десяток городских мальчишек собирались на даровое зрелище и бежали за нами вслед.
На Колыме так носят только тяжко больных, и редко бывает, чтобы живой человек поднялся опять с такого полотна.
Мы поднесли Хрептовского к небольшой избушке на дворе Павловского дома, которая служила ему обыкновенно зимним логовищем, и внесли его внутрь, с трудом протиснувшись сквозь неуклюжую дверь, обитую шкурой и открывавшуюся только до половины.
— Назад легче будет! — вдруг сказал больной, странно усмехнувшись.
У меня пробежали мурашки по спине. Слова эти звучали, как зловещее предзнаменование.
Избушка была вроде обыкновенного амбара, с плоской крышей и приземистой трубой из сырого кирпича. Единственное подслеповатое окно было заклеено бумагой, в ожидании, пока глыба осеннего льда, примороженная к подоконнику, заменит стекла. Манкы несколько времени колебалась, потом подхватила свою постель подмышку и внесла ее за нами в избушку Хрептовского.
Печь в избе была вытоплена. Общественная забота поддерживала теплоту в будущем жилище больного, но подходящей пищи для него не было. В это время коровьего мяса нельзя достать в Колымске ни за какие деньги, и думал о бульоне бесполезно. Единственная пища обитателей состоит из рыбы различных степеней свежести.
Вечером в большой зале клуба сошлось около двух десятков человек. О Хрептовском не говорили ни слова, так как это был предмет, слишком тяжелый для обсуждения. Но само собой подразумевалось, что я и Барский, в качестве его ближайших друзей, примем на себя уход за ним, тем более, что после неводьбы мы были свободны от хозяйственных работ. Мы решили дежурить по очереди, и, напившись общего чаю и управившись с казенной порцией вареной рыбы, составлявшей ужин, я отправился в избу Хрептовского. Там было тепло и сравнительно чисто. Манкы прибрала все ненужные вещи. Так как мыть пол было неудобно при больном, она оскребла неровные доски большим ножом во всех местах, которые только были доступны ее рукам. Она вырубила топором грязь, которая нарастала за печкой, кажется, целыми веками, выскоблила также стол и чисто обмела глиняный шесток камина. Когда я вошел, она уже сидела по своему обыкновению на лавке, в темном углу у печки. На столе стоял чайник с чаем и медный подсвечник, тоже обнаруживавший следы чистки, но свеча из «утопленного» сала плыла, заливая медный круг подсвечника и стол полужидкими ручейками. В комнате было довольно темно, только большие глаза Манкы блестели из угла, повидимому отыскивая, нельзя ли еще что-нибудь выскоблить или привести в порядок.
Глаза Хрептовского тоже блестели. Он постоянно поворачивал их в сторону Манкы с каким-то очевидным желанием, которое затруднялся высказать.
— Скажи ей, чтоб она ушла! — вдруг громко сказал он, обращаясь ко мне и делая нетерпеливый жест. — Ничего ей не очистится! Слышишь, Манкы! — прибавил он сердито, обращаясь к девушке. — Полно тебе ходить вокруг меня!.. У меня жена есть, там, дома, в России!..
Девушка ничего не ответила, но слегка отодвинулась назад, как будто намереваясь забиться в свой угол подальше.
Я с удивлением смотрел на них обоих и не мог даже решить, в бреду ли Хрептовский, или в полном сознании.
— Лучше тебе с самого начала знать! — продолжал Хрептовский. — Ничего для тебя не выйдет!.. Брось меня, я злой!.. Ищи другого, подобрее!..
Девушка упрямо молчала. Но мне стало казаться, что Хрептовский прав. В бессонные ночи и долгие бездеятельные дни, которые он провел наедине с Манкы, он проник в глубину этой дикой и нетронутой натуры и понял, что она полубессознательно стремится завоевать его у жизни и обстоятельств, и, несмотря на свою слабость, он не захотел будить в бедной дикарке надежд, которым не суждено было осуществиться. Я опять удивился, но уже по другому поводу. На одре тяжелой болезни, подавленный беспомощностью, Хрептовский нашел в себе силу отвергнуть единственный для него доступный женский уход, для того, чтобы не связать себя с Манкы узами благодарности, которые не могли приобрести более тесный характер.
Девушка, однако, не подавала голоса, не уходила и не ложилась спать. Хрептовский, истощенный напряжением, какое он должен был сделать, чтобы так грубо об’яснить Манкы истинное положение дел, закрыл глаза, и, кажется, задремал. Но мы с Манкы сидели еще несколько часов и сторожили, как на вахте, сами не зная, зачем. Больной лежал тихо и дышал ровно. Я надеялся, что этот продолжительный сон освежит его. Свечка плыла и нагорала шапкой, которая обрисовалась причудливой тенью на потолке избы. Мыши скреблись и с шумом бегали за печкой, по всей вероятности спасаясь от горностая, который селился на зиму в подпольи и преследовал их лучше всякой кошки. Осеннее ненастье ныло и стучало в окно. Под конец я задремал, опустив голову на стол. Когда я проснулся и стал снимать нагар со свечи, я увидел, что и молодая якутка улеглась на лавке и, свернувшись калачиком, дышала так же ровно, как и больной на своей неуклюжей кровати, сколоченной из старых досок.
На другой день я рассказал Барскому странную сцену минувшего вечера. Он не сказал ничего, но в глазах его пробежала искра, и мне показалось почему-то, что он понимает все дело совсем иначе, чем я. Манкы не ушла и возилась в избе, приготовляя еду, а Хрептовский молчал, но глядел на нее строгими глазами. Видно было, что он продолжает относиться неодобрительно к ее присутствию. Барский занял мое место перед столом, хотя, в сущности, до сих пор мы были мало полезны больному, не умея придумать ничего для увеличения его комфорта. Я постоял немного перед Барским, потом отправился в Павловский дом заснуть уже по-настоящему. Переезд с заимки в город и бессонная ночь порядком утомили меня, и я проспал до позднего вечера. Проснувшись, я закусил холодной рыбой, которую очередной дежурный из общей столовой любезно принес ко мне в комнату, и решил наведаться к Хрептовскому. На этот раз ночь была тихая и погожая, одна из тех темных ночей, которые как будто по ошибке иногда случаются на Колыме в конце сентября, быть может, для того, чтобы живее напомнить людям о красоте уходящего лета. Небо было покрыто тонкими облаками, но желтый месяц просвечивал сквозь этот прозрачный покров, и местами в прорехах его мерцали звезды. Было так тепло, как будто впереди еще оставался целый летний месяц, хотя несколько часов назад по реке уже прошли широкие осенние льдины.
Дорога, по которой я должен был пройти, вела к задней стене дома Хрептовского, где густые кусты ольхи, талины и березника образовывали нечто вроде палисадника. Обогнув угол, я вдруг услышал голоса и остановился послушать, нисколько не думая, что подслушивать не годится.
Это были Барский и девушка. Они стояли у входа в избу, повидимому, вызванные наружу теплотою последней погожей ночи и предоставив Хрептовского, если он не спал, самому себе. Барский говорил с большим красноречием, а Манкы стояла и молча слушала его.
— Видишь! — убедительно произнес Барский. — Хрептовскому ты не нужна. У него другая жена есть! Зачем же тебе лезть насильно?
Наступила короткая пауза.
— Что же, что ты его любишь, — продолжал он, как будто получил об’яснение, хотя девушка не раскрывала рта, — если он тебя не любит?..
Опять наступила пауза.
— Знаешь что? — сказал Барский самым простым тоном. — Ты полюби лучше меня!
Манкы сделала внезапное движение, как будто она не ожидала такого категорического заявления.
— Право… — настаивал Барский. — Я ничем не хуже Хрептовского. Он — больной, я — здоровый… Еда у нас найдется. Будет чем прокормить лишний рот!
Манкы молчала.
— Дался тебе этот Хрептовский! — произнес Барский с оттенком досады. — Он ведь через год уезжает, если здоров будет… Тебя ему некуда с собой взять.
— Все вы уедете!.. — вдруг сказала девушка с оттенком грусти.
— Нет! — возразил Барский. — Я не уеду. Мне еще бог знает, сколько лет жить здесь… Пойдешь ко мне да захочешь — я совсем здесь останусь!..
К моему еще более сильному изумлению, в ответ раздался тихий смех.
— А робить чего станешь? — спросила девушка.
— Рыбу ловить стану, кладь возить, дрова рубить!.. Все, что люди делают, то и я… Я ведь по-хорошему, замуж… В церкви обвенчаемся…
Я невольно вспомнил якута, который сватался к Манкы летом. Речи Барского причинили мне боль. Я никак не мог предполагать, что ею страсть к девушке зашла так далеко.
Несмотря на нашу обычную взаимную бесцеремонность, мне стало неловко слушать дальше, и я вышел из-за утла и вошел в полосу тусклого света, падавшую от промасленной бумаги окна. Но мне пришлось только довершить свою нескромность. Барский и Манкы стояли, обнявшись, у другою угла избы. Я не предполагал, что дело у них сладится так быстро.
Впрочем, заметив меня, девушка быстро и бесшумно, как змея, выскользнула из об’ятий Барского и скрылась в избе. Барский постоял немного и посмотрел ей вслед.
— Пройдемся до реки! — обернулся он ко мне.
Мы медленно шли рядом по узкой дороге, уходившей к церкви. Земля, подмерзшая за предыдущие дни, но оттаявшая немного сверху в эту теплую ночь, была слишком мягкая для тонких подошв наших туземных сапог. Местами поблескивали белые пятна снега, который не растаял и ожидал утреннего заморозка, чтобы снова отвердеть.
— Что ж! — начал Барский не совсем уверенным голосом, в самом звуке которого слышалось, однако, мало определенное, но воинственное настроение. — По-моему, я никого не обидел… Хрептовскому она не нужна… Видишь, он ее из избы вон гонит!.. А мне… А мы с нею поладим!..
— Совет да любовь! — отпарировал я с недоброжелательством, в котором не отдавал даже себе ясного отчета.
Наше общественное мнение вообще не совсем одобряло союзы с местными женщинами, хотя смотрело на них, как на необходимое зло. Кроме того, наша колония представляла собой нечто вроде светского мужского монастыря, и женщина per se являлась враждебным элементом.
— Но неужели ты думаешь оставаться здесь совсем? — прибавил я, помолчав.
— Я думаю? — с горечью возразил Барский. — За меня уж придумали давно…
— Пустое! — сказал я. — Каждое определенное число лет имеет свой конец. И не из таких глухих ущелий выходили люди на простор.
— Плевать! — отвечал Барский. — Они выходили, или нет… А мне все равно!..
Я молчал.
— Эта пустыня стала моей родиной! — заговорил Барский. — Недаром я из’ездил ее из одного глухого угла в другой… Что я знал, когда пришел сюда? Несколько одесских улиц да наш гимназический сад, как он открывается из классного окна… Я родился и вырос в городе… Природы я не нюхал. Я не видел, как течет река или растет трава в поле. Из вольных зверей я знал только мышь, а из птиц — воробья… И делать я ничего не умел… Я не имел понятия, берут ли топор за лезвие, или за топорище. Я не умел развести огня, вырезать что-нибудь ножом, вытесать теслом или выкопать лопатой…
— Ну, так что же? — сказал я.
— Здесь я стал человеком! — продолжал Барский с возрастающим воодушевлением. — Что такое горожанин? Какой-то бесполезный выродок, умеющий только царапать пером да мерить аршином, для которого другие люди должны запасти и пищу, и топливо, и одежду, чтобы он не умер с голоду. Здешняя жизнь дает нам практические уроки и учит в постоянной борьбе вырывать у природы все необходимое… Борьба создает силу и закаляет ее… Кто умеет бороться с морозом и пургой, сумеет потом пригодиться и на что-нибудь другое…
— Как же сумеет, — спросил я, — если ты хочешь остаться здесь совсем?
— Так ведь я тебе говорю, что сроднился с здешней природой! — крикнул Барский. — Русской природы я не знал, а что знал, то забыл. Вон я все лиственные деревья забыл… Сада не могу себе представить. Даже во сне ничего не вижу кроме тальников. А здесь по крайней мере простор… ни конца, ни краю. И никто не стоит над твоей душой. Ты сам работник, сам и хозяин. Делай, что хочешь, живи, как знаешь!.. Да за это одно не променяю низких берегов этой реки на самые цветущие сады Сицилии.
— Что же ты думаешь делать? — спросил я его, не пытаясь бороться с этим потоком беспорядочных чувств и слов.
— А вот возьму Маньку, да и уедем в улус! — ответил Барский. Он неожиданно перекрестил свою возлюбленную из якуток в русские. — Нам теперь здесь не место!.. Да и еды там больше. Стану по озерам сети ставить, еще вам мерзлую рыбу посылать буду. Купим двух коров. Летом сено косить стану, огород разведу!..
— А если соскучишься? — спросил я.
— Соскучусь, в город поеду!.. К вам же… Я разве зарекаюсь? Когда угодно можно назад приехать… Да если даже уж очень надоест, можем мы и вовсе отсюда уехать. Не первый пример. Я ведь не зарекаюсь ни от чего.
— Как знаешь! — сказал я, подумав. — Ты не маленький… А с Хрептовским как?
— Что ж!.. — ответил Барский спокойно. — Я ничем не могу помочь. Нам лучше уехать. Теперь… завтра!.. А вместо меня будет Кронштейн.
Равнодушный тон Барского меня нисколько не удивил. Наше общество было скреплено такими прочными узами, что можно было свободно обходиться без бесполезной роскоши жалких слов и болезненных сочувствий. И каждый мог, если хотел, отойти в сторону, зная, что другой заступит его место. Жизнь закалила наши сердца и научила отбрасывать прочь всякий лишний оттенок сострадания. Это был закон нравственного самосохранения. Если бы, при наших бесконечных бедствиях, мы не научились довольствоваться необходимым минимумом сострадания, мы бы давно уже не имели возможности существовать.
Мы подошли к обрывистому берегу узкой реки, которая впадала в Колыму и делила Колымск на две неравные части. С одного берега на другой был переброшен утлый мост, опиравшийся на три пары козел, с досками, дрожавшими под ногой, как старые клавиши, а глубоко внизу скорее угадывалась, чем виднелась, гладкая черная вода речки, разлившейся круглым заливом и незаметно соединившейся с великой рекой. На другом берегу неясно темнела полоса угорья, подмытая осенним разливом и рухнувшая вниз вместе с деревьями и кустами. Даже днем это было такое пустынное место, что дикие утки подплывали стаями под самый мост, а выдра охотилась за рыбой вокруг непрочно забитых свай, несмотря на то, что на другом берегу в десяти шагах от берега стояло полицейское управление, уже покачнувшееся набок от оседания подмытой почвы.
— Пойдем назад! — предложил я. — Может, что-нибудь нужно Хрептовскому!..
Барский немедленно повернул и пошел впереди меня. Он считал, очевидно, разговор оконченным и не хотел продолжать его, но в самом звуке шагов Барского слышалась непоколебимая готовность защищать свою любовь и свой новый план жизни от всех дружеских и враждебных нападений.
Хрептовский лежал на спине с открытыми глазами и смотрел на пламя свечи.
Он улыбнулся нам навстречу, и я понял, что он все знает.
— Это хорошо, — сказал он, поворачивая голову к Барскому. — Надо жить, кому можно жить.
В голосе его прозвучала грусть, как будто себя он уже не причислял к тем, кому можно пользоваться жизнью.
— Она мне сказала, — продолжал он, указывая на девушку, которая сидела на своем прежнем месте, как ни в чем не бывало. — Уезжайте в улус. Хорошо. Так и надо!..
Меля несколько удивило одобрение, с которым он отнесся к неожиданному поведению Барского.
До этого он был воздержным из воздержных и суровым из суровых, но болезнь, очевидно, переучила его и внезапно заставила иначе смотреть на житейские отношения.
— Когда вы поедете? — спросил он, помолчав.
— Завтра, — просто ответил Барский.
— Хорошо!.. — повторил Хрептовский. — Поезжайте!.. А мы останемся!..
Он старался придать своему голосу бодрость, но в глазах его светилась тоска. Я понял причину его внезапной снисходительности. Мы мало жалели себя, а потому были суровы к самым близким людям. Болезнь заставила его снова после долгих лет пожалеть самого себя глубоким, настоящим образом, а вместе с тем сделала его мягким к людским слабостям, нуждам и страстям.
— А теперь я хочу спать! — сказал Хрептовский. Потушите свечу и уходите все… Мне никого не нужно…
И он закрыл глаза и отвернулся к стене. Мы взялись за шапки.
Другой комнаты в избе не было, так что волей-неволей приходилось уходить куда-нибудь, так как спать было еще рано.
Барский и девушка исчезли быстро и совершенно незаметно. Я отправился в наше обычное место, залу Павловского дома, где было тепло и светло и где я мог, никому не мешая, досидеть до того времени, когда полуночная дремота заставит меня вернуться в избу больного.
IV
Прошла неделя с тех пор, как Барский уехал в улус, длинная худая неделя, которая не дала мне сомкнуть глаз больше половины ночей и переполошила наконец население нашего муравейника. Болезнь Хрептовского внезапно приняла зловещий оборот. Утром уехал Барский, а вечером вскрылся нарыв у Хрептовского и открылся сквозным свищом наружу.
С тех пор и до нынешнего дня он не перестает подплывать гноем, сукровицей и чем-то еще более зловонным, чему не могу подыскать имени. У нас нехватает белья для перевязок и бинтов. Все мы давно привыкли спать на звериных шкурах, и у всей нашей колонии нашлось только три простыни. Теперь простыни изорваны… Больному приходится лежать на такой же шкуре, которая вся испятнана лужами застывшего гноя. Шкура лезет и гниет. Все тело Хрептовского покрыто мелкими клочками слипшейся шерсти.
Как-то довелось мне видеть чукчу, умиравшего от оспы на груде меховых лохмотьев, насквозь пропитанных полузастывшим гноем. Он весь представлял со своей подстилкой одно отвратительное целое. Края подстилки засохли и покоробились, истертое меховое одеяло, прикрывавшее этот еще живой труп, приклеилось к язвам и липкому голому телу.
Помню, нервы мои были еще свежи, и я ужаснулся этой первобытной беспомощности, которая равняет больного человека со зверем, издыхающим от заразы.
Хрептовский теперь выглядел немногим лучше этого чукчи. У нас нехватало белья, чтобы содержать его в чистоте, нехватало и мыла, чтобы перемывать немногие ветхие рубахи, принадлежавшие ему. Собственные рубахи мы раздирали на бинты и перевязки, и общее количество белья в нашей колонии ежедневно становилось меньше и меньше.
Грязная, скверная болезнь…
Хрептовскому приходится неподвижно лежать на спине, в самой неудобной позе, как родильнице в момент напряжения схваток. Под него нужно подкладывать сухие тряпки, чтобы предохранить сколько-нибудь постель от грязи и гниения. Кровать стоит прямо против двери, так как это самое сухое место в избе. Каждый раз, когда дверь открывается, волна холодного воздуха врывается внутрь. А прикрыть его потеплее нельзя, чтобы не разбередить грубым одеянием его наболевших язв.
И никакой медицинской помощи. Мы вытащили фельдшера из его берлоги и привели к себе. Он по обыкновению был пьян и, посмотрев мутными глазами на больного, произнес медицинский термин непристойного свойства. Нам ничего не оставалось, как отпустить его домой. У нас в библиотеке есть кое-какие медицинские книги, и я перечитываю их с утра до ночи, стараясь найти какое-нибудь полезное указание, но разбираться в них трудно. У человечества слишком много болезней, и диагноз их до утомительности однообразен и до неуловимости неопределенен. Я никогда не предполагал, что на свете так много болезней. Только теперь я узнал, что у человека может случиться тридцать два рода болезней печени и сто двенадцать видов болезней легких, что на каждой части тела снаружи может вскочить по очереди несколько десятков различных нарывов, злокачественных и иных, и целая сотня желез может на столько же различных способов распухать и воспаляться внутри. И в результате почти всегда зловещее предсказание: упадок сил, заражение крови, болезненное состояние, смерть.
За эту неделю абсцесс три раза раздувался гноем до размера апельсина и потом изливался под кожу в самых неудобных местах. Приходилось его вскрывать старым ланцетом, отточенным на оселке, одним из тех старинных ланцетов, которыми туземцы отворяют себе кровь. Хрептовский все время находился в беспамятстве, и мы опасались, что он уже не очнется. Но в этом слабом теле таится удивительная сила. По временам, когда он приходит в сознание и чувствует себя лучше, он заставляет меня читать вслух соответственные места медицинских книг и вместе со мной старается найти диагноз и угадать исход. Есть одно печальное место в терапии Нимейера, которое кажется ему наиболее подходящим, а я хотя и оспариваю, но внутренне соглашаюсь, что он близок к истине.
Там говорится о воспалении предстательной железы от долгого воздержания.
«Выздоровление редко, почти невозможно, — говорит Нимейер. — В лучшем случае больному угрожает потеря мужественности».
Последний пункт действует на Хрептовского особенно удручающим образом.
Бедный Хрептовский!.. Мы обыкновенно мало интересуемся личными отношениями друг друга там, в пределах живого мира. У каждого порвано слишком много собственных дорогих связей, которые поневоле приходится забыть, и ни у кого нет охоты интересоваться еще чужими потерями. Но история Хрептовского мне известна в подробностях.
Еще совсем молодым человеком, почти мальчиком, он из маленького захолустного местечка Волынской губернии уехал в столицу учиться. В том же местечке была девушка, дочь кабатчика, еще моложе его, которая тоже хотела учиться, но родители вместо того подыскали ей жениха из соседей кабатчиков со своим капиталом. Хрептовский вызволил ее при помощи фиктивного брака, и они уехали вместе.
В столице им пришлось поселиться на одной квартире и даже в одной комнате, так как на две комнаты нахватало средств. Они пропадали с голоду, не обедали по три дня, жили перепиской, по гривеннику за лист. Зато на смену фиктивному браку очень скоро пришла настоящая любовь. Но они были так молоды, что реальный брак не успел осуществиться.
Внезапно настала разлука. Хрептовского послали в Пропадинск, а мадам Хрептовская тем временем помирилась с родными и, получив от них небольшую пенсию, уехала за границу продолжать учение, добралась до Чикаго, где попала на какие-то педагогические курсы. С тех пор прошло уже немало лет. Хрептовская успела окончить курсы, открыла собственную школу и приобрела независимое положение, но она не забыла своего юного супруга, и письма ее, хотя добрая половина их пропадала, были в числе тех немногих звеньев, которые поддерживали нашу связь с внешним миром. Теперь Хрептовскому оставалось дожить лишь несколько месяцев до от’езда, а там перед ним должен был внезапно раскрыться широкий свет, где в свободной стране его так жадно и долго ожидала любящая душа. И все это должно было рухнуть, и еще от такой причины. Было от чего прийти в отчаяние самому испытанному сердцу.
Почитав Нимейера и Эйхгорста три дня, мы стали пробовать то одно, то другое средство, совсем наудачу, чтоб только не оставаться бездейственными. Прикладывали припарки, горячие и холодные компрессы, делали втирания иодом и иодистым калием, но никто из нас не мог определить, в каком направлении действуют все эти средства. Нужны были инструменты, которых не было, операция, о которой мы не имели никакого понятия. Мы могли только увеличить уход, то есть ввести в оборот еще одного человека для третьей смены, но, конечно, больному от этого не стало лучше. Я, впрочем, почти все время проводил в избе Хрептовского и уходил раз в два дня соснуть несколько часов в полуденное время, когда Хрептовский чувствовал себя лучше всего.
Обиднее всего было то, что мы никак не могли достать подходящей пищи для Хрептовского. Свежего мяса все еще не было в городе; достали мы, правда, стегно коровьего мяса, но оно было такое лежалое и затхлое, что мы даже не пробовали готовить из него бульон больному и отдали его прямо в общий котел, на улучшение пищи жиганов…
Два часа после полуночи. Свеча нагорела на столе. В избе тепло, но немного угарно, ибо нам приходится слишком усердно кутать трубу. На улице воет ветер и стучит в бумажное окно. Где-то далеко под горой хлопает и качается лодка, непрочно укрепленная на зимних стойках. На крыше жалобно шуршат поплавки невода, отслужившего летнюю службу и подвешенного грудой на стойках.
Хрептовский разметался в бреду и стонет:
— Цецилия, Цецилия, пить!..
Напрасно я встаю и подаю ему воду, — он отталкивает железный ковшик или вовсе не замечает; его зубы стиснуты, лицо горит огнем:
— Уйди! — кричит он. — Палач, не мучь меня!..
Но я уверен, что он не узнает меня.
Только усядусь на место, опять начинается:
— Пить, Цецилия, Цецилия!..
Где я ему возьму Цецилию?.. Чикаго далеко, а здесь нет ни одной женщины, которая положила бы на его горячий лоб руку, утоляющую жар, и даже полудикая пропадинская Миньона покинула нас с Хрептовским и променяла нашу, провонявшую болезнью берлогу на более счастливую жизнь со здоровым товарищем.
Устал я за последние три дня. Если даже уйдешь днем в свою избу на час или на два, — заснуть невозможно. Все думается — какой конец будет этому? Никто еще не умирал у нас на Колыме. Это — первый случай.
Свеча нагорает все больше и больше. В комнате почти совсем темно. Хрептовский зовет Цецилию. Незаметно для самого себя я опускаю голову на руки и засыпаю.
— Владимир!..
Тихий оклик Хрептовского внезапно пробуждает меня. Глаза его смотрят на меня ярким, совсем сознательным взглядом.
— Дай мне пить, Владимир! — повторяет он мое имя.
Я вскакиваю с места и поспешно подаю ковшик. Он припадает запекшимися губами к краям; тянет, тянет, выпивает весь ковшик, потом откидывается на подушки. Через минуту он опять поднимает голову и открывает глаза. Они блестят страшным блеском; в комнате от этого блеска становится как будто еще темнее.
— Что, брат, плохо дело! — начинает он. — Умирать приходится!..
— Ну вот! — возражаю я не совсем уверенным голосом. В горле у меня начинает саднить, и нижняя челюсть судорожно стягивается, как от озноба.
— Умирать приходится… — шепотом повторяет Хрептовский и задумывается.
Мне кажется, что он думает необыкновенно долго, и этот момент длится без конца.
— Умереть! — вырывается у него. — Умереть в глуши, одному… далеко от света!.. Для того ли я прошел сквозь огонь и воду?..
— Успокойся, — говорю я, чтоб сказать что-нибудь.
— Я жить хочу! — кричит Хрептовский. — Я еще не жил!.. Где моя доля, где мое счастье? Отвечай!..
Я не отвечаю. Кто может ответить ему на этот вопрос?
Наступает продолжительное молчание.
— Цецилия! — вдруг громко и жалобно вскрикивает опять Хрептовский. — Приди, Цецилия!.. Мне холодно!.. Дай руку, Цецилия! Помоги мне встать!.. Кости мои не сгниют в этом мерзком гробу!
Я буду ждать, чтоб день суда настал!..цитирует он нараспев чей-то стих. — Помоги мне встать, Цецилия!.. Мне пора на суд!.. Страшный суд!..
Дрожь пробегает по моей спине. Я готов вскочить и трясти Хрептовского, чтоб пробудить его от этого кошмара.
Наступает опять бесконечно долгая пауза.
— Цецилия, любовь моя!.. — начинает опять Хрептовский. — Цецилия, дай руку! Ждал, мучился… ждал, ждал, томился… Теперь дождался…
Жалкий всхлипывающий звук прерывает слова. Даже в бреду Хрептовский, видимо, не верит внезапной мечте.
А я сижу напротив и думаю. Мне представляются одна за другой картины ближайшего будущего. Вот кончилось мое дежурство у постели Хрептовского, а сам он, обмытый наконец от своей гнойной коры, в чистом белье лежит на столе. Лицо его покойно и сурово, но мне все кажется, что последний зов: «Цецилия!» еще дрожит на его раскрытых устах. Френкель сколачивает длинный ящик из грубых лиственничных досок, мы с Кронштейном тяжелыми кайлами вырубаем могилу в мерзлой глине, твердой, как камень… Вот и похороны… Длинный ящик опущен в могилу и забросан комьями земли. Кто-то сказал речь, в ней много смелости и силы, но я почти не слышу ее. Мне и из-под земли, сквозь деревянную крышку ящика, слышится все тот же громкий жалобный зов: «Цецилия!»
А с неба валит хлопьями густой снег и заметает нашу работу. Короткий осенний день кончается. Поднимается вечерняя вьюга. Мы озябли и торопимся уйти с кладбища. А вдогонку нам уже воет и визжит сумасбродная метель, и в воплях ее мне слышится тот же немолчный зов: «Цецилия!..»
V
До чего живуч человек!.. Вьюги жизни бросают его из стороны в сторону, а он все успевает падать на ноги и как ни в чем не бывало пускается дальше хлопотать по своим делам. Жизнь его бьет, калечит, уродует, а все все выздоравливает и остается цел.
Известную латинскую поговорку следовало бы переделать так:
«Все люди бессмертны. Кай человек, — следовательно, Кай бессмертен».
По крайней мере, один такой Кай воскрес из мертвых прямо на моих глазах.
В ту ночь, которую я описывал, я был до такой степени убежден, что Хрептовский умрет, что ясно представлял себе его смерть и похороны во всех подробностях. Но прошла неделя и другая, а Хрептовский все скрипел и не хотел окончательно поддаваться своей болезни. Абсцесс за абсцессом вскрывался на том же месте, все было изборождено свищами, мы извели все свое белье на бинты, — а развязки не было. Несколько раз ему становилось лучше, и мы начинали надеяться, потом опять вскрывался новый нарыв. Так прошло целых четыре месяца, самых темных и печальных во всем пропадинском году. Избы наши совсем замело снегом, окна были закрыты огромными кусками льда, стены завалены правильными снежными окопами. От продолжительного лежания на спине у Хрептовского образовались пролежни, которые мы смазывали рыбьим жиром. Он исхудал, как скелет; от него остались только кожа да кости, а молодость все еще боролась со смертью и не хотела уступить ей добычу.
Прошли декабрь и январь, ужасная полярная зима; в половина февраля дни стали солнечны и светлы, исчезла худшая гонительница полярного человека — тьма.
Весна наводит человека на счастливые мысли. Я нашел где-то в нашем неистощимом складе тонкую гуттаперчевую трубку и, закруглив ее ножом, сделал при помощи обрывка проволоки подобие инструмента, который доктора называют катетером.
Учиться вводить его мне пришлось над Хрептовским in corpore vili[16]. Он не верил в успех и капризничал, тем более, что каждая попытка причиняла ему жестокую боль, но я не унывал и в конце концов добился своего. Через две недели, на зло Нимейеру, все раны и свищи начали подживать. Потом наступил возврат болезни, необыкновенно жесткий, с новым огромным абсцессом, который был больше всех предыдущих. Доктор, которому я рассказывал потом подробно весь ход болезни, говорил мне, что на основании многочисленных примеров в медицине установлено, что в девяти случаях из десяти такие абсцессы вскрываются в одну из внутренних полостей, приводя за собой неизбежную смерть. Быть может, болезнь Хрептовского потому именно составила исключение, что она и протекала вне правил не только медицины, но и вообще цивилизации, в глубокой грязи и нищете полярного варварства.
Как бы то ни было, но после того, как окончился последний возвратный приступ, язвы Хрептовского стали подживать еще быстрее, появился сон, аппетит, и через три недели, к нашему и своему удивлению, он мог подняться на ноги и пройтись по комнате, хватаясь за стол и стены. Еще через две недели Хрептовский перешел через дорогу и впервые появился в Павловском доме. Ему устроили такую овацию, какой не запомнит наша колония за все время своего существования. Староста немедленно об’явил амнистию всем жиганам за забранные вперед завтраки. За обедом не было порций, и еда отпускалась в неопределенном количестве. Вечером были ржаные пироги с начинкой из конины, плававшие в растопленном конском жире, ибо конское мясо в Колымске вообще больше в ходу, чем коровье, и достать его легче. После ужина неизвестно откуда появилась даже водка, ужасная, неочищенная сивуха, насквозь пропахшая сивушным маслом, каждая бутылка которой продается на Колыме по три рубля. По глотку на брата было достаточно, чтобы прийти в самое восторженное настроение. Собрался наш домашний оркестр: две скрипки, флейта и гармоника, и начался импровизированный бал, продолжавшийся еще долго после того, как воскресший мертвец был отведен на покой. Женщин не было, но этим никто не смущался, и пары весело кружились по зале. Кто повыше, — были за кавалера, а кто пониже — за даму.
Больше, впрочем, плясали трепака, в чем у нас были большие искусники, и круглый танец, род хоровода ведьм на шабаше, где участвовали вместе все желающие, сколько бы их ни было.
Под нашим равнодушием таилось, в сущности, глубокое и горячее сочувствие друг к другу, но нужен был какой-нибудь выходящий из ряда вон случай, чтобы оно всколыхнулось и выступило наружу из-под обычной суровости, одевшей снаружи наше сердце и речь.
Забавно было видеть, как после выздоровления Хрептовский ходил из дома в дом, рассказывая о своей болезни и показывая in natura, как и где она излечена. Он, повидимому, был убежден, что мельчайшая подробность всего этого чрезвычайно интересна для любого из людей, живущих на земном шаре. Еще забавнее было то, что слушатели принимали его рассказ снова и снова с тем же неослабным вниманием и без всякой улыбки следили за его наглядными свидетельствами.
В настоящее время Хрептовский уже окончил свой искус и уехал в середине лета верхом и в самом цветущем состоянии здоровья.
Болезнь пошла ему на пользу, он похорошел, поздоровел, раздался в плечах и даже будто стал выше. И он так торопился, что даже ужасное летнее путешествие из Колымска в Якутск, вечно на коне и вечно по конское брюхо в грязи, не испугало его. Он поедет прямо в Америку, к своей Цецилии…
Итак, Хрептовский уехал, как уезжают все, чей искус был короток. Мы с Барским и еще несколько других должны оставаться дольше. Но я не унываю и знаю, что каждый определенный срок имеет свой конец, и в утешение себе все повторяю свою новую пословицу о человеческой живучести:
«Все люди бессмертны. Кай человек, — следовательно, Кай бессмертен».
С.-Петербург, 1899 г.
Елка
Крутой мороз стоял над городом Среднеколымском. Полярная земля закостенела под снегом, отдав последние искры тепла пронизывающему, холодному воздуху. Лесной клин, бесцеремонно втиснувшийся между «Голодным Концом» и церковью, застыл, как заколдованный. Деревья стояли, изнеможенно простирая по сторонам черные сучья, отягощенные тяжелыми снежными хлопьями, и как будто не смели пошевельнуться, чтобы не нарушить заклятия зимы. Даже небо, сиявшее бесчисленными тысячами звезд, дышало холодом и неподвижностью; только на севере полоска бледного сияния, мерцавшая в дымке розоватого тумана, каждый раз капризно изменяла свои очертания, и в ее глубине струилось что-то смутное, но живое.
На улицах было тихо, как в гробу. Даже собаки не решались затянуть один из своих обычных концертов и лежали на привязи, свернувшись в клубок и набросив хвост поверх головы, наполовину спрятанной в брюхо. Жители заперлись в домах и спали, как сурки, не обращая внимания на праздник. В церкви было темно. Вечерней службы не было, а утренняя должна была начаться только в пять часов, и дьячок в избе напротив улегся спозаранку спать. Только в одной довольно большой избе, у купчихи Гаврилихи, в оконных льдинах мерцал тусклый свет; там собрались начальство и купцы по случаю праздника, и теперь все резались в карты в ожидании заутрени.
В небольших окошках уединенной юрты, стоявшей на отшибе, над самым обрывом речки Сосновки, впадавшей в Колыму, если присмотреться к ним внимательно, тоже заметен был свет. Юрта была сверху донизу занесена снегом и окружена снежным окопом, доходившим до средины окошек. О том, что это — человеческое жилище, а не сугроб, свидетельствовали только угловатые очертания граней да столпообразная труба на плоской крыше.
Странно жилось в этом унылом жилище. Весной, в половодье, Сосновка подходила так близко, что можно было черпать воду прямо с порога. Осенью косматый бурый орел садился на крышу рядом с трубой, зимою белые куропатки иногда забирались в сени. Пара горностаев распоряжалась в амбаре, как дома, и залезала на ночлег в полуоткрытую суму с рухлядью, лежавшую в углу.
Итак, в окошках юрты, из-под тяжелых снежных шапок, полузакрывавших льдины, мерцал свет. Из столпообразной трубы поднимался столб дыма, немного развихренный вверху и ежеминутно пронизываемый снизу яркими и проворными искрами.
Здесь тоже бодрствовали люди, собравшиеся ради праздника.
Василий Андреич Веревцов, хозяин и собственник юрты, ежегодно плативший даже за нее в городскую казну пятнадцать копеек однопроцентного налога, устроил сегодня елку маленькому обществу своих друзей. Правда, по поводу этой елки происходила некоторая молчаливая борьба между Веревцовым и жителями Лядовского дома, где помещалась столовая и имела жительство единственная дама кружка, но Василий Андреич был слишком ревностным хранителем всех российских обычаев и воспоминаний, чтобы уступить кому-нибудь устройства рождественского праздника. Из всех пришельцев этот человек был единственным, который не уступал окружающей трущобе принесенных с собою привычек.
В бесплодной стране, не знающей культурных растений и заменяющей хлеб рыбой, он был убежденным вегетарианцем, тратил на покупку дорогой муки все свои ресурсы, запасал ягоды, грибы, дикий лук и, за всем тем, часто сидел голодным из-за отсутствия питательных средств растительного царства. Среди населения, напрягавшего все свои страсти в вечной погоне за дичью, он жмурился и закрывал лицо, когда при нем убивали куропатку. Он не признавал пропадинской меховой одежды и носил овчинный полушубок и валенки, привезенные еще из Шлиссельбурга. На зло суровостям полярного лета, он развел в парниках овощи и ценою неслыханных забот выращивал огурцы длиной в полтора дюйма и картофель величиной в орех. Репа и редька ему удавались лучше, и в минувшее лето ему удалось вырастить один экземпляр редьки в полтора фунта весом, который служил предметом любопытства и рассмотрения для всего города.
В юрте было темно, но довольно просторно. Сальная свеча в самодельном деревянном подсвечнике бросала кругом тусклый свет. Кирпичный камин, неуклюже выдвинувшийся вперед, загораживал чуть не половину пространства. Косые стены, кое-как составленные из тонких бревен, прислоненных вверху к четырем балкам, были покрыты матами, сплетенными из тальника, для того, чтобы сколько-нибудь помешать холоду входить сквозь щели; но маты примерзли к стенам и были покрыты толстыми шишками льда; во всех углах были целые ледяные наслоения, которые под действием пламени, пылавшего в камине, выпускали тонкие струйки воды, убегавшие в щели досок пола.
Общество, собравшееся в юрте, состояло из восьми человек и двух собак. За исключением молодых супругов Головинских, все остальные выглядели так своеобразно, как будто судьба нарочно выбирала их, чтобы составить коллекцию.
Хозяин, высокий и, сухой, с мягкими русыми кудрями и выцветшими бледноголубыми глазами, хлопотал у стола, очищая место для елки, которая, совсем готовая, стояла на крыше за неимением свободного помещения.
Прямо против него сидел Кирилов, некогда родовитый русский дворянин, ныне, как две капли воды, похожий на старого облезлого татарина. У Кирилова не было ни одного зуба. В противоположность Веревцову, он тоже, по принципу, не употреблял растительной пищи и питался по преимуществу различными смесями рыбьего и мясного жиров и коровьего масла. Он не носил белья и ходил, покрытый звериными шкурами, как троглодит. Летом и зимой он ходил с открытой головой, и только в самые сильные морозы надевал вязаный капор собственной работы.
Рядом с ним сидел Ястребов, широкоплечий и мрачный, с грязным лицом и широкой полуседой бородой, похожей на старый веник из просяной соломы. Ястребов, опять-таки по принципу, никогда не снимал с головы засаленной черной шапочки, по поводу чего ходили целые легенды. Он жил охотой и даже в это зимнее время скитался целыми днями по лесу в поисках за куропатками. В последние дни он повадился приходить к юрте Веревцова, где всегда было много куропаток, и стрелял их почти у самой двери, к великому ужасу и негодованию хозяина.
«Математик», косматый пес местной породы, лежал у его ног, положив голову на передние лапы. От достоянного безделья и сытной еды он был поперек себя толще и получил свое имя за философскую невозмутимость, которая, в сущности, вытекала из непомерной лени. Приземистый корявый «Герман» стоял, потягивая носом по направлению к камину. Он происходил в четвертом колене от русской дворняжки, привезенной с юга, и это обеспечило ему покойный угол в Лядовском доме, который в течение пятнадцати лет переходил по наследству от семьи к семье с утварью и собакой.
Теперь его хозяевами были супруги Головинские, которые сидели рядом на скамье, стоявшей у стены. Оба они были молоды и красивы. Особенностью их было то, что они всегда были вместе и сидели, стояли или ходили плечо к плечу, в самой непосредственной близости друг к другу. В этой холодной пустыне они как будто боялись отодвинуться, чтобы не озябнуть. За это их называли голубками-неразлучниками.
Калнышевский, ближайший приятель и товарищ Веревцова, с грустным лицом, растрепанными волосами и разноцветной бородой, сидел на обрубке бревна перед камином, углубившись в чтение старого номера «Вестника финансов». Его личная жизнь вся ушла в экономическую статистику, и помимо нее у него не было чем заполнить свои досуги. Тем не менее он старался не терять ни минуты времени и в летнее время пробовал даже рубить дрова с книгой в руках.
Джемауэр, художник-самоучка, совсем молодой, в очках, с похожим на выжатый лимон узким лицом и узким носом, сидел за столом, набрасывая карикатуру, изображавшую Калнышевского с книгой в одной руке и с топором в другой, старающегося совместить два несовместимых занятия.
Восьмой член общества был Броцкий, столяр, короткий и коренастый, похожий на буддийские статуэтки из бронзы.
Наконец приготовления к приему елки были окончены. Широко открыв дверь и напустив целый океан белого мерзлого пара, Веревцов втащил небольшое деревцо, увешанное подарками, тщательно завернутыми в газетную бумагу. Ему пришлось трудиться целых две недели, чтобы изготовить подарок для каждого. К сожалению, на Колыме не было ели, и «елка» была, в сущности, лиственницей, совершенно оголенной от зимнего холода и не имевшей ни одной хвойной чешуйки… Как бы то ни было, дерево было поставлено на стол и восемь огородов стеариновых свечей зажжены на его ветвях. Гости с невольным любопытством поглядывали на бумажные свертки, свешивавшиеся с ветвей дерева, стараясь угадать их содержание. Один, впрочем, даже под бумагой имел такую несомненную рыбью фору, что Математик поднял голову и сочувственно тявкнул.
На столе появились две бутылки, белая и черная; в белой была водка самодельной домашней очистки, так как на Колыму спирт попадает в неочищенном виде, а в черной — «вино», приготовленное Веревцовым из туземного винограда — голубики — и столь же невинное, как обыкновенный квас. Когда белая бутылка была опорожнена до половины, гости стали разбирать подарки, снабженные каждый билетиком с именем получателя. Нельзя сказать, чтобы они отличались богатством, но все присутствующие были как нельзя более довольны.
Кирилов получил варежки, связанные из толстой шерсти, и тут же стал распускать их, намереваясь надвязать к своему капору назатыльник.
Ястребов получил старый ременный кушак, который хозяин должен был снять с себя, заменив его веревкой. Ястребов в свою очередь снял свою веревку и подтянул блузу кушаком.
Калнышевскому досталась фотографическая карточка, изображавшая женское лицо. Это было для него и Веревцова общее воспоминание о далеком друге, драгоценное, как реликвия, аромат цветка, выросшего без солнца в каменных стенах крепости. Карточка действительно принадлежала им обоим и имела общую надпись и находились безразлично то у одного, то у другого из приятелей. Выражая готовность уступить Калнышевскому свою часть владения, Веревцов приносил немаловажную жертву.
Джемауэр получил растушовку самодельной работы Веревцова. Бродкому достался буравчик, который, впрочем, и без того принадлежал Веревцову лишь номинально и находился все время в пользовании у Броцкого же. Сверток, похожий на рыбу, действительно, оказался большим жирным омулем, назначенным на потребу Математику. Герману, ввиду его нетуземного происхождения, достался бутерброд — кусок хлеба, густо намазанный жиром.
Больше всего подарков досталось г-же Головинской, единственной представительнице прекрасного пола: ей были назначены целых три свертка. Самый большой заключал в себе женскую шляпу, сплетенную вместо соломы из ровных тальничных прутьев, расколотых по длине, и более похожую на лукошко или корзину для провизии, чем на шляпу.
Однако г-жа Головинская очень обрадовалась подарку.
Колымское лето без шляпы с круто оттопыренными полями превращается в какое-то сплошное наказание, так как сетка против комаров пристает к лицу и перестает давать защиту.
В другом свертке была знаменитая образцовая редька. Летом, после сбора овощей, Веревцов устроил «сельскохозяйственную выставку», разложив свои овощи на столе напоказ желающим. Выставка закончилась беспроигрышной лотереей по бесплатным билетам, но участникам лотереи удалось убедить Веревцова взять самому себе свой редкий шедевр. Теперь оказалось, что вместо того, чтобы истребить этот шедевр, Веревцов имел довольно терпения сохранять его четыре месяца, намереваясь поднести его в виде рождественского подарка именно г-же Головинской. В третьем свертке было какое-то мелкое белье, которое г-жа Головинская не стала даже раскрывать перед чужими глазами и поспешила куда-то спрятать. Состав колонии должен был через несколько месяцев увеличиться новым членом, которому уже заранее давались имена «Бриллиантового мальчика» и «Счастья ревущего стана», и Веревцов считал своею обязанностью не оставить без подарка и этого будущего пришельца, который так или иначе присутствовал на празднике.
Головинский получил портсигар, склеенный из обрезков старого сапожного голенища. Приняв подарок, он немедленно заглянул внутрь и меланхолически покачал головой. Портсигар был пуст, а он с гораздо большей радостью предпочел бы содержимое содержащему.
Среди всех курильщиков «столовой», довольствовавшихся махоркой, он относился с особым пристрастием к так называемому «пшеничному», то есть турецкому, табаку, но администрация столовой, в лице бронзовидного столяра, сурово взирала на эту слабость и не давала ей поблажки.
Елку вытащили на двор, и вместо нее на столе появился большой самовар, окруженный стаканами, и груда белого хлеба. К двум предыдущим бутылкам присоединилась еще третья, заключавшая особенно желтую сладкую настойку вроде ликера, секрет приготовления которой, ревностно охраняемый от публики, переходил в Колымске от одного винного химика к другому. Было, впрочем, известно, что в ее состав входят чай, жженый сахар и корица, которую химики брали из аптеки.
Камин был давно закрыт, и Веревцов достал из глубины его большой сладкий пирог с изюмом, встреченный рукоплесканиями. При помощи разных перегородок и заслонок, сделанных из старой жести, Веревцов умудрялся печь в камине не только пироги, но даже и хлеб. Публика развеселилась. Начались попытки пения.
«Gaudeamus igitur…»[17] — затянул Джемауэр, размахивая растушовкой вместо дирижерской палочки. Другие подхватили во весь голос; даже Калнышевский, заложив за спину свой «Вестник финансов», подтягивал козлиным голоском, по преимуществу в мажорных местах, где можно было рассчитывать на заглушающую силу хора.
Через час публика, покинув жилище Веревцова, направлялась по дороге мимо кладбища, выводившей к мосту через Сосновку. Светлая полоска на севере стала ярче и приняла большие размеры. Но небо было покрыто легким туманом, слегка помрачившим звезды, которые мигали, как будто смигивая слезы. В воздухе висели тонкие пылинки инея, невидимые глазу, но таявшие на лбу и на щеках. Большая Медведица показывала три часа после полуночи. У Гаврилихи окна светились попрежнему, но и в других домах тоже показался свет. Жители просыпались, собираясь к заутрени. Местами из прямых труб выходили яркие снопы пламени, как будто внутри был пожар. Дьячок перешел дорогу и скрылся в церкви, тоже собираясь затопить печь. На Голодном Конце громко и протяжно завыла собака, как будто пробуждая других. Праздничная ночь пришельцев заменялась праздничным днем туземных жителей.
Иркутск, 1898 г.
На растительной пище
Полдневная зимняя заря занималась на южней стороне неба, медленно передвигаясь направо. Колымск, казалось, оцепенел от жестокого мороза, заставлявшего дыхание выходить из груди со свистом и окутывавшего серым паром каждое живое существо, осмелившееся появиться под открытым небом.
Впрочем, на единственной улице города было пустынно и тихо. Изредка человеческая фигура, смутно мелькнув в сумеречном свете полярного полудня, выскакивала из дверей и, подхватив ношу мелконарубленных дров, сложенных у порога, торопливо скрывалась обратно. Даже выносливые полярные собаки забились в конуры и другие укромные места и неподвижно лежали, свернувшись калачиком и покрыв голову пушистым хвостом, как одеялом.
Лес начинался среди города, прямо от церкви. В лесу было тихо, как на кладбище. Широкие ветви лиственниц, отягощенные белыми хлопьями, простирались в стороны, как неподвижные руки мертвецов, окутанные складками белого савана. Ни одна талинка не смела шевельнуться, чтобы стряхнуть густой белый пух, обильно осевший на ее тонких побегах. Снег, покрывавший землю до половины человеческою роста, пышный и пушистый, защищенный деревьями от беспокойного ветра, тоже как будто спал, изнемогая под бременем холода, плотного и тяжелого, как свинец.
Белая куропатка, сидевшая на нижней ветви тальничного куста и тоже похожая на ком снега, вздрогнула и перепорхнула на сажень подальше. С противоположной стороны послышались медленные и неровные шаги. Шедший человек, очевидно, проваливался в снег и каждый раз с усилием выдергивал то левую, то правую ногу, хватаясь руками за ветви для лучшей опоры. Он был совсем близко, если даже куропатка, эта почти домашняя птица северного леса, решилась побеспокоиться ради его появления. Действительно, через минуты кусты раздвинулись, и человек показался на небольшой поляне, где несколько крупных лиственниц были довольно давно срублены на постройку. Куропатка, сидя на новой ветке, принялась лениво рассматривать его своими красными глазками. Это был, конечно, чужестранец, ибо вместо оленьего меха, плотно облегающего тело туземцев, его высокая фигура была закутана совсем в другую одежду. Сермяжный халат, надетый сверх короткого полушубка и подпоясанный кушаком, беспомощно оттопыривался на груди, открывая холоду совершенно свободный проход; на руках были желтые кожаные рукавицы с варегами, столь же мало пригодные для этого холода и этого леса. Неуклюжие вяленые сапоги, подшитые кожей и широкие, как лыжи, на каждом шагу проваливались в снег и оставляли странные дыры, круглые и глубокие, как устье лисьей норы. За поясом у человека был заткнут плотничий топор с короткой ручкой, а на спине был привязан сукосер, то есть носилки особой формы, похожие на скамейку каменщиков и употребляемые на севере преимущественно для переноски дров.
Серый суконный шлык странного, очевидно, самодельного, покроя все сползал на затылок, открывая густые белокурые волосы, соединявшиеся внизу с такой же белокурой бородой. Светлые волосы бороды были перевиты белыми нитями, где иней соперничал с сединой, но лицо человека горело от мороза и ходьбы. Он уже давно ковылял в снегу, как большая нерпа, вышедшая на тинистый берег, и, несмотря на пятьдесят градусов ниже нуля, ему было скорее жарко, чем холодно.
Сделав еще несколько дыр в снегу, человек приблизился к первому сухому пню и, вытащив из-за пояса топор, принялся отщепливать одно за другим мелкие поленья. Нельзя сказать, чтобы дело подвигалось у него особенно успешно. Ручка топора была коротка, а лезвие слишком широко и тонко для этой работы. Топор попеременно то выскакивал из рук, то вонзался так глубоко в узловатое дерево, что вытащить его можно было только с большими усилиями и с риском переломить железо пополам. Но человек не унывал и продолжал тюкать, как дятел, складывая на свои носилки каждый, даже самый маленький деревянный осколок. От одного пня он перешел к другому, потом к третьему, и через два часа этого каторжного труда ноша была готова. Взвалив ее с усилием на плечи и подтянув поперек пояса нижние ремни, человек пустился в обратный путь.
Теперь итти ему было труднее, и он спотыкался еще чаще прежнего, напрасно стараясь попадать ногами в старые следы. Ноша, опутанная со всех сторон веревками, застревала в тальнике и угрожала развалиться; суконный шлык с’езжал на глаза в самые неудобные минуты, рукавицы спадали с рук, и он доставал их, приседая в снегу, как заяц, и изо всех сил балансируя спиной, чтобы ноша не свалилась через голову. Несмотря на мороз, пот катился с него градом и залеплял ему глаза; борода и волосы окончательно побелели, и даже на бровях и ресницах повисли ледяные сосульки. Дыхание с шумом и усилием вырывалось из его груди и немедленно замерзало, обращаясь в мелкий иней. Усталость, быстро приходящая при движении на сильном морозе, наклоняла его спину и вызывала мелкую дрожь в боках, подымавшихся и опускавшихся, как у загнанной лошади, но он не унывал и упорно подвигался вперед, стараясь выбраться на твердую дорогу, протоптанную ногами колымских вдов и нищих старух, которые, не имея собак, тоже должны были отправляться в лес пешком, с носилками за спиной.
Наконец, на опушке леса забелелась поляна, где приютилась одинокая юрта, отбившаяся от других домов на самый край узкой и обрывистой речки Сосновки, которая теперь промерзла до дна и была завалена снегом до верхней межи своих крутых берегов.
Небольшая квадратная дверь, обитая рваной оленьей шкурой и лежавшая, как опускной люк, на сильно скошенной стене, не была ничем приперта. Человек в валенках открыл дверь и сбросил дрова в избу прямо через голову, потом с усилием протиснул в узкое отверстие свое длинное тело. В юрте было грязно и темно, как в логовище зверя. Косые стены из тонких бревен, прислоненных стоймя к бревенчатой раме вверху и ничем не скрепленных между собой, были хуже стен любого ярмарочного балагана, сколоченного на скорую руку. Для тепла хозяин обил их травяными матами собственной работы, но эти грубые травяные ковры примерзли к дереву и почти совершенно исчезли под толстым слоем льда, налипшего снаружи. Все углы были наполнены толстыми ледяными сталактитами, подпиравшими крышу, как колонны. Каждая щель на потолке была опушена изморозью, вплоть до неуклюжего камелька, наклонившего вперед свое разверстое устье. Из трех окон юрты два были заглушены для тепла и заполнены связками травы, тоже оледеневшими и сросшимися вместе. В третьем окне тускло поблескивала льдина, заменявшая стекло и запорошенная снаружи снегом. В общем это был настоящий ледяной дом, и казалось, что деревянная оболочка его совершенно не нужна и могла бы отвалиться долой без всякого ущерба для крепости и тепла, если бы доски и жерди не вросли так крепко в лед.
Впрочем, хозяин юрты слишком привык к ее внутреннему виду и убранству, чтобы обращать на него внимание. Он поспешно доставил дрова в камин и принялся разжигать огонь. Потом он отряхнул снег с одежды, сложил остальные дрова в темном углу за камином и по пути вымел пол. Когда он в последний раз заглянул в угол, по лицу его пробежало выражение удовлетворения. Трудное это было дело — таскать каждый день дрова из лесу, но он исполнял его неукоснительно, не обращая внимания на холод и непогоду. Пришельцы в Колымске, не имея собственных собак, сначала покупали дрова у туземцев, но он не считал возможным покупать за деньги чужой труд при каких бы то ни было обстоятельствах и приводил свое убеждение в жизнь с непоколебимым упорством, невзирая на морозы и грубые мозоли, набегавшие на его тонких ладонях.
Растопив лечь, он принялся за приготовление обеда. Если бы кто-нибудь из туземцев мог видеть продукты, которыми он обходился, то удивление, которое они питали к этому странному человеку, усилилось бы вдвое. Среда бесхлебной страны, питающейся исключительно мясом убитых тварей, на этом одном столе не было ни мяса, ни рыбы. Хозяин юрты издавна был вегетарианцем и был так же неспособен изменить свои взгляды и вкусы и начать питаться мясом, как неспособна на это лань. В первый месяц после своего приезда, под влиянием уныния, возбужденного рассказами старожилов, он сделал одну или две попытки попробовать животную пищу, но мысль о том, что для его существования уничтожена жизнь, привела его в ужас, и после первого обеда он слег в постель, поплатившись лихорадкой и расстройством пищеварения.
Самый воздух на Колыме был пропитан убийством. Куропаток стреляли у порога, оленей закалывали на льду реки, коров глушили обухом прямо на улице. Но Веревцов с детства не мог выносить вида и запаха крови и теперь, окруженный этой охотничьей атмосферой, чувствовал, что его отвращение к ней возросло в сто раз больше прежнего.
Тем не менее, после своей неудачной попытки ассимилироваться, он стал утверждать, что дело не в вегетарианских убеждениях, а просто его организм не выносит животной пищи. Другие пришельцы всецело приняли туземную пищу и обходились без дорогого хлеба, и ему казалось, что он оскорбит их, настаивая на своем вегетарианстве. Но про себя он не мог без дрожи вспомнить день своей несчастной попытки и даже до сих пор чувствовал на себе пятно от этого неудачного желания иметь свою долю в общей цепи истребления.
За отсутствием мясных продуктов, пища его отличалась спартанской простотой. Он насыпал в горшок гречневой крупы и долил его водой. Потом принес из амбара кусок замороженного теста, которое он умудрялся печь под горячими угольями в жестяной коробке, переделанной из керосиновой банки. Хлеб и каша почти исключительно составляли его пищу, ибо в этом заброшенном крае нельзя было найти хотя бы самых жалких овощей для пополнения этого скудного стола. Даже такая пища была втрое дороже животной, и бедному вегетарианцу удавалось сводить концы с концами только благодаря тому, что все другие траты он заменял своим трудом.
Нельзя сказать, чтобы при такой пище у Веревцова было много сил и здоровья. Руки его оставались слишком тонкими, плечи поднимались вверх острыми и узкими углами, но он скрипел да скрипел, как ива, сгибаемая ветром, и до сих пор удачно справлялся с мелкими недугами, время от времени выпадавшими ему на долю.
Поставив на уголья горшок с кашей и чайник для кипятку, Веревцов уселся перед камином и стал смотреть в огонь. С раннего утра до поздней ночи весь день его был наполнен трудом. Он медленно справлялся со своими делами и подводил свой дневной баланс только после двенадцатичасового рабочего дня, но время, когда в камине разгорался огонь, составляло для него отдых. Среди этой мертвой страны огонь был источником жизни и движения, туземцы обоготворяли его, и даже далеким русским пришельцам казалось, что в ярком шипящем и прыгающем пламени колышется и мелькает какое-то неукротимое, вечно беспокойное, то разрушительное, то творческое начало. И Веревцову, когда он растапливал камин, представлялось, что он не один в юрте, что яркий огонь заглядывает ему в глаза и разговаривает с ним своим трескучим голосом и кивает ему своей косматой багровой гривой. И эти разговоры огня настраивали его всегда в особом, мечтательном, почти разнеженном тоне. Он садился на скамью против яркого друга своих зимних ночей и принимался вспоминать свою прошлую жизнь, и эти воспоминания, трагические и однообразные, были окружены ореолом, как деревья черного леса, выступившие внезапно на ярком фоне багрового заката. Еще чаще он мечтал, и мечты его были ясны и наивны, как мечты первых христиан, духовным потоком которых он являлся в своем закаленном и мужественном беззлобии. Будущий золотой век представлялся ему так реально, как будто он сам собирался в нем жить.
Мечи перекуют в орала, а пушки — в земледельческие машины; все люди будут любить друг друга, угнетенные прозреют, и угнетатели станут их братьями, и рабы и господа будут трудиться на одной ниве. И наука покорит болезнь и старость и самую смерть…
Длинная черная головешка, перегорев посредине, упала прямо в горшок. Вода забурлила и перелилась через край. Василий Андреич очнулся от своих мечтании и, достав из-за камелька короткий полуобгоревший ожиг, принялся перемешивать дрова. Он тщательно околотил все крупные головни и, действуя ожигом, как рычагом, уставил их рядом в глубине очага; целую груду крупных углей, пылавших струйчатым яркомалиновым жаром, он выгреб вперед на кран шестка, чтобы они отдали свое тепло плохо нагревшейся юрте. Отдельные угли падали на пол, он подбирал их руками и торопливо бросал назад, обдувая себе пальцы, если горячий уголь успевал прохватить кожу. Он умудрился также задеть себя по лицу обгорелым концом ожига, и на его правой щеке легла черная полоса, протянувшаяся и через нос. Наконец, головешки перегорели. Василий Андреич сгреб угли в кучу, присыпал их золою из корыта, стоявшего в углу, и, поставив коробку с тестом на обычное место в углублении шестка; поспешил закрыть трубу, хотя в углях еще перебегали последние синие огоньки угара. Но юрта была так холодна, что никакой угар не мог держаться в ее промерзлых стенках. Однако жар, струившийся из широкого жерла камина, отогрел наконец, эту мерзлую берлогу. Иней, густо насевший на льдине единственного окна, растаял и скатился вниз легкими и мелкими слезами, и она яснела теперь, как толстое зеркальное стекло. В переднем углу капля за каплей стал сочиться один из ледяных сталактитов, а в воздухе приятно запахло печеным хлебом. Это был промежуток в ледниковом периоде, который царил здесь всю зиму, каждую ночь достигая апогея.
Василий Андреич испытующим взором посмотрел на горшок и, закрыв его листком покоробленной жести, подвинул поближе к огню. Ему не на шутку хотелось есть, но голод странным образом всегда повышал его работоспособность, и никогда ему так не работалось, как в последние полчаса, когда поспевала его еда.
Он постоял немного в раздумьи, потом, оттащив от кровати длинное и толстое бревно, выкатил его на середину избы. Бревно во всю длину было полое, выдолбленное в виде трубы, как колода, из которой поят лошадей. Василий Андреич уселся на бревне верхом и при помощи тяпки и крепкого ножа принялся углублять и выравнивать круглую вырезку. Он точил дерево, как червяк, отрывая его щепками и маленькими кусочками, и занятие это было похоже даже не на работу, а на какую-то тихую непонятную игру, — но стенки колоды становились тоньше и тоньше, а вся колода — легче и поместительнее.
Наконец, когда деревянные стенки колоды стали звенеть под ударами и долбить дальше было уже опасно, Василий Андреич схватил колоду за тонкий конец и потащил к выходу. В юрте было тесно, и на смену готовому бревну должно было поступить другое, новое, для того чтобы тоже быть вырубленным и выстроганным изнутри. Василий Андреич складывал готовые колоды на плоскую крышу сеней юрты, так как амбара у него не было, и он держал свои припасы в деревянном ларе, в глубине холодного угла за камином. Но, когда, приподняв широкий конец выдолбленного бревна, он готовился продвинуть его на крышу, сзади неожиданно раздался выстрел. Он вздрогнул, уронил колоду на землю и быстро обернулся.
Большая белая куропатка, беспечно сидевшая на одном из кустов опушки, наклонилась головой вперед, несколько секунд как будто додумала, потом мягко упала на снег.
Ноги ее судорожно дергались, крупная капля крови выступила из клюва.
С левой стороны, из-за грубой изгороди, защищавшей владение одного из местных купцов, показалась плотная фигура с широкой седой бородой и ружьем в руках. Новый пришелец был одет совсем не по сезону, в короткий открытый пиджак и круглую касторовую шапочку, сильно поношенную и пробитую спереди. Он прошел мимо юрты, поднял убитую птицу, все еще трепетавшую в конвульсиях, и, скрутив ей головку, с улыбкой потряс ею в воздухе.
— Зачем вы ее убили, Ястребов? — с упреком сказал Василий Андреич.
— Как — зачем? — переспросил Ястребов. — Есть буду! Посмотрите, какая жирная!..
И он опять потряс птицей перед лицом собеседника.
Веревцов содрогнулся и отвернулся, но не сказал ни слова. Длиннобородый Ястребов жил продуктами собственной охоты, главным образом куропатками и зайцами, которые не переводились около Колымска всю зиму. В противоположность Веревцову, он питался исключительно мясом, презирая растительную пищу, и даже хлеб целыми месяцами не появлялся на его столе.
— Заходите, Ястребов! — приветливо пригласил Веревцов, оставив колоду в покое и приготовляясь открыть свою опускную дверь. — Погреетесь.
— Мне не холодно! — возразил Ястребов басом.
Василий Андреич отличался гостеприимством, и, кажется, ничто не доставляло ему такого удовольствия, как посещение его жилища приятелями. Он даже завел у себя приемы по воскресеньям, два раза в месяц, и к нему сходилось все небольшое общество, случайно собранное в Колымске. Накануне такого дня он весь с головой уходил в приготовления, деятельно мыл и скреб столы и горшки и приготовлял в камине разные экстренные, иногда совсем неожиданные блюда. Общее мнение считало эти приемы очень приятными благодаря радушию хозяина, и гости, наевшись и напившись вволю, приходили в хорошее настроение духа, занимались легким разговором и даже пели.
Но в обычные будничные дня, по общему молчаливому соглашению, к Веревцову заходили только за делом. Он был вечно занят, и жаль было отнимать у него время. Но и при каждом случайном посещении он немедленно поднимал гостеприимную суету, принимался топить камин и стряпать, вдобавок серьезно обижаясь, если гость брался за топор, чтобы наколоть дров. Гостю приходилось сидеть на месте и с вытаращенными глазами ожидать «приема».
— Заходите! — продолжал Василий, Андреич. — Пообедаем!..
— Каша, небось!.. — буркнул Ястребов. — Слуга покорный!.. Хотите, куропаток изжарим? — насмешливо прибавил он. — Жирные!..
И он положил руку на связку белых птиц, привязанных к его поясу.
Василий Андреич смущенно заморгал глазами. Ему было трудно сказать «нет» кому бы то ни было, тем более товарищу.
— Или хотите, — безжалостно продолжал Ястребов, — я их оставлю вам для пирога воскресного?…
Для Ястребова не было ничего святого. Когда у Марьи Николаевны Головинской, составлявшей украшение пропадинского общества, родился первый сын, Ястребов, заменявший акушера, заявил, что ребенок очень похож на обезьяну. Положим, Витька уже третий год мстил за оскорбление, вырывая при каждой встрече своими цепкими ручонками целые горсти волос из мохнатой бороды старого охотника, но репутация злого языка так прочно установилась за Ястребовым, что даже Ратинович, эсдек, человек, для которого тоже не было ничего святого и который вообще рекомендовал старшинам пропадинской колонии проситься в богадельню, побаивался этого угрюмого старика и оставлял его в покое. Связаться с Ястребовым было тем более небезопасно, что он был охотник переводить шутки в дело и только с месяц тому назад наглухо заледенил единственный выход из квартиры доктора колонии Кранца, то есть притащил ночью ушат воды и забросал дверь толстым слоем мокрого снега, который тотчас же отвердел, как мрамор. Кранц принужден был просидеть в плену почти до обеда, пока соседи не заметили его беду в не разрушили укрепление.
— А это что? — продолжал Ястребов. — Опять дудка?
Он подхватил колодку и одним широким взмахом забросил ее высоко на крышу.
— Которая это? — спросил он более дружелюбным тоном.
— Пятая! — сказал Веревцов с невольным вздохом. — Нужно еще десять!..
Долбить колоды было так трудно, что он опасался, что не успеет приготовить достаточного количества к наступлению лета. Вдобавок лес для колод попался ему дурной; он собрал его в половодье на речке, протекавшей мимо его владений, но в верховьях ее росли деревья с витыми стволами, твердыми, как железо, и склонными от высыхания раскалываться по спирали.
— Слушайте! — сказал вдруг Ястребов. — Вон в той лощинке, — и он указал рукой на неровный спуск дороги от юрты к речке, — лежат колоды.
— Какие колоды? — с удивлением спросил Веревцов. — Я вечером ходил за льдом, там ничего не было!..
— А теперь есть, — спокойно возразил Ястребов. — Я думаю, они вам пригодятся.
— Кто же их принес? — недоумевал Веревцов.
— Я почем знаю! — проворчал Ястребов. — Вы их посмотрите, они долбленые.
Лицо Веревцова внезапно вспыхнуло от смущения. Даже белый лоб и маленькие уши покраснели. Он наконец догадался, кто принес загадочные колоды.
— Спа-па-сибо! — сказал он, заикаясь от волнения. — Но я мо-могу принять вашу по-помощь только с дележом… из по-половины!..
Несмотря на почтенный возраст и экстраординарный curriculum vitae[18], Веревцов сохранил способность смущаться, как молодая девушка. Вдобавок долголетнее молчание так отразилось на его привычках, что в экстренных случаях он нередко совсем лишался способности говорить.
— Хорошо! — спокойно согласился Ястребов. — Мы с вами поделимся, как мужик с медведем: вам корешки, мне вершки.
Оба они были изобретателями и пытались изменить условия жизни в полярной пустыне и приспособить их к своим желаниям, но затеи Ястребова носили фантастический характер. Он захотел, например, построить судно, не имея ни малейшего понятия о судостроении, и водился над ним целый год с нечеловеческим упорством. В конце концов вышла круглая барка, по форме похожая на поповку, которая при первой же поездке безнадежно села на мель в одном из протоков Колымы. Он изобрел усовершенствованную уду, на которую не хотела клевать рыба, пробовал варить мыло из сала и древесной золы, дубил кожи тальничной корой, изменил собачью упряжь, к великому ущербу для упряжных животных.
Новая затея Веревцова была, быть может, столь же мало исполнима, как постройка фантастического корабля, но вытекала из насущной потребности.
Нуждаясь в растительной пище, он затеял развести вокруг юрты огород и устроил большой парник для более нежных овощей. Он научился огородничеству еще в Шлиссельбурге, в довольно необычных условиях, но все-таки у него были и познания, и опыт, хотя и не для такого сурового климата. Семена он привез с собою, даже держал всю дорогу картофель и лук за пазухой, чтобы сохранить их от мороза. Конечно, и того и другого было мало, всего по нескольку штук, но Робинзон Крузо, как известно, развел из единственного зерна целое хлебное поле, и Веревцов тоже не терял бодрости со своими четырьмя картофелинами и шестью луковицами. Гораздо важнее было то, что он привез с собою два больших ящика стекол, хотя совершенно непонятно, каким образом они уцелели и не разбились по дороге. Кстати сказать, на эти стекла было много охотников, и самые видные из обитателей города предлагали за каждое стекло хорошую плату пищей или мехами, ибо в Колымске стекол было мало, и они заменялись летом промаслянной бумагой или тряпкой, а зимою — попросту четырехугольным куском светлой и толстой льдины. Но Веревцов крепился, и только Марье Николаевне подарил два стекла для окна ее спальни. Марья Николаевна, впрочем, в тот же день отослала стекла обратно.
«Мои окна обращены на юг и дают много света и без стекол, — писала она, — было бы грешно уменьшать наш парник».
Но Веревцов остался тверд и отправил ей стекла во второй раз. Так они пересылались целый день без всякого определенного результата, пока Ястребов, завернувший посмотреть на Витьку, не пригрозил Марье Николаевне, что возьмет стекла себе, и только после этого они водворились на предназначенном им месте.
Тем не менее, устроить огород и парники в Колымске оказалось мудренее, чем можно было ожидать. Исправник и поп каждое лето пробовали разводить овощи, но картофель у них родился меньше лесного ореха, а капустные вилки даже не начинали завиваться. Поэтому на пропадинских званых обедах подавали вареный картофель, протертый вместе с шелухой, а щи варили вроде коровьего пойла, из зеленых капустных листьев, заквашенных пополам с мукой.
Из мерзлой подпочвы даже летом струился вечный холод, и под гряды парника нужно было подстилать толстый слой удобрения даже в июне и июле, чтобы перегорание навоза спасло их от стужи. Скота было мало, и приходилось изо дня в день тщательно наблюдать за поведением лошадей и коров на подножном корму, чтоб собрать сколько-нибудь значительное количество навоза. Вдобавок удобные места для огородов были только на откосах холмов, ибо пониже лежало сплошное болото.
На холме перед юртой был недостаток в воде, которую приходилось таскать с реки ведрами на собственных плечах по крутым и неудобным для ходьбы косогорам. Веревцов задумал устроить очеп вроде колодезного, который поднимал воду бадьей, разливал бы ее по деревянным трубам на его владения. Именно для этой дели он так усердно долбил свои колоды, которые должны были соединиться в виде импровизированного водопровода.
Еще в позапрошлое лето Веревцов засадил несколько гряд и устроил небольшой парник. Жатва его была невелика, но разнообразна, ибо он высеял на гряды и в горшки все свои семена, не исключая табака и горчицы. Другие члены колонии, заинтересованные опытом, помогали, чем могли, и после уборки Веревцов, отобрав семена на будущий год, взял да и устроил из всех овощей беспроигрышную лотерею для всех членов общества. Никакие отговорки не помогали, и Веревцов, после всех летних хлопот, остался на гречневой каше на всю зиму. Положим, что это был первый опыт, и Веревцов надеялся его расширить, но теперь добровольные помощники уже не были так настойчивы. Семян все еще было мало, и, несмотря на всю заманчивость свежих овощей, никто не желал еще раз отнять у Веревцова его «корешки или вершки». Только упрямый Ястребов был совершенно чужд этой деликатности и продолжал вмешиваться в работы по устройству будущего огорода. Овощи, впрочем, он презирал от всего сердца и во время вышеупомянутой лотереи, после короткой, но настойчивой попытки вернуть свою долю Веревцову, он вынес ее на двор и раскрошил на куропаточьей тропе птицам.
— Чтобы они были пожирнее! — пояснил он.
Он был убежден, что после этого даже Веревцов не будет так настоятельно навязывать ему этот «свиной корм», как он презрительно называл про себя огородные продукты. В эту зиму он решил приготовить колоды для водопровода и в одну неделю выдолбил десяток длинных бревен, ибо работа топором давалась ему гораздо лучше, чем Василию Андреичу. Ему помогали, впрочем, многие из досужих молодых людей, которые были рады укрыться под эгидой широкой бороды Ястребова от уравнительного распределения, которое пытался осуществить Василий Андреич. Однако идея перенести готовые колоды в ложбину около юрты и потом сообщить о них Веревцову принадлежала собственно Ястребову, и он стоял теперь перед дверью юрты, по-своему наслаждаясь смущением ее хозяина.
На другой день было воскресенье, и Веревцов рано проснулся, чтобы поскорее освободиться от обычных домашних работ и иметь хоть полдня свободных. Он был ревностным поклонником воскресного отдыха и никогда не позволял себе в этот день заниматься каким-нибудь посторонним делом, кроме хозяйства. Даже дрова и воду он приготовлял с вечера, чтобы поменьше возиться поутру. Воскресное время он старался проводить по-праздничному, ложился опять после обеда или брался за книгу, методически отыскивая место, заложенное еще с прошлого воскресенья. Чаще всего, особенно если погода была благоприятная, он отправлялся визитировать и, обойдя одну за другою все квартиры колонии, возвращался домой уже поздно вечером, с сознанием весело и счастливо проведенного дня. Угощение он не признавал, ибо не потреблял обычной пищи пропадинского стола. В спорах различных пропадинских партий он тоже не участвовал, но спокойно сидел где-нибудь в стороне и с видом большой любознательности выслушивал все pro и contra[19], но когда его просили высказать свое мнение, он конфузился по своей неизменной привычке и заявлял, что у него слишком мало материалов для суждения, так что он пока еще не может составить себе определенного мнения об этом предмете.
Наконец, камин истопился, и такой же немудреный обед или, если угодно, завтрак, что и вчера, поспел и был с’еден. Но, когда Василий Андреич готов был взяться за шапку, в сенях послышался шорох.
— П-шол! — крикнул Веревцов, думая, что это собаки. Вороватые пропадинские собаки осаждали юрту летом и зимою, ибо раньше в ней жил Ястребов, постоянно выбрасывавший на двор заячьи и птичьи кости. У Веревцова, разумеется, во всем жилище не было ни единой косточки, но собаки не отставали, и неутомимо подрывались под стену, очевидно, не желая верить вегетарианству нового хозяина. Кроме того, по ночам они устраивали собрания на плоской крыше юрты и нередко даже давали там свои оглушительные зимние конверты.
На этот раз, однако, шорох происходил не от собак.
— Это я — послышалось из-за двери, и нетерпеливая рука стала возиться с ремнем, заменявшим ручку.
Для того, чтобы поднять люк, нужна была некоторая сноровка. Наконец, струя белого густого холода хлынула с порога и застлала весь пол в знак того, что усилия нового гостя увенчались успехом.
Белая фигура торопливо перетащилась через несоразмерно высокий порог. Слишком рано отпущенная дверь тотчас же тяжело упала на место, дав пришельцу такого крепкого и неожиданного туза сзади, что он немедленно вылетел на середину комнаты.
— Чорт! — крикнул гость, оборачиваясь назад и грозя кулаком двери. Губы его перекосились и даже слегка приподнялись вверх, глаза сверкнули свирепым огнем.
— Здравствуйте, Алексеев! — спокойно сказал Веревцов, откладывая шапку в сторону.
— Здравствуйте и вы! — успокоился Алексеев так же быстро, как и рассердился.
Он был одет в длинную рубаху из грубого белого сукна, такие же штаны и белые меховые сапоги, и весь вид его напоминал беглеца из больницы или из сумасшедшего дома. Шапки на нем не было, но огромная грива каштановых мелкокурчавых волос, свалявшихся в войлок, стояла дыбом, как негритянская прическа. Глаза у него были маленькие, живые, чрезвычайно быстрые. Они все время бегали по сторонам, но когда Алексеев сердился — останавливались и загорались злостью.
— Я сейчас заварю чай, — засуетился Веревцов. И, окончательно отложив шапку в сторону, он принялся хлопотать у камина.
— Не надо мне чаю! — сказал Алексеев угрюмо. — Слушайте, Василий Андреич, я сяду, я устал.
— Конечно, садитесь! — поспешно воскликнул Веревцов. — Садитесь, пожалуйста! — И он пододвинул ему гладкий обрубок дерева, игравший роль табурета. — Извините, я не заметил, что вы устали…
— Они меня со свету сживут! — с дрожью в голосе вдруг об’явил Алексеев. — Мочи моей нет!
Глаза его опять остановились и сверкнули.
— Полноте, — возразил Веревцов очень просто и спокойно. — Вот лучше я вам чаю налью…
— Темно!.. Солнца нет!.. — продолжал Алексеев с отчаянием в голосе. — Когда будет весна?.. Я не могу жить без солнца!
— Через две недели появится солнце, — терпеливо утешал его Веревцов. — Потерпите немного.
— А они зачем по ночам ходят? — настаивал Алексеев. — Разве я не знаю?… Любо им, что теперь солнца нет!.. Поговори-ка с ними днем, — продолжал он сердито. — Сладкие такие, медовые! Только свечу погашу, они уж опять тут… Что я им сделал? — прибавил он почти со стоном.
Алексеев страдал манией преследования, которая состояла в том, что люди, которых он видел днем, представлялись ему по ночам в виде призраков агрессивного характера. Это было нечто вроде снов наяву. Жизнь была так усыпительно-однообразна, что притупленное воображение не в силах было создать никаких фантастических картин и только отражало окружающую действительность в уродливо искаженном виде, как кривое зеркало. Ему представлялось обыкновенно, что товарищи, с которыми он днем разговаривал или работал вместе, подкрадываются к нему в темноте сзади и внезапно начинают его душить или кусать.
Болезнь началась кошмарами и тяжелыми снами и развивалась довольно постепенно, но теперь Алексеев почти совсем утратил различие между призраками и действительностью и доставлял много огорчения и забот другим членам колонии. Хуже всего было то, что он постоянно жил один и упрямо отвергал всякие предложения сожительства, подозревая за ними коварные покушения на его свободу. Только к Веревцову с самого его приезда он относился доверчивее, чем к другим, и иногда в самом остром пароксизме раздражительности внезапно приносил ему целый ворох жалоб, как будто инстинктивно стремясь добыть себе хоть немного спокойствия под сенью этой широкой и непоколебимой доброты.
Василий Андреич держал себя с ним очень просто, нередко даже сердился и принимался стыдить его за подозрительность, но даже выговоры из его уст действовали успокаивающе на больного.
— Когда придет солнце? — болезненно повторял Алексеев. — Темно, холодно!.. Василий Андреич, я затоплю камин! — прибавил он более спокойным тоном.
— Я сам затоплю! — суетливо возразил Веревцов, принимаясь разгребать загнету.
— Нет, я! Сидите, сидите!.. — настойчиво повторил Алексеев.
Не обращая внимания на протесты хозяина, он проворно открыл камин, поставил в него охапку поленьев и раздул горящие угли. Он был ловок на всякую ручную работу, и домашние хлопоты отнимали у него только минимум необходимого времени.
— Как хорошо! — сказал он, когда дрова разгорелись ясным пламенем. — У вас и дрова добрые, — прибавил он, с благодарностью взглянув на Василия Андреича. — А мои — злые, тонкие такие, длинные!.. Трещат, брызжутся углями прямо в лицо. А я у вас останусь! — прибавил он, помешивая палкой в камине. — Можно?
— Милости просим! — сказал Веревцов, радостно оживляясь.
Собственно говоря, он так привык к одиночеству, что всякое сожительство тяготило его, но теперь ему казалось, что Алексеев для него самый подходящий товарищ.
— Я сейчас от Горского, — начал рассказывать Алексеев, подвигая свой чурбан поближе к пламени. — Знаете, он меня ночью задушить хотел, — пояснил он мимоходом. — Уж я же ему и напел. «Днем, — говорю, — ты товарищ, а ночью ты вампир… Тебя, — говорю, — на костре бы сжечь следовало…»
— Какой вампир, какой костер? — с неудовольствием сказал Василий Андреич. — Ерунда это все… Вот скажите, пожалуйста, вы запираете двери на ночь?..
— Конечно, запираю! — с живостью подтвердил Алексеев. — Засовы изнутри сделал железные…
— Ну, как же живой человек может пройти сквозь запертые двери?
— А рентгеновские лучи проходят, — возразил Алексеев, дико и лукаво усмехаясь. — Ну, и эти так же!.. Как же мы с вами будем жить? — спросил Алексеев через минуту.
— Вот я вам тут кровать поставлю! А верстак вытащим вон, — сказал Веревцов, указывая на переднее место.
— А это окно можно открыть? — спросил Алексеев, указывая на один из травяных матов, покрытый белой ледяной инкрустацией. — Здесь слишком темно. Я люблю свет!
— Не знаю… — с сомнением сказал Веревцов. — Холодно будет.
— Мы будем топить, — уверял Алексеев. — Вот увидите… Я открою! — просительно сказал он.
— Ну, как хотите! — нерешительно согласился Веревцов.
Он посмотрел кругом себя, и ему действительно показалось, что в юрте очень темно.
Алексеев вооружился топором и принялся очень искусно отбивать ледяные наслоения на окне, стараясь не потревожить льдины, наложенной снаружи. Раздражительное состояние его заметно утихало.
— Скажите, голубчик, — сказал он, останавливаясь на минуту и поворачиваясь к Веревцову. — Они ведь не ходят к вам ночью?..
— Ночью все спят! — возразил Веревцов. — Никто не ходит.
— А если придут, так вы их пустите? — настаивал Алексеев. — Не пустите, да?
— Никто не придет ночью! — повторил Василий Андреич. — Ночью все спят…
— Ну, так мы с вами заживем! — заговорил Алексеев уже весело, опять принимаясь за топор. — Вот увидите!.. Я буду вам помогать. Я умею работать!.. Вы что теперь работаете, Василий Андреич?
— Хорошо! — одобрительно сказал Веревцов. — Вот, теплее станет, будем водопровод устраивать.
— Водопровод? Чудесно! Проведем домой воду, и не нужно будет ходить на реку…
В борьбе с призраками Алексеев перестал обращать внимание на действительность, и предприятие Веревцова, давно известное всему городу, представлялось ему, как совершенно новое.
— Но для этого, — возразил Веревцов, — а для того, чтобы огород поливать.
— А, это еще лучше! — с искренним восхищением воскликнул Алексеев. — Огород разведем, сад, цветники… водопроводы собственные устроим. Пусть они увидят, как мы умеем жить!.. Знаете что, голубчик? — прибавил он, управившись с окном и критическим взглядом окидывая убранство юрты. — Надо бы здесь убрать немножко.
— Что убрать? — удивился, в свою очередь, Веревцов. Ему казалось, что чистота и порядок в юрте совершенно удовлетворительны.
— Мало ли что! — ответил Алексеев осторожно. — Пол вымыть, стены выскоблить, вот этим вещам свое место найти…
Он указал на кучу разрозненных столярных и слесарных инструментов, сложенных в полуизломанном деревянном ящике у изголовья кровати.
— Вот вы увидите! — продолжал он. — Мы здесь зеркало повесим, — указал он место на стене. — У меня есть зеркало. А здесь календарь. У вас есть календарь, Василий Андреич?
— Вот календарь, — указал Веревцов на маленький пакет грязных бумажек, прибитый над изголовьем постели. — Только очень маленький.
— Ничего! — успокоительно сказал Алексеев. — А какой сегодня день? Воскресенье? — спросил он, приглядываясь к календарю.
— Да, воскресенье, — подтвердил Веревцов. — День воскресный.
— А к вам не придут гости? — спросил Алексеев, внезапно припоминая. — Они к вам ходят, кажется, по воскресеньям… Сегодня тоже придут, да?..
— Не знаю, — правдиво ответил Веревцов. — Может быть, и придут.
— Зачем? — заговорил Алексеев, снова приходя в возбужденное состояние. — Не нужно! Голубчик! — прибавил он просительно, немного успокоившись. — Пойдите к ним и скажите, пусть они не ходят. Нам их не нужно… Пожалуйста пойдите!
— Как же я оставлю вас одного? — нерешительно спросил Веревцов. С самого утра он думал о том, что не успел поблагодарить Ястребова за его колоды.
— Одного?.. — повторил с удивлением Алексеев. — Одному мне хорошо. Лишь бы те не приходили. Пойдите, голубчик, удержите их пожалуйста! А я, пока вы ходите, приберу немного, — продолжал он вкрадчиво. — Увидите, как хорошо будет!.. Только вы пойдите…
Он сам подал шапку Веревцову и тихонько толкнул его к двери.
Дневная заря стала уже склоняться к западу, — знак, что после полудня прошло два или три часа. Мороз был гораздо слабее вчерашнего. С западной стороны по небу стлались легкие облака, располагаясь венцом, как лучи сияния. На реке помаленьку начинался ветер. Оттуда налетали первые слабые порывы, принося с собой струйки сухого снега, сорванные с отверделых сугробов и речных заструг.
Ястребов жил по другую сторону изгороди, на так называемом «Голодном Конце». Это была небольшая слободка париев, обособившаяся от города. В центре ее стояла больница в виде безобразной юрты, наполовину вросшей в землю. Порядки этой больницы были еще уродливее ее наружности. В нее принимались только самые тяжкие больные, насквозь изведенные дурной болезнью[20] или проказой и брошенные родными на произвол судьбы. Избушки, окружавшие больницу, относились к ней, как подготовительная ступень, но пока человек имел силу ходить на ногах и вылавливать немного рыбы на пропитание, он считался здоровым.
По дороге к Ястребову Веревцову пришлось проходить мимо больницы. Больничный служитель Ермолай — с перекошенным лицом и глазами без ресниц — разговаривал с человеческой головой, слегка высунувшейся из-за полуоткрытой двери. Голова была вся обмотана тряпками; только огромные глаза сверкали, как из-под маски, лихорадочно воспаленным блеском.
— Скажи вахтеру, — шипела голова чуть слышным, слегка клокочущим шепотом, — третий день не евши… С голоду помираем…
— Вахтер еду себе забрал! — об’яснил Ермолай с эпическим спокойствием. — Больным, говорит, подаяние носят… Будет с них!..
Голос Ермолая был тонкий, дребезжащий и напоминал жужжание мухи в стеклянном стакане. Он составлял предмет постоянного любопытства для пропадинских ребятишек, и даже в эту самую минуту хоровод маленьких девочек, черных, как галчата, и одетых в рваные лохмотья, весело приплясывал за спиной Ермолая, под предводительством его собственной дочери Улитки, припевая известную на Колыме песенку:
У Ермошки, у Ермошки Гудят в носу мошки.— Кишь, проклятые!.. — огрызнулся Ермолай. — Подаянием, мол, живите! — прожужжал он еще раз.
— Мало! — шипела голова. — Двенадцать человек больных-то. Скажи вахтеру, пускай по рыбине пришлет!.. Поползем, мотри, по городу, опять худо будет…
В прошлом году больные, побуждаемые голодом, в виде экстренной меры, отправилась из дома в дом просить милостыню. Необыкновенный кортеж подействовал даже на закаленные колымские нервы, но мера эта была обоюдоострая, ибо жители боялись проказы, как огня, и готовы были перестрелять всех больных, чтоб избежать соприкосновения с ними.
Ястребов жил на самом краю слободки, в избушке, переделанной из старого амбара и с виду совершенно непригодной для человеческого жилья. Он завалил ее землей и снегом до самой кровли, и только одно маленькое оконце чернело, как амбразура, из-под белого снежного окопа. Вместо льдины окно было затянуто тряпкой. Маленькая дверь, толсто обшитая обрывками шкур, походила скорее на тюфяк. Иногда она так плотно примерзала к косякам, что открыть ее можно было только при помощи топора.
Подойдя к этому своеобразному жилищу, Веревцов нерешительно остановился. Дверь была плотно закрыта и раздулась, как от водянки, но из каменной трубы поднималась тонкая струя дрожащего воздуха в знак того, что топка давно окончена и последнее тепло улетает наружу.
«Дома, должно быть!» — подумал Василий Андреич и постучался сперва деликатно, потом довольно громко, но так же безрезультатно. Он постоял еще несколько секунд, поглядел на струнку тепла, трепетавшую над трубой, и, внезапно схватившись за ручку двери, изо всех сил потянул ее к себе. Члены колымской колонии сторожили друг друга и недоверчиво относились к запертым дверям, из-за которых не подавалось голоса.
Дверь щелкнула, как из пистолета, и распахнулась настежь. В глубине избушки обрисовалась крупная фигура Ястребова, сидевшего поперек кровати. Опасаясь окончательно остудить избу, Веревцов протиснулся внутрь и закрыл за собой дверь.
Внутри было темно, как в погребе. Свет проходил только сверху, сквозь отверстие трубы, ибо тряпичное окно совершенно заросло инеем. Ястребов сидел, опустив ноги на пол и опираясь руками в колени, так как кровать была слишком низка; глаза его были устремлены на противоположную стену. При входе Веревцова он даже не пошевельнулся.
— Что вы делаете? — сказал Веревцов не совсем уверенным тоном. Никогда нельзя было знать, чего можно ожидать от Ястребова даже в его лучшие минуты.
Ответа, однако, не было. Только широкая седая борода Ястребова внезапно дрогнула и как-то еще больше расширилась.
— Пойдемте в гости! — настаивал Веревцов, не желая отступить.
Ястребов опять не ответил. Время от времени на него находило странное состояние, похожее на столбняк, и он просиживал целые дни на одном и том же месте, не делая никаких движений и не говоря ни слова. Сознание, однако, его не покидало, и в сущности это был не столбняк, а скорее преддверие нирваны в виде непобедимого равнодушия ко всем внешним и внутренним проявлениям жизни.
— Ну же, вставайте! — не унимался Веревцов. Он даже взял Ястребова за руку и сделал попытку стащить его с места.
Седобородый охотник вдруг поднялся на ноги и, отодвинув Веревцова в сторону, вышел из избы. Василий Андреич с удивлением заметил, что на поясе его еще болтаются вчерашние куропатки. Несколько штук было разбросано по постели, и одна оказалась совершенно сплющенной. Столбняк, очевидно, нашел на Ястребова еще вчера, тотчас же по возвращении из лесу, и он просидел на кровати целые сутки.
— С’ешьте что-нибудь! — воскликнул Веревцов, выскакивая вслед за приятелем.
Он соображал, что Ястребов не принимал пищи со вчерашнего дня, и в то же время опасался, что он опять уйдет в лес.
Ястребов даже не обернулся. Он уходил крупными шагами по дороге, которая вела на другую сторону речки, в лучшую часть города. Веревцову ничего не оставалось, как последовать за ним.
Охотник перешел через мост и, пройдя несколько десятков шагов, свернул к большой избе, в окнах которой, несмотря на ранний час, уже светился огонь.
К новому удивлению Веревцова, это был именно тот дом, который и он собирался посетить. Однако, вместо того чтобы тотчас же зайти, он медленно прошел до самого конца улицы и так же медленно вернулся, как будто делая прогулку. Ему почему-то хотелось, чтобы Ястребов прежде обсиделся и пришел в более нормальное состояние.
Обширная изба выглядела сравнительно с жалкими логовищами Веревцова или Ястребова, как настоящий дворец. Гладко оструганные стены были даже украшены олеографиями «Нивы» в простых деревянных рамках. В левом углу помещался верстак, и весь угол был обвешан столярными инструментами. Посредине стоял большой деревянный стол, на котором кипел самовар и горели две сальные свечи.
Огромные льдины окон весело играли, отражая лучи этого света. Широкая кровать скрывалась за ситцевой занавесью, а в глубине комнаты, в красном углу, стоял еще стол. У этого стола сидел Ястребов и, как ни в чем не бывало, пил чай. За столом хозяйничала молодая и очень миловидная женщина с быстрыми черными глазами и нежным румянцем на смуглых щеках. Тонкие брови ее были слегка приподняты наружным углом. Руки были маленькие и красивые, просторная ситцевая блуза не скрывала крепких и стройных форм. Когда она разливала чай и разносила его гостям, каждое движение ее было исполнено свободы и грации.
Рядом с ней сидел еще молодой человек с меланхолически задумчивым лицом и каштановыми кудрями, ниспадавшими до плеч. Он сидел, несколько пригнувшись к столу, и с сосредоточенным вниманием пилил большим подпилком какую-то железную штучку, закрепленную в столовой доске. Подпилок оглушительно визжал, но никто не обращал на это внимания, и гости так непринужденно разговаривали, как будто в комнате была полная тишина.
Молодой человек с подпилком некогда изучал филологические науки в специальном учебном заведении и даже избрал было своей специальностью латинский язык. Быть может, поэтому в настоящее время, в силу закона противоположностей, он был лучшим и, можно сказать, универсальным ремесленником в Колымске. Разнообразие его занятий совершенно не поддавалось описанию: он обжигал кирпичи и чистил стенные часы, запаивал старые чайники и делал выкройки для дамских платьев. Спрос на его работу был неслыханный; местные обыватели считали его всезнающим и не давали ему покоя, да он и сам не хотел иметь покоя и даже за обедом не выпускал из рук подпилка или стамески. Плату он получал по преимуществу продуктами, и в его квартире было нечто вроде постоянного бесплатного табльдота для всех желающих.
Он женился почти тотчас же по приезде на Колыму, во время случайной поездки по округу, и необыкновенно счастливо, хотя его жена знала только тайгу и тундру и до замужества даже никогда не была в Колымске. Но молодая якутка так быстро научилась говорить по-русски и освоилась со своим новым положением, что уже через шесть месяцев могла сделать свой дом притягательным пунктом для всех членов колонии. Из нее, между прочим, вышла хорошая хозяйка, и она научилась даже удачно приготовлять невиданные русские блюда, насколько хватало припасов на Колыме.
Рядом с нею с обеих сторон стола сидели две пары гостей, так, что два человека, сидевшие друг против друга, составляли пару. Эти пары, видимо, обособились и даже раздвинулись, насколько дозволяло место. Первая пара играла в дураки, перебрасывая через стол ужасные карты, закругленные, как эллипсис. Справа сидел Полозов, огромный человек с волосатыми руками и большой круглой головой, крепкой, как голова тарана. Верхняя часть его фигуры, возвышавшаяся над столом, имела в себе что-то слоновье. Когда, увлекаясь игрой, он перемещался на стуле и, чтобы сделать свою позу удобнее, поднимал и ставил ногу на новое место, из-под стола раздавался стук каблука, подбитого железной подковой, широкого и крепкого, как копыто.
Партнер, сидевший слева, был, напротив, так мал, что голова его едва поднималась над столом. Это была тоже большая голова, с растрепанными черными волосами, маленькими черными глазами, подозрительно глядевшими из-под косматых бровей, и длинной бородой, конец которой уходил под стол. Благодаря ей он получил имя Черномора, которое пристало так крепко, что многие приятели совсем забыли его настоящее имя. Туземцы сделали из этого имени фамилию и называли маленького человека с большой бородой Черноморов. Ему не везло, и он горячился и с азартом бросал карты на стол, каждый раз высоко приподнимая руки, чтобы не стукнуться локтем.
— Ходи, ходи, Семен! — нетерпеливо покрикивал он на своего огромного противника, который действительно как-то мешковато справлялся с картами. Повидимому, для того чтобы приводить в действие такую тяжелую машину, каждый раз требовалось несколько лишних секунд против обыкновенного.
Вторая пара гостей вела теоретический спор и так погрузилась в него, что не обращала никакого внимания не только на присутствующих, но даже и на совершенно остывший чай, стоявший перед ними на столе. Они судили умирающий девятнадцатый век и тщательно разбирали его подвиги и преступления, чтобы произнести окончательное решение. Банерман, маленький, бойкий, с задорными серыми глазками и клочковатой мочальной бородкой, был обвинителем и перечислял завоевательные войны и междоусобные распри. При каждом новом факте он подскакивал на скамье и размахивал рукой, как будто бросая в противника метательное оружие.
Калнышевский, с красивым, но усталым лицом, большими бледноголубыми глазами и окладистой русой бородой, защищал обвиняемый век на статистической почве. Статистика была его страстью. Он запоминал целые столбцы цифр, даже самых ненужных, по преимуществу из календарей, так как другие статистические издания не доходили до Колымска. Спорить с ним было трудно, так как он быстро переводил вопрос на почву подсчетов и забрасывал противника числовыми данными. Он мог сообщить точные размеры земледелия и промышленных производств даже в вассальных княжествах Индии и в мелких султанствах Борнео. Он заставил Банермана перебрать государство за государством и уже успел оттеснить его в Испанию, на крайний юго-запад Европы, но Банерман ни за что не хотел сдаваться.
— Что такое Испания?.. — настаивал он. — У ней даже колоний почти не осталось, — только Куба и Филиппинские калачи!..
— Какие калачи? — с любопытством спросил Черномор, сдававший карты. — Филипповские?
Он не слушал спора, но долетевшие слова невольно привлекли его внимание.
— Филиппинские острова! — поправился Банерман со сконфуженным видом. Он страдал припадками афазии, в особенности неожиданные ассоциации идей заставляли его произносить совсем не те слова.
— Го-го-го! — пустил Полозов густо и громко. — Опять банерманизм!.. это еще лучше сегодняшней бороны!..
Полозов жил в одной избе с Банерманом, и не дальше как сегодня утром Банерман, желая попросить гребенку, чтобы расчесать бороду, попросил у него кратко «борону».
— Молчи, дурило! — огрызнулся Банерман. — Сапожник, знай свои колодки! — прибавил он не без язвительности, указывая на карты, разбросанные по столу.
— Ах ты, образина! — воскликнул Полозов, протягивая мохнатую десницу и делая вид, что может схватить сожителя за шиворот. — Нахалище ты этакий!
Даже слова он любил употреблять в увеличительной форме.
Банерман схватил вилку и без дальних церемоний ткнул ею в протянутую руку.
— Не лезь! — угрожающе предупредил он. — Ты — Мишанька![21] Дурилище ты этакий! — прибавил он в тон Полозову. — Отвяжись без греха.
Черномор сразу пошел пятью картами.
— Ты — дурак! — воскликнул он торжествующе. — Я выиграл!.. — Это была первая, игра, выигранная им за этот вечер.
Полозов нахмурился и зевнул.
— Ну, довольно! — сказал он, отодвигая скамью и вытягивая свои длинные ноги из-под стола. — Сколько за тобой конов, Черноморище?
— Тысяч семьсот двадцать, — полумашинально вставил Калнышевский в самую средину испанских статистических цифр. — Тысяча семьсот двадцать игр! — повторил он, видя, что собеседники не понимают и принимают эту новую цифру также за испанскую.
Игроки, по его предложению, вели точный счет выигранным и проигранным партиям, но и здесь он помнил итоги лучше всех.
Маленький человек сделал кислое лицо.
— Одну отыграл! — сказал он не без задора. — Потом еще отыграю…
— Никогда ты не отыграешь! — смеялся Полозов. — Помни, хоть по пятаку за штуку — это сто рублей.
— Меньше ста рублей, — поправил Калнышевский. — Восемьдесят пять рублей и девяносто пять копеек, — прибавил он, подумав с минуту.
Игра была безденежная, но, чтобы уязвить Черномора, требовалось так или иначе перевести проигрыш на деньги.
Хозяйка усадила Веревцова на лучшее место, у самовара, и тщательно старалась заставить его что-нибудь с’есть. Но Василий Андреич был непоколебим.
— Я пообедал дома, — повторил он на все соблазны. — Дайте лучше Полозову.
Огромный Мишанька на скудной пропадинской пище вечно чувствовал себя впроголодь, но он скрывал свою прожорливость, как порок, и никогда не позволял себе переходить общую норму.
Он посмотрел на Веревцова с упреком и, отрицательно мотнув головою, отошел к камину и принялся греть руки у огня.
— Отчего так поздно? — спросил Калнышевский.
Посещения Веревцова ценились, и если его долго не было в урочное воскресенье, всей компании как будто нехватало чего-то…
— У меня Алексеев, — кратко об’яснил Василий Андреич, — в юрте остался, не хочет в гости итти.
Наступило непродолжительное молчание.
— Он мне сегодня чуть голову не разбил, — сообщил хозяин так спокойно, как будто ценил свою голову не дороже яичной скорлупы. — Миской швырнул… Хорошо, что я отскочил, — прибавил он, принимаясь опять за подпилок. — Миска-то медная, край такой острый, на косяк налетела, дерево как ножом разрезала.
— Я его покормить хотела, — пояснила хозяйка, — а он всеё миску, да и с супом, Николаю Ивановичу в голову бросил… Так ничего и не поел! — закончила она со вздохом.
Повидимому, она больше всего жалела о том, что Алексеев остался без супу.
— Все от безделья! — заявил Банерман сентенциозно. — Живет один, занятий нету… Вот и отыскивает себе что-нибудь, чтобы внимание занять.
— Пускай он у меня поживет, — кротко сказал Веревцов. — Может, научится и в обществе жить.
— Бедняжка! — воскликнула хозяйка. — Пускай хоть отдохнет. Совсем измаялся.
— Только знаете, — продолжал Веревцов, застенчиво улыбаясь, — он просит, чтобы гости не ходили. В воскресенье, значит, у меня нельзя…
— Это жаль! — сказал Банерман. — Мы привыкли уже у вас.
— Ну, что ж делать! — задумчиво возразил Калнышевский. — Нельзя, так нельзя.
— Мне дьяконица говорила, — сказала вдруг хозяйка: — «Найдите шамана, пусть отколдует его, — напущено на него по злобе!» Пустое это! — поспешно прибавила она, видя неудовольствие на лице мужа.
— При чем тут дьяконица? — неохотно проворчал Николай Иванович.
— Он ведь у них сегодня ночевал, — об’яснила хозяйка. — Ночью стук поднял. «У меня, — говорит, — дома нехорошо…»
— Женить бы его следовало! — заметил Банерман. — Все бы как рукой сняло.
— Ну, я пойду, — сказал Веревцов, поднимаясь.
— Так скоро? — упрекнула его хозяйка.
— К Головинским зайти надо, — сказал Веревцов. — Младенца посмотреть.
Двухлетний Витька, истинный хозяин второго семейного дома, был в настоящее время единственным отпрыском молодого поколения колонии. Он был известен в просторечии под именем «младенца», или распространеннее — «государственного младенца».
На дворе давно было темно. Небо затянулось тучами. Внезапно метель разыгрывалась все сильнее. Струйки снежной пыли уже неслись вдоль улицы, затемняя воздух и мешая находить тропу, протоптанную пешеходами. С реки, которая расстилалась вдоль всего города, как широкая ледяная пустыня, уже доносился пронзительный свист вихря.
Дорога к Головинским шла по единственной улице города, дотом спускалась по крутому и скользкому откосу, обратно через утлый мост, перекинутый над рекой Сосновкой. Веревцов шел среди улицы, то-и-дело спотыкаясь на горках снежной пыли, наметенных поперек дороги, как неожиданные ступеньки. Ветер дул ему в лицо, и он невольно отворачивался и двигался вперед боком, осторожно переставляя ноги. На спуске стало еще хуже. Ветер намел сугробы во всех ложбинах и извилинах покатой тропы, особенно с левой, подгорной стороны. Сделав неосторожный шаг, Веревцов провалился до колен и набрал полные валенки снега.
Кое-как выбравшись на более твердое место, он полуинстинктивно стал забирать вправо, где на выпуклом ребре откоса снег проносило мимо. Благополучно спустившись на несколько десятков саженей, он опять попытался свергнуть влево к мосту и снова попал в сугроб. Поневоле пришлось держаться правой стороны, где все время нащупывалась твердая дорога. Было совершенно темно. Ветер продолжал дуть Веревцову в лицо, и он был поэтому уверен, что идет, куда нужно.
Но дорога вдруг перестала спускаться и неожиданно свернула влево. Ветер стал дуть Веревцову с правой стороны. Сбитый с толку, Василий Андреич попробовал по инерции отклониться вправо и попал в сугроб, еще более глубокий, чем прежние. Приходилось не мудрствовать и слепо покоряться колее, благо она еще прощупывалась под ногами. Саженей тридцать прошли без приключений, потом дорога еще раз свернула влево и стала круто подниматься в гору. Сделав несколько шагов, Василий Андреич почувствовал, что это был тот же выпуклый откос, по которому он только что спустился вниз, и внезапно сообразил в чем дело. Он сбился на одну из встречных дорожек и поднимался назад в город. Ветер дул ему теперь в спину, и он двигался довольно бодро и решал в уме, попытаться ли снова отыскать мост, или лучше вернуться к Горским и переждать метель.
Однако дорога, вместо того чтобы вернуться на улицу, превратилась в узкую тропинку. Пройдя еще несколько шагов, Василий Андреич с размаху наткнулся на дерево. Это его очень смутило, ибо на этой стороне Сосновки не было никакого леса, и он напрасно старался понять, откуда взялось дерево. Тропинка углубилась в лес. Здесь ветер был легче, но на каждом шагу Веревцов натыкался на деревья. Через несколько минут все следы тропинки исчезли, и ему пришлось пробираться вперед уже в глубоком снегу сквозь густые тальничные заросли. Теперь он был в полном недоумении, ибо такого густого тальника вообще не было в окрестностях Пропадинска. Он как будто попал в незнакомую лесную глушь и уже исцарапал себе руки и лицо в борьбе с упрямыми ветвями, хлеставшими ему в глаза.
Однако через десять или пятнадцать минут эта фантастическая тайга исчезла так же быстро, как и появилась, и Веревцов опять вышел на тропинку. Она была узко протоптана и уходила вправо и влево. Теперь он положительно не понимал, где находится, но, подумав с минуту, свернул наудалую влево.
Он шел чрезвычайно осторожно, постоянно ощупывая землю ногами, чтобы не сбиться с колеи. Но через несколько минут тропинка опять исчезла, он очутился в ложбине, наполненной доверху снегом, и опять стал на каждом шагу проваливаться по пояс; наконец, неловко ступив, попал в какую-то яму и провалился уже по шею. Мокрый снег набился ему комьями в рукава и за воротник. Ему стало очень холодно, несмотря на усиленное движение. Он стал карабкаться из ямы, но везде кругом был такой же мягкий и глубокий снег. Он обмял вокруг себя возможно более широкое пространство и стал очищать одежду от снега. Сюда, в ложбину, под защитой леса, ветер совсем не долетал, и совершенно сбитый с толку Веревцов стал подумывать, не дождаться ли ему здесь утра. Снег, однако, валил такими густыми и мокрыми хлопьями, что ежеминутно нужно было отряхиваться, чтобы сохранить сухую одежду. Вдруг прямо перед собой Василий Андреич увидел какой-то странный свет, смутный и мелькающий, похожий на луч, падающий из освещенного окна на дорогу. Свет был, однако, совсем вверху, так высоко, что, если бы не тучи, покрывавшие небо, его можно было бы принять за звезду.
— Го-го! — вдруг закричал Веревцов во всю силу голоса, вытягивая голову по направлению к свету.
— Го! — донеслось через минуту совершенно явственно. Там был, очевидно, не только свет, но и живой человек. Веревцов с неожиданной легкостью вскарабкался вверх по направлению к призыву и очутился на пригорке. Под ногами его в третий раз оказалась тропинка. Через минуту он наткнулся грудью на изгородь, за которой белела неясная четырехугольная масса человеческого жилища. Вся эта местность показалась Веревцову до чрезвычайности знакомой. Сделав еще два шага, он окончательно узнал свою собственную юрту. Недоумение его, конечно, не уменьшилось, ибо он не мог понять даже, каким образом он попал на эту сторону реки. Во всяком случае теплое жилье находилось перед ним, и это было лучше всего.
Алексеев стоял на крыше в косматой кабардинской бурке, которую привез с собой пять лет тому назад. Свет оказался большим фонарем, укрепленным на длинной палке, которую он прислонил к высокой трубе, выведенной под камином. Импровизированный маяк и его сторож были совсем подстать сумасшедшему ненастью, бушевавшему на дворе.
— Славная ночь! — со смехом сказал Алексеев, соскакивая с крыши и торопливо открывая дверь перед Веревцовым. — Отличная ночь!..
Лицо его сияло дикой радостью. Косматая голова, торчавшая из такой же косматой бурки и полузанесенная снегом, придавала ему вид какого-то фантастического лешего, которому место в глубине тайги, а не в человеческом доме.
— Они не пришли сюда! — продолжал он с торжеством в голосе, помогая озябшему Веревцову перебраться через порог. — У вас славный дом! Далеко, глухо… Кругом лес… Я думаю, они совсем не будут сюда ходить… Как ваше мнение?..
Веревцов с изумлением смотрел вокруг себя — он не узнавал своего жилища. Его новый товарищ успел за несколько часов переделать невероятное множество дел. Пол был чисто выскоблен и вымыт. Все окна освобождены из-под травяной покрышки, и иней с оконных льдин соскоблен. Даже кровать Веревцова была тщательно выскоблена и вытерта тряпкой.
Вместо верстака стояло другое ложе, сбитое из деревянных плах, но живописно задрапированное одеялом. Стол был застлан скатертью, и на нем горели две стеариновые свечи. Даже камин был выбелен мелом. В глубине его перед огромной загнетой горячих углей стоял готовый чайник с чаем и три горшка с различными снедями.
— Каково? — спросил Алексеев о наивным торжеством. — Видите, какой я проворный!.. Уже домой сбегал и вещи привез, да и салазки вместе, пускай тут стоят.
Он проворно разгреб загнету и затопил камин.
— И фонарь я тоже склеил, — продолжал он, — из рыбьей кожи. Думаю, нужно маяк устроить, а то Василий Андреич дорогу не найдет… А дров у меня много, — прибавил он, помешивая в камине, — мы их привезем на салазках. Во всю зиму не истопишь… Теперь садитесь, угощайтесь!..
Он стащил с Веревцова куртку и усадил его на место с такой осторожностью, как будто Василий Андреич был расслабленный.
— Видите, я ужин сварил! — указал он на горшки. — Суп с грибами, каша. На обоих хватит… Я тоже не буду есть мясо, как вы. Я хочу жить, как вы живете.
Василий Андреич слушал с удивлением, не совсем доверяя превращению своего гостя, но Алексеев тотчас же угадал его мысли.
— Мы с вами все так жить будем, — сказал он, — вы не думайте. Лишь бы они не ходили… Будем жить, как в браке. Я буду муж, а вы будете жена, или, если хотите, вы будете муж, а я буду жена. Или будем два мужа, или две жены, как вам угодно.
Настроение его было несколько шумно, но он весь сиял от радости.
— Лишь бы они не ходили сюда! — говорил он. — Вот увидите, что мы наделаем. Лишь бы в покое нас оставили!..
Он был так возбужден своими новыми надеждами, что после того, как свечи были погашены, и они улеглись спать, еще неоднократно окликал Веревцова.
— Видите, видите! — повторял он. — Их нет. Вы запретили им ходить… Пускай же они не ходят! Увидите, как мы будем жить!..
Утомленный Веревцов не слушал и заснул; но и во сне ему мерещилась оригинальная фигура, полузанесенная снегом и похожая на лешего, стоявшая на крыше с фонарем на длинной палке и бормотавшая, как заклинание:
— Пускай они не ходят! Не надо их! Пускай они не ходят!
Снег в этом году сошел довольно рано, но река все не могла вскрыться. Днем солнце пригревало, мерзлая земля оттаивала и раскисала на припеке, но к полуночи опять становилась твердою, как камень. Трехаршинный лед так крепко примерз закраинами к тинистому берегу, что даже неустанная сила бегущей воды все еще не могла оторвать его долой и унести с собою. Веревцов и Алексеев возились с утра до вечера, обстраивая будущие огороды. Длинные рамы парника уже стояли с южной стороны юрты, поблескивая на солнце новыми стеклами. Многие стекла разбились, но Алексеев искусно склеил их замазкой собственного изобретения — из творога, смешанного с песком и рыбьим жиром. За парником тянулись гряды, окруженные забором; некоторые были даже вскопаны, несмотря на ночные заморозки. Семена были высажены в горшки в деревянные латки. К полудню их выносили на двор и расставляли на крыше длинными рядами, а к вечеру убирали в юрту.
Теперь юрта имела более веселый вид. Сталактиты давно оттаяли, и несколько времени тому назад Алексеев дошел до такой предприимчивости, что заново оклеил все стены газетной бумагой, к великому ущербу куля с мукой, стоявшего за печкой, из которого он брал муку для клейстера. С самого своего переселения к Веревцову он тоже стал вегетарианцем, и перемена пищи, повидимому, благотворно повлияла на его здоровье. Кошмары почти совершенно исчезли, особенно с наступлением весны, и в настоящее время он равнодушно относился к тому, ходят или не ходят гости в юрту. Заинтересоваться опять общением с другими он не мог, ибо его общественные интересы были убиты зимними невзгодами.
Однако он ревностно участвовал в приготовлениях к праздникам и особенно тщательно очищал косяки и полы, желая, чтобы старое жилище выглядело попривлекательнее. Не в последние недели ему пришлось забыть о чистоте. Горшки и фляги с рассадой к вечеру до такой степени наполняли юрту, что негде было пройти. Приятели убрали столы и кровати и спали в темном углу, где раньше стоял ушат с водой и хранилась грязная посуда. Колоды и стойка для водопровода тоже были готовы, но все еще лежали на крыше, так как можно было опасаться, что половодье затопит все вокруг, кроме холма, на котором стояла юрта. Наконец, в одно утро, товарищи, выйдя на двор, неожиданно увидали воду речки у самой своей двери. Ночью начался ледоход, и все протоки Колымы мгновенно переполнились и вышли из берегов. Лед шел по реке густой массой, громоздясь вверх огромными глыбами, и, надвигаясь на берег, оставлял глубокие борозды в прибрежной гальке и отрывал целые куски яров с растущими на них деревьями К полудню пониже города ледоход совсем остановился; вода стала подниматься и затопила город. Наступила обычная весенняя картина. Все низкие места обратились в озера. Амбары и лодки, стоявшие пониже, были унесены или изломаны в щепки. В половине домов было наводнение; жители переселились на крыши или устроились в лодках, привязанных к столбам полузатопленных оград. Многие перебрались в церковь, стоявшую на высоком холме среди города.
Юрта, построенная в стороне, стала уединенным островом, и обитатели ее были совершенно отрезаны.
К счастью, вода не добралась до парника, устроенного на склоне холма: гряды были затоплены, но это не могло принести им вреда. К вечеру затор прорвался, и вода спала. В течение следующих дней было еще два или три затора, хотя и не таких больших. Наконец главную массу льда пронесло вниз, река очистилась, и настало лето. На другой день земля, как по волшебству, покрылась зеленым ковром, на всех деревьях развернулись почки.
Еще через два дня в траве появились головки ландышей, и на ветвях тальника стали завиваться барашки. Всевозможные птицы с непрерывным гамом и стрекотаньем летели вдоль реки на север. Воздух наполнялся приятным смолистым запахом лиственницы и ползучего кедра. Природа торопилась, ибо ей нужно было начать и окончить целую вереницу мелких и крупных дел за два коротких месяца праздничного летнего приволья.
Цветоводство и огородничество Веревцова и Алексеева было в полном разгаре работы, как свидетельствовала даже вывеска, тайно нарисованная художником Джемауэром и повешенная ночью на дереве, чтобы сделать Василию Андреичу сюрприз. На вывеске была изображена чудовищная телега, нагруженная доверху различными произведениями сельской природы, а Веревцов в позе Цинцинната стоял возле, опираясь ногой на заступ и безмолвно предлагая прохожим свои дары.
Картофель, капуста и брюква были пересажены на грядки, а огурцы — в парник. Обыватели каждый день приходили к юрте полюбоваться на невиданное зрелище, так как парника и водопровода никогда еще не было в Колымске. Лужайка перед юртой сделалась любимым местом собраний городских мальчишек, которые в особенности любили наблюдать, как длинный очеп спускается и подымается над рекой, точно шея долговязой огромной птицы, пьющей воду. Мальчишки, впрочем, держались на почтительном расстоянии. Длинные ноги Веревцова и косматая голова Алексеева внушали им робость. В городе к тому же ходили смутные слухи, что в невиданной затее пришлых людей не обошлось без лешего, который именно и перетаскивал из лесу все эти огромные колоды.
Лето быстро подвигалось вперед. Посевы поднялись на славу. Огород покрылся широкой и плотной зеленью. Первые тонкие листочки будущих капустных вилков стали курчавиться и свиваться вместе. Желтые цветочки огурцов отцветали в парилке, и местами зеленое донышко цветочной чашки уже стало удлиняться, принимая характерную овальную форму. Большая часть колонии раз’ехалась по рыболовным заимкам, город опустел, осталось только несколько нищих старух на Голодном Конце, больные в больнице, два попа колымской церкви да целое стадо бродячих собак, отпущенных до осени на волю.
Собаки, однако, приносили Веревцову больше испытаний, чем люди. Они рассматривали межи между огородными грядами, как место, специально назначенное для бега взапуски и всевозможных ристалищ. Изгородь, устроенная Веревцовым вокруг посевов, еще ухудшила дело. Собаки каждую ночь проделывали новую лазейку, но в решительную минуту забывали все и, преследуемые хозяевами, метались из стороны в сторону, каждым прыжком уничтожая юную редиску или полную свежего сока репу. Впрочем, они слишком привыкли к ударам, чтобы обращать на них внимание. Лето было для них праздником, так как летом не было запряжки, и они старались насладиться по-своему свободой и теплом.
Веревцов и Алексеев не отлучались от огорода и сторожили свои работы. Веревцов сплел травяные маты во всю ширину огорода, чтобы закрывать гряды при ночных морозах, которые должны были начаться со дня на день. С парником он возился, как с больным ребенком, то открывая его, чтобы огурцы погрелись на солнце, то поспешно закрывая его опять при первом намеке на охлаждение воздуха. Цветы расцвели и отцвели, но ему некому было дарить букеты, ибо ни одной дамы не было в городе, и в конце концов, он сосредоточил все свои упования на прозаических, но более полезных дарах огородной Помоны.[22]
Вечерняя заря снова оторвалась от утренней, и темный промежуток становился все длиннее. Комар, мошка, всяческий гнус первой половины лета ослабели и стали безвредны. Наступило самое лучшее время полярного года. Днем было тихо и тепло, но в полночь, если небо было ясно, холод давал себя знать. Работы около огорода было совсем мало. Алексеев начал ставить сети по речке, в трех верстах от их усадьбы. У них теперь была своя небольшая лодка, и они ездили вдвоем на высмотр рыбы. По берегам речки они заодно собирали в груды сухой лес, намереваясь вывозить его зимою по санной дороге. Веревцов затеял сплавить плот, и вчерашний день до позднего вечера компаньоны сгруживали бревна на вольной воде и связывали их вместе гибкими тальничными ветвями.
Солнце только что взошло, и густая роса, осевшая за ночь на траву, поднималась ему навстречу белыми клубами тумана. На дворе было сыро и довольно прохладно, но в юрте, где топился ежедневно камин, было сухо и тепло. Компаньоны устали вчера от мокрой работы и разоспались на славу. Алексеев вообще теперь спал очень крепко, как будто хотел вознаградить себя за зимние страхи и бессонницы. Вдруг со двора долетел жалобный звон разбитого стекла. Веревцов поднял голову, посмотрел вокруг себя и сел на постели; он, очевидно, не мог понять, в чем дело. Звон повторился, сопровождаемый собачьим визгом. Веревцов сорвался с постели и, как был, без сапог и в одном белье, выбежал на двор. Зрелище, представившееся ему, чуть не заставило подняться его волосы дыбом.
Какой-то предприимчивый щенок, перебравшись через ограду, вздумал выбрать себе беговой ареной стеклянную крышу парника и до тех пор бегал взад и вперед, пока одно стекло, некрепко державшееся, не раскололось пополам, и половина его упала вниз. Щенок был настолько неловок, что провалился в отверстие, но уцепился передними лапами за деревянную раму и, стараясь выкарабкаться, сломал остаток стекла. Он, очевидно, обрезал себе лапу, ибо подошва была в крови, которая испачкала также косяк рамы и упала несколькими розовыми капельками на гладкую поверхность стекла. Он бился и царапал когтями раму и все балансировал, отказываясь свалиться вниз и не имея достаточно опоры, чтобы вылезть наружу.
— Что ты делаешь? — воскликнул Веревцов, обращаясь к щенку, как к человеку.
При виде подбегающего врага щенок взвизгнул и усиленно рванулся из стеклянной западни.
— Пошел, пошел! — отчаянным голосом кричал Веревцов. — Огурцы потопчешь!..
Щенок сделал последнее усилие и, выскочив из парника, пустился прыгать по капустным грядам. Веревцов вдруг схватил обломок жерди, валявшейся на земле.
— Я буду защищаться! — крикнул он еще громче прежнего и, размахивая оружием, пустился в погоню за четвероногим неприятелем.
Две другие собаки появились, неизвестно откуда, как будто выросли из-под земли, и принялись метаться взад и вперед, увеличивая суматоху. Алексеев выскочил из юрты тоже с палкой и сделал на собак такое стремительное и удачное нападение, что они сразу перескочили через изгородь, в том месте, где она была пониже. В левом углу огорода он отыскал подкоп и стал тщательно разгребать землю, увеличивая лазейку.
— Что вы делаете? — удивленно спросил Веревцов.
Он совсем запыхался, не столько от беготни, сколько от волнения: это было его первое сражение с живыми существами.
— Петлю наставляю! — свирепо об’яснил Алексеев. — Пусть хоть одна попадет. Надо их проучить.
Он приладил в отверстии подкопа крепкую веревочную петлю, с тем расчетом, чтобы она соскользнула на шею первого дерзкого животного, которое попытается пробраться в ограду.
— Вяжите покрепче! — поддерживал его Веревцов. — Пусть попадет!.. Они нападают, мы будем защищаться.
Воинственные страсти, которые дремлют в каждой, даже самой мирной, груди, проснулись и у Веревцова, и он готов был защищать свои посадки от всего света.
Однако драгоценные огурцы были совершенно невредимы.
Только двух стекол нехватало в парнике, но Алексеев придумал заменить их налимьей кожей, из которой туземцы сшивают окна.
Небо хмурилось, как бы сочувствуя огорчению двух товарищей. Подул северный ветер. Несмотря на приближение полудня, воздух становился все холоднее. Тучи были какого-то странного светлокофейного, почти желтоватого цвета.
— Будет снег! — заявил Алексеев, внимательно посмотрев на запад.
— Какой снег! — запротестовал Веревцов. — Теперь ведь лето!..
— В позапрошлом году в июле, в конце, выпал снег по колено. Мы думали — река станет. Да вот он уже идет! — прибавил Алексеев, указывая на несколько белых пушинок, промелькнувших в воздухе. — Легок на помине…
Компаньоны бросились закрывать гряды циновками. Снег тотчас же перестал, но температура упорно понижалась. Ветер становился крепче и пригонял с севера все новые кучи светлокофейных облаков. Первый августовский утренник готовился на славу.
К ночи облака поредели и разорвались клочьями, солнце зашло в яркобагровом зареве. Стало так холодно, что земля сразу закостенела и звенела под ногами, как осенью. Лужи покрылись тонким ледяным салом, даже в колоде водопровода вода подернулась льдом.
Компаньоны покрыли парник всеми циновками и тряпками, какие нашлись в юрте. Даже одеяла с постелей пошли в ход, хотя и в юрте с непривычки стало холодно. Но Алексеев топил камин, как зимою.
К полночи настал настоящий мороз. Компаньоны то-и-дело выходили проведывать огород, но на дворе было темно, только холодный ветер щипал уши и щеки. Против этого холода нельзя было ничего сделать, разве только втащить парник и все гряды в дом.
Наконец, вернувшись со двора в десятый раз, Веревцов улегся на кровать и повернулся лицом к стене, демонстративно делая вид, что хочет заснуть. Алексеев опять поставил дров в камин и стал кипятить себе чай, но и он больше не выходил на двор.
Утром стало теплее; ветер сошел на запад, тучи опять сгустились, и пошел дождь. Теперь можно было открыть и осмотреть гряды. Оказалось, что капуста, лук и картофель, выращенные на вольном воздухе, сумели выдержать холод и мало пострадали. Но бедные огурцы окостенели в своей деревянной коробке. Самые крупные листья свернулись точно от огня, и большая половина стеблей наклонила голову вниз, как бы признавая себя побежденными.
Веревцов смотрел-смотрел на маленькие зеленые огурчики, которым уже не суждено было вырасти, и вдруг погрозил тучам кулаком. В защиту своего огорода он был готов на борьбу даже с небесами, но этот враг был слишком могуществен, и против него не помогали ни палки, ни петли.
После первого утренника опять настала ясная и теплая погода. Первый приступ осенней ярости истощился сразу и снова дал передышку испуганной природе. Парник наполовину увял, но огородные гряды процветали, как нельзя лучше. Картофель и репа были в земле, но капустные вилки побелели, завивались все крепче и крепче и лежали на земле, как большие светлозеленые ядра.
Жители, туземные и пришлые, стали с’езжаться. Около юрты каждый день опять являлись любопытные посетители. Капуста завилась в Колымске в первый раз. Поп и исправник прислали просьбу продать им часть капусты. Оли тоже питались рыбой, как и все остальные житель, и свежие овощи были для них новинкой.
Наконец наступил апофеоз. Все наличные члены колонии собрались в огород. Мальчишки со всего города тоже сбежались любоваться, как русские люди делят земляную еду.
Овощи были выдерганы, срезаны и сложены в кучу. Луку и картофеля было мало, но редька, репа и морковь лежали грудою; главное же украшение составляли двести больших вилков капусты, сложенных вместе в большой белый холм. На этот раз Веревцов не стал устраивать лотерею. Он взял себе с Алексеевым пятую часть сбора, а остальное поделил поровну между всеми.
Никакие отговорки не помогали.
— Я даже исправнику послал, — сурово возражал Веревцов, — и попам. И они взяли. Тем более вы!.. А нам вдвоем сорока кочней довольно за-глаза…
В конце концов, на свежем воздухе около юрты устроился импровизированный праздник. Дамы сварили обед со свежими овощами. Горский сходил в город и достал у одного из своих многочисленных клиентов две бутылки наливки, а Полозов принес спирту из кабака.
После обеда на гладкой площадке перед водопроводом устроились даже танцы.
Валериан так разошелся, что произнес в честь Веревцова речь:
— Ты! — сказал он. — Ты!.. Великий ты!.. Ты открыл в Колымске новую, земледельческую эру. Остается только изменить климат и уничтожить мерзлоту почвы, и вокруг Голодного Конца будет процветать даже пшеница.
Где прежде в Капитолии судилися цари…затянул Черномор тонкой фистулой. Маленький человек очень любил пение и всегда брал на себя роль запевалы.
Там в наши времена сидят пономари.отвечал Полозов грубым, как бы даже одутловатым басом.
Где прежде процветала троянская столица, Там в наши времена посеяна пшеница!Банерман достал гребенку и папиросной бумаги и подыгрывал с большим искусством. Ястребов трубил в трубу, свернутую из двух газетных листов.
Ковзариум, ковзариум, Три бом-бом-бом, три бом-бом-бом!..далеко разносился припев, знаменуя наступление новой, земледельческой эры на реке Колыме.
С.-Петербург, 1899 г.
Ожил
Жаркий летний день загорался над Урочевым. Солнце только что взошло, и роса блестела в траве, но комары и слепни поднимались тучами, готовые опять напасть на скот, немного отдохнувший на ночном пастбище от дневного мучительства. Лошади ушли на болото, где было свежее, но пузатые коровы, тонкие ноги которых были слишком слабы, чтобы пробираться по кочкам, не хотели уходить от деревни и жались у дымокуров, которые каждая семья разводила перед своею дверью для защиты от насекомых.
Из березовой рощи, примыкавшей к поселку, слышалось негромкое горловое пение, похожее на жужжание шмеля.
Это молодые якутки, возвращаясь с ночного осмотра рыбной верши, зашли надрать бересты для бураков, так как лето выдалось многотравное и благоприятное для скота, и для молочных скопов нужна была новая посуда.
Урочево представляло собой беспорядочную группу деревянных юрт, разбросанных на небольшой поляне, растащенной из-под леса, — это было единственное сухое место на двадцать верст в окружности.
Дальше, за пределами ближайших ивовых зарослей, начинались мокрые луга и совершенно непроходимая тайга, где корявые деревья росли на верхушках странных зыблющихся холмиков и в густом мху под буреломом стояли холодные лужи, в которые неминуемо проваливался по пояс самый опытный путник, рискнувший забраться в эти непролазные дебри.
Якутские юрты были устроены с небрежностью, скорее пригодной для тропиков, чем для суровых урочевских холодов.
Зимою вместе с людьми здесь помещался также скот, в темном отделении по другую сторону входа. Для большей теплоты стены смазывались толстым слоем навоза, но летом обмазка осыпалась, и повсюду светились щели, давая свободный проход не только ветру и солнцу, но даже надоедливым насекомым.
Посреди поселка, на низком, но довольно широком холме, образовавшемся от столетних наслоений мусора и щепок, стояло большое здание, по внешнему виду которого трудно было судить о его назначении.
Оно было, по образцу якутских жилищ, составлено из стоячих бревен, но бревна были на подбор ровные, толстые и так плотно прилаженные друг к другу, что нигде не оставалось места для щели. Над бревнами было положено несколько связей, срубленных по-русски, угол на угол, и в небольших вертикальных стенках были прорезаны бойницы, заткнутые изнутри круглыми затычками из оленьей шкуры. Огромная труба камина возвышалась на плоской крыше, как дупло обгорелого дерева, и над нею нависла какая-то странная шапка, соединенная с системой коленчатых деревянных рычагов, сходивших вниз. Со всех четырех сторон были пристроены сараи, хлевы, сенники, странные туземные амбары на высоких стойках, как будто забравшиеся на ходули, навесы для сушеной рыбы, и над всей этой кучей построек поднимался длинный жидкий шест с громоотводом и анемометром, а в некотором отдалении возвышалась сухопарая метеорологическая будка с решетчатыми стенками и такими прямыми деревянными ногами, как будто они потеряли способность гнуться от застарелого ревматизма.
Будка соединялась с жилищем решетчатым переходом, по которому можно было пробираться только при помощи системы кольев, пристроенных то слева, то справа. Прогулка по этому переходу в ненастную зимнюю ночь была впору разве для искусного акробата, а не для обыкновенного смертного.
Переход доходил до самой двери, в верхней части которой была вырезана форточка вроде слухового окна, плотно закрытого изнутри деревянным ставнем. Последнее колено рычага, сходившее с крыши вниз, тут же проникало сквозь дверной косяк внутрь жилища. Форточка бесшумно отворилась, и длинное тощее тело проскользнуло наружу, с ловкостью паука пробежало до утлому переходу, быстро перебирая руками и ногами по неверным точкам опоры, потом выпрямилось на небольшой площадке перед будкой и уселось на перекладине, заменявшей скамью. Это был человек высокого роста и красивого худощавого сложения, одетый в короткую кожаную рубаху, открытую на груди и с большим карманом у пояса, откуда торчала коричневая записная книжка.
Его скрещенные ноги, небрежно спущенные вниз через край доски, напоминали известную статую Мефистофеля, изваянную Антокольским, но на широких сухих плечах сидела типичная голова старого степного татарина с жидкой бородой, широкими скулами и глубоко впавшими темнокарими глазами; тонкие губы были плотно сложены, высокий, немного суженный с боков черед был выточен округло и крепко.
Идеи, попадавшие под этот череп, не разлагались и не выветривались, но медленно и упорно развивались, стараясь достигнуть зрелости, чтобы потом так же упорно стремиться к воплощению в дело.
Александр Никитич Кирилов был старожилом Урочева. Когда, десять лет тому назад, он поставил первое бревно своего жилища на уплотненную почву выморочного якутского сельбища, по соседству было только два дома. С тех пор к жителям присоединились еще восемь семей, привлеченных возможностью заработка вокруг обширного молочного хозяйства, которое он развел на этих сочных болотистых лугах, и возник порядочный поселок. Теперь с каждым годом прибавлялись новые дома, и Урочево скоро обещало сделаться центром этого малонаселенного околотка, где большая часть поселков состояла из одного-двух жилищ.
Достав из кармана книжку, Кирилов принялся методично записывать наблюдения. Он вел станцию уже восьмой год, имел два хвалебных отзыва за аккуратность и даже серебряную медаль, которою втайне очень гордился.
За все восемь лет он пропустил только одно наблюдение, когда внезапно налетевший буран свалил и будку и мостки и угрожал снести с места даже крепко вкопанное в землю жилище одинокого метеоролога.
Аккуратность Кирилова, действительно, была необыкновенна: он так привык три раза в день пробегать на четвереньках по своим воздушным жердочкам и отмечать цифры в книжке, что ни болезнь, ни погода не могли задержать его хотя бы на одно мгновение; кажется, даже в случае внезапней смерти труп его все-таки производил бы наблюдения, по крайней мере до погребения.
Записав температуру и влажность, Кирилов стал оглядывать небо для определения облачности. Небо было совершенно чисто и сияло бледной синевой, свойственной северным широтам. Только на юге-востоке легкие кучевые облака пылали в лучах восходящего солнца.
Взгляд Кирилова задержался на минуту на тонкой полоске гор, чуть выступавшей на горизонте под этими яркими облаками.
Когда-то он любил эти отдаленные горы, которые начинались за двести верст от Урочева и оттуда тянулись непрерывно до самого моря, становясь все выше и круче и постепенно превращаясь в зубчатые стены нетающих облаков. Даже плоский пейзаж Урочева с этой небольшой синей полоской на горизонте он упорно называл горным видом.
Он любил эти горы за то, что они были непроходимы и так далеко уходили на юг.
В долгие летние вечера, разглядывая их с вершины своей обсерватории, он иногда мечтал о далеких тропинках, пролегавших сквозь дремучую тайгу, где еще никогда не ступала человеческая нога. Тек мечтает старый бродяга, который сам хорошенько не знает, хватит ли у него силы в последний раз еще попробовать дорожного счастья. Но в последние годы эти мечты отошли на задний план…
Тучи насекомых становились все гуще. Коровы жалобно мычали, как бы призывая на помощь владельца; толкаясь у дымокура, они наполовину затоптали тлеющий навоз. Телята упрямо лезли в огонь, не обращая внимания на запах горелой шерсти, поднимавшийся от их обожженных ног.
Кирилов поспешно вернулся в свое жилище и через минуту появился на пороге внизу уже в полной летней одежде, состоявшей из той же рубахи с прибавкой кожаных штанов и коротких чулок из мягкой шкуры жеребенка. Грудь его была попрежнему открыта, а шапки он не носил ни летом, ни зимою. Комары почти не трогали его; быть может, они убедились, что из такой сморщенной кожи и ссохшихся жил трудно добыть хотя бы каплю теплой крови.
По сторонам дома были устроены четыре больших навеса, в строгом соответствии с четырьмя румбами компаса.
Посреди каждого навеса было сложено нечто вроде земляных жертвенников, окруженных деревянной оградой и назначенных для дымокуров.
При неудобном выборе навеса, не соответствовавшем направлению воздушных струн, под низкую деревянную кровлю проникало слишком много дыма, или, наоборот, навес наполнялся густыми клубами дыма, заставлявшими кашлять и чихать дойных коров и обращавшими в бегство нетерпеливых телят.
Подумав с минуту, Кирилов обошел кругом дома, намереваясь устроить дымокур с юга. У жертвенника уже копошилась небольшая человеческая фигура, раскладывая огонь. Очевидно, в этом скотоводческом поселке забота о благосостоянии коров мешала спать не одному только хозяину.
Новая фигура у огня была одета в короткий кафтан из телячьей кожи и широкие кожаные штаны. Голова ее была повязана пестрым ситцевым платком, нахлобученным до самых бровей, как это в обычае у мужчин и женщин на севере, но из-под платка светились большие карие глаза, смирные и спокойные, как у молодой коровы; красные круглые щеки горели смуглым румянцем от постоянной работы и движения на открытом воздухе. Это была скотница Хаспо, которую Кирилов в редкие минуты шутливости называл Шасспо[23]. Она происходила из очень бедной, почти нищей семьи, постепенно вымиравшей от того отсутствия жизненной энергии, какое часто поражает целые поселки на крайнем севере. В конце концов пятнадцати лет Хасно осталась круглой сиротой, и родовичи, не знавшие, что с ней делать, были рады пристроить ее к хозяйству Кирилова, которое в то время только что заводилось. С тех пор уже десятый год Хаспо верой и правдой ходила за коровами и телятами Кирилова, число которых постепенно возросло до двух десятков. Она убирала хлев и задавала корм, топила печь в коровнике, зимою окапывала его снежным валом, чтобы телята не мерзли по ночам. Летом она разводила дымокур, гоняла скот на пастбище и водопой, следила, чтобы ни один теленок не застрял в болоте. Хаспо не любила сидеть без дела, она обладала такой силой и проворством, что соседние парни, которым не раз приходилось испытывать силу ее руки, дали ей прозвище «мужик-баба», — высшая похвала, которой удостаивается из уст якута только самая проворная и работящая женщина, и то средних лет.
Коровы со всех сторон сходились под навес к спасительному дыму.
— Доить пора, господин! — сказала Хаспо, прикладывая правую руку к груди.
Она питала к Кирилову почти такое же чувство, какое хорошая охотничья собака питает к доброму и недрачливому хозяину. За все десять лет Кирилов ни разу не сказал ей грубого слова. Она была вольна выбирать себе еду по собственному вкусу из разнообразных запасов в амбарах усадьбы. Каждый месяц она получала жалованье тканями, кирпичным чаем и деньгами. Большую часть она отдавала соседкам, которые, с тех пор как Хаспо разбогатела, усердно начали считаться с нею родством. В щедрости ее не было ничего необыкновенного, ибо жители одного и того же поселка обычно живут, не считаясь между собой займами и услугами. Все-таки на сто верст в окружности ни у кого не было таких нарядов, как у Хаспо, и ее зимняя парка из черного меха, крытого алым сукном, представляла предмет зависти даже для дочерей князьца, которые должны были довольствоваться дешевым ластиком.
Кирилов сходил в юрту и вернулся с большим куском желтого мыла и грубым холщевым полотенцем в руках. Он строго следил за опрятностью своего молочного хозяйства, и его скопы отличались от туземных именно отсутствием грязи и всякого сора. Однако, несмотря на долголетнюю практику, ему еще не удалось научить Хаспо мыть руки по собственной инициативе. Особенно в зимние холода Хаспо явно отлынивала от горячей воды и мыла, ибо, как и все якуты, она была убеждена, что кожа, лишенная грязи и изнеженная ежедневным мытьем, потом трескается на морозе. Однако теперь было лето, и Хаспо довольно добросовестно вымыла руки по локоть и стала отводить коров в подойный хлев. Кирилов вынес из-под навеса несколько больших берестяных бураков, которые назначались для разлива удоев. Он собственноручно вымыл их накануне горячей водой, ибо наблюдение за чистотой посуды он тоже не доверял скотнице. После этого он окончательно вернулся в избу. Его трудовой день начинался, и ему нужно было до обеда переделать много разнообразных дел.
Внутреннее убранство юрты представляло необыкновенный вид. Огромный глиняный камин, занимавший почти всю заднюю стену, был весь заставлен какими-то сложными приспособлениями из деревянных рычагов и железных крючьев и даже зубчатых колес, искусно вырезанных из старых дубовых клепок. Приспособления имели целью автоматически передвигать горшки и котелки сверху вниз и справа налево, соответственно изменению температуры в разных углах каминного жерда. Вверху, под самым челом, парила в воздухе огромная железная сковорода, поддерживаемая навесу невидимыми проволоками. Немного пониже висел чугунный котелок странной формы, снабженный двойным жестяным забралом в защиту от копоти и пожога и более похожий на старый шлем, чем на сосуд для варки пищи. Вертикальная ручка рычага, проведенного на крышу к дымовой трубе, торчала сбоку камина, как огромный восклицательный знак. По бокам камина были три подставы для дров, в виде больших этажерок. Кирилов подбирал поленья, толстые к толстым, а тонкие к тонким, ибо такой подбор скорее и равномернее сгорал и давал больше тепла. Третья этажерка назначалась для лучины, которая запасалась в таком огромном количестве, что все соседние хозяйки каждую зиму брали ее у Кирилова взаймы без отдачи.
Единственное окно было устроено под самым потолком. Перед окном на высоте полутора саженей был прилажен узкий стол из грубой некрашеной доски. Перед столом стоял необыкновенный табурет с узким сиденьем и очень длинными ножками. Табурет был так высок и шаток, что, казалось, только птица могла взлететь на это необыкновенное седалище без риска сломать себе шею.
От окна тянулись полки, уставленные книгами в крепких, но немного запыленных переплетах. Кирилов выписывал их на деньги, выручаемые от молочного хозяйства. Почти все они были исторического и философски-научного содержания, и в долгие зимние вечера между Дарвиным и Рескиным и перед ярким пламенем горящего камина Александр Никитич как-то чувствовал, что он не один в комнате. Но два года тому назад зрение его стало портиться, и, опасаясь ослепнуть, он совсем забросил чтение. Впрочем, он обладал хорошей памятью и еще теперь, сидя один перед камином, повторял наизусть отрывки из своих любимых авторов, нечувствительно смешивая их вместе и соединяя в одну общую философскую систему.
Против камина в разных местах стен были устроены трое полатей различной высоты. Кирилов спал только четыре часа в сутки, но всегда при одной и той же температуре. Он ложился на самой нижней кровати, но к утру постепенно перебирался вверх по мере охлаждения своего жилища. Постели у него не было, ибо он с ранней юности привык спать на голых досках, и его кости, казалось, так же мало нуждались в мягкой подстилке, как и поленья за камином.
В правом переднем углу были устроены большие весы, с рычагом, разделенным по десятеричной системе, сделанные из твердого дерева, без малейшего кусочка железа. В левом углу пестрели выплетенные из молодой ивы загородки для телят. Кирилов любил их и зимою всегда держал двух или трех в юрте. В декабрьской полутьме в просторной хозяйственной лаборатории было так тоскливо, что даже телята составляли общество для одинокого человека. Кирилов привязывался к своим четвероногим питомцам, как к маленьким детям, кормил их из собственных рук и даже клал спать на свою кровать, перенося с собой вверх по мере обычного восхождения. Над больными телятами он просиживал бессонные ночи и усердно отыскивал для них лекарства в домашней аптеке, которую пополнял каждый год и с одинаковым успехом применял к лошадям и коровам и к туземным соседям. В деревянном полу в разных местах были прорезаны люки, которые вели в погреба и погребки, вырытые в мерзлой подпочве. Здесь хранились молочные скопы и разнообразная готовая пища в охлажденном или даже замороженном виде. Всех погребов было пять, и каждые два года Кирилов выкапывал еще один.
Быстро поставив в камин охапку тонких дров с левой этажерки, Александр Никитич уселся на свое обычное место впереди каминного жерла. Своей странной татарской головой, сухопарой фигурой и небрежной одеждой он походил на монгольского кудесника, который готовится при помощи таинственных заклинаний привести в движение окружающие предметы и заставить их исполнять его приказания. Взявшись за ручку большого рычага, выходящего наружу, Кирилов сильно потянул ее к себе. На крыше послышался скрип, и большая черная затычка поднялась над дымовой трубой, как ведро над колодцем, потом отошла в сторону и спустилась вниз. Северные жители, открывая и закрывая трубу, влезают на крышу по особой лестнице, вырубленной из толстого бревна. Кирилов, устроив систему рычагов, перестал лазить на крышу и потом, следуя обычной логике изобретателя, сбросил на землю ступенчатое бревно и разрубил его на дрова. К сожалению, хитрая деревянная механика действовала не очень аккуратно, и иногда затычка, поднятая на рычаге, ни за что не хотела попасть обратно в трубу после топки. Изба была так высока, что обыкновенный человек, наверное, почувствовал бы затруднение, но длинноногий хозяин взлезал вверх прямо по стене, цепляясь за ее выступы, как кошка, и до сих пор ни за что не хотел поставить на прежнее место другое бревно со ступеньками. Открыв камин, Кирилов двинул другой рычаг. Широкий и многоветвистый скребок, искусно вырезанный из большого оленьего рога в виде лапы с растопыренными и очень острыми пальцами, немедленно всунулся внутрь камина и усердно стал выгребать загнету из-под дров, поставленных для топки. Несколько горячих углей, скрывавшихся под загнетой, вышли наружу, но огня было мало. Кирилов отодрал большую полосу бересты и подбросил ее к дровам. Береста, сухая, как порох, затлелась, потом вспыхнула пламенем, и дрова весело загорелись. Чайник еще с вечера был наполнен водой, а котелок — различными ингредиентами, из которых хозяин приготовлял себе еду. С незапамятных времен Кирилов относился к пище почти с таким же благоговением, как и окружающие якуты и юкагиры. Он считал преступлением, если малейшая с’едобная частица пропадет без пользы. Поэтому еду себе он обыкновенно варил из разных отбросов молочного и рыбного хозяйства, на которые летом никто не хотел обращать внимания, квасил полуоб’еденную рыбью кожу в молочной сыворотке, разваривал в рыбьем жиру обрезки конских потрохов или телячьей головизны, приготовлял, в подражание туземцам, едкую сору, где в обильной молочной кислоте растворяются даже рыбьи кости и головки, брошенные в закисающее молоко для большей питательности. Время от времени он приготовлял в виде лакомства какой-то странный продукт, смешанный из коровьего и конского жира вместе с мелким сахаром, ягодами и кислыми сливками. Он называл его пастилой и употреблял преимущественно для угощенья приезжающих, посылал также большое количество в виде гостинца многочисленным приятелям в городе Колымске. Муки и вообще растительных продуктов Кирилов не употреблял по принципу, считая их недостаточно питательными для этого холодного климата. Их, впрочем, почти невозможно было достать в этом отдаленном углу, где даже в часовне, заменявшей церковь, по нескольку лет не было ни одной просфоры.
Обширное хозяйство давало много остатков, и Кирилов каждое утро собирал их и превращал в пригодную для человека пищу. В конце концов он был недурным поваром и даже из отбросов мог приготовить вкусные блюда, но сам он ел очень мало. Еще тридцать лет тому назад он стал приучать свой организм к воздержанию и с тех пор принимал пищу только одни раз в день, весом и мерою. В старые годы он чувствовал себя на своем месте только при тюремной больничной палате или в большой пересыльной партии, для которой он приготовлял ежедневно обед, а для самого себя собирал остатки из горшков и переваривал их в новое, невиданное блюдо. Теперь, в урочевском пустынножительстве, при ее крайней умеренности в еде, изо дня в день в погребах и хоронушках собирались все большие и большие запасы, ибо многочисленных голодных желудков, готовых поглощать все эти дары, уже не было вместе с Кириловым. Александр Никитич ощущал это обилие, как иго, и нес его, как мог, однако не без нетерпения. Его угнетала мысль, что вся эта совершенно готовая пища назначена для него, и для него одного, что ему приготовлены обеды за месяц вперед, и избавиться от них уже нет возможности. По мере увеличения готовых запасов Александр Никитич становился все мрачнее, наконец он, не выдерживал и, за неимением лучшего средства уборки, посылал скотницу по юртам сзывать соседей на пир. Якуты сходились с женами и детьми, как на уборку или помочь, и действительно: через три часа все погребки были чисты, и Александр Никитич снова становился свободен. Якуты так привыкли к этому периодическому угощению, что теперь рассматривали его как нечто должное. Они предполагали даже, что «вера» Кирилова предписывает ему совершать ежемесячное жертвоприношение, конечно, с угощением работников и соседей, и что самый успех его хозяйства связан с точным соблюдением этого предписания. Впрочем, жизнь и привычки Кирилова были до такой степени необычайны и непонятны для них, что они принимали их без об’яснений, как явление природы, и даже ничему не удивлялись, как не удивляется суеверный человек причудливым изменениям галлюцинаций или сновидений. В их первобытном уме Кирилов помещался вместе с духами земли и природы, которых было такое множество и которые тоже были способны на самые непонятные штуки.
Вытопив камин и убрав приготовленную пищу, Александр Никитич полез в погреб и достал порцию, приготовленную еще три дня тому назад. Потом он развел миниатюрный дымокур на маленьком жестяном блюдечке и чрезвычайно ловко и легко влез на высокий табурет и уселся в вышине против слухового окна. Обед он поместил перед собой на столе, а из окна вынул легкую раму и в предохранение от насекомых поставил на подоконник дымящееся блюдечко. После того он принялся медленно и осторожно есть мягкую, сильно разваренную пищу, шамкая челюстями, ибо у него не было ни одного зуба. Зубы его с’ела цынга двадцать лет тому назад в Петропавловской крепости, и, вспоминая то время, Александр Никитич только удивлялся, что вместе в зубами не ушли и самые челюсти.
Окончив еду, Александр Никитич задержался на минутку на высоком помосте, глядя на свой горный вид. По мысленному расписанию, которое он давно составил для своей уединенной жизни и десять лет исполнял без малейших отступлений, эти несколько минут были отведены для отдыха и мирного наслаждения природой, но в последнее время даже наслаждение тишиной и прелестью пейзажа имело примесь горечи, которая выросла незаметно для него самого и мало-по-малу заполнила его душу.
Тонкая полоска хребта спокойно синела на краю горизонта, но обширное стадо, бродившее по полю, раздражало Кирилова.
«Зачем нужны эти стада? — думал Александр Никитич. — Произвол скотовода, молочные скопы, убой?..»
— Глупо и жестоко! — сказал он вслух, слезая с насеста на землю.
Пресловутый горный пейзаж под наплывом злых мыслей внезапно потерял привлекательность, и он торопился вернуться к своим ежедневным занятиям.
Эпоха, воспитавшая Кирилова, сделала из него идеалиста, дала ему миросозерцание, полное самоотречения, и внушила альтруистически-деятельное стремление трудиться для всеобщего счастья. Но в борьбе с житейскими испытаниями самоотречение превратилось в суровый аскетизм, а стремление к деятельности привело к этим деревянным мосткам и приготовлению молочных скопов. Даже заброшенный в пустыню, Кирилов все старался исправить страждущий и несовершенный мир, но мало-по-малу его созерцание вместо страданий жизни стало направляться на ее пороки, и в последние годы он иногда чувствовал непреодолимое отвращение и желание бросить все и уйти, как уходили от жизни буддийские монахи или христианские схимники.
Спустившись вниз, Кирилов быстро убрал избу, потом снял с себя одежду и, сунув ноги в широкие странные калоши из коровьей шкуры, не очищенной от шерсти, пошел на озеро купаться. Так поступали все жители Урочева, ибо на берегу озера не было сухого местечка, чтобы положить одежду. Кирилов следовал общему примеру. Немногие обитатели этой полярной пустыни часто поступали, как Адам и Ева до грехопадения, и ему и в голову не приходило видеть в этом соблазн. Этот вольноумный аскет, умерщвлявший свою плоть без надежды на будущую награду, был очень наивен и, несмотря на свою житейскую опытность, не понимал соблазна, как пятилетний ребенок. Но из всех культурных привычек он сохранил любовь к телесной чистоте и, отказавшись от хлеба и сахара, не мог обходиться без мыла и свежей воды. Даже зимою он ежедневно мылся в большом ушате, перед горящим пламенем очага, хотя добывать и согревать воду было долго и затруднительно, а резкие изменения температуры грозили простудой человеку даже с самым закаленным здоровьем.
Александр Никитич Кирилов происходил из хорошего дворянского рода и в числе своих предков считал именитого казанского мурзу, на которого он, повидимому, стал похожим под старость. Воспитание его не имело ничего общего с аскетизмом или с великодушными стремлениями, и еще восемнадцати лет он вместе о отцом ревностно занимался псовой охотой и устройством домашнего оркестра. Внезапно волна подхватила его и понесла с собой. Откуда она пришла, он сам не знал и не мог дать себе отчета. У него не было соответственных знакомых, он не читал ни одной наводящей на размышление книги; но в воздухе было разлито что-то молодое и светлое, какой-то электрический ток, тонкий и извилистый, пробегавший мимо по незримому пути и внезапно вызывавший ответный трепет в каждой молодой душе, способной к напряжению и блеску.
Восемнадцатилетний мальчик бросил отца и мать, отказался от богатства и старых привычек и бросился в бездну своих новых верований, как бросаются с крутого берега в воду. С тех пор прошло тридцать лет, наполненных: такими наслоениями испытаний и деятельности, что их хватило бы на четыре обыкновенных человеческих жизни. Мальчик скоро возмужал и привык выбирать дорогу, не подчиняясь чужому мнению. Кирилов менял поприще за поприщем и на всех проявил необыкновенную работоспособность. Он постоянно поступал по-своему и стремился применять оригинальные способы действий, которые, однако, приносили неожиданно полезные плоды. Даже в урочевской пустыне он остался верен самому себе и, как бы шутя, вызывал словно из-под земли такие отрасли деятельности, самая возможность существования которых не пришла бы на ум другому человеку.
Казна устроила в Колымске дешевую продажу соли, но соль эта служила об’ектом различных замысловатых операций в руках соляного надзирателя, а жителям доставались только жалкие крупники. Кирилов добился того, что ему в Урочево стали присылать сто пудов, и в ближайшее лето посолил десять больших стогов сена, пласт за пластом, во время уборки и сметывания. В начале весны он собрал самых истощенных лошадей и коров из ближайших селений и, откормив их соленым сеном, получил блестящие результаты. Теперь соленое сено употреблялось из года в год, и порода скота заметно стала улучшаться вокруг Урочева. Почти в то же время Кирилов на свои сбережения выписал из России материал для приготовления сетей и упорно старался выучить своих соседей вязать сети по русскому поморскому способу, чтобы они выходили крепче и пригоднее для промысла. Молочное хозяйство было его третьей затеей, но оно разрослось и поглотила все его время и силы.
Вернувшись с купанья, Александр Никитич взял косу и пошел накосить свежей травы для самых молодых телят. Но притащив домой две больших связки, он почувствовал такую усталость, что даже присел отдохнуть на лавку. В последние годы силы его постепенно слабели; долгие лишения, вольные и невольные, стали сказываться, и он уже ощущал себя стариком, с ослабевшими членами, неспособным к работе и непригодным для одинокой жизни в Урочевском скиту. Все чаще и чаще приходили недуги, он побеждал их при помощи диэты и простых лекарств, но потом они приходили снова.
Свежий удой стоял на столе, и его следовало разлить в бураки и убрать на место.
«Зачем эти хлопоты? — вдруг подумал! Кирилов. — Нелепая и бесцельная работа!»
Потом по привычке поднялся, сходил к поставцу за посудой для разлива и стал процеживать густое молоко. В голове его, однако, пробегали все те же странные мысли.
— Зачем существует все? — спросил он себя и внезапно почувствовал, что это не философское любопытство, и что вопрос о цели миросоздания касается его лично еще ближе, чем вопрос о молочном хозяйстве. Повидимому, наступало время для общей ликвидации и подведения итогов.
Дверь юрты отворилась, и вошел низенький лохматый якут в рубахе из телячьей шкуры, с красными больными глазами и серым сухощавым лицом.
— Чего надо? — отрывисто спросил Кирилов.
— Табак! — лаконически сказал якут, останавливаясь у порога.
Он, очевидно, только что побывал в болоте, и нижняя часть его тела была в грязи.
— Чем заплатишь? — спросил Кирилов суровым, но деловым тоном.
— Ничем, — равнодушно ответил якут. — В долг, — прибавил он неохотно.
— А ты знаешь, сколько у тебя долгу? — спросил Кирилов.
— Кто знает? — неопределенно возразил якут. — Много, должно быть!..
Кирилов достал из шкапа мохнатую связку табачных листов.
— А когда ты заплатишь? — спросил он уже безразличным тоном, предвидя содержание ответа.
— А кто знает? — повторил якут стереотипную фразу. — Когда будет, заплачу.
— Возьми косу вместе, — вдруг предложил Кирилов. — Тоже в долг.
— Не нужно! — решительно ответил якут. — Только табак.
— Хорошее, так вам не нужно! — сердито заметил Кирилов.
— Не сручно! — упрямо возразил якут. — Твоя коса длинная, наши руки коротки… Вот смотри!..
Он протянул вперед пару тонких рук с небольшими кистями, как у всех северных туземцев.
— Ну, ступай! — сказал Кирилов, удовлетворив покупателя, но якут не уходил.
— Баба просила иголок и цветного шелку, — заявил он наконец.
— На что ей шелк? — недоверчиво проворчал Кирилов.
— Пояс надо, — сказал якут. — Видишь, без пояса… — прибавил он, указывая на свою грязную кожаную рубаху.
Кирилов с неодобрением посмотрел на фигуру, стоявшую на пороге. Местные щеголи действительно подпоясывались вышитым поясом, но к этим красным глазам не подходило щегольство.
— Небось, у бабы тоже глаза болят? — спросил он с упреком:.
— Болят, — согласился якут. — Еще мыла просила кусочек, зрачки промыть!..
Кирилов достал из своего склада небольшой кусок мыла и пару толстых иголок.
— А шелку не дам! — об’явил он. — Ступай домой!
Но якут не хотел уходить.
— Дай, пожалуйста! — приставал он. — Я два днища[24] болото месил… Ноги болят… Дай шелку!
— Ступай, ступай! — повторил Кирилов, запирая шкап.
Якут еще потоптался на месте.
— Вот ты какой! — с упреком протянул он. — А я бы горностаями заплатил.
И он вытащил из-за пазухи две беленьких головки.
Кирилов взял покупателя за плечи и повернул к двери.
— Ну, уходи! — сказал он ему коротко, но без гнева. — Не дам больше ничего!..
С самого своего приезда Кирилов стал выписывать для раздача соседям разные товары, продавая их по номинальной цене. Урочево было слишком далеко от торговой дороги; якуты жили, как троглодиты, и платили проезжему торговцу неслыханные цены за каждую пару иголок или головной платок. Князьцы ежегодно привозили из города немного чаю и табаку и распродавали соседям небольшими частями, в пять раз дороже покупной цены. Теперь и эта торговля давно прекратилась, и сами князьцы предпочитали забирать все нужное у Кирилова, ибо его цены были ниже городских. Молва об урочевской дешевизне шла далеко и выходила за широкие пределы пропадинских пустынь. Даже оленеводы с Гижигинской тундры и горные охотники с Омеконского плоскогорья приходили к Кирилову за товаром, как будто на ярмарку. Это было, конечно, лестно, но каждый год Александр Никитич сводил баланс с довольно значительным убытком. По исконному обычаю, три четверти местной торговли велись в кредит. Раньше князьцы охотно давали товар без немедленной уплаты, накидывая еще сто процентов; потом, во время пушного промысла, взыскивали всю сумму, а у упорных отнимали силой или в крайнем случае жаловались на них исправнику во время годового об’езда по округу.
Половина должников платила и Кирилову исправно, но люди беспечные и сутяги скоро раскусили его нежелание обращаться к начальству с жалобами и, сколько могли, затягивали уплату. Мелкие долги постоянно пропадали. Чтобы восстановить равновесие, Александр Никитич уже с первого года собирался повысить цены на десять процентов, но никак не мог решиться нарушить принцип. Его ежегодные потери равнялись нескольким сотням рублей, но молочное хозяйство давало хорошие доходы и покрывало всякие посторонние убытки.
Вообще Кирилов относился к соседям, как к детям, и даже за их маленькие обманы не очень сердился. Выписывая товары, он не соображался со вкусом своих покупателей, а выбирал только то, что признавал нужным. Он вывел из своей округи употребление пестрых ситцев и шелковых лент, табак раздавал понемногу; бедным людям давал чай по преимуществу зимою, во время скудости молока. Он постоянно распространял среди соседей более усовершенствованные орудия: русские косы, пилы, плотничные топоры, но с небольшим успехом, ибо якуты упрямо держались за орудия и навыки, унаследованные от предков.
Но в последнее время мелочная возня с раздачей товаров и получением долгов стала утомлять Кирилова, и после торговых переговоров с какой-нибудь бестолковой бабой в нем поднималось отвращение, которое не заглушалось даже сознанием несомненной полезности дела.
В юрте было прохладно и темно, и Александр Никитич внезапно почувствовал, что темнота угнетает его; он вышел наружу и медленно отправился по главной тропе поселка, не для прогулки, ибо он попрежнему чувствовал себя слабым, а для того, чтобы не сидеть в своем угрюмом доме.
Ближайшая юрта была беднее всех в поселке. У небольшого дымокура двое совершенно нагих ребятишек копошились на земле, укрываясь от комаров, как телята, в струе налетавшего дыма. Но все тело их было покрыто, как мелкою сыпью, следами комариных укусов.
Александр Никитич немедленно подошел. Он любил маленьких детей почти столько же, как и телят, и во всяком случае предпочитал их взрослым людям. Рука его машинально стала шарить в кармане, отыскивая завалявшийся кусок сахару.
Сам он не употреблял сладкого и даже вместо чая пил горячую воду с солью, но время от времени он угощал сахаром своих любимцев — двуногих и четвероногих.
Хозяин юрты Кузьма показался на пороге. Это был приземистый человек, заросший рыжими волосами и одетый в кожаные лохмотья. Он происходил из оренбургских татар; в эту дикую глушь его прислали за конокрадство.
К работе он ощущал органическое отвращение, но якуты чувствовали ответственность за каждого человека, присланного с юга, и кое-как кормили Кузьму вместе с его семьей. Кузьма не унывал и сокрушался только о том, что здесь нельзя заниматься излюбленным его промыслом. Однажды, правда, он попробовал увести с поля молодую кобылу, чтобы превратить ее в мясо, но якуты немедленно нагрянули, отняли кобылу и — не вытерпели — помяли Кузьме бока. Тогда Кузьма понял, что в этом уединенном околотке все люди наперечет и каждое движение его известно соседям, и поневоле смирился.
— Отчего дети голые? — спросил Кирилов, погладив до голове младшего мальчика, совсем маленького, с кривыми ногами и большим отвислым животом.
— А где возьму? — лениво ответил Кузьма. Разве ты дашь?
Он был слишком беспечен для систематического выпрашивания подачек, но случай сам подвернулся под руку.
Кузьма в разговоре смешивал якутские слова с татарскими, но языки эти близки, и его хорошо понимали в околотке.
— Хорошо! — сказал Кирилов, снимая руку с головы мальчика. — Пришли бабу, я дам ситцу… Но только себе не сшей! — прибавил он, уходя по тропинке вперед и оборачиваясь, чтобы еще раз взглянуть на ухмыляющееся лицо Кузьмы.
Березовая роща стояла на ровном и сухом месте. Земля была усыпана полуперегнившим листом прошлой осени. Деревья росли редко и ровно, как высокие белые свечи. На нарядной белой коре местами, как черные раны, зияли широкие круглые следы ободранной бересты, и прекрасные деревья засыхали на корню, погубленные ради пары бураков. Кирилов присел на пень и стал смотреть на болото, окаймлявшее лес, где маленькие серые лягушки весело прыгали среди низких кочек, поросших большими белыми и голубыми цветами с крупными лепестками, завитыми, как кудри, и с длинными глянцовито-зелеными подлистниками.
«Зачем все это?»— мелькнул в его голове прежний вопрос.
Мысли его обратились к любимым философским книгам и приняли отвлеченное направление. Шопенгауэр и Гартман уже давно заставили его согласиться, что в мире преобладает зло и жестокая природа расставляет западни для всех живущих, автоматически стремясь к достижению своих грубых целей; но он постоянно противополагал этому жестокому и бездушному миру самого себя, как сознательное и прогрессивное начало. Он считал себя представителем и знаменосцем тех идеалов, которые должны были победить царство бессознательного и направить его ход по заранее установленному плану, и сообразно этому идеалу он постоянно старался действовать даже в урочевской пустыне. Но в последнее время он так много думал о пороках мироздания, что даже его идеал, наконец, стал тускнеть, как будто бацилла мировой скверны привилась к его великодушным надеждам и заставила их покрыться тонкой плесенью, угрожавшей разрушением. Среди вселенской злобы и эгоизма он чувствовал себя, как на небольшом острове среди огромного моря, и на этом одиноком утесе с годами становилось все меньше места.
«Зачем все это? — повторял он без конца один и тот же вопрос. — Зачем бороться, благотворить, делать столько усилий, чтобы добро восторжествовало?»
Душа его незаметно ожесточилась и как-то потеряла вкус к великодушию и любви к ближнему; некоторое время он жил старыми традиционными привычками, но обычное бесстрашие мысли не изменило и не отступило перед бездной, и теперь созрел кризис всех устоев, быть может, крушение и конец.
Александр Никитич перебирал всю свою прошлую жизнь. У него были враги, с которыми он боролся и которых всегда ненавидел от всего сердца. Но теперь, в воспоминаниях, чувство это потеряло прежнюю остроту, ибо он сознавал в самом себе то же злое и циническое настроение, которое некогда составляло главную действующую силу противного лагеря. У него были товарищи и многие из них ушли из мира, но вместо подвигов мужества и любви он вспоминал теперь их мелкие недостатки и с удивлением ощущал, что в его памяти сохранилось только недоброжелательство и что вся его горечь и вражда переместились с правого берега на левый.
Грехопадение его было мысленное, — в окружавшей пустыне не было никакого поприща для действий, — а он уже ощущал себя злым и свободным от убеждений, которые признавал теперь предрассудками, порвавшим идейные путы, которые прежде связывали с общим стадом его закаленную природу, чуждую плотского соблазна и всякой личной привязанности.
Несмотря на теплоту полудня, Кирилов почувствовал холод; быть может, чувство злого одиночества, оледенившее его сердце, распространилось холодом на его ослабевшее тело. Он поднялся с места и побрел домой, так как это было его единственное убежище.
На площадке перед его избой собралась целая сходка. В трех верстах от Урочева протекала большая река, по которой ежегодно проходили огромные стада лососей, выплывавшие из захолустных озер метать икру в свежей проточной воде.
Благодаря стараниям Кирилова три ближайшие поселка соединялись, чтобы загораживать езом один из больших протоков, служивший дорогой для рыбных стад.
Сети, необходимые для лова, были даны Кириловым, но числились за различными домохозяевами, ибо иначе, по обычаю, половина улова должна была бы достаться собственнику сетей, и все предприятие превратилось бы в полубатрацкую затею.
Промысел был обильнее всего в середине лета. Высмотр производился ежедневно, и все хозяева, имевшие пай в езу, сходились к дележу. Они не доверяли один другому, но ставили больше всего в вину друг другу именно отсутствие, так как оно подавало повод к бесконечным будущим распрям. Кирилов тем более не мог оставаться дома. Он был основателем общего лова и имел два пая, и его отсутствие на дележе было бы, наверное, сигналом к общей драке и целому ряду ссор впоследствии.
Александр Никитич записал дневное наблюдение и переоделся. Все пайщики были босы и засучили штаны до колен, так как дорога к реке по обыкновению шла через топь.
Ез был сделан из свай, забитых в дно и соединенных между собой крепкой деревянной решеткой. Несколько десятков лиственниц и берез, срубленных под корень, были погружены в воду, вершиной вниз, перед решоткой еза. Сверху они были слегка привязаны к перекладинам, а книзу течение прижимало их к езу, образуя плотный и упругий заплот. Десять широких пролетов были загорожены сетями вроде двойного конического мешка, укрепленного на жердях и развернутого по течению. У берега стояли два челнока, сшитые из тонких досок волосяными веревками, с длинным двойным веслом, изогнутым посредине.
Промысел был обилен, из каждой сети вываливалась в челнок груда отборной рыбы, и после осмотра на песке образовался целый холм, блиставший влагой и серебристой чешуей. Благодаря присутствию Кирилова дележ прошел без особенных инцидентов. Покончив взаимные счеты, пайщики раскрыли на разных местах берега свои погреба, то есть неглубокие ямы, накрытые хворостом и травой, и сложили туда рыбу. Она должна была пролежать так до будущей весны, подгнить и даже перебродить и превратиться в черное и горькое месиво, пригодное для употребления только при крайнем голоде.
Александр Никитич неприязненно смотрел на своих сотрудников. У него на берегу реки стояло импровизированное солильное корыто в виде старого челнока, наполненного крепким раствором соли. Он вымачивал рыбу в рассоле день или два, потом вывешивал ее на сушильню, где она подсыхала на ветру без всякой порчи. Но якуты упорно держались за свои ямы и не хотели даже пробовать его вяленых балыков.
Мало знакомый вкус соли в этой непривычной комбинации казался им противным и горьким. Они утверждали кроме того, что солить вяленую рыбу грешно и что такая вольность грозит уменьшением промысла. Впрочем, насчет рыбной ловли у них было столько предрассудков, что они сами подчас путались и нарушали установленные преданием запреты. Мережи были опять опущены в воду, и вся компания пустилась обратно. Кирилов шел сзади и с той же неприязнью смотрел на спины якутских рыбаков, сбивавших друг друга с узкой тропы. Ему вдруг стало ясно, что он уже давно ненавидит этих дикарей, с которыми у него нет ничего общего, которые охотно принимают подарки и покупают дешевые товары, но не обращают внимания на самые полезные советы и указания. Разговаривать с ними, даже смотреть на них было несказанно противно. Он нетерпеливо ожидал возможности опять уединиться от этих грубых и докучливых представителей жалкого человеческого рода.
Наконец поселок затемнелся впереди. Кирилов прямо направился к своему дому, вошел внутрь и плотно закрыл за собой дверь. Якуты, не останавливаясь, разбрелись по домам. Они не привыкли заходить к Кирилову без определенного дела. Они хорошо видели, что он сердится, и поводом к этому считали свои рыбные ямы. Беспокоить русского, когда он сердит, ни у кого не было охоты. Якуты твердо знали, что русские в гневе опасны, ибо некоторые поселенцы запечатлели в их памяти припадки своего гнева кровавыми следами.
Однако Александру Никитичу недолго пришлось просидеть одному. Не более как через пять минут кто-то закопошился снаружи, и дверь медленно поднялась, слегка вздрагивая и как будто стараясь упасть обратно. Тонкая фигура Хаспо показалась на пороге. Руки ее были заняты маленьким теленком, мокрым и дрожащим от холода. Коровница тоже вымокла с головы до ног, и на полу юрты уже образовались широкие потеки от ее разбухшей обуви.
— Из озера вытащила, — сказала она, обращаясь к хозяину. — Из самого омута… Прямо с обрыва свалился, глупый! — прибавила она, обтирая мокрого теленка пучком травы и протягивая его слегка вперед. — Ушибся, бедненький!
Кирилов, сидевший на узкой скамье в глубине юрты, помедлил несколько секунд, потом поднялся навстречу. Это был его любимый теленок, пестрый, с большими ушами, не умевший даже ходить как следует. Он торопливо разогрел воду в железном котле, потом обмыл теленка с головы до ног, вытер его насухо сеном и положил на мягкое травяное ложе за загородку. Хаспо не помогала ему, однако и не уходила. Стоя у порога, она пристально, но незаметно наблюдала за хозяином и чувствовала какое-то смутное беспокойство.
«Какой он скучный!» — сказала она мысленно самой себе.
Александр Никитич, действительно, двигался как во сне и возился с теленком почти машинально, думая совсем о другом.
Стоять дольше, однако, было невежливо. Хаспо тихонько вздохнула и вышла за дверь. Александр Никитич подвинул скамью и уселся против теленка, дрожавшего на своей траве. Он посмотрел с сожалением на бедное маленькое существо и в то же время подумал, что это последняя нить симпатии, соединяющая его с окружающим миром.
Летний день кончился. В узкое окно вверху проходило мало света, и в избе стало темно… Кирилов опять взлез по табурету вверх, закрыл окно ставнем, прилаженным изнутри, и, спустившись на землю, зажег большую плошку, наполненную рыбьим жиром, со светильне, скрученной из тряпки, и плавающей сверху; потом подумал немного и зажег другую плошку. Ему хотелось, чтобы в комнате было больше света. Теленок продолжал дрожать и, повидимому, чувствовал себя худо. Кирилов достал из неистощимого шкапа небольшой ящик с аптечными склянками, торчавшими из низких деревянных гнезд, порылся немного на дне и вынул пакет с порошками хины, смешанной с морфием, потом осторожно, но настойчиво принялся разжимать челюсти своему питомцу, стараясь улучить удобную минуту, чтобы ссыпать хину ему на язык. Это было зрелище, достойное цирка. Теленок вырывался и мотал головой. Он, очевидно, питал к лекарству такое же глубокое недоверие, как и его двуногие земляки. Наконец Кирилов рассердился и так решительно придавил теленку горло своими цепкими руками, что бедный пациент поневоле разинул рот и высунул язык. Медицина одержала верх, и через несколько минут больной теленок успокоился и заснул.
В юрте было совершенно тихо; плошки сияли ярким, но неровным пламенем.
— Зачем все это? — еще раз повторил Александр Никитич.
Он с недоумением припомнил ту массу деятельности, которую затратил на этих пустынных полях, неизвестно для чьей славы и без всякого определенного результата. Дом, сети, стадо стали ему противны и тягостны, как цепи.
— Уйду я от вас! — сказал он, внезапно ударяя кулаком по обрубку бревна и обращаясь к стенам, как к живым слушателям. — Уйду, — повторил он тише, чувствуя странное удовлетворение от внезапного наплыва решимости развязаться с постылыми обязательствами жизни. О том, куда уйти, Александр Никитич еще не думал.
Правда, впереди синели дикие горы, но в его ослабевшем теле не хватило бы энергии даже для того, чтобы дотащиться до их подножия. Кроме того, за пределами горных отрогов было то же всезахватывающее человечество, а Александр Никитич жаждал полного уединения. В его голове мелькнула не мысль, а смутный намек, что лучше всего было бы направиться в путь гораздо более далекий, чем урочевские горные хребты. Прошло еще несколько минут. Кирилов поднялся с места и, вытащив из темного угла сундук, стал вынимать различные части дорожной одежды, хранившейся в его недрах. Тут были высокие мягкие сапоги туземного покроя, суконный кафтан, шапка с наушниками. Все было совсем новое, только слежалось от пребывания в сундуке. Кирилов собственноручно сшил все эти вещи много лет тому назад и заботливо сохранял их с тех пор с той же смутной, но упрямой надеждой. Горы были слишком близко и постоянно манили, особенно весною. Но из этой надежды ничего не вышло, и платье так и осталось лежать в сундуке.
Кирилову пришло в голову, что если бы он умер в Урочеве, якутские бабы, наверное, одели бы его труп в этот новый кафтан и сапоги.
На дне ящика лежала небольшая походная сумка с широкими ремнями крест-накрест. В ней Кирилов хранил деньги, которые скапливались ежегодно после расчетов за масло и мясо. Денег было довольно много, ибо он почти ничего не тратил на себя, а каждая затрата на хозяйство тотчас же приносила доход. Александр Никитич крепче застегнул сумку, потом достал с полки небольшой немецкий штуцер и крепкий походный нож. Мысли его странно двоились, — как будто другой Кирилов колебался между двумя различными путями, а он со стороны наблюдал, и ему даже было любопытно, каким именно выбором разрешится сомнение. Разложив приготовленные вещи на нижних полатях, Кирилов опять подумал, потом выдвинул на средину комнаты большой некрашеный стол, поставил на него обе плошки и достал из поставца бумагу и чернила. Он собирался писать письмо Лукьяновскому, единственному близкому приятелю, который одновременно с ним приехал на Колыму, но остался жить в городе Среднеколымске. Лукьяновский был человеком совсем другого типа, чувственного и импульсивного, в противоположность идейному ригоризму Кирилова.
Вдвоем они исчерпывали содержание эпохи.
То был разночинец из разночинцев, без диплома и даже без определенных знаний, неохотно читавший «серьезные» книги и лишенный книжного миросозерцания, но вынесший свои наклонности и страсти прямо из омута жизни. Он не признавал никаких стеснений или правил поведения, не думал о принципах, жил, как вздумается, кутил, если были деньги, работал и ленился. Каждое побуждение, хорошее или дурное, он немедленно претворял в действительность, и дерзновение его было больше и бесстрашнее, чем у Кирилова.
Александр Никитич выработал свои взгляды путем упорной внутренней борьбы; он никогда не колебался проводить их в действительность, но изменить даже подробности раз принятых убеждений было для него тяжело и почти мучительно. Каждое умопостроение превращалось в формулу и пускало корни и его душе, и вырвать его оттуда можно было только крайним и болезненным напряжением воли. В конце концов какой-нибудь забытый корень еще оставался в глубине и неожиданно мог пустить такие же ростки, как прежде.
К Лукьяновскому настроение минуты сходило, как наитие свыше. Его душа была устроена, как манометр, и всегда выражала высший предел давления, и приливы и отливы ее сил соответствовали текущей злобе дня.
И в Колымске он жил совсем не так, как Кирилов, — постоянно водился с туземцами, и их женами, ел и спал вместе с ними, при случае крепко их ругал, что не мешало его необыкновенной популярности, единственной на реке Колыме. Его выбирали в посредники при спорах, к нему обращались жены, измученные побоями мужей, и дети без родителей, ограбленные опекунами, и для каждого у него находились слова утешения и практический совет. В последние годы он жестоко хворал ревматизмом и даже ходил с костылем, но бодрость его не уменьшалась.
Кирилов готов был бросить без сожаления дом и хозяйство, но ему не хотелось оставлять за собой недоумение, и он решил написать Лукьяновскому письмо. Ему надоело беседовать со стенами, и он чувствовал потребность поговорить с живым человеком, хотя бы на бумаге, перед тем, как сделать последний, непоправимый шаг.
«Сашка!»— писал Кирилов.
Лукьяновского звали Сашкой все, даже мало знакомые.
«Я собираюсь уйти и исчезнуть с вашего горизонта. Много поприщ переменил я на своем веку, но дальше этого ничего не могу придумать. Вокруг себя я чувствую пустоту. Дела, которыми я занимался до сей поры, кажутся мне веригами, добровольно надетыми на тело. С ранней юности я соблюдал чистоту, всю жизнь избегал простого наслаждения, приучил самого себя ходить по прямой и узкой дороге, как лошадь с завязанными глазами, а теперь мне хочется сказать открыто самому себе: „Жалкий, жалкий слепец!“ Мне не жаль грубых утех, которые я мог бы в минувшие годы урвать у скупой жизни, не жаль и сил, истраченных так щедро во славу суровых идеалов, — все на свете стихийно, и каждая сила уходит, как приходит, без меры и без соответствия результату. Но теперь я понял, что на свете высшая святыня есть свобода, ничем не обузданная готовность осуществлять каждое желание, мелькнувшее в душе, ибо оно само себе составляет единственное оправдание и закон.
Достигнув этого сознания, я ухожу и уношу его с собой, ибо душевная неволя внезапно возвратила окружающей пустыне характер безвыходной тюрьмы, как десять лет тому назад.
Ты, я знаю, поймешь! Скажу даже, что мог бы завидовать тебе, как завидую ворону, пролетающему мимо, если бы ваша свобода не была так же бессознательна, как солнце и ветер. Высшая же степень свободы означает — пройти сквозь ярмо самоотречения и свергнуть его, отбросить всякие внутренние путы и признать самоопределение как единственный закон ничем не связанной души… Ты поймешь!»
Александр Никитич сложил письмо, потом перешел к вещам, разложенным на лавке. Тот Кирилов все еще не выбрал исхода. Александр Никитич снова перебрал вещи, потом присел на лавку и стал неторопливо одеваться, натянул сапоги, подвязал широкий ременный пояс, затем взял нож, чтобы приладить его к поясу, но вместо того вынул из ножен и стал пристально рассматривать лезвие. Брови Кирилова сдвинулись, лицо стало неподвижно и сурово. Можно было подумать, что он задумал убийство и спокойно поджидает намеченную жертву.
Дверь отворилась, но вместо жертвы показалась Хаспо и остановилась у дорога, не решаясь войти внутрь комнаты.
Это была уже не первая ночь, которую бедная скотница проводила у этого порога. Летом она часто выходила из своей пристройки, затерянной в глубине усадьбы, садилась на широкую земляную скамью у входа и сидела до утра, то забываясь чуткой дремотой сторожевой собаки, то опять просыпаясь и утешая себя мечтой, что она охраняет покой того, кто ей был дороже всех на свете. Иногда она мечтала о том, как хорошо было бы войти внутрь и лечь у порога рядом с телятами, которым Кирилов расточал столько внимания и которых она холила с особенной заботливостью ради сочувствия его внимательности. Но часто ее мечта, наивная, как окружающая природа, заходила дальше, и она воображала себя уже не на пороге, а рядом с хозяином, странным и мрачным человеком, который был так непохож на грубых якутских парней и вовсе не думал о женщинах.
Все-таки до сих пор она никак не могла бы решиться открыть заветную дверь без повода и без зова. Но в эту ночь, глядя на яркий свет, струившийся сквозь щель окна, она ощущала смутное, но повелительное беспокойство.
Был ли то инстинкт первобытной бдительности, или бессознательное проникновение любви, но девушка тоже не могла сомкнуть глаз ни на минуту. Кругом было тепло, тихо и темно. Лягушки слабо квакали на соседнем болоте. Какая-то ночная птица стонала в кустах. А свет не угасал в окне, и вечный предмет ее мыслей тоже томился бессонницей. Хаспо встала и подошла к двери, чтобы послушать, и услышала шаги Кирилова, потом попыталась заглянуть сквозь щелку, но щелки не было. Тогда она внезапно вспоминала о больном теленке и, вся пылая от смущения и страха, потянула к себе скобу.
Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть необычное переодевание и заметить ружье и даже дорожный посох, лежавший на лавке. Но все это нисколько не удивило ее.
Чувство ее как бы отпрянуло назад, и теперь она говорила себе, что все время ожидала такой развязки. Десять лет она прожила рядом с загадочным человеком, пришедшим неизвестно откуда в эту бедную глушь, все время сознавая, что ему здесь не место и что рано или поздно он уйдет, конечно, туда, откуда пришел.
«На что мы ему? — говорила себе бедная якутка. — Мы бедные, нас так мало. А там далеко люди, как песок, мужчины и женщины, все его братья и сестры, такие же, как он!» Но когда она увидела широкий и блестящий нож в руке Кирилова, она с криком бросилась к нему, упала перед ним на колени и обхватила его руками.
Кирилов положил на ее плечо свою иссохшую руку, никогда не касавшуюся женщины.
— Жалеешь? — спросил он тихо, нагибаясь вниз и с новым для себя любопытством вглядываясь в ее лицо.
— Да, да! — говорила горячо девушка, обливаясь слезами.
Одна плошка вспыхнула в последний раз и погасла. Кирилов нагнулся еще ниже. Тогда во внезапном порыве девушка обняла его шею руками и поцеловала его в губы. Она почувствовала, что он не отклонил ее ласки, и поцеловала его еще, потом еще раз. Через минуту она уже угнездилась на его коленях и, прижавшись к его груди, молча и торопливо целовала его снова и снова, без конца. Теперь одна рука Кирилова уже обнимала стан молодой девушки. Он еще стыдился искать ее поцелуев, но подставлял им свое лицо, словно под весенний дождь, и чувствовал, как в его душе тает что-то жестокое, ледяное и злое, что подкатывалось ему под самое горло и чуть не задушило его в эту мрачную ночь.
— Жалеешь? — спросил он ее тем же хорошим словом, которое выражает в первобытных языках все оттенки любви и сочувствия.
— Да, да! — твердила девушка. — Жалею, люблю!
— Ну, так пойдем вместе!
Он взял девушку за руку, и они вышли вместе из избы. Ночь миновала, и солнце снова всходило над урочевскими полями.
— Туда пойдем! — сказал Кирилов, указывая рукой на зубчатую полоску гор, озаренную мягким розовым светом восходящего утра.
— Пойдем! — с готовностью согласилась девушка. — Там дичь и рыба, а ты хороший промышленник!
Предложение Кирилова в ее глазах не заключало ничего необычайного. Молодые четы часто уходили из соседних селений в горную глушь основывать новое жилище среди нетронутого первобытного обилия. Кирилов опять посмотрел на горы, которые как будто таяли вдали в легких клубах утреннего тумана.
Обильная роса упала на траву. В воздухе было сыро и прохладно. Александр Никитин внезапно почувствовал, что теперь ему итти некуда и незачем. Вокруг него завязались новые пути, и развязывать их не было ни силы, ни охоты.
— Пойдем назад, — тихо сказал он, не выпуская руки Хаспо. — Сыро на дворе.
Дверь поднялась и опустилась. Солнце медленно поднималось на небеса, скот разбредался по болоту. Пара гусей низко протянула над болотом и улетела на реку. Летняя идиллия продолжалась в своей спокойной простоте, сменяя один день другим, столь же мирным, прекрасным и плодотворным.
Было опять лето. Время выдалось такое ведряное и теплое, что урочевские луга обсохли, и даже по болотам повсюду зазмеились тропинки. Трава выросла вольно и пышно. Комара было мало, скот спокойно от’едался на пастбище, и коровы ежедневно приносили домой полный удой. Год снова обещал выйти легкий и обильный, на добрую память благодарному жителю.
Александр Никитич косил сено на своем участке луга, примыкавшем к усадьбе. Он вышел на работу с раннего утра и уже успел скосить целое море травы, но продолжал свое дело с тем же неослабным усердием. Коса плавно рассекала воздух и описывала широкий полукруг, срезывая под корень стройные ряды зеленых стеблей, которые мягко ложились друг на друга, складываясь в низкий вал и обнажая прямую, словно подбритую дорожку прокоса. Косьба шла так быстро и успешно, что якуты, случайно проходившие мимо, каждый раз одобрительно крякали, и можно было полагать, что эта энергическая работа повысит их уважение к русской долгоносой косе больше, чем все уговоры Кирилова. Александр Никитич был в той же кожаной одежде и без шапки, но лицо его загорело и обветрилось и покрылось здоровым румянцем. Его тело теперь казалось свитым из крепких и сухих мускулов и двигалось быстро и легко.
Татарское происхождение выступило еще яснее прежнего, но теперь он напоминал не кудесника, а степного пастуха, крепкого, как корявые вязы, растущие по глухим степным балкам. Глаза его смотрели бодро и уверенно. Прежнее человеконенавистничество исчезло без следа, и Александр Никитич в своем новом положении чувствовал себя другим человеком.
Хаспо была тут же. Она сидела в тени первобытного навеса, устроенного из палатки, наброшенной на две жерди, и кормила маленького трехмесячного ребенка, смуглого телом и лицом, но с тонкими светлыми льняными волосами. Она не отставала от Кирилова ни на шаг и на этот раз гребла сено, отрываясь только для того, чтобы покормить младенца.
Минувший год прошел спокойно и счастливо. Во избежание пересудов Хаспо сначала жила в своей пристройке, но Александр Никитич просиживал там большую часть своего времени и неохотно возвращался в свой большой и пустой дом. Впрочем, как только определилась надежда сделаться отцом, Кирилов решил действовать открыто и перевел Хаспо к себе. Это случилось осенью, и через месяц Хаспо была полной хозяйкой в доме Кирилова. Долгая зима, которая служит периодом спячки и смерти для северной природы, была временем расцвета для простодушной якутской девушки, которая неожиданно достигла венца своих желаний. Хасно выросла, похорошела. Она работала теперь вдвое больше прежнего, и время от времени Кирилов внезапно замечал, что для него самого не остается никакого дела около его сложного домашнего хозяйства. В отличие от прежнего времени молодая женщина обнаруживала искреннее желание приспособиться ко всем вкусам своего друга, и, между прочим, ему уже не нужно было сторожить каждое утро, как она моет руки перед подоем.
Александр Никитич тоже окреп и поздоровел. Не находя работы дома, он постепенно стал делать экскурсии в лес, рубил дрова, перетащил свои рыбные запасы с речного берега. Он с удивлением заметил, что его зрение исправилось, и теперь при записях наблюдений ему не приходилось по нескольку раз нагибаться к книжке, чтобы регулировать неправильные, прыгающие очертания своих письменных знаков.
К средине зимы, как обыкновенно, работа замерла. Было так холодно, что жители Урочева не отходили далеко от дому и отсиживались в своих жилищах вместе с коровами и телятами, потребляя дрова, мясо и сено, навезенное с осени. Кирилов, у которого стало совсем мало дела, невольно взялся за книги. Хаспо сначала надулась и даже чуть не расплакалась, а потом решительным тоном об’явила, что хочет учиться грамоте.
Грамота в ее глазах была главным признаком, отличающим культурных пришельцев от полудиких туземцев.
«Научусь хоть немного — думала она. — Небось, и те женщины не все знают. Все-таки я хоть немного разбирать стану».
Много труда и терпения вложил Кирилов в свое новое, педагогическое дело. Хаспо не знала ни слова по-русски, и все обучение поневоле производилось на туземном наречии.
К несчастью, у Кирилова не было ни одной якутской книги, и ему пришлось пустить в ход один из томов истории Гиббона, как наиболее легкую из книг его библиотеки. Он написал в Колымск, прося прислать ему с оказией азбуку и «Родное слово». Одновременно с этой просьбой ушла другая, официальная — о разрешении поселенцу Александру Никитичу Кирилову вступить в брак с родовичкой Мятюжского наслега[25], Матреной Спиридоновной Кобылиной, по местному прозванию Хаспо. Через два месяца, когда книги, наконец, пришли, Хаспо уже умела немного разбирать буквы. Детские книги, впрочем, не принесли ей много пользы. Они были наполнены упоминаниями о жатве хлеба и сборе фруктов, о соловьях и курах. Все это были явления непонятные для северянина и знакомые только по имени даже грамотеям русского племени. Когда Кирилов пробовал переводить русские слова на туземное наречие, они вносили только смятение в понятия дикарки. Наконец Хаспо перестала вникать в сущность непонятных описаний и, не мудрствуя лукаво, сосредоточилась на внешнем процессе чтения. Мало-по-малу, путем бесчисленных разочарований и неудач, руководствуясь скорее чутьем, чем об’яснениями Кирилова, она достигла того, что выучилась складывать короткие слова. Теперь она старалась об’яснять их по-своему, путая и переставляя буквы, чтобы придать им якутский смысл. Дорога, например, превращалась у нее в «догор» — приятель; «соха» звучала, как «саха» — якут; «кулак» напоминало якутское «кулгак» — ухо.
Кирилов чувствовал себя, как человек, который падает во сне в глубокую яму и вдруг просыпается на своей постели в полной безопасности. Он как будто переродился и смотрел другими глазами на окружающих людей и на весь мир. По временам к нему приходило радостное, нервное, немного экзальтированное настроение, какое бывает у людей, выздоравливающих от тифа. Он разбил вдребезги мрачную философию самоотрицания свободной воли и из осколков ее успел сложить новую систему, кроткую и простую, как ранние упования его собственного поколения.
Кирилов не уничтожил письма к Лукьяновскому, написанного в ту памятную ночь. Через четыре месяца, с той же зимней почтой, которая увезла его прошение о браке, он отослал по назначению и письмо. В конце письма был приложен новый листок.
«Ты видишь, я не ушел, — писал Кирилов, — или, лучше сказать, вернулся. Одинокая тоска ударила мне в голову, как тяжелая болезнь, но природа-мать в своей неистощимой доброте нашла простое, сильное и радостное средство, чтобы излечить меня и спасти от гибели. Можно итти против общества, но нельзя безнаказанно итти против природы. Можно отречься от жизни и умереть за идеал. Но для того, чтобы жить для идеала, нельзя оставаться чужим и нужно брать свою долю в радостях, надеждах и стремлениях человечества. Вычеркни то, что я написал о бессилии добра накануне великого перелома моей жизни. Я больше не чувствую себя одиноким, я ощущаю себя звеном в великой цепи мироздания, которая проходит сквозь мою жизнь и мое тело и которая развивается, как спираль, и постепенно восходит вверх, к счастливому и светлому будущему. Только теперь я научился сознавать себя человеком в великом и малом и почувствовал, что окружающие меня люди действительно мои братья в своей силе и в своей слабости, которые требуют всего моего терпения и всей моей любви.
Сознание бытия есть счастье. Природа и человеческая жизнь одинаково значительны и интересны, и я желал бы жить вечно, чтобы наслаждаться красотою природы и быть ненасытным актером и зрителем всемирно-человеческой драмы, которая развивается на земле».
Иркутск, 1898 г.
Коронация в Колымске
(Из воспоминаний)
Колымская эпопея есть только небольшая часть огромной и трагической ссыльно-каторжной истории. Но в своем роде она необыкновенно характерна. Фантастическая страна, заброшенная где-то на крайнем севере, почти за пределами Азии, имела свои особые нравы и даже преимущества. В Колымске был предел, дальше итти было некуда, разве топить людей в полярном море. И этот географический предел русского царства отчасти уже находился за пределом власти русского правительства. Ибо даже его бесконечно длинные лапы, ветвистые, как у осьминога, не хватают так далеко, за двенадцать тысяч верст. Или если и хватают, то северная зима отмораживает им концы щупальцев и лишает их осязания.
Колымская ссылка отчасти была самоотрицанием. Еще один шаг — и можно было попасть в Америку. Пора описать эти удивительные условия без недомолвок и без сокращений и поставить некоторые точки над политическими i. Я передам здесь один небольшой эпизод во всей его неприкосновенности, только изменив имена тех, кто еще жив и здравствует.
Когда в общежитии упомянешь Колымск, всегда задают вопрос: какой Колымск — Верхний, Средний или Нижний. Между тем, все три Колымска составляют один и тот же Колымский округ. Среднеколымск есть центральный пункт округа и считается городом. В нем восемьдесят два дома, пятьсот жителей и столько же собак. Нижнеколымск есть селение на пятьсот верст вниз по реке Колыме. Верхнеколымск лежит на пятьсот верст вверх по реке. Это даже не селение, а только церковь, и при ней три дома: два поповских и один дьячковский.
Ссыльные с самою начала завоевали себе право раз’езда по округу, и почти каждый из них считал непременным долгом посетить все три Колымска. Но наша общественная жизнь сосредоточивалась в городе Среднеколымске, и именно к этому пункту относится мой рассказ.
Это было в мае 1893 года, на четвертый год моего пребывания в Колымске. Нас было больше пятидесяти человек; большей частью административных. Мы делились на две категории, — краткосрочных и долгосрочных. Краткий срок означал крайнюю молодость, случайный арест и отсутствие вины, даже с полицейской точки зрения. Например, из Одессы была прислана целая партия юношей, вернее говоря — подростков. Старшему во время ареста было семнадцать лет, младшему — четырнадцать с половиной. Ссылали их, по словам приговора, «за знакомство с революционерами».
Краткому сроку, впрочем, предшествовало долгое тюремное заключение, часто более двух лет. Хождение по этапным мытарствам от Москвы до Колымска длилось иногда еще дольше, и в конце концов эти юноши прибывали в Колымск как раз во-время, чтобы праздновать свое совершеннолетие.
Долгосрочные были восьмилетние и десятилетние. Мне, например, перед ссылкой жандармский полковник сказал: «Десять лет — это задаток. А за дальнейшее я вам ручаюсь». Наши, впрочем, не унывали и даже в Сибири вели с начальством малую войну. Иные попали в Колымск уже по сибирским делам, за этапные споры или за местные протесты.
Несколько человек принадлежали, к знаменитой ссыльной партии, которая на всех тридцати этапах от Томска до Иркутска устроила последовательно тридцать протестов. Одним из членов: этой партии был Н. Л. Зотов, впоследствии повешенный в Якутске. Этапная дорога была ужасная, грязная, голодная, с мошкарой в лесу и с клопами на ночлеге. Конвойные офицеры были пьяны, а солдаты лезли драться, — одним словом, в поводах для протеста недостатка не было. В заключение партия была жестоко избита в Иркутске и предана суду за сопротивление конвою. Следствие было заочное и тянулось необыкновенно долго. Суд был тоже заочный. Года через два наши товарищи в Колымске получили из Иркутска приговор, осуждавший их на разные сроки тюремного заключения. Исправник был поставлен втупик, так как в Колымске не было тюрьмы. В конце концов мы выручили его. Тюрьма была заменена домашним арестом. Под арестное помещение мы уступили большую залу нашего общего дома. Исправник платил нам за наем, также за освещение и отопление этой тюрьмы.
Казенные деньги пришлись нам весьма кстати, ибо наши дела были очень запутаны. Приехали мы зимою. Ничего у нас не было. Все пришлось заводить вдруг. Пищу и дрова нужно было, по местному обычаю, запасти сразу вплоть до июня. В городских лавках не было ни мяса, ни рыбы. Пришлось ехать за припасами к якутам на озера и к чукчам на тундру и везти с собой товары для обмена. Немудрено, что мы в первую же зиму влезли в неоплатные долги к местным купцам. Потом мы эти долги платили из скудного казенного пособия, но никак не могли не то что уплатить, а даже сократить итог. Каждые полгода староста делал подсчет, и все выходила почему-то одна и та же роковая цифра: три кола на брата (111 рублей). После подсчета староста принимался загонять экономию на наших желудках, пока дело не доходило до открытого возмущения. В обыкновенное время мы получали на завтрак кусок так называемого белого якутского масла, сбитого и замороженного вместо с пахтаньем, и шестую часть небольшого ржаного хлебца. Староста начинал колоть масло мельче и печь хлебы еще меньшего размера. Мы со своей стороны понемногу забирали свои завтраки за день или за два вперед. Мало-по-малу самые голодные и настойчивые входили в неоплатные долги на двадцать, тридцать и даже пятьдесят завтраков. Такие должники мутили общественное мнение и требовали амнистии. Но после амнистии три кола снова являлись во всей неприкосновенности. Поэтому мы ничего не имели против этого нового тюремного пособия.
Нечего говорить, что ни о каком действительном аресте речи не было. Некоторые из «арестованных» уезжали в дальние поездки на месяц и на два. А залой мы пользовались попрежнему.
Впрочем, в виде тюремного символа полиция ежедневно присылала нам стражу, точнее говоря — одного стража. Это был какой-нибудь молодой казак, который заявлял, что он «на вести прислан», и садился на лавку в наших сенях или в кухне, поминутно вскакивая и вытягиваясь во фронт, когда кто-нибудь проходил мимо. Впрочем, добраться до кухни было для казака дело вовсе не легкое. Двор у нас был большой, крепко загороженный. Калитка была далеко от двери дома, а у калитки постоянно лежали злые собаки. В Колымске ездят на собаках, и в нашем дворе всегда было десятка полтора псов. Эти псы были местной породы, часто куплены у тех же колымских соседей, но, попадая на наш двор, они тотчас же задирали нос и об’являли непримиримую вражду всем остальным жителям городка, двуногим и четвероногим. Якуты входили в наш двор с опаской и еще от калитки начинали громко кричать и вызывать подмогу. Замечательно, что в то же самое время к каждому новому товарищу, приезжавшему из Якутска, те же собаки ластились, как к старому приятелю.
Наиболее зловредным нравом отличалась Дамка, та самая, которую такими розовыми красками описал мой товарищ Н. Осипович в одном из своих рассказов. Эта Дамка не лаяла, не бросалась. Она только подходила сзади и хватала зубами за икру.
Едва очутившись на нашем дворе, недели через две или через три, она цапнула за ногу своего собственного прежнего хозяина.
Особенно не любили наши собаки вестовых казаков, быть может, отчасти и потому, что казаки эти были вечно голодны и заявляли притязание на часть пищи из нашего дневного оборота.
Пища на севере — вещь серьезная и нелегко добываемая. Даже на кости из супа были три партии претендентов. Во-первых, так называемая артель жиганов из собственного состава. Обеденные порции были велики, и жиганы всегда чувствовали голод. Они имели право на все кухонные остатки, а также на испорченные продукты из общей кладовой. Второй партией претендентов на кости были туземные прихлебатели и приживалки с вестовым казаком во главе. Собакам принадлежала только третья очередь. Немудрено, что они не любили туземных гостей.
С утра до вечера казак сидел на своем месте, скучал, заглядывал в кухню и ожидал с’естной подачи. В сущности говоря, он стерег только котел с мясом. Стоило дежурному зазеваться, верхний кусок мяса тут же переходил из котла прямо в кожаный карман верхней одежды нашего казенного сторожа. Иные для этой цели приносили с собой под платьем особый железный крючок, которым местные женщины переворачивают мясо в котле. Впрочем, казенный вестовой при случае старался быть полезным. Особенно это относилось к рубке дров для кухни. Рубка дров лежала на обязанности наших очередных дежурных. Дело это на сильном январском морозе довольно неприятное. Выйдет какой-нибудь юноша в валенках и худых рукавицах и начнет тюкать топором. А казак уж тут, подстерегает случай. Чуть дежурный отложил на минуту топор, казак хватает его и начинает действовать с несравненным проворством туземцев во всех домашних работах. Иной дежурный, поретивее, желая исполнить свой долг до конца, начнет отнимать топор у услужливого казака, а тот не дает, рубит. В несколько минут целая груда дров нарублена, и казак уже таскает на кухню охапку за охапкой. Тогда ему обеспечена полная обеденная порция.
Таково было наше тюремное заключение в Колымске. Хотя оно и не имеет прямого касательства к моему рассказу, но я описал его для того, чтобы сразу об’яснить местные отношения. Дело в том, что начальство и казаки одинаково нас боялись. Нас было много, жили мы все вместе, крепко держались друг за друга. Люди мы были новые, с местной точки зрения совершенно непонятные. Вдобавок при каждом был прислан особый формуляр, в котором были прописаны разные страхи. В прежние времена начальство имело привычку преувеличивать своих противников и расписывать их разными суздальскими красками. Противников было мало, и поле зрения не было достаточно наполнено. Жандармы и полиция смотрели в микроскоп. Теперь противников много, поле зрения переполнено, начальство преуменьшает и смотрит в телескоп. Все старается утешить себя, что беда еще не так велика.
Как бы то ни было, по отношению к нам колымское начальство держалось тактики оборонительной и пассивной. Если угодно, Колымск был первой русской республикой, гораздо раньше дебальцевской, читинской, пятигорской и иных. Обиход был именно тот же самый. Наша община существовала сама по себе, а начальство само по себе. Отношения между нами были то дружественные, то враждебные. Иногда доходило до полного разрыва.
Столкновения случались все больше по праздникам и по табельным дням.
Помню, однажды, на Александра Невского, начальство устроило выпивку и зажгло иллюминацию. Наши немедленно, в виде политической демонстрации, устроили контр-выпивку, и после того иллюминацию погасили и все плошки стащили с забора. Начальство со своей стороны заперлось в полицейском доме и не выходило до полночи.
Впрочем, отношения были большей частью дружественные. Исправник был из петербургских околоточных и приехал в Колымск прямо с Невского. Он был вдов, играл в карты, пил горькую и жестоко скучал. От скуки он стал читать книги, принимался даже за Маркса, но не осилил. Читал он зимою запоем: запрется и дня три не выходит, все с книгой сидит и даже не спит.
Однако гораздо охотнее он играл в винт. Винт — игра сибирская, особенно ценная для полярных городов. В зимние вечера либо давиться, либо козырять с присыпкой в малом шлеме в бубнах. В Колымске винтили все — полиция, купцы и мы, ссыльные. У нас был свой круг, и случалось, винтили мы жестоко, по двое суток и по сорок восемь робберов сряду. Провинтим этаких два дня, а потом баста — на целый месяц. А между тем в полицейско-купеческом кружке винтеров было немного, и часто за раз’ездами нехватало четвертого партнера. Тогда начиналась медленная агония. Исправник ходил по улице и старался поймать политического партнера. А у нас, бывало, как на грех, винтовая полоса уже прошла. На карты смотреть противно. Ходит исправник, ловит партнера. Встретит на улице, пристанет: «Пожалуйста, пойдемте, на три робберочка!» А какое на три! Только войди — двери на запор. Хочешь не хочешь — играй. Отговариваешься, а исправник все ноет и за рукав тянет. Наконец потеряешь терпенье, дашь ему тычка, вырвешь рукав и бежать домой, а он гонится сзади до самой двери.
Особенно сумасбродная жизнь бывала у нас весною. Трудно описать полярную весну понятными чертами для того, кто ее не испытал. Зеленой весны нет в полярных широтах. Пока реки не вскрылись, деревья все обнажены. Потом вскроются реки, листья распустятся в три дня, и начинается лето.
Но в северных широтах есть другая весна, яркобелая, вся в снегу и в морозе, залитая режущим светом, до снежной слепоты, до солнечного одурения.
Еще так недавно тянулась долгая зимняя ночь. Выйдешь в полдень из избы, посмотришь на юг, на краешке неба горит тусклая заря, даже не горит — померцает, да тут же и погаснет. Не живешь, цепенеешь. Дыханье мерзнет от холода, лошадь проходит вся в белом облаке, занесенная инеем.
Лед на реке трехаршинной толщины; лопнет от мороза, как будто пушка выстрелит. Потом опять тихо, темно, тайга не шелохнется, все умерло, и даже ветер умер, и над печной трубой стоит высокий, прямой, сверху кудрявый столб дыма и тоже не гнется, как будто застыл или умер. И кажется, что вечно так будет — холод, тьма, тишина, смерть.
Однако, с половины января заметно, что день прибавляется. Чем дальше, тем заметнее. 9 марта — равноденствие, от солнца до солнца двенадцать часов, а в конце марта заря с зарей сходится. С половины апреля уже день не гаснет, только с утра до вечера он яркозолотой, а с вечера до утра яркорозовый. Днем на припеке снег тает, а в тени зимний холод. Около полудня талая вода журчит, ручья звенят и роются под снегом, а ночью все сковано, мороз градусов в тридцать. И все-таки всем существом ощущаешь воскресение природы, и эта весна — как чудный праздник, солнечно-яркий и светло-нарядный. Как будто каждый раз сам рождаешься на свет вместе с оживающей тундрой и тайгой.
В мае солнечный блеск как бы ожесточаются. На реках и озерах снег сходит, и гладкий лед блестит, как зеркало. В полночь большое красное солнце стоит на краю гладкого ледяного горизонта и жжет его своим колючим блеском и не может сжечь. Крутом протянулись багровые полосы, пучки золотых нитей. Все красно и расплавлено, все как будто пламенеет, самый воздух горит и не сгорает…
Солнце, блеск, а еды нет. Запасы с’едены. Жители выскребли из амбаров последние крохи, якуты подтянули пояса, гложут рыбьи головы и запивают кирпичным чаем, черным и густым, как смола. Собаки отпущены на волю, благо ездить нельзя, — дороги испортились. Никто их больше не кормит. От голода они качаются на ходу и лают беззвучно, каким-то хриплым шопотом.
Провизия у всех оскудела, даже у начальников и у попов. Кое у кого есть мясо, но оно выветрилось и прогоркло. Мука есть, но жир вышел, и жарить не на чем. Все, что осталось, безвкусно, как трава.
У нас, впрочем, и безвкусное подобралось. Каждый день за стол садятся пятьдесят человек, не считая посторонних. Не напасешься на такую ораву. Теперь негде купить, если бы даже было на что. Что запасли с осени — с’ели. Староста начинает сокращать выдачу. Мы со своей стороны получаем молчаливое право делать набеги на его кладовые и похищать все, что сколько-нибудь пригодно для еды.
Острее всего последняя неделя перед вскрытием реки. Ночи нет. «Вчера» и «завтра» слились в одно сплошное «сегодня». Дни путаются и как-то выпадают из недели. В одной неделе четверга не было, в другой — воскресенья. Никто не спит — ни солнце, ни люди, ни собаки, ни птицы в кустах. Собаки и люди бродят у реки и стерегут воду, как голодные чайки. Ибо в воде «ожива», первая рыба, которая оживит отощавшего жителя. Вдоль закраины льда уже появилась «заберега», узкая полоска талой воды. С каждым днем она все шире, но матерой лед прирос к берегу, никак не может отстать, выпятиться коробом и всплыть наверх. Как только лед пройдет, рыба хлынет валом, и начнется летний праздник.
А перелетная птица уже летит мимо: утки всех сортов, сухие и водяные, мелкие и крупные, черные турпаны, серые шилохвостки, савки, лутки, чирки, гуси-казарки и гуси-гуменники, крохали, лебеди-кликуны, лебеди-шипуны, гагары всех видов. Днем и ночью, без передышки, стая за стаей тянется к северу на тундреные озера. Гам, крик, клекот, звон крыльев, трубные звуки лебедей. У кого есть ружье, тот сидит на мысу, стережет добычу. Но птицы знают колымские нравы и над городом взлетают кверху. К тому же местные ружья плохи и в «летячую» птицу вовсе не попадают, а только в «сидячую». Наши тоже ходят с ружьями, иной раз убьют утку или гуся, но что значит один гусь на всю компанию! С утра до вечера думаем только об еде. Все идет в дело: рыбья кожа, черные комья прелой муки, рыбий жир, остатки собачьего корма, сальные свечи. Свечи нередко бывали так называемые «утопшие». Староста выливал их из сала коров, утонувших в болоте, а чтобы они не оплывали, подмешивал к салу разной химической дряни. Но нам было все равно. Иногда он грезил, что подмешает мышьяку, но угрозы этой ни разу не исполнил.
Весна 1893 года была для нас памятнее других. В эту весну из Якутска неожиданно приехал старший советник областного управления Сальников с разными поручениями от губернатора Скрыпицына.
Сальников даже для Якутска был человеком совершенно необыкновенным.
Начать с того, что в нем было вершков двенадцать росту, разумеется, в придачу к двум аршинам, и больше восьми пудов весу. Брюхо у него было огромное, как бочка, эту бочку можно было налить доверху спиртом, без особого вреда для ее хозяина. По женской части Сальников тоже был ходок. Он был холост, но жил семейно с одной из своих любовниц, замужней женщиной. Знойный муж находился тут же, и дети безразлично называли «папой» и того и другого.
С другой стороны, Сальников был в то время единственным человеком с университетским образованием на казенной службе в Якутской области. Жители, впрочем, не верили, что он окончил настоящий университет, и пустили слух, что, в сущности, это не Сальников, а некий бродяга, который убил настоящего Сальникова, завладел его бумагами и поступил на службу. В Сибири такие дела бывали, но этот Сальников был настоящим. По образованию он был юрист и попал в Якутск судебным следователем. Там на одном допросе он погорячился, ударил подследственного кулаком и убил его наповал. За такой подвиг Сальников и сам попал под суд, но в Восточной Сибири такие дела тянутся подолгу и кончаются ничем. Тем временем Сальников перешел в Министерство внутренних дел и быстро дослужился до старшего советника.
Первое поручение, данное губернатором Сальникову, состояло в том, чтобы открыть новый торговый путь из Гижигинска в Колымск. Губернатор посмотрел на карту, прикинул, что из Гижиги до Колымски близко, а Гижига стоит на море, стало быть, туда приходят пароходы, — и послал своего советника открывать новый путь напрямик, как вороны летают. Это обыкновенный бюрократический метод. Николай I по этому методу построил Николаевскую железную дорогу, а граф Сергей Витте — Манджурскую соединительную линию с веткой на Порт-Артур. В данном случае от Колымска до Гижиги, действительно, было недалеко, верст шестьсот или шестьсот пятьдесят, но ездить было невозможно, ибо на гижигинской тундре лошади пропадают от бескормицы.
Сальников, впрочем, поручение исполнил, в Гижигу пробрался на лошадях, но лошадей по дороге растерял. Из Гижиги он вернулся с большими трудностями вместе с чукотским кочевьем. Чукотский омолонский староста Омрелькут вывез его на собственных оленях. Ехать было тяжело. Три оленьи упряжки пали одна за другой под грузным советником. По прибытии в город начальство на радостях устроило бал. На балу Омрелькуг напился и разделся донага. Когда его хотели убрать, он из’явил претензию выехать из залы верхом на казаке точно так же, как толстый начальник ехал на его оленях. Сальников признал справедливость притязания и велел своему денщику подставить спину.
За рекою против города, откуда пришел чукотский караван, Сальников распорядился поставить столб с надписью: «Дорога генерала Скрыпицына» Скрыпицын в то время был только статский советник. Нечего говорить, что купцы по этой дороге не поехали, а года через три и столб завалился.
Впрочем, путешествие Сальникова началось летом, месяца через три после описываемой мною весны.
Второе поручение Сальникова касалось ревизии казенных сумм из всего полицейского управления. Такие ревизии в Сибири производятся быстро и легко, можно сказать — в промежутке двух карточных сдач. Подсчеты ведутся на мелок, поверка магазинов — на глазомер. Сальников с исправником поладили без затруднений.
Знает только ночь глубокая, Как поладили они…Третье поручение касалось нас, ссыльных. До якутских властей дошли сведения, что мы забрали слишком много воли. Получить эти сведения было нетрудно. С каждой почтой из Колымска в Якутск посылались доносы. Их писали попы и дьячки, отставной казачий командир, отданный под суд за растрату и отсиживавшийся от своего дела в Колымске, как в неприступной крепости, уголовные поселенцы и купеческие приказчики.
Сальникову было поручено, во-первых, исследовать справедливость доносов, во-вторых — изыскать меры к нашему обузданию, а заодно и обследовать вопрос об уменьшении небольшого казенного пособия, которое нам ежемесячно выдавалось и без которого мы должны были погибнуть голодной смертью.
Я охотно верю, что Сальников выехал из Якутска в самом черносотенном настроении и с искренним желанием обуздать и урезать. Но дело в том, что дорога от Якутска до Колымска тянется на три тысячи верст и обладает секретом всеобщего демократического уравнения. Каждому одинаково холодно, тоскливо и неудобно. Лесные избушки одинаково стынут и дымят, особенно знаменитая Бездверная, первая с юга. Колючий ветер не разбирает лиц, мороз забирается в самые именитые кости. Когда испытаешь все это на собственной шкуре, охота подтягивать и урезывать как-то отходит назад.
Сальников ехал, мерз, голодал и постепенно из черного становился красным.
На пути между Якутском и Колымском лежит Верхоянск. Сальников остановился в Верхоянске на один день. Ему нужно было лекарство, немного пряностей и сухих овощей, ибо для большей легкости он взял с собой весьма мало припасов. Все это он мог достать только у политических ссыльных. Допускаю также, что ему хотелось увидеть человеческие лица, не гнусные и не рабские, как у встречавших его чиновников, услышать слово, не стесненное искательством и страхом. И за этим тоже приходилось обращаться к политическим ссыльным.
Одним словом, Сальников приехал в Колымск совсем красным, можно сказать — левым кадетом.
Вместо обуздания он старался войти с нами в добрые и приятельские отношения. Он уже говорил не о сокращении, а, напротив, о возможном увеличении казенного пособия.
На второй день по прибытии Сальников снял мундир и надел красную рубаху. Вместе с мундиром он как бы сбросил на время чиновничью часть своей души и вернул себе старую студенческую душу той эпохи, когда он распевал с друзьями: «Будем пить за того, кто „Что делать“ писал», хаживал на кулачные бои с мещанами, но еще никого не убивал кулаком.
Мы, однако, оставались холодны к этому превращению и держались настороже. Мы предвидели, что на обратном пути Сальников переменит свою окраску в той же самой постепенности и, достигнув Якутска, представит губернатору Скрыпицыну самый черносотенный рапорт и таким образом исполнит третье поручение.
Сальников, как водится, остановился у исправника. Почти тотчас же по его приезде началось непрерывное пьянство. Советник и исправник пили сами и поили других. На Колыме водки не знают, а пьют спирт, и притом неочищенный. Он стоит дорого — два, три и далее пять рублей за бутылку. Впрочем, исправник приготовился к приезду ревизора и припас пять фляг спирту. Фляга — это плоский бочонок, приспособленный к перевозке вьюком и вмещающий три ведра.
Несмотря на дороговизну, колымские жители страстно привержены к выпивке. Они готовы отдать за глоток спирта последнюю лисью шкурку, даже последнюю еду. Если бы хватило, они были бы готовы опиться до смерти. Общее мнение гласит: «За рюмочку не жалко дать вырезать кусок тела». Особенно ценится выпивка в голодную пору.
«Натощак сильнее разбирает, — говорят жители. — Голодный от запаха пьян…»
Немудрено, что все наличное мужское население городка льнуло к пирующему начальству. Сальников поил всякого, но льстивые и запуганные обыватели не удовлетворяли его. Ему хотелось настоящего человеческого общества. В хмелю он был ласковый и болтливый. Ему нужны были слушатели для его «дружеских» речей.
Из нашего общества иные были бы непрочь выпить, особенно весною, на солнышке. Но пировать с филистимлянами была неподходящая статья. По отношению к местным филистимлянам наше общество делилось на три партии. Крайне левые держались замкнуто и непримиримо. Легкомысленная часть держалась более примирительно и даже не гнушалась филистамлянского хлеба-соли. Центр колебался между той и другой тактикой. Весною, впрочем, все партит мешались. Люди соединялись в случайные группы, бродили по городу сорок восемь часов кряду, потом падали от усталости и засыпали на целые сутки.
Это было четырнадцатого мая утром.
Мы побывали на речном берегу, потом взобрались на косогор и пошли по узкой дорожке мимо кладбища и церкви. Здесь находилась единственная полоска городской земли, пригодная для прогулок. По обе стороны ее были кочки, лужи воды, корявый кустарник, пни и прочие тому подобные предметы местной городской жизни.
Нас было человек десять. Были мои близкие приятели, Гримберг и Скальский.
Гримберг, родом еврей, плотный, курчавый и черный, походил на негра. Он был человек удалый и страшный спорщик. В этом человеке сидели две души: одна — воина, другая — казуиста. Первая толкала Гринберга на головоломные дела. По поводу второй мы говорили, что Гримберг любит положить в фундамент инфузорию и построить на ней вавилонскую башню. Лет через пять, когда Гримберг наконец вернулся в Россию, обе стороны его духа нашли себе применение. Во-первых, он стал писателем-экономистом и принял деятельное участие в полемике по поводу борьбы классовой, профессиональной и профессионально-политической. Вместе с тем Гримберг погрузился с головой в пропаганду и агитацию, вел кружки, читал рефераты, ездил через границу, сидел в тюрьме.
Скальский был высокий и белокурый, с холодной головой, сдержанный и страстный. После, в России, Скальский сильно развернулся, а в тюрьме он сидит до сих пор. Оба они — и Гримберг, и Скальский — теперь принадлежат к «меньшевикам».
Кроме этих двух был еще Полозов, донской казак, огромный и грузный, хотя все-таки меньше Сальникова, Илья Жигатов, тщедушный, злой и спокойный, Черноусов, печальный резонер, Крафт, Мартениус и другие.
У церкви дорожка расширялась и переходила в площадку. На площадке было сборище. Это Сальников и компания пировали на открытом воздухе. Повидимому, они расположились на самой дороге не без умысла. Это была как бы застава, для того, чтобы задерживать всех прохожих и привлекать их к участию в пиршестве.
Сальников сидел в центре группы на опрокинутом бочонке; другой бочонок стоял перед ним в виде стола. Оба эти бочонка были пусты. Третий был наполовину наполнен спиртом. В одной из клепок его было круглое отверстие, крепко заткнутое деревянной втулкой. Исправник сидел возле Сальникова на связке хвороста; другие полицейские чины уселись прямо на земле. Кругом толпились казаки и мещане. Они попеременно смотрели на начальство и на бочонок откровенными, наивно-вожделеющими взглядами. На бочонке, изображавшем стол, стоял большой медный чайник, видимо, налитый спиртом, и несколько стаканов и чайных чашек.
Закуски не было видно, но поодаль горел костер. У костра примостился железный треножник, а на треножнике стояла большая железная сковорода.
В прибрежной воде были заметаны мелкие сети. В эти сети могли попасться разве щурята и окуни. На Колыме в другое время такую мелочь не считают даже за рыбу. Но теперь каждая такая рыбка должна была тотчас же попасть на сковороду и превратиться в жаркое.
В России, как известно, выпивают, закусывают селедкой, потом вспоминают, что рыба плавает, и по этому поводу снова выпивают. Здесь только выпивали, а рыба тем временем действительно плавала в воде.
Свернуть с дорожки было некуда. Мы пошли прямо на костер.
— Гуляете? — начал Сальников, поднимая к нам свое широкое лицо и любвеобильные глаза.
— Да! — отозвался Жигатов. — А вы выпиваете?
— Да-да! — в свою очередь вздохнул Сальников. — Не хотите ли с нами?
— По какому случаю пир? — спросил Жигатов. — К завтраму готовитесь?
— А завтра что? — невинно спросил Сальников.
— Завтра годовщина коронации.
— Скажите! — воскликнул Сальников. — А я забыл!.. Сохрани бог! — вырвалось у него при взгляде на наши нахмуренные лица. — Мы так себе пьем… Выпейте с нами за компанию…
Жигатов посмотрел на Полозова, потом на Гринберга. Гримберг неожиданно усмехнулся. Ему пришла в голову блажная мысль.
— Знаете, Иван Дмитрич, — сказал он, — мы бы, может, и выпили, но нам не совсем ловко пировать в такой день. Разве, если условие поставить.
— Какое условие? — живо спросил Сальников. — Я заранее согласен.
— Чтоб этот праздник вышел, как антиправительственная манифестация.
— Манифестация?! — воскликнул Сальников. — От всего сердца.
Он так ударил по бочонку кулаком, что все стаканы звякнули, потом взял один стакан и грузно поднялся на ноги.
— Слушайте, звери! — это относилось не к нам, а к жителям, а может быть, также и к собакам, стоявшим в таком же напряженном ожидании. — Сколько жертв было принесено во имя идеи! Эти жертвы не пропали даром. На алтаре пылает пламя, вольное слово над миром гремит. Пью за русскую идею! Да здравствует республика!..
Он говорил совершенно искрение. Быть может, он даже забыл, что он казенный советник, и думал в эту минуту, что он студент среди студентов, ссыльный среди ссыльных, жертва, пострадавшая за «русскую идею».
— Да здравствует республика! — дружно отозвался наш хор.
— Ура! — подхватили казаки. — Публика!..
Началось нечто гомерическое, тройной крепости, как спирт, стоявший перед нами в чайнике и бочонке. Сальников обнимался с Гринбергом, Жигатов — с исправником. Потом Сальников и Полозов пробовали поднимать друг друга на поясах, а Скальский плясал русскую вместе с маленьким смешным старичком из отставных казаков.
Старичка по-уличному звали Гагарой за кривые ноги и пронзительный голос. Гагара плясал плохо, кривые ноги путались и заплетались.
Скальский ухал и вскрикивал: «Вы, мертвые, делай!»— и его холодное лицо странно противоречило этому буйному веселью.
Из дальнейшего мне памятны только отдельные эпизоды.
Гримберг и Сальников сидят рядом на земле. Гримберг глядит на костер. Костер ярко пылает. Сковорода стоит уже не на треножнике, а прямо на горящих ветках.
Казаки наконец поймали щуку. Ее сейчас будут жарить.
— Это огонь! — говорит Гримберг.
— На алтаре пылает пламя, — отвечает Сальников.
— Пылает, — соглашается Гримберг. — Костер пылает. Это я понимаю. Живет, пылает, а мы что?.. Мы прозябаем в этом холодном гробу… Я хочу сообщиться с этим огнем! — внезапно вскрикивает он, вскакивает на ноги и подбегает к костру. К нашему величайшему изумлению, он поднимает долы и садится прямо на сковороду.
Мы тоже вскакиваем и успеваем сдернуть его с костра. Он не потерпел особого ущерба.
— Сидите смирно! — увещевает его Сальников. — Экая горячка! Огонь душевный ярче, огонь внутренний!
Но Гримберг не слушал.
— Я хочу сгореть, — упорно повторял он, — испепелиться, по ветру развеяться.
Улучив минуту, он вскакивает и опять бросается на костер.
— Отстань, — кричит он мне свирепо. — Каменное сердце!..
Жигатов и исправник стоят друг против друга.
— Давай, выпьем на брудершафт! — предлагает исправник.
— Отстань!
— А какая это у вас трубка? — переводит исправник разговор на другую тему. — Новенькая? Покажите.
— Глиняная, — отрывисто отзывается Жигатов, — не про вашу честь.
Лицо исправника принимает упрямое выражение. Внезапным движением он вырывает у Жигатова трубку изо рта и бросает ее далеко в сторону.
Глаза Жигатова вспыхивают злым огнем. Он протягивает руку, срывает с исправника шапку и бросает ее вслед за трубкой.
Лицо исправника темнеет.
— Ты чего? — ворчит он. — Я тебе могу в морду дать…
— А я тебе в другую!
— Ха-ха-ха! — краткая вспышка полицейской злобы кончается смехом. — Сергей, подними шапку!..
Молодой казак, денщик исправника, молча и проворно приносит начальственную шапку.
— Трубку подними! — приказывает Жигатов.
— Не смей! — кричит исправник.
Сергей беспомощно разводит руками.
— Егорша, подними трубку!
Егорша — городской нищий. Таких нищих двое. Оба зовутся Егорши. Один — Егорша-Худой, другой — Егорша-Тунгус. Оба они тут, и оба кормятся подачками из нашей столовой.
Егорша-Тунгус поднимает трубку и приносит Жигатову.
Теперь очередь исправника разводить руками.
— Тут я ничего не могу поделать! — говорит он. — Это ваши люди.
Сальников и Черноусов сидят рядом на земле. Черноусов — странный человек. Молодец, прекрасный работник, мастер на все руки, с виду веселый и даже разговорчивый, но в в сущности, безнадежно-грустный. Когда он выпьет, эта грусть выходит наружу. В душе его есть что-то надломленное. Лет через пять Черноусов перебрался в Иркутск и там в два года внезапно состарился, поседел и даже одряхлел. Теперь он, кажется, умер.
— Я был человек вольный, — говорит Черноусов, — а теперь я — арестант.
Прилетали к соловью два сокола,Заводит он приятным и протяжным голосом, —
Взяли, взяли соловья к себе домой, Посадили его в клеточку, За серебряну решоточку.Он поет, как плачет, но лицо его спокойно.
— Не плачьте! — говорит Сальников и плачет сам. Слезы катятся градом до его лицу. — Я ценю вашу муку! — говорит он. — Дайте дожать вашу мужественную руку.
— Будьте вы прокляты! — отзывается Черноусов.
Уж ты пой, воспевай, соловей, При кручине утешай нас, молодцов…Гримберг изменил направление своих мыслей и от огня перешел к воде. Только что он изображал Жанну д’Арк, теперь перешел на роль Офелии. Он бродит по пояс в ледяной забереге. Я хожу до песку у самой воды и стараюсь выманить его на берег, как русалку. Я помню, что у него больная нога, и это приключение может кончиться для него печально. Но он упорствует.
— Ура! — кричит он. — Сейчас лед тронется. Я уплыву вместе с полой водой. На волю из душного плена, на волю, на буйную волю!..
Дальше мои воспоминания прерываются. Знаю только, что мы трое — я, Гримберг и Скальский — очутились в нашей общественной библиотеке, занимавшей отдельную избу. Изба эта была заперта висячим замком, ключ от замка лежал у Гримберга в кармане.
Мы забрались внутрь, заснули на полу и проснулись на другой день после полудня с тяжелой головой. Но страннее всего было то, что дверь оказалась попрежнему запертой на замок, и ключ лежал у Гримберга в кармане.
Бр!.. Скверно!..
Наше празднование, в сущности, было преждевременно. Коронацию следовало праздновать только на следующее утро. В должный час городской протоиерей, отец Алексей, явился в церковь служить молебен. В церкви никого не было. Только две старухи стояли у стены, да еще подсудимый командир, которого Сальников почему-то невзлюбил и не принимал к себе. Сальников утверждал, что от командира дурно пахнет.
Отец Алексей тоже был в своем роде достоин примечании. Это был маленький попик, круглый, колючий, с хмурым лицом и неприятным смехом. У отца Алексея было семейное горе. Его попадья открыто для всего города жила с помощником исправника. В Колымске господствуют нравы совершенно содомские.
— У нас вода такая! — говорят жители в об’яснение и спокойно переходят все границы приличия.
Отец Алексей тем не менее долго не знал о своем несчастии, но когда, наконец, узнал, то ничего не сказал и не сделал, только стал скучать и задумываться. Мало-по-малу он совсем свихнулся и наконец в один праздничный день после службы вышел на амвон и возгласил: «Православные христиане, выслушайте мою проповедь! Ти-ни-ни!» В церкви произошло смятение. Отец Алексей ушел из церкви, перестал служить и скоро умер.
Но теперь отцу Алексею было не до проповеди.
— Где люди? — спрашивал он яростным голосом.
— Спят, — об’яснил командир. — Только сейчас легли.
— А начальство где?
— Тоже спят, — сказал командир. — Всю ночь с политическими пьянствовали, а нас с вами не звали.
Недолго думая, отец Алексей принял драматическую позу и провозгласил анафему «граду сему и жителям его и Правителям его», затем демонстративно отряхнул прах с ног своих и ушел из церкви.
Вечером Сальникову доложили об анафеме. Он рассвирепел, тут же взял лист бумаги и стал строчить:
«Сего числа городской протоиерей, отец Алексей Трифонов, придя в церковь в возбужденном виде, вместо установленного молебна, произнес хульные слова, о нем почтительнейше доношу вашему преосвященству, и прочая, и прочая…»
Из всего этого дела ничего не вышло. Во-первых, отец Алексей и подсудимый командир написали по встречному доносу. А во-вторых, почта ушла только через два месяца, и неизвестно, были ли доносы действительно отправлены в Якутск. Почту заделывал Сальников, и он мох уничтожить все три доноса.
Так мы отпраздновали коронацию в 1893 году.
Летом, как сказано выше, Сальников отправился в Гижигу, а осенью вернулся обратно. В январе он вернулся в Якутск и в числе прочих рапортов представил также соображения о нашем обуздании.
Плодом этих соображении поздней весной 1894 года, ровно через год после описанного мною праздника, исправник получил секретный циркуляр о том, чтобы по возможности обуздать наше право раз’ездов по колымским пустыням.
Мы, впрочем, прочли этот циркуляр раньше исправника. Почта по обыкновению пришла в растерзанном виде. Оболочки пакетов истерлись в труху. Газетные номера, казенные бумаги и частные письма перемешались в одну общую груду. Разобрать эту груду, как следует, могли только мы, ссыльные. Мы перетряхивали «Правительственный вестник» и «Сенатские ведомости» номер за номером, вылавливали оттуда письма и казенные предписания и раскладывали все это по именам и категориям. Скальский отличался особенным искусством в этой области. Иное имя он определял по единственной уцелевшей букве, подобно тому как Кювье по единственному зубу определял породу ископаемого животного.
Поэтому мы первые прочли секретный циркуляр, но прочитав, передали его исправнику. Он тоже прочел, ничего не сказал и спрятал циркуляр в стол.
Не знаю, что он ответил в Якутск «генералу Скрыпицыну». Поздней осенью пришло известие поважнее этого циркуляра. О нашей Колыме лучше сказать: не осенью, а раннею зимою, ибо река стала уже в двадцатых числах сентября.
Была темная ночь с морозом и вьюгой. Мы со Скальским шли по той же городской тропинке, направляясь домой. Внезапно мимо нас промчался верховой и повернул к полицейскому дому.
«Нарочный из Якутска», — мелькнуло у нас в голове. В такое время так скакать мог только нарочный.
— Кто умер!? — крикнул я вдогонку всаднику.
Спешные нарочные присылались только в случае смерти высокопоставленных особ.
— Царь умер! — донеслось спереди.
— Где убили? — крикнул Скальский на весь город.
По старой памяти 1881 года нам показалось, что мартовская трагедия повторилась.
— Сам умер! — глухо донеслось из темноты.
Эта смерть произошла естественным путем.
На другой день вьюга стихла. В ясном небе взошло зимнее солнце. У нас на душе тоже было светлее. Жандармские генералы и полковники, отправляя нас в ссылку, все рассчитали, только не рассчитали смерти. Тринадцатилетний кошмар кончился для нас и для всей России. Начиналась эпоха «бессмысленных мечтаний». Правда, мы досидели до конца срок своей ссыльной неволи, но мы смотрели вперед, и души наши были свободны. Ибо кто чувствует себя свободным, тот уже свободен.
Еще Мирабо сказал: «Врага ваши кажутся вам великими потому, что вы стоите на коленях. Встаньте с колен!..»
Наша коленопреклоненная Россия стала вставать на ноги. Скоро она поднимется во весь свой огромный рост.
Петербург, 1906 г.
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ «НАРОДНОЙ ВОЛИ»
Очерки
Типография
Говорят, что в русской литературе умер быт и писать нужно только о том, чего не было, даже о том, чего быть не могло.
У меня, напротив того, является желание писать о делах действительно бывших, с подлинными датами и настоящими именами.
Скажут, что это не беллетристика, а мемуары. Но для меня это неубедительно. Я не считаю авторский вымысел безусловно необходимым для повести. Природа — великий художник, и на ее палитре самые яркие краски.
Жизнь составляет свои повести и развивает трагедии лучше всякого беллетриста, особенно русская жизнь, черная и страшная, вечно насыщенная грозою.
Я старался верно передать то, что видел и пережил, как оно запечатлелось в моей памяти. Ибо повести жизни сотканы из истины, и каждая черта связана с другими в одно стройное целое.
Изменить что-нибудь было бы преступлением не только против истины, но и против художественного вкуса.
Еще два слова. Мне пришлось писать о своих друзьях. Одни из них живы, другие умерли. Я писал о них так, как писал бы о самом себе или как они сами писали бы о себе.
Наше прошлое есть часть русской истории. Нам предстоит осветить каждый изгиб его ярко, правдиво и нелицеприятно. Мы скрывали нашу подпольную жизнь от наших всесильных врагов. От истории нам нечего скрывать. Пусть же она рассудит меж нами и ими.
Петербург, 1906 г.
Это случилось в городе Таганроге в 1885 году. Нас было десять молодых людей, и мы задались целью воскресить русскую революцию и, в частности, партию «Народной Воли». Ибо «Народная Воля» умирала. Сердце ее было вырезано и покоилось в каменной банке, на острове у Шлиссельбурга. Пульс все-таки бился, слабый и нитевидный, вспыхивал тонким трепетом, давал несколько капель свежей крови и опять исчезал. Мы были частью этого пульса, но наша «революция» имела безобидный, почти платонический характер. Тайная типография с ручным станком, для того чтобы перепечатать какую-нибудь «Хитрую механику» или «Сказку о четырех братьях»; склад «литературы», скудной и почти обратившейся в труху от ветхости; паспортное бюро, еще более скудное; ключ для шифра, адрес для явки, другой — для переписки. Вот и все.
Денежного бюджета, можно сказать, не было; часто не было даже гривенника на то, чтобы пообедать.
В то время революционеры жили скудно, особенно нелегальные. Я помню, мне рассказывали такую историю.
В одном приазовском городе в полуразрушенном доме ютилась компания из уволенных семинаристов. У них были единственные сносные штаны, одни на всю братию, и днем они могли выходить только по очереди. Они питались овощами с окрестных огородов и в конце концов не вытерпели, посягнули на соседского кабана, — к счастью для кабана, неудачно. Соседи же все обозлились и доложили начальству. Прильюсь спасаться бегством. Один из бежавших, без гроша в кармане, пошел пешком в Екатеринодар. По дороге, для того чтобы пропитаться, он припомнил детские годы и сделал себе длинный камышевый силок, каким на юге мальчишки ловят певчих птичек из-за прикрытия. При помощи этого силка странник ловил маленьких птичек и жарил их на палочках на краю дороги. В степи было мало топлива, и огонь приходилось поддерживать сушеным навозом.
В числе нашего революционного имущества были также и бомбы. Их было двенадцать. Мы унаследовали их от «лопатинцев». Лопатинцы провалились в 1884 году осенью. Когда они кончились, мы начались. Бомбы эти для пущей важности были занумерованы, причем, сколько помнится, нумерация начиналась от пятидесяти: 51, 52, 53. Для большей сохранности их разделили на четыре тройки и разослали по разным городам. И в непродолжительном времени каждая тройка стала причиной трагедии, тяжелой и ненужной…
В Харькове во время обыска Саул Лисянский, защищая эти бомбы, застрелил околоточного и был повешен. В Новочеркасске казачий есаул Чернов запрятал свои бомбы в стог сена. Они были найдены и представлены по начальству. Чернов заплатил за эту находку двадцатилетней каторгой. Начальство рвало и метало, желая непременно отыскать недостающие номера. Еще три бомбы были найдены в Таганрогской типографии под домом. Из-за них все участники процесса были потом приговорены к смертной казни. Куда делись остальные три, я теперь не помню.
Нечего говорить, что никто из всей компании не знал, что делать с этими бомбами. Мы их не пробовали. И неизвестно даже, были ли это настоящие бомбы, или простые жестянки, набитые химической дрянью. Но мы никак на могли решиться уничтожить такие реликвии прошлого величия.
Молоды мы были до крайности. Борису Оржиху было двадцать два года, а его невесте, Усте Федоровой, только семнадцать лет. Аким Сигида только что достиг совершеннолетия. Я был на несколько месяцев старше. Мы были так молоды, что Франц Ясевич, которому было двадцать восемь лет, казался нам усталым и пожилым человеком. А впрочем, он и действительно был усталым. В то время мы жгли нашу свечу с обоих концов, и нелегальная карьера длилась год или два, потом обрывалась в крепости. Нелегальный двадцати восьми лет представлял собой какой-то ходячий анахронизм.
Мы начали свою деятельность с реформы в «технике». Конспиративные письма раньше писались так называемой «желтой солью» и «проявлялись» полуторахлористым железом. Этот химический секрет знали все жандармы и тюремные надзиратели. Кстати сказать, они сохранили это знание до сей поры.
Месяца два тому назад я получил письмо из тюрьмы от одного литератора, который засиживает штраф, и даже не письмо, а статью под заглавием «Отрезвление». Поперек тюремного «отрезвления» шли характерные желтые полоски, столь хорошо знакомые мне с ранней юности. Я посмотрел на них и подумал: «Неужели современные конспираторы еще не отказались от этого почтенного рецепта?»
Мы во всяком случае изгнали желтую соль и вместо хлористого железа проявляли письма сероводородом. Сероводород мы сохранили в склянке в жидком растворе. Запах у него был такой, что для того, чтобы проявить письмо, нужно было уединиться в кабинет для размышлений. Но каждый раз, вдыхая этот запах, мы наслаждались сознанием, что, в случае провала, наш способ причинит неопытным в химии жандармам еще большие неприятности, чем нам.
Шифры мы сочиняли двойные, длинные и очень сложные. Как известно, шифр шифру рознь. Конспиративные барышни до сих пор употребляют так называемый дамский ключ; одно слово в пять букв: пушка, тучка, ручка. Чтоб прочитать такое конспиративное письмо, его не нужно даже особенно дешифрировать, так все в нем ясно и просто. Или, например, получил я однажды письмо из города Елисаветграда, — четыре страницы цифр, почти сплошные. Елисаветградский шифр мне не был известен. Но в конце письма стояло: «Адрес мой…» Дальше опять шли цифры, но я догадался, что первое слово шифра есть «Елисаветград» и при помощи этого слова нашел искомый ключ.
Раньше аресты случались чаще всего через запись адресов. Мы дали друг другу торжественную клятву не записывать адресов в книжку даже шифром и только в случаях крайней необходимости делать так называемые мнемонические записи.
Мнемонические записи состоят из ряда ребусов, связанных между собой по ассоциации идей. Например: Москва, Мос-ква, Мос — Моська, Слон и Моська. СЛОН. Ква — лягушка. Лягушка — жаба. Жаба — баба. БАБА. Можно нарисовать слона и на нем бабу. А читать нужно: Москва. Я готов биться об заклад, что самый искусный жандарм не разгадает такую запись. Одно худо, что часто и сам заглянешь в книжку и ничего не разберешь.
Но главная наша работа относилась к устройству типографий. Прежде нас были лопатинцы. Им с типографиями не везло. Одну, в Ростове-на-Дону, пришлось спешно раскассировать во избежание провала; другая, в Дерпте, провалилась оттого, что хозяин ее страдал падучей и неожиданно умер. Полиция явилась составлять протокол и нашла шрифт. Мы решили поставить новую типографию и законспирировать ее так, чтобы полиция ни за что не могла добраться. Мы устроили ее в Новочеркасске, в доме легального человека. В ней работали три наборщика: сам хозяин, один из нашей братии и еще третий — приезжий из Одессы. Этот третий тоже был человеком легальным, хотя он жил у нас по подложному паспорту. В обычное время он служил на каком-нибудь одесском заводе писцом или счетчиком. Но стоило только дать ему телеграмму — и он тотчас же бросал все, являлся и принимался за верстатку. Типография в смысле провала — дело опасное. Но ему везло. Три раза на моей памяти типографии, в которых он работал, закрывались сами, без настоящего провала. Тогда он удалялся с нашего горизонта и снова поступал писцом на свой завод. А месяца через четыре, глядишь, он опять тут и набирает попрежнему. Он был человек тихий и болезненный. Тюрьма была бы для него смертью, до судьба пощадила его. Где он теперь и жив ли еще?
В то время для нашей работы одной типографии было довольно за глаза. Мы печатали немного. Обыкновенное издание было в пятьсот экземпляров; из всего числа половина доставалась полиции, четверть сжигалась в ложных тревогах по разным местам. Книжек сто или полтораста расходилось по рукам. Но Оржиху не терпелось. Он затеял устроить вторую типографию и обратился к таганрогскому кружку. Самыми лучшими людьми в этом кружке были Аким Сигида, Надежда Малаксианова и еще третий, который успел отвертеться и пострадал сравнительно мало. Потом начальство сообразило, в чем дело, но момент был упущен. Что же делать! Петли рвутся иногда в самых крепких неводах, и рыба уходит. Этот третий был человек легальный. Имя его стало с тех пор известно местному начальству. И кроме того, всему этому делу прошли две земских давности. Но все-таки я как-то не решаюсь назвать его настоящее имя. Назовем его для удобства речи хотя бы Слезкин Игнат.
Аким Сигида служил писцом в суде. Ему недавно исполнилось двадцать лет. Малаксианова была городской учительницей. Она была еще моложе Акима. У обоих на руках были родные, матери, братья, сестры, которых нужно было содержать и вывести в люди.
Слезкину было под тридцать. Он был сыном крепостного и имел базарную лавчонку, в которой торговал подошвами и сапожным прикладом.
Все трое были самоучки, никто их не пропагандировал. Они сами обдумали свои идеи и пришли к нам со стороны, как равные к равным. Были они пылкие и готовые на яркий подвиг или на темную муку. Подвига жизнь не успела дать, а мука явилась. И стала мука подвигом.
Откуда брались эти светлые, свежие и чистые юноши и девушки? Кто их знает. Они рождались сами собой, выходили из почвы, как новые побеги того же благородного корня. В то время в революционных кругах совершались рядом два противоположных процесса. Центр быстро погибал, периферия медленно росла. Прежние руководители исчезли. Другие не успевали развернуться и погибали на корню. На самое ответственное место попадали случайные люди, азартные игроки и даже провокаторы, как Дегаев. И все рушилось. В то же самое время по разным провинциальным захолустьям — в Новочеркасске и Екатеринодаре, в Таганроге и Оренбурге, в Минске и в Уфе — расцветали местные кружки, как дикие полевые цветы. Они были такие наивные, бесстрашные, на все готовые. Но они не знали, что делать и куда итти, и все ожидали приказа сверху. Верха уже не было. Гибель центра стала разгромом и маразмом. Она привела интеллигенцию к самоубийству и «непротивлению», в культурные скиты и на маленькие дела.
Но местные кружки ширились и разрастались и мало-по-малу сплелись в подпочвенный слой, на котором через двадцать лет выросла освободительная волна. Так в природе не пропадает никакой посев, даже брошенный наобум или пущенный на ветер. Ветер несет зерно и наконец роняет на землю. Оно вырастает поодаль, но колос у него такой же крепкий и золотистый.
Кажется, в настоящее время повторяется то же самое в огромных размерах. Интеллигенция, которая стояла в центре освободительного движения, сильно пострадала от разгрома. И, говоря откровенно, она не знает, что делать и куда обратиться. Но в широких народных кругах растет сознательность. Там создается уже не тонкий слой, как прежде, а целый новый пласт, во всю толщу до самого дна. И новая волна, которая в один нежданный день всплеснет над этим дном, будет высоким и пенистым валом.
Аким был хмурого нрава, говорил он мало, но язык был у него едкий, и многие боялись его спокойных замечаний. В сущности говоря, ему было тесно даже в типографии. Потом в тюрьме стало еще теснее. Впрочем, в тюрьме он прозябал недолго. Жить было нечем и незачем. Тогда он умер.
Надежда Малаксианова была родом гречанка. Она была нервная, порывистая. Вся звенела и трепетала, как молодая птица на лету. Она была, как юная душа нашего братского кружка.
Смерть ее была страшнее всех смертей и казней, которые совершались когда-либо над нашими политическими пленниками. Она умерла на Каре, под розгами, а разгар карийского протеста.
Оба они были моими друзьями. Теперь, когда я вспоминаю эти две яркие фигуры, мне становится больно. Отчего все молодое и пылкое не может жить долго? Если не бережет себя, то погибает раньше времени. А если уцелеет и остынет, то станет такое тусклое, в морщинах. И часто думаешь: лучше бы оно погибло, пока было молодо.
В сущности говоря, зачем нам нужна была вторая типография, я и теперь не знаю. Денег у нас не было, и печатать было нечего. Мы отдали таганрожцам очередной номер газеты «Народная Воля». Номер был толстый, двойной, 11-й — 12-й. Но они не отставали и требовали новой работы. Тогда мы придумали напечатать сборник стихов. Еще не докончив сборника, типография провалилась, и весь он достался в руки начальства. Из-за этих стихов Надежда Малаксианова принесла себя в жертву. Если бы я писал историю русской поэзии, я посвятил бы этому жертвоприношению хоть несколько строк.
А между тем, чтобы устроить эту вторую типографию, Оржиху пришлось преодолеть много препятствий. Акима и Надежду нужно было женить. Оба мало думали о любви и еще меньше о женитьбе, но колебаться не стали. После женитьбы они заняли отдельный домик в предместьи Новостроенке и стали свозить шрифт, унаследованный от прошлого, и устраивать ручной станок. Нужно было поместить в этом доме еще двух женщин: одну — жилицу, а другую — горничную. В то время женщин, готовых «на дело», было меньше, чем мужчин. Помню, как трудно было мне через полгода после этого найти хозяйку для тульской типографии.
Жилицу Оржих нашел в Одессе. Это была Екатерина Тринидатская. Ей было за тридцать. Мужа ее в Одессе знали под кличкой «Федосеич» и очень любили.
Это тоже была замечательная чета. «Федосеич» был раньше земским деятелем, мировым судьей, кажется, даже с чином статского советника. Он пробовал заниматься культурной работой, но жизнь извергала его, как вода извергает масло. Тринидатские претерпели целый ряд гонений и приехали в Одессу «отдыхать». Однако, когда явился Оржих и заговорил о типографии, Тринидатская не колебалась ни минуты: «Надо итти на работу!» У «Федосеича» были дурные предчувствия, но она утешала его: «Через два месяца я вернусь!» Они были бездетны и нежно любили друг друга. Через месяц Тринидатскую арестовали вместе с другими и в свое время сослали на каторгу. «Федосеича» тоже арестовали и послали в Сибирь в административную ссылку на четыре года. Тринидатская скоро умерла. «Федосеич» остался жить с неизлечимой душевной раной. Мне говорили, что он жив до сей поры, обитает где-то на Урале, занимается ручным трудом.
В горничные Оржих поставил свою невесту, Устинью Федорову. По паспорту она звалась Наташей, и это имя за нею осталось. Вот и еще одна яркая фигура типографского кружка, кажется, самая оригинальная изо всех. Наташа, или Устя, была из простого звания, дочь кузнеца и прачки. Вся семья, кроме отца, была революционная. Зять и сестра уже были в Сибири. Мать тоже перешла в новую веру, «поверсталась в социалисты», по ее собственному выражению, и помогала этим социалистам, чем могла. В последний раз, когда я был в Одессе, она передала со мною поклон дочери и три рубля. Деньги были жертвованные. Они были собраны среди одесских прачек по пятаку и гривеннику и предназначались на литературу. Между прочим, сколько помню, и сама сборщица и все жертвовательницы были безграмотны. Устя тоже в деле грамоты ушла не очень далеко. До типографии она пробовала учиться, но в типографии было слишком много работы. Впрочем, в то время Устя мало думала о книжках. Она была огневая, непоседливая, как ртуть. Всякая работа горела у нее под руками. Смешлива она была необыкновенно. Сама заливается и других вводит в грех, даже когда по условиям дела полагается молчать и священнодействовать.
Дальнейшая судьба Усти тоже сложилась своеобразно. Когда полиция явилась в типографию, Устя разыграла из себя ничего не понимающую служанку, ушла в кухню и выпрыгнула в окно, в чем была, без пальто и платка. Был январь, на дворе стояла стужа, ей пришлось до утра прятаться по пустырям, и она жестоко простудилась. Последствия этой простуды потом тяжело сказались, но в то время свобода была дороже здоровья. К утру Устя разыскала друзей, и ее укрыли. Она была в безопасности, но Оржих оставил ей инструкцию: если что случится, ехать в Новочеркасск, на нашу главную квартиру. Несмотря на все уговоры, она пошла на вокзал, и на второй станции ее арестовали… После того наряду с другими она просидела два года в крепости.
В то время библиотека в крепости была очень жалкая, но в одном отношении эти разрозненные книги были полезны. При их посредстве заключенные вели переписку, вытирая в разных местах соответственные буквы. Жандармы злились, жгли книги и вырывали из них листы, но вырвать все было невозможно. И, в сущности, каждая книга была в роде старинных палимпсестов: два разных содержания, одно поверх другого. Помню, в одном томе я нашел стихотворение Якубовича, которое так больно ударило по нервам:
О здравствуй, гроб, и вместе храм, И колыбель родной свободы!Дальше стояла запись, короткая, как крик:
«Братья, Дегаев предатель, будь он проклят».
И еще дальше:
«„Сегодня приговорен к смертной казни“. Прощайте, товарищи. Конашевич».
Оржих и Устя вели оживленную переписку, и мне часто попадался на глаза тот или другой отрывок. Оржих посылал свои стихи, они хромали размером, но были очень искренни. Оржих умирал от чахотки, и на душе у него было тяжело. Стихи, должно быть, облегчали. А впрочем, он умирал, но не умер, и попал в Шлиссельбург, а из Шлиссельбурга, через тринадцать лет, во Владивосток и наконец в прошлом году — из Владивостока в Нагасаки. Теперь он издает в Нагасаках газету «Воля» на русском языке.
Кроме стихов Оржих писал о бомбах. В таганрогской типографии нашли три бомбы. Оржиха мучили эти бомбы, и он хотел во что бы то ни стало снять их с других и принять на себя. По этому поводу он выписывал в разных книгах для Усти и для других типографщиков подробные советы относительно показаний на суде.
Начальство, впрочем, оказалось беспристрастнее Оржиха. За эти три бомбы оно судило таганрогских типографщиков отдельно, а Оржиха отдельно, и приговорило подсудимых к смертной казни в обоих случаях.
Каждое ответное письмо Усти начиналось: «Бер, родной!» Оржиха звали Борисом, даже по паспорту, но Устя любила называть его Бером.
Помню еще такую переписку, краткую и выразительную:
Первое письмо: «Можно перестукиваться шагами. Слышно далеко. Оржих».
Второе письмо: «Бер, родной! Я пробовала, и они у меня отняли башмаки. Устя».
Таганрогских типографщиков, однако, не казнили, а послали на каторгу. С дороги Устя бежала, и на этот раз удачно. Через три месяца она очутилась в Париже. Почти сразу она попала в положение, быть может, хуже каторги. Денег у нее не было, языка она не знала, и в виде заработка ей был доступен только грубый черный труд. Но хотя ей было всего двадцать лет, здоровье уже было не то, что прежде. Ей пришлось голодать сплошь, годами. Однажды она упала от голода в обморок на паперти женского монастыря. Почти с отчаяния она начала учиться, но наука входила в ее голову с трудом, вершок за вершком. Пришлось начать с азбуки, учиться одновременно правилам о букве ять и французскому языку по-русски, и наукам по-французски. Чтобы все это преодолеть, после крепости и каторги, нужна была воля твердая, как железо.
В 1899 году я тоже попал в Париж и там встретился с Устей через четырнадцать лет после Таганрога. Она кончила медицинский факультет в Сорбонне. Средства к жизни она зарабатывала массажем и могла существовать в ожидании лучшего. Она говорила по-французски охотнее, чем по-русски, и в русскую речь поминутно вставляла целые французские фразы. Ее одежда и жесты и даже выражение лица — все было офранцужено. И нрав у Усти стал другой. Прежняя беззаботная хохотунья стала суровой, нахмуренной. Встреча наша была сердечная, но о прошлом мы говорили мало. Очень уж оно было далеко, и с этой парижской rue d'Estrapade оно казалось каким-то странным сном.
Они до сих пор вели с Оржихом дружескую переписку, но личная жизнь Усти устроилась отдельно от Оржиха. При расставании Устя попросила меня написать ей что-нибудь на память. Я написал стихи и адресовал их Наташе; той Наташе, которая была когда-то работницей и наборщицей в таганрогской типографии.
Устя осталась в Париже, а я отправился на запад, проехал Америку, потом перерезал океан и очутился на Дальнем Востоке. Устя кончила Сорбонну, получила диплом и сделалась m-me de Fedoroff, docteure de medicine. Свою русскую фамилию она все-таки не захотела изменить.
Через два года я опять был в Париже и разыскал ее. Она жила на place d'Etoile, взяла приличную квартиру и обстановку в кредит и каторжным трудом пробивала себе дорогу. Дело было зимой, в квартире было холодно, хуже, чем в Сибири. M-me de Fedoroff, docteur de medicine, вставала в шесть часов утра, убирала квартиру, приводила все в порядок, потом переодевалась и принималась ожидать пациентов. Пока пациентов было мало, но они понемногу прибавлялись. Приходили все больше дамы-иностранки, из Бразилии и Вест-Индии, из Пондишери и с Филиппинских островов; всех цветов: белые, смуглые, желтые, бронзовые, коричневые; всех религий: католички, магометанки, браминки и язычницы; всех языков, вплоть до негритянского. В международном Париже много таких иностранок. Они ютятся в квартале вокруг place d'Etoile. Квартира Усти представляла для их уловления прекрасную стратегическую позицию. Устя имела еще более офранцуженный вид, говорила о клинике и о своей самостоятельности, о врачах-товарищах и врачах-соперниках. С тех пор мы больше не видались. Теперь, когда я вспоминаю о ней, мне представляется что-то твердое, железное, несокрушимое. Я убежден, что она проложит себе дорогу, несмотря на всех соперников.
На Дальнем Востоке я попал во Владивосток и остановился в доме у Оржиха. Приезд мой, как нарочно, совпал с его женитьбой. Он женился на фельдшерице, приезжей из Петербурга.
Женитьба в зрелом возрасте молодит человека. Оржих тоже переживал новую молодость. Но я смотрел на него, вспоминал Устю и думал: судьба сильнее людей, она играет всем без разбора, слабыми и крепкими. Сильный человек думает бороться с судьбой, а потом склоняется перед ней и покорно принимает из ее рук минуту радости.
Оржих за эти годы тоже пережил многое. Судили его одного, отдельно от типографщиков. Это был процесс вроде щедринского суда третьей степени над больным пискарем. Оржиха внесли на носилках. Врач сказал, что он может умереть на суде. По обе стороны носилок стояли два фельдшера. Один щупал подсудимому пульс, другой подносил ему ко рту пузырь с кислородом. Когда очередь дошла до последнего слова подсудимого, Оржих приподнялся с трудом и сказал несколько фраз, коротких и резких. Судьи не думали останавливать его. Необычайный вид подсудимого подействовал и на них.
— Успокойтесь, — повторял председатель. — Не надо волноваться.
Доктор однако ошибся. Я говорил уже, что Оржих не умер и вместо гроба оказался в Шлиссельбурге…
После Шлиссельбурга Оржих попал в Амурскую область, сперва в Никольск-Уссурийск, и сразу ожил, стал служить при железной дороге, много ездил верхом, охотился. Здоровье его окрепло, хандра прошла. Через год он был во Владивостоке и занялся в одно и то же время самыми разнообразными делами. В Шлиссельбурге, как известно, узники увлекались ботаникой и разводили цветы. Опираясь на шлисельбургский опыт, Оржих быстро развил крупное цветоводство, построил оранжерею, насадил зимний сад, выписывал растения из Японии, брал поставку живых цветов на русскую эскадру во время праздников. Потом стал устраивать большую ферму, построил красивый дом на так называемом Орлином гнезде, наверху крутого под’ема, и в заключение женился. И все это в каких-нибудь полтора года. Я шутя предсказывал, что он будет городским головой. Но вышло иначе. Кроме зимнего сада, Оржих основал газету, участвовал в устройстве книжного склада. Потом пришла освободительная буря, которая упала, как циклон, на этот дальний город. Она вырвала Оржиха из оранжереи и перебросила в Японию.
Таковы были люди, которые работали в таганрогской типографии.
Жилось в типографии весело. Наша типография в Новочеркасске была мужская, а таганрогская — дамская. На нашей холостой квартире было довольно скучно, и — нечего греха таить — когда являлась оказия с’ездить в Таганрог «по партийным делам», каждый из нас старался быть первым. Мы, впрочем, стали разыгрывать оказию по жребию на узелки. Приезжали мы с ночным поездом для большей безопасности. Особенно мне приходилось прятаться, ибо я вырос в Таганроге, и меня все знали. И кроме того, типографский народ собирался только к вечеру. Днем Аким был в суде, Надя в школе, Слезкин в лавке.
Пройдешь, бывало, глухими переулками. Никого на улице нет, даже собаки не лают. Подойдешь к воротам, лампа светится в окне. Зайдешь с заднего крыльца, стукнешь в двери три раза с расстановкою, как условлено.
В задней комнате уже идет работа. Надя батырит, намазывает краску, Устя накладывает бумагу, Аким прокатывает. Станки наши были самые первобытные, дочти детские. Мы накладывали бумагу просто на глазомер и прокатывали вал вручную, без рельсов. Наверное, еще у Гутенберга первый печатный станок был все-таки лучше. Дамы встречали нас радушно, но работы не прерывали и нередко заставляли гостя варить ужин.
Помню, раз на мою долю выпало состряпать тушеное мясо. Я положил в котелок мясо, картофель, лук, но забыл налить воды, и в конце концов все обратилось в уголь. Компания поужинала хлебом с маслом и чаем, а мне в виде наказания не дали ничего.
Типографские дамы вообще любили посмеяться над приходящими. Они давали им клички. Слезкина прозвали «Благоразумием», а Захару Когану, который щеголял в английском соломенном шлеме с двумя козырьками, они дали имя «Здравствуй и Прощай». Мы со своей стороны направляли свои стрелы по адресу молодоженов. Оба они были очень застенчивы, и им стоило большого труда сразу перейти на «ты» после фиктивной свободы. Однако, под влиянием совместной жизни и общей опасности, призрачный брак стал принимать яркие и радужные оттенки. Так часто бывает в тайной типографии и на конспиративной квартире: как будто в осажденной крепости или на острове после кораблекрушения. Было совестно и трогательно наблюдать за развитием нежного чувства между молодыми супругами. Они стеснялись друг друга, стеснялись нас и даже самых стен. Этот нежданный цветок не успел расцвести в жуткой подпольной атмосфере. Аким и Надя не сделались мужем и женой, они остались женихом и невестой вплоть до своего провала.
Провал наступил через полтора месяца после открытия типографии. Кто провалил типографию, я до сих пор наверное не знаю. Участники старались соблюдать величайшую осторожность, никуда не ходили, ни с кем не встречались.
Кажется, вышло несчастное стечение обстоятельств.
За несколько месяцев до того в Ростове-на-Дону был арестован Антон Остроумов. Его указал Элько, бывший нелегальный, а потом предатель. Остроумов, подражая Элько, тоже указывал, кого знал. Он был знаком с Акимом Сигидой еще до открытия типографии и, кажется, в числе прочих назвал и его имя.
Начальство ничего не подозревало, но на всякий случай решило сделать обыск. Искали весьма поверхностно, но типографию все же нашли и всех арестовали. Месяца через два совсем случайно нашли под фундаментом дома три бомбы. Всех арестованных перевезли в Петербург в Петропавловскую крепость.
Оржиха арестовали через месяц после таганрогского провала, в Екатеринославе. При аресте он стрелял, но никого не ранил.
В Харькове арестовали Тиличеева, в Одессе — Штернберга и Кроля, в Петербурге — Гаусмана, в Дерпте — Когана-Бернштейна. Арестов было много. Новая организация погибла почти в самом начале.
Мне пора, однако, вернуться к Игнату Слезкину. Как сказано выше, он торговал на базаре сапожным товаром. Выручка была грошовая, и вдобавок мы иногда забирали ее из конторки и обращали на революцию.
Слезкин ходил в высоких сапогах и короткой шубке, зимою отогревался сбитнем, летом лущил семечки и играл шашки с соседями. Он славился как шашечный игрок по всему Новому базару. Он давал противнику шесть ходов вперед и в конце концов устраивал ему шесть темниц, которые в обиходе игры носят такое неблагозвучное имя.
Речь и все ухватки были у него простонародные. Однако он научился самоучкой французскому языку, основательно изучил «Капитал» Маркса (конечно, первый том), что в то время ценилось не меньше, чем потом, в социал-демократическую эпоху.
Игнат управлял всеми таганрогскими делами. Он был очень осторожен и умел прятать концы. При устройстве таганрогской типографии он сначала был в оппозиции, потом махнул рукой и принял на себя сношения типографии с внешним миром, тем более что Аким вытянул во время осеннего призыва неблагоприятный номер и должен был надеть солдатский мундир. Раньше об этом никто не хотел подумать. Теперь начались хлопоты об избавлении Акима от службы. В ожидания результатов Акиму приходилось больше сидеть дома и никуда не показываться.
Слезкин посещал типографию обыкновенно по вечерам. Уберет свои кожи, запрет лавку висячим замком и идет на Новостроенку.
Было условлено, что типографщики должны в одном из окон выставлять лампу в знак того, что все обстоит благополучно. Увидев этот знак, Игнат подходил к воротам, поднимал щеколду у калитки и шел через двор.
Во время провала типографии с Игнатом Слезкиным разыгралась совершенно невероятная история. Несколько месяцев тому назад он был у меня в Петербурге, и мы опять вспоминали подробности этого удивительного эпизода.
— Дело было в январский день, — рассказывал Слезкин. — Стоял лютый холод. Я замерз в лавке, как собака. Потом кончил торговлю, повесил замок и пошел в типографию. По дороге купил связку бубликов (баранок) к чаю. Было уже темно. На мне были валенки и треух. Снизу шубейка моя, а сверху тулуп. И пояс завязан. Подошел я к типографии. Вижу — в окне темно. Думаю: видно, Устя опять забыла лампу выставить. А в голову ничего не пришло. Очень уж тихо было кругом. Я постоял перед воротами, потом взялся за щеколду, хочу калитку открыть и слышу, держит что-то, не пускает открыть, и как будто живое. Только хотел еще нажать, вдруг отворилась калитка, и вышел городовой. Даже не вышел, а вывалился вон. Кажется, он спал, опираясь на калитку, а я его разбудил. «Не велено пущать!» Я подобрал полы и прочь от ворот. Думаю: пропади наши люди! Сейчас и меня заберут вслед за ними. Однако, не забрали…
Наутро начальство узнало о ночном пришельце, стало раскидывать умом и постепенно добралось до Слезкина.
Дней через пять его позвали в жандармское управление для допроса. Но Слезкин сыграл на своих смазных сапогах и простонародном виде, и притом весьма удачно.
— Садитесь, господин Слезкин!
— Мы постоим!
Это «постоим» избавило Слезкина от опасности. Впрочем, господа изыскатели не сразу отказались от Слезкина. К лавке его приставили шпиона, к соблазну всех базарных торговок и разносчиков.
Обыски у него делали чуть не каждую неделю. Раза два даже в тюрьму сажали на месяц или на два. Но все эти меры окончились ничем. «Мы постоим» вывозило, и в конце концов жандармы отступились от Слезкина.
Если припомнить, что всех типографщиков приговорили к смертной казни, невзирая на их несовершеннолетие, то следует поистине признать, что Слезкину повезло. Он был старше других, и Шемякин суд, конечно, отнесся бы к нему без всякого снисхождения. Но волею судьбы Игнат остался цел и при первой возможности уехал из Таганрога.
Я видел его минувшей зимою, с лишком через двадцать лет после нашей последней встречи. Он живет в Казани, стал купцом, женился, имеет детей. И теперь он далек от политической работы, хотя его сочувствие направляется в ту же сторону, что и прежде.
Мы вспоминали с ним мертвых друзей, поговорили о настоящем, потом разошлись в разные стороны.
Было еще несколько членов того кружка, к которому принадлежали Аким и Надя. Из них иные были арестованы, попали в Сибирь и на всю жизнь вышли из обычной колеи. Другие остались невредимы и за эти двадцать лет успели сильно подвинуться вверх по житейской лестнице. Мелкий приказчик стал зажиточным купцом, молодая акушерка сделалась женщиной-врачом, писец стал бухгалтером в банке, бывший семинарист, промышлявший дешевыми уроками, стал инспектором народных училищ, и т. д.
Все эти люди были даровитее обычного уровня. У них было больше воли и настойчивости. Кроме того, по общему закону мелких сект и небольших общественных групп, они держались вместе и помогали друг другу. Наконец политический арест в глазах многих был своего рода рекомендацией. «Это политический, этот, наверное, не украдет», говорили даже купцы из старозаветных.
И после первых мытарств достать место и кредит было легче.
С тех пор прошло лет двадцать, и началась новая эпоха. И снова льется кровь, и гибнут люди. Много их теперь, целые толпы. Среди всех ужасов текущего времени им легче жить и легче бороться.
В толпе с другими легче даже гибнуть. В будущем пред ними больше просвета и больше надежды. И в прошлом двери тюрьмы уже один раз широко открывались. В то время, о котором я пишу, арест был, как смерть, а тюрьма была, как львиная пещера. Все следы вели только туда, и ни один не вел обратно.
Разгром
Таганрогский провал отозвался и у нас в Черкасске. Чье-то письмо перехватили. Кого-то арестовали, кто был знаком с нашим хозяином. Наш хозяин был человек, еще ни разу не видавший жандармов, и ему стало страшно. Он не говорил нам ничего, но по ночам ему не спалось. Он лежал и все прислушивался к шуму за воротами. Нам тоже было не по себе, ибо мы не знали, откуда идет провал. Неведомая опасность хуже всего на свете. Через два дня мы решили ликвидировать типографию и уехать в Екатеринослав.
Екатеринослав с самого начала был центром нашей организации. Там имел место наш первый с’езд. Мы надеялись и теперь найти там товарищей или, по крайней мере, верные вести о них. Оржиха в это время в Черкасске не было, хотя Устя этого не знала. Нас было трое — Коган, я и еще третий, наборщик Антон.
Мы разобрали станок, изломали кассы. Жалко было их ломать — мы их делали с таким старанием. Один чемодан набили свежими номерами «Народной Воли», которые мы успели во-время вывезти из Таганрога, другой — новыми брошюрами нашего собственного изделия. Самая большая наша драгоценность был шрифт. Мы закопали его в землю, как когда-то беглые люди закапывали червонцы, и уехали из Черкасска. Антон вернулся в Одессу, на свой завод. Мы с Коганом, чтобы миновать Таганрог, поехали кружным путем на Зверево и по донецким линиям. Помню, что поезда были, по русской системе, так искусно пригнаны один к другому, что в одном месте нам пришлось ожидать двадцать три с половиной часа следующего поезда, — очередной поезд ушел по расписанию за полчаса до нашего приезда.
С Лозовой Коган свернул на юг. Я поехал в Екатеринослав один на разведки. Мы условились, что если все благополучно, то я вызову туда Когана телеграммой.
В Екатеринославе я нашел Оржиха. На него было страшно смотреть. Черный, сухой, с воспаленными глазами, в широком пальто с чужого плеча. Увы, у нас нехватало денег, чтобы покупать себе пальто прямо из лавки!
Меня ужасно злило, что у нас не стало типографии. То были две, а теперь ни одной. Но Оржих даже не отвечал на такие речи. Он перестал думать о типографии, а думал о мести. Он строил проекты самые дерзкие, экстравагантные. Скоро и я от него заразился тем же. Кажется, только эти несколько дней в нас жило истинно-революционное чувство.
Помню, по ночам я долго не мог заснуть, все думал о нашем бессилии и о силе врага. Иногда, с отчаяния, я принимался мечтать на странные темы. Если бы я имел силу, сейчас бы уничтожил царя Николая, и рука бы не дрогнула. Над моей постелью был вделан в потолок крюк для лампы, и я говорил себе: «Если бы моя сила, я перекинул бы веревку через этот крюк. Поставил бы кресло и посадил бы ненавистного царя, надел бы ему веревку на шею и потянул бы через крюк тихонько, не торопясь. Сам сел бы за стол, чай стал бы пить и в глаза ему смотреть. — „Ну-ка, поговорим! Долго ты будешь нашу кровь пить? — и потянул бы за веревку. — Что, нравится?.. Скажи, дай ответ!..“»
Кроме Оржиха, из нашего центрального кружка в Екатеринославе жила Настасья Наумовна Шехтер. Вместе с нею в одной квартире жила Вера Гассох. Других не было. Мы разослали письма в Харьков и Одессу, приглашая товарищей приехать и обсудить положение вместе с нами. Организация погибала, ее нужно было спасать.
Я все-таки не переставал думать о типографии. Свои чемоданы с литературой я увез в подгородную деревню, где у нас было знакомство и квартира. Там, при посредстве «летучки», я припечатал сапожной щеткой на своих брошюрах извещение: «Такого-то числа арестована в Таганроге типография, а в ней такие-то лица». В сущности говоря, это было извещение orbiі et urbi[26], то есть жандармам и публике: «Не думайте, господа!.. У нас еще есть одна типография».
В то же самое время, о согласия Оржиха, я известил Когана и Антона, приглашая их явиться в Екатеринослав. Нам нужно было устроить что-нибудь получше сапожной щетки.
Написав письма, мы стали ждать. Прошел день и два, на третий день к вечеру пришли два письма, — одно из Одессы, другое из Харькова. Мы «проявили» одесское письмо нашим пахучим составом, потом стали его расшифровывать. Шифр был страшно спутан: прсст. Уже это одно было зловещим признаком. Письмо, очевидно, писали небрежно, впопыхах. Наконец, при помощи передвижного ключа, я начал расшифровывать как следует: ар; аре; арес; арест… Я выронил письмо из рук. Впрочем, вечером мы прочли оба письма. Они говорили об арестах. Приехать было некому.
В эту ночь мы трое долго ходили по улице, — Оржих, Настасья Наумовна и я — и все не решались расстаться. На нас надвигалось из бездны близкое будущее. Оно было черное, как яма, и тяжелое, как кошмар.
Мы почти осязали его и невольно жались в кучку и не хотели расходиться.
Разговоры наши были жуткие. Мы говорили об аресте, о Петропавловской крепости, о будущих допросах, о возможности тайной переписки. И о себе мы говорили, как о покойниках. Потом мы разошлись. Настасья Наумовна вернулась на свою квартиру, Оржих пошел ночевать к Михаилу Полякову, а я — к другому молодому человеку, назовем его хотя бы Дмитрием Ребровым. Он, кажется, так и не был арестован.
У Реброва была только одна кровать. Мы пробовали уступать ее один другому, а кончили тем, что стащили тюфяк и одеяло на пол и улеглись рядом. Я устал за день и, против обыкновения, сейчас же заснул.
Спал я долго и крепко, потом внезапно почувствовал, что в комнате есть кто-то посторонний, и быстро проснулся. Было утро, в комнате было светло. В дверях стояла молодая незнакомая барышня и говорила:
— Не пугайтесь… Ночью арестовали Оржиха и Маленького. Оржих стрелял.
«Маленький» была кличка Михаила Полякова. Наше вчерашнее предчувствие начало осуществляться.
Я вскочил и оделся, потом сел думать, но мысли не приходили. Оржиха арестовали, Настасью Наумовну тоже арестуют. Я один. Еще недавно у нас был целый дружный круг. Мы решали дела сообща. Теперь я один и не знаю, что делать. Сегодня днем должны явиться Антон и Коган, но явка тоже провалилась. Надо их предупредить, чтобы они не попали в засаду. В шести верстах в деревне лежит «литература», последнее достояние и наследство нашего общества. Надо ее выручить и увезти. Куда — не знаю. На север везти, ибо на юге уже никого не осталось. А на севере я никого не знаю. Со времен студенчества я не был на севере ни разу. Знаю адреса — но кто там цел и кого забрали? О, зачем я остался на воле? Лучше бы меня тоже арестовали вместе с другими!..
Время шло. Надо было думать скорее, куда-то итти, спасать что можно.
Я ничего не сказал Реброву, но мое чувство передалось ему без слов. Он махнул рукой и сказал:
— Эх, хоть бы и нас арестовали вместе!
После того на досуге я часто вспоминал об этих трудных днях и все прикидывал. Если бы меня арестовали вместе с Оржихом, я попал бы на суд и угодил бы на каторгу. Или, быть может, меня послали бы в Якутск, годом раньше, вместе с друзьями моими, с Гаусманом, Фундаминским и Михаилом Гоцом, с Настасьей Шехтер и Коганом-Бернштейном. И тогда я угодил бы в якутскую историю, и судьба моя была бы как судьба Гаусмана и Когана-Бернштейна.
А теперь вышло так, что их кости давно сгнили в земле, а я вот жив и даже пережил «освободительную» эпоху. Мне сорок два года от роду, и мне кажется иногда, что я прожил века Мафусаиловы, целых три человеческих жизни, одну за другой…
Поляков жил в комнате у одного мещанина. Я бывал у него каждый день, и хозяин хорошо знал меня в лицо. Надо было хоть немного изменить свою наружность.
Я зашел в цырюльню и сбрил бороду, потом купил на базаре высокие сапоги, чамарку, пояс, картуз и нарядился мелким торговцем. Думаю, впрочем, что я был больше похож не на торговца, а на чучело.
Прежде всего надо было узнать о Настасье Наумовне. Я отыскал одну нейтральную барышню и послал ее на разведки с запиской. Настасья Наумовна ожидала ареста с минуты на минуту. Но она ответила мне, что не хочет стать нелегальной и предпочитает провалиться. У меня не хватило духу возражать на это унылое решение. Месяцем ранее Игнат Слезкин тоже наотрез отказался стать нелегальным и предпочел отправиться к жандармам на допрос. Время тогда было особенно тяжелое для нелегальных. Иные, поскитавшись с полгода или с год, сами являлись к начальству с просьбой об аресте. Как раз в то время бежал из Сибири Иваницкий. Он явился к нам, посмотрел на наши дела и отошел в сторону. Месяца через четыре он явился для ареста к московским жандармам. Его послали на старое место доканчивать срок. Он докончил срок, вернулся на родину и потом стал земским гласным и видным местным деятелем, освобожденцем и кадетом.
В недавние дни он был депутатом первой Думы, подписал выборгское воззвание и теперь находится под судом.
Целый день я проходил по городу. После ареста Оржиха начальство всполошилось.
Надо было ловить остальных злоумышленников и для этой цели разослать шпионов по городу, но шпионов в городе было мало. К ним на подмогу разослали переодетых жандармов. Одного из них я знал в лицо. Это был высокий, рыжий, хорошо упитанный мужчина, похожий на красного кота, который вышел на мышиную ловлю. Я встретил его раза два на улице и тотчас же узнал. Надо было держать ухо востро.
Хуже всего было то, что я не знал, в котором часу приедут Коган и Антон, и мне приходилось почти к каждому поезду являться на вокзал и рассматривать публику.
Я был на вокзале четыре раза, и с каждым разом у меня становилось все тяжелее на душе.
«Всех забрали, и этих заберут, и ничего не поделаешь».
Мне самому тоже мерещился арест.
Каждый раз, когда я выходил на улицу, мне казалось, что за мной крадутся шпионы, кто-то заходит сзади и сбоку, из переулка.
Я торопливо брал извозчика, уезжал на другой конец города, нырял в сквозные дворы и в разные узкие проходы. Потом вспоминал: к чему все это? Пусть заберут, чорт с ними! И из какого-нибудь глухого закоулка опять отправлялся на вокзал.
Страшные были часы, не желаю таких пережить никому.
Что-то сломилось в душе и потом понемногу срослось, но уже не попрежнему.
Антон прибыл только на следующий день и чуть не попал в засаду. Коган приехал вечером, но в избытке предосторожности слез с поезда на ближайшей станции и дошел до города пешком. Оттого я его и не мог встретить на вокзале. В городе он тоже угодил на квартиру, уже известную полиции. Впрочем, оба они благополучно выбрались из тисков и остались целы без моего участия.
Итти в пятый раз на вокзал было слишком страшно. Кроме того, время уходило, и надо было спасать последнее достояние. Я нанял подводу и поехал в знакомую деревню.
Там я забрал свои чемоданы с «Народной Волей» и, чтобы не возвращаться в Екатеринослав, поехал обходом по проселочной дороге на станцию Никополь.
Распутица уже началась. Раза два мои чемоданы падали в грязь. Сам я тоже падал.
Добравшись до железной дороги, я направился в Харьков. На станции Синельниково пришлось ожидать часа четыре. И тут я увидел, что переодетые шпионы вовсе не есть создание моего воображения. Группа жандармов в «штатских» внезапно окружила одного пассажира и принялась обыскивать его багаж.
У него тоже были два чемодана с какими-то книжками и картинками.
Он все повторял, что он книгоноша, едет в Изюм торговать книгами.
— Ага, книгами! — хмуро сказал жандармский офицер, руководивший обыском. — Вот мы посмотрим!
Публика стояла кругом и молча смотрела. Ее никто не отгонял. Я тоже стоял вместе с другими.
Мне показалось, что борода книгоноши похожа на ту, которую я недавно сбрил со своего собственного лица.
Во время обыска у одного из «штатских» внезапно свалился на землю плохо приклеенный ус. Публика слегка засмеялась, вежливо, чтобы не обидеть начальства. Он подобрал свой ус, положил в карман и потом продолжал, как ни в чем не бывало, рыться в чужих вещах.
Книгоношу увели вместе с его багажом. Кажется, ему пришлось просидеть довольно долго. По крайней мере через полтора года, когда я уже благополучно сидел в Петропавловской крепости, меня допрашивали: какое отношение имеет к южной организации книжный торговец, арестованный на станции Синельникове?
Жандармы называли его фамилию: сколько помнится — Алексеев.
В Харькове я отыскал Андрея Бражникова, который уцелел от ареста, передал ему часть литературы и получил от него деньги, кажется, рублей полтораста. Один молодой человек получил наследство в тысячу рублей и отдал его «на революцию». Это был первый взнос.
После того я поехал дальше. Мой план был: заезжать по дороге во все большие города — в Курск, Орел, Тулу, потом добраться до Москвы и разыскать там кого можно, чтобы вместе заложить новую организационную ячейку.
В Курске на вокзале я имел довольно странное приключение, которое, впрочем, обошлось благополучно.
Один из своих чемоданов с «Народной Волей» я обыкновенно сдавал в багаж, другой оставлял на хранение у носильщика. Нумеров десять или пятнадцать брал с собой для раздачи. В Курске я сделал то же самое и остановился, как водится, у ссыльных. Они в то время только начинали появляться в русских городах, но местами уже давали опорные пункты для разведения крамолы. Через две ночи я собрался поехать дальше, но курская публика заявила запрос еще на десяток номеров «Народной Воли». Их нужно было достать на вокзале из чемодана. Один из знакомых отправился вместе со мною на вокзал. Я, впрочем, на всякий случай предложил ему итти отдельно. Пуганая ворона и куста боится.
— Если ничего не случится, я подойду к вам на перроне.
Когда я вошел в багажную контору и спросил мой второй чемодан, оставленный у носильщиков, они посмотрели на меня как-то странно. Не успел я обернуться, как рядом со мной вырос жандарм, сухой и необычайно длинный. Потом — другой и третий. Кругом нас сомкнулся полукруг носильщиков и разных служащих и прижал нас к самой стойке. Чемодан мой очутился на стойке перед моими глазами..
«Готово! — подумал я. — Теперь сам попался на месте книгоноши».
Длинный жандарм посмотрел на меня испытующим взором.
— Это ваш чемодан?
Я немного замялся.
— Ну, мой!
— Ваш?
— Да, мой!
— Вправду, ваш?
Я чуть не крикнул: «Господи, да не тяните!»
— Нет, это не ваш чемодан!
Из толпы носильщиков выдвинулся один и стал рассказывать невероятную историю. Он назвался носильщиком из города Харькова и рассказывал:
Три дня тому назад перед вечерним поездом я оставил у него свой чемодан. В то же самое время какой-то приезжий офицер тоже оставил чемодан. Оба чемодана были очень похожи. Носильщик впопыхах перепутал и мне дал офицерский чемодан, а мой дал офицеру. Офицер с моим чемоданом уехал в гостиницу. Но потом оказалось, что его ключ не открывает моего чемодана. Тогда офицер вернулся на вокзал и стал обвинять носильщики в подмене и краже чемодана. Носильщика хотели арестовать, но он отпросился для поисков и поехал мне вдогонку. По багажной квитанции он узнал, что я еду в Курск. В Курске он обходил все гостиницы, но нигде не мог меня найти; теперь, наконец, дождался.
С первого раза я счел этот рассказ неискусной выдумкой. Потом посмотрел внимательно на носильщика и на чемодан, но не мог ничего узнать. У носильщика была бляха с буквами К. X. Ж., но и у местных носильщиков были точно такие же бляхи. Чемодан был серый, холщевый, очень грязный и обвязанный веревкой. Мой, или не мой? Я купил свои чемоданы в Черкасске перед от’ездом и мало понимал их приметы. Чорт его знает! Каждый год выделываются тысячи точно таких же чемоданов. Пойди, узнай…
— Я сейчас достану ключ!
Я сунул руку в карман и сделал вид, что никак не могу отыскать ключа.
— Мои ключи у брата. Я пойду их сейчас принесу.
Отпустят меня, или не отпустят? Если не лгут, то должны отпустить… Да, отпустили, и никто не идет сзади. Я вышел из конторы и зашагал по перрону. Знакомый мой было устремился мне навстречу, но увидел мое лицо и тотчас же стушевался. Он, очевидно, понял, что не все благополучно. Я выбрался за ворота, пошел по улице и стал думать.
Что теперь делать, выручать или бросить? И как выручить? Без обыска не обойдется. А я совсем запутался и не знаю, где мой чемодан, а где чужой. Знаю только одно: в моем чемодане на самом виду зияют крупные заголовки: «Народная Воля», полуприкрытые холстиной. Только начальство раскроет, тут и капут.
А ежели бросить, то куда я пойду? И что есть у меня кроме этих чемоданов? Все провалилось и погибло, только остались эта черные заголовки… Если их бросить начальству, — это измена. Нет, лучше провалиться, защищая последнее. Пусть заберут и меня на придачу. С пустыми руками, один, я тоже немного стою.
Через пять минут я был опять в конторе и пробовал свой ключ над сомнительным чемоданом. Замок отпирался, но плохо. Теперь мне тоже казалось, что это не мой чемодан. Но заглядывать внутрь у меня не было желания.
— А где же мой чемодан?
— Остался в Харькове, — отвечал носильщик.
— Ах, ты, чорт! — сказал я сердито. — Там тебя арестовали за офицерский чемодан, а здесь за мой.
— Не сердитесь, барин, — тотчас же сдался носильщик, — ваш чемодан на главной станции.
В Курске две станции, главная и городская. Мы находились на городской.
— Ну, поедем!
Мы сели в местный поезд и поехали на главную станцию. Носильщик никак не мог успокоиться.
— Я через вас три дня потерял, — повторял он.
— Почему — через меня?
— А как же, вы торопили меня в Харькове перед поездом.
Я припомнил, что это была правда. Я приехал ко второму звонку и очень торопился.
Я немного подумал, потом достал из кармана бумажник. В бумажнике у меня была довольно толстая пачка мелких кредиток, недавно полученных от Бродяжникова.
Носильщик увидел деньги и сразу растаял.
Я спрятал бумажник обратно.
— Если вправду мой грех, я заплачу тебе пять рублей.
Носильщик стал благодарить.
— А как это будет с чемоданом? — спросил я небрежно.
— А так, что начальство посмотрит. У кого что есть, тому и отдадут.
Я покачал головой.
— Не люблю я с начальством дело иметь.
Тон моего голоса был очень искренний.
Поезд подошел к станции.
— Ну, ты пойди устрой! Я буду сидеть в первом классе. Когда все будет готово, позовешь меня.
Носильщик ушел и минут через десять явился снова.
— Пожалуйте, купец!
Скрепя сердце, я вошел в другую багажную контору. Там была толпа еще больше, чем в первый раз. Жандармский капитан, багажный надсмотрщик, еще какое-то начальство. Жандармы, носильщики. Оба сомнительных чемодана лежали рядом на полу, освобожденные от веревок.
Но теперь я уже ясно различал, который мой, который чужой.
Я встал на колени перед проклятыми чемоданами, достал из кармана ключ.
— Вот мой ключ, вот два чемодана. Слева мой, справа чужой. Вот мой ключ плохо отмыкает правый чемодан, хорошо отмыкает левый чемодан. В левом чемодане два отделения. В одном отделении мое платье, прикрытое рогожкой, в другом — мое белье, прикрытое холстиной.
Я распахнул чемодан, доказал начальству рогожку и холстину, но остерегся показать предполагаемое «платье», потом быстро закрыл чемодан и повернул ключ.
— Носильщик, завяжи!
Помнится, я даже сделал жест, как у плохого фокусника после удачною фокуса.
— Неси в вагон!
Начальство смотрело на всю эту процедуру с равнодушной скукой. Кажется, если бы у меня в чемодане был спрятан автомобиль или военное судно, тоже никто бы не заметил.
В вагоне я отдал носильщику пять рублей.
— Еще пять рублей надо, — сказал он сурово.
Я беспрекословно достал еще одну синюю бумажку.
Не знаю, за кого он меня принял, за шулера или контрабандиста.
Через десять минут я мирно сидел в вагоне, с газетой в руках. Поезд мчался на север. Но читалось мне плохо. Время от времени я тоже протягивал руку и щупал сам себя за колено. Сошло благополучно — и я жив, и чемоданы целы. Значит, еще не все погибло, еще мы поживем на белом свете!
Разгромом южной организации кончается история партии «Народной Воли».
Нужен был еще эпилог. Его создали два последних кружка — московский и петербургский. Это были кружки учащейся молодежи, без «директив из центра», без «руководителя», но, надо отдать им справедливость, они сумели вдохновиться грозными заветами боевого комитета, минуя нашу дряблость, и нашли в себе силу вписать на последнюю страницу героической летописи яркие строки, достойные ее начала. История не захотела, чтобы великая трагедия закончилась вялою прозой, и приберегла для конца два заключительных эпизода, рельефных и внезапных. И вместе с мартовским делом 1887 года, с этим вторым делом 1 Марта, история «Народной Воли» приобрела кругообразность и превратилась в цикл.
В Петербургском кружке я знал немногих. Лучше других помню Александра Ульянова, старшего брата В. И. Ленина. В кружке московском я знал всех. Благодаря Зубатову этот кружок провалился слишком рано и не успел ничего сделать. Но он принес свою горечь и ярость в якутскую пустыню и, в противность прецедентам, дал свою главную битву там, далеко, по ту сторону рубикона, и встретил гибель. И эхо этой гибели прокатилось громче, чем взрывы захваченных бомб, разряжаемых начальством. Ибо в истории, как в природе, ничто не пропадает даром — ни сила, ни материя, ни жуткий трепет гнева, ни одинокая гибель. Все оставляет свой знак и созидает наследство.
Писать о том, что было в Москве до нашего ареста, не входит в мою задачу. Не было ничего яркого. Яркое было потом, в Якутске и в Акатуе.
Но теперь, через двадцать лет, перед глазами моими проходят длинные ряды моих бывших товарищей, и я все задаю себе вопрос: кто же в конце концов проиграл и кто выиграл?
Многие из них умерли рано, но я не говорю о них, ибо они — как листья, облетевшие весною. Мир праху их, они ничего не чувствуют. Я говорю о живых или о тех, кто был жив еще вчера.
На первом плане стоит бледное лицо Михаила Гоца. Ему прострелили грудь в якутской бойне, и он никогда не мог оправиться от раны. Но он дождался своего и вернулся из Якутска и имел редкое удовлетворение отдать свою неистраченную силу на воскрешение старого завета при изменившихся условиях. Что нужды, если тело его умерло потом от медленной муки. Все мы умрем рано или поздно. Никто не уцелеет. Только то уцелеет, во что мы вложили свое душевное творчество.
И на другой стороне стоит фигура… Настоящее имя называть неприятно. Назову его хотя бы Григорий Васильев. Он был из того же круга, что и Гоц, но его во-время выслали на родину, на Кавказ, и оттого он не дошел до Якутска. И мало-по-малу Григорий Васильев перестал быть крайним, потом стал умеренным, сделался чиновником, редактором официозной газеты…
И в 1905 году, когда все бывшие ссыльные и бывшие люди, и даже покойники в гробе, справляли короткий праздник русского «освобождения», Григорий Васильев занимался ожесточенной полемикой с оппозиционными газетами. И они тоже не оставались в долгу.
Чей жребий лучше — даже с личной точки зрения?
Три четверти нашего крута попали в тюрьму и в ссылку, и на каторгу. Но четверть уцелела. Разве им жилось лучше, чем нам? Расскажу две биографии.
Вот мой близкий приятель, назовем его Алексей Починков. Он был такой чистый и честный, слегка болезненный и готовый на всякие жертвы. Но когда нас забрали, он остался на воле. Кончил юридический факультет, женился и попал адвокатом прямо в Баку, в мазут. Бакинская жизнь стала с ним шутить свои нефтяные шутки. Первое выгодное дело, которое ему досталось, был процесс армянина Хачкосова против другого армянина, соседа по нефтяному участку. Хачкосов оплошал и умер. Тогда сосед, недолго думая, собрал ингушей, напал на участок Хачкосова и захватил его, чтобы установить свое право владения. Мой Починков остался единственным попечителем малолетних детей Хачкосова, стал хлопотать по судам. Но ему сказали, что лучше всего отплатить той же монетой, собрать ингушей и отбить участок обратно.
Починков стал упираться. Но знающие люди сказали: «Тогда дети Хачкосова пойдут по миру». Починков хотел отойти в сторону, но вдова Хачкосова плакала и хватала его за руки. И он сказал себе, что отойти в сторону подло. Кончилось тем, что на четвертую ночь конторщик собрал ингушей.
Было очень темно. Дождь лил, как из ведра. Ингуши сели на лошадей. Починкову тоже подвели коня. До этой поры он никогда не садился даже на карусельную лошадь. Теперь его усадили верхом почти насильно и, чтобы он не упал, связали ему ноги под брюхом лошади. В таком виде он стал во главе отряда ингушей и отбил участок.
Потом пошли еще такие же дела, и мало-по-малу в душе Починкова образовались два круга: внутренний, чистый и хрупкий, как стекло, из прежних воспоминаний и сожалений и даже надежд; и наружный, жесткий и крепкий, с черной сажей, с пеплом, с налетом нефти. Оба круга не уживались и боролись друг с другом, и лет через десять в итоге явилась чахотка. Я встретил Починкова в прошлом году в Крыму, в Алуште. Он носит в кармане железный стаканчик и поминутно сплевывает в него кровавую слюну, а потом рассматривает.
Есть ли чему позавидовать в этой жизненной карьере по сю сторону рубикона?
Еще одна биография, несложная и мрачная.
Андрей Филиппов тоже кончил юристом, поступил на службу, стал судебным следователем в Казанской губернии; осенью попал на следствие в глухую татарскую деревушку и заразился оспой. Три недели пролежал в татарской избе без всякого ухода, но все-таки выздоровел, не умер. Только лицо у него стало все в рубцах, и один глаз вытек. Он дослужился теперь до члена суда, но живет одиноко, и зачем живет — кажется, и сам не знает. Скажут, что это случайность, но вся жизнь есть связь таких случайностей.
Друзья Андрея Филиппова попали в якутскую бойню, а он — в Казань. Поводом в якутской бойне послужила черная оспа, которая ожидала ссыльных по дороге из Якутска в Колымск. Но разве казанская оспа чем-нибудь лучше колымской? Друзья Андрея Филиппова по крайней мере протестовали. Он избрал свою судьбу добровольно и не мог протестовать. Чей же жребий лучше и чей хуже?
Каждое поколение людей имеет общую судьбу и общую свободу. И если часть попадает в гранитную башню, эта башня бросает тень поперек всех дорог и улиц, и все двери глядят, как тюремные двери, и некуда уйти, и все люди начинают делиться только на два разряда: на сторожей и арестантов.
Легче всего, быть может, тем, кто сердцу волю дал хоть на короткое время.
Бутырский протест
Это случилось в мае 1889 года, числа не помню. Нас было четырнадцать человек. Мы заперлись в Часовой башне Бутырской тюрьмы и забаррикадировали дверь.
С тех пор прошло восемнадцать лет, и иные из четырнадцати уже на том свете. Валерий Даль отсидел два года в «Крестах», потом был начальником дистанции на Закавказской железной дороге. В прошлом году погиб от пули в закавказской смуте. Роман Циммерман отбыл в Восточной Сибири пятилетнюю ссылку, после того был в России писателем-марксистом, лет пять тому назад умер от воспаления мозга. Николай Ватсон ссылался на три года в Туркестан. Он был настроен мрачно, все искал чего-то сильного, тяжелого, даже подавал прошение в департамент полиции, чтобы ему заменили Туркестан ссылкою на Сахалин. Ссылка на Сахалин считалась в то время особенно тягостной, хуже Верхоянска и Колымска. Из департамента ответили так: «Приговор для Ватсона утвержден по высочайшему повелению, а потому не может быть изменен. Но по отбытии срока Ватсону не возбраняется избрать для своего жительства любое место Российской империи, в том числе и Сахалин». Департамент любил такие ответы, свирепо-шутливые, в стиле Шешковского.
Ватсон был очень чувствителен к насмешке, даже департаментской. Он обиделся и пуще загрустил. Туркестана он не избежал и, если я не ошибаюсь, окончил свою ссылку до срока самоубийством.
Был еще Столяров, рабочий, сколько помнится — слесарь. Он жил с нами вместе в верхней камере. Пища у нас была плохая. Столяров с вечера наестся черного хлеба, ляжет спать рано и видит беспокойные сны. Мы с Циммерманом старались помогать его снам. Как только он заворочается, мы становились по сторонам и начинали выть. Я изображал ветер, а Циммерман — волчью стаю. В конце концов Столяров тоже начинал выть или стонать, должно быть от страха, потом вскрикивал и просыпался.
В прошлом году во время сибирских усмирений я встретил имя Столярова среди первых жертв Меллера-Закомельского. Я боюсь, что это тот же самый.
Был Андрей Карпенко, тоже рабочий, милый, способный, общий любимец. Его, не в пример Ватсону, сослали на Сахалин на десять лет. Он умер там от чахотки.
Излишне говорить, что вся эта ссылка была административная.
Прочие живут. Двое или трое остались в Сибири. Другие вернулись в Россию и стали писателями, учителями, земскими служащими, меньшевиками и большевиками, эсерами и даже кадетами. Один должен был попасть в первую Думу, да начальство успело «раз’яснить» его ценз. Одним словом, не хуже, чем у людей.
Большая половина из нас были студенты. Порядок того времени был известен: «Учился в Петербургском университете, но курса не окончил», — как писалось, бывало, в подцензурных некрологах сипягинского времени. Не окончил петербургского курса, ибо поступил в «бутырскую академию», а оттуда, для полноты образования, в «восточно-сибирский университет».
«Бутырская академия» была закрытым учебным институтом, но, право, в петербургском университете жилось не лучше. Педеля и «субы» не отличались от тюремных надзирателей. В конце концов даже высшее образование, бутырское и сибирское, оказалось не хуже петербургского, ибо оно влияло не только на ум, по и на характер. Кто не мог выдержать — умирал или стрелялся. Другие выживали и крепли.
Заперлись мы в Часовой башне в виде протеста. Изложить причины этого протеста теперь не очень легко. Мы просидели по два года в предварительном заключении и зиму в пересыльной тюрьме. Теперь, наконец, приближалось время от’езда. Разумеется, тюрьма нам опостылела, и мы рвались вон, куда угодно, даже в Колымск и на Сахалин. Но перед самым от’ездом вышла заминка.
До этого времени политических посылали особыми большими партиями и в ускоренном порядке. Теперь департамент предписал разбить нас на маленькие группы, по восьми человек в каждой, и пересылать наши восьмерки вместе с большими уголовными партиями. Так требовала русская полицейская демократия. Она стремилась уравнять всех своих подвластных с уголовными арестантами, с «нормальными арестантами», как выражался начальник Бутырской тюрьмы.
Со времен конституции этот принцип распространяется шире прежнего. Скоро все сто тридцать миллионов русского населения станут нормальными арестантами.
Новый способ пересылки сулил нам большие неудобства. Мы, однако, примирились с ним скрепя сердце, но выговорили себе право самим сгруппировать свои восьмерки. В тюрьме часто завязываются крепкие личные связи. Все наши непременно желали попасть вместе с ближайшими друзьями в одну и ту же партию.
Партии были составлены, багаж уложен, но за несколько часов до первой отправки департамент прислал телеграмму: от’езд отложить на неделю, а партии наши составить по прилагаемому списку. Подумать только: важные генералы, в синем мундире, с седой головой, заседали в экстренном совещании и тщательно подбирали имена для каждой восьмерки: Кроль, Вольский, Попов, Богораз…
Теперь мне смешно, но тогда мы рассердились. Мелкая провокация часто раздражает даже более крупной. Сперва нам предложили самим составить списки, а потом перетасовали наши списки, как колоду карт, и всех раз’единили. Помнится, московский губернатор был на нашей стороне, но сделать ничего не мог, ибо предписание было строгое.
Больше всех обиделась бывшая первая восьмерка. Все вещи были уложены, даже постели запакованы и заделаны в отправку. Мы не стали их распаковывать и эту новую неделю провели как-то странно, вроде призраков на берегу реки Стикса, — не раздевались, не умывались, спали на голых досках, а чаще не спали, обедали в полночь а днем завешивали окна и зажигали огонь.
Я, впрочем, оба раза попал в первую восьмерку, ибо департамент прислал и другое предписание: Богораза и Когана отправить с первой оказией.
С половины недели нам стало ясно: стерпеть нельзя, надо устроить протест.
В моей политической карьере меня били три раза. Два раза — шпионы во время ареста, а третий раз — солдаты во время этого бутырского протеста. Третий раз был всех больнее. Теперь я вспоминаю об этих побоях и задаю сам себе вопрос: зачем мы полезли в эту неравную драку, неужто из-за глупого департаментского списка? Но, в сущности, мы ожидали только повода и протестом своим желали расплатиться за многое: за то, что мы были молоды и так мало сделали и так долго сидели к тюрьме, и за то, что товарищи умерли в крепости, и за Дегаева, и за Зубатова, и за всех прочих провокаторов, даже за семь копеек кормовых, которые нам отпускались на полуголодную диэту.
В это самое время, на другом конце этапного мытарства, в якутской пустыне, наши друзья и братья по таким же мотивам полезли не только в драку, но в страшную бойню, попали на виселицу и на мрачный Акатуй.
Два года мы просидели в крепости, все ждали суда и каторги. Приговор нам об’явили совсем внезапно: в отдаленные места Восточной Сибири на десять лет. Потом соединили нас вместе, посадили в вагон и повезли в Москву. Нас было в вагоне трое. Один, Григорий Ранц из Ростова, просидел в предварительном заключении больше четырех лет. Мы двое его раньше не знали. Он молчал, как пришибленный, и растерянно смотрел по сторонам. Но я и Коган — мы были соратники и старые друзья. Два года мы не видели лица человеческого, если не считать жандармов, все молчали и молчали, говорили только на допросах с прокурором Котляревским и полковником Ивановым.
Теперь мы стали говорить друг с другом. О чем — не знаю. Помню, что мы кричали и старались заглушить шум поезда. К вечеру я лишился голоса. Потом в Бутырках пришлось лечить надсаженное горло. После того мне часто снится этот сумасшедший день. В окнах мелькают снежные поля. Жандармы глядят на нас тревожными глазами. Вагон стучит: тук, тук, тук… А мы кричим без перерыва в какой-то буйной истерике.
То же самое случалось и с другими. Евстифеев у входа в Бутырскую тюрьму упал в обморок, и его внесли на руках. Другой ссыльный, имени его не помню, умер в самых тюремных воротах от разрыва сердца.
Голод душевный и голод телесный требуют осторожности. Пища несет опасность. Можно подавиться куском хлеба, надсадить горло речью, надорвать сердце впечатлениями.
Зиму мы просидели в Бутырской тюрьме. Голодали мы жестоко. Даже потом в Колымске мы голодали не столько. Деньги, какие были, уходили на слабых и больных. Их было до трети всего состава. Но так называемым «здоровым» приходилось солоно. На семь копеек не раз’ешься. Кроме того, мы были заперты в нашей башне и не могли даже ходить на кухню для присмотра за обедом. С внешним миром нас соединял вахмистр Поросенчиков, мы звали его Поросеночком. Он был маленький, розовый и действительно походил на поросенка. Поросеночек делал для нас закупки, наблюдал за обедом и, разумеется, «пользовался». Недаром он был такой розовый, а мы — тощие и сырые. Мы питались больше всего вареным горохом, но вместо гороха нам доставалась гороховая шелуха. Мы исхлопотали себе право чистить горох в камере. И шелуху прятали. Но Поросеночек доставал где-то другую шелуху и подменивал ею наш чищенный горох. Шелуха все-таки стоила ему дешевле зерна.
Иногда по праздникам мы устраивали себе угощение, сладкий напиток из какавелы. Какавела — это шелуха какаовых бобов.
Мы покупали ветчинные обрезки, состоявшие наполовину из кожи, сушили сухари из хлебных корок, и наша собственная шкура была сухая, как кожа.
Пищу для больных мы стряпали сами. Пища была улучшенная, но тоже не бог весть какая. Наших средств не-хватало даже для больных.
Наши старосты и повара подражали евангельской притче и все старались накормить целую ораву, больную от голода, тремя клочками мяса и пятью булками. Пробовали они ввести в употребление конину и чуть не вызвали междоусобную войну. Все больное население разделалось на две партии, гиппофобов и гиппофагов[27], и завело перепалку в прозе и даже в стихах. Помню еще тревожные вечерние дебаты о сокращении сахарной нормы и пламенные речи сахароедов. И то, как ночью мы вставали с постели и крали у старосты черный хлеб из корзины, которая стояла под кроватью. И многое другое.
Итак, мы решили устроить протест. Но, спрашивается, какой? В то время в тюрьмах протесты устраивались по двум различным методам. По первому методу выбрасывали пищу за окошко, потом ложились лицом к стене и ждали, пока начальству не станет совестно. Это называлось: голодный бунт. По второму методу били окна и стучали в двери, пока начальство не придет и не свяжет. Это называлось: активный протест.
Некоторые в виде разнообразия соединяли то и другое. Помню, я читал письмо Россиковой о женском карийском бунте. Они выбили окна в лютую зимнюю стужу, отказались от пищи и даже от питья.
Дней через пять иные доходили до того, что выламывали лед, намерзший в парашке, и сосали его.
Мы, впрочем, после гороховой шелухи не имели никакого влечения к голодному бунту. Мы решили поэтому устроить активный протест, забаррикадировать свою башню и отказаться от отправки.
У нас не было никаких орудий и приспособлений, мы достали только свиток проволоки, пачку больших гвоздей и молоток.
С этими ничтожными средствами мы надеялись соорудить преграду исполнению воли начальства…
Впрочем, через двадцать лет на улицах московских строились баррикады таким же домашним путем, и, однако, адмирал Дубасов вначале очистил поле действия… Но это не имеет отношения к моему рассказу.
В верхнем этаже Часовой башни дверь открывается внутрь. Она сделана из старого дуба и обита железом.
Кроме проволоки и гвоздей у нас были еще железные кровати, на которых мы спали. Наши инженеры прикинули, что три кровати, связанные вместе по длине, придутся как раз от двери до противоположной стены, и притом очень плотно. Мы придумали связать три яруса кроватей, втиснуть их между дверью и стеной, ярус над ярусом, переплести все это проволокой и ожидать событий. Намерение свое мы держали в строгом секрете, чтобы начальство не знало. Но в субботу, накануне отправки, мы приступили к действиям.
Начали мы с того, что прогнали Поросеночка, боюсь, что мы даже спустили его с лестницы и бросили ему вслед его расчетную книжку. Это, конечно, грубо, но очень уж он нам надоел.
Помощник смотрителя пришел увещевать нас, но мы уже укрепили дверь и отказались впустить его внутрь. После того мы прибили к косякам поперечные бруски, связали и втиснули свои кроватные заграждения, загромоздили их скамьями и досками и даже просто дровами, потом все это перевили проволокой и укрепили клиньями. Баррикада была готова.
Странные чувства мы переживали в ту памятную ночь. По эту сторону двери нас было четырнадцать человек. По ту сторону была огромная воинская сила и, можно сказать, целый мир. Мы были одни и безоружны, и мы хорошо знали, что дерзость наша не пройдет нам даром. Нас жестоко изобьют, пожалуй — искалечат. Несмотря на эту перспективу, мы не ощущали страха. Здесь была наша крепость, мы отрезали себя от внешнего мира по доброй воле, и мы были свободны. Странно сказать: никогда, ни прежде, ни после, я не ощущал такого абсолютного чувства свободы, как в эту бессонную ночь в старой тюремной башне, за дверью, запертой снаружи и укрепленной изнутри. Мне казалось, что все население России делится на две категории. Одна категория — это те, которые снаружи. Их сто миллионов. Это — рабы. Другая категория — это мы, нас всего четырнадцать, и мы свободны.
И когда мы запели, сидя в своем укреплении:
Отречемся от старого мира. Отряхнем его прах с наших ног… —этот призыв звучал для нас ясно и наглядно, как правило действительной жизни.
В России того времени нас было мало. Мы были не политическая партия, а цепь кружков, политическая секта, узкая, замкнутая и страстная. Но наше учение было для нас не теорией, а верой. Мы принимали эту веру сразу, по наитию, уходили в нее с головой и огораживались ею от целого мира и жили интересами своей тесной группы, чуждые всему остальному. Наше учение было нашей крепостью, мы заперлись в нем, вооруженные только словом, а враги наши осаждали нас с железом в руках. Время было тогда черное и тернистое. Нам приходилось хранить искру прошлого огня и нести ее вперед, чтобы передать новым поколениям. И если бы мы не замыкались в своих катакомбах, искра могла бы погаснуть раньше времени.
В эту ночь мы много пели и разговаривали друг с другом. «Завтра нас изобьют и разведут по одиночкам», — строили мы предположения и старались насытиться последней дружеской беседой. Под утро, утомленные, мы заснули на полу, сидя у своего укрепления. Нас разбудил громкий стук в дверь.
— Сдавайтесь!
— Идите к черту! — ответил Циммерман спокойно и как-то от души.
— Мы разобьем дверь!
— Валяйте!
Замок щелкнул и отомкнулся. Снаружи стали напирать на дверь плечами, но наша баррикада держалась крепко. Кроватная линия уперлась в дверь, как огромная пружина, и не поддавалась ни на дюйм.
— Ломайте дверь!
— Господи, благослови!
Тяжелый удар с размаху упал на дверь, сталь звякнула об железо и отскочила обратно. Бум!.. Еще и еще. Они разбивали нашу дверь ломами и топорами. Ломы громко скрежетали о железо.
Но дверь не поддавалась.
— Принесите керосину и подожгите дверь, — долетали до нас озлобленные распоряжения начальства. — Надо их взять. Стену разбирайте!..
Но старые тюремные кирпичи были еще тверже железа.
Мы сгрудились по обе стороны нашей баррикады и схватились за нее руками.
Не знаю, хотели ли мы поддержать ее. Или, быть может, мы сами держались за нее. Настроение было смутное, оцепенелое и хаотическое. Мы еще были одни, но целая рать ломилась в нашу дверь. В эту ночь мы были свободные, теперь наступала расплата. И потому мы хватались руками за кровати.
Ничего крепче у нас не было. Это была наша единственная точка опоры.
Бух, бух!
Первый тюремный топор прорезал старую дверь и заглянул к нам. Маленький острый конец, как будто железный зуб или коготь. Пред этим зубом мы были такие жалкие, беспомощные, безоружные. Бух! Еще удар. Щепки летят, искры сыплются сквозь щель. Гром и блеск. Кажется, будто они принесли ружья и стреляют в дверь.
Верхняя часть двери с треском отламывается. В отверстии появляется рука, потом голова. Она серая, круглая, стриженая, с вытаращенными глазами и усами, оттопыренными, как у кота. Пред этим котом все мы чувствуем себя мышами… Нет, не все. Циммерман схватил доску и с силой замахнулся. Его серые глаза, большие, близорукие, наивные, как у ребенка, вспыхнули желтым огнем. Теперь у него тоже кошачье лицо. Эти два кота сейчас расцарапаются в кровь. Кто-то через мое плечо протягивает руку и вырывает у Циммермана доску.
— Мы не станем драться, — произносит голос, знакомый, но хриплый и как будто сдавленный.
Кончился наш протест.
Баррикада разрушена. Проволока оборвана, кровати разбросаны в разные стороны. Они лежат на земле ножками вверх.
Какая это была жалкая, детская защита!
Камера наполняется солдатами. Они сытые, большие, куртки у них короткие, рукава тоже. Из рукавов торчат огромные руки, шершавые, в веснушках. У солдат нет ружей, но эти корявые руки действуют, должно быть, не хуже прикладов.
Больше и больше солдат. Камера полна ими. Все они похожи друг на друга, как будто их сделали на машине. Думают ли они о чем-нибудь? Наверно, ни о чем. Мы жмемся в стороны, как овцы перед волками. Но только овец горсточка, а волков целое стадо.
— Возьмите их!
— Минута — и каждого из нас уже схватили за шиворот слева и справа и тащат к выходу.
Раз! Удар тупой и мягкий. Кого-то ударили кулаком по шее.
— Я буду драться! — раздается возмущенный голос Когана.
Раз! Удар звонкий и трескучий… Это ответная пощечина.
Я на площадке лестницы. Два здоровенных солдата тащат меня под-руки. Предо мной, на несколько ступеней ниже, ведут молодого студента Осипа Попова. Его бьют по лицу, щека у него в крови. Он вырывается и кричит.
Неожиданно я выдергиваю свои руки, бросаюсь вниз и схватываю за горло одного из мучителей Попова. Теперь нас шестеро вместе. Мы сплелись в огромный клубок и катимся по лестнице вниз. Мы — как змеи, у нас нет костей. Но мы бьемся ногами, как лошади, царапаемся, как кошки, и грыземся, как собаки. Никто не разбирает, где враг и где друг.
Я в нижнем этаже, в коридоре. Попов исчез, но кого-то другого ведут впереди и бьют. Он стонет диким голосом. Мои солдаты со мною. Они уже не ведут меня, а волокут по полу. Вся одежда на мне изорвана. Кто-то подходит сзади и ударяет с размаху между плеч чем-то тяжелым, кистенем или кастетом… Убейте сразу!..
Огромный тюремный двор, мощеный камнем, залитый солнцем. Уголовная партия стоит вся наготове, в халатах, с котомками. Для того чтобы вооружить ее против нас, ее вывели из камер с раннего утра, но она знает, что нас будут бить, и не сердится на нас.
С правой стороны плотный круг солдат. У них ружья со штыками. Нас выводят одновременно двоих, меня и Вольского, и с разных сторон вталкивают нас внутрь. Мы натыкаемся друг на друга и чуть не падаем.
Штыки смыкаются. Кончился наш протест.
Мы в вагоне железной дороги. В окнах опять мелькают поля, веселые, зеленые, и солдаты смотрят мирно. Но на душе невесело. Все точно болит и ноет, как после болезни или похмелья. И в горле горький вкус, вкус обиды, бессильной и неотомщенной.
Губы у Вольского трясутся. Он — художник по профессии, у него молодая невеста. Я уверен, что его били сегодня в первый раз.
— Нет, — заявляет он, — в следующий раз, если меня будут бить, то я…
Он неожиданно обрывается. Что нам сделать в следующий раз — убить, или повеситься, или разбить себе голову об стену?
Поезд мчится вперед, к сибирской границе. Может, в Сибири нас не будут так мучить.
Наша первая восьмерка попала на поезд прямо с поля битвы. Но тем, кто остался сзади, было хуже, чем нам. Во-первых, их посадили в карцер. Что такое бутырский карцер, — я не знаю. Но мне случилось сидеть в карцере в Таганрогской тюрьме в 1883 году. Это был настоящий каменный мешок, под землей, рядом с отхожим местом. В нем нельзя было встать, нельзя было лечь и вытянуться. Приходилось сидеть на колу, опираясь спиною о стену. С левой стороны помещалась зловонная лохань, мелкая и открытая, а с правой стоял деревянный бак для воды и лежал кусок черного хлеба. По стенам струились вонючие потоки. Было темно и тускло и уныло, как в гробу. Я попал в этот карцер тоже за протест.
Рядом со мною сидела девушка Рафаилова. Ее на вечерней поверке солдаты подвергли личному обыску. Я заявил протест смотрителю, а он засмеялся. Тогда я обругал его и попал в карцер. Рафаилова просидела в этой ужасной тюрьме семнадцать дней и стала сходить с ума. Тогда ее выпустили.
Я пробыл в карцере шесть суток. По закону, дольше нельзя держать арестанта в карцере. Впрочем, с уголовными часто поступали так: продержат шесть суток, выведут минут на десять, потом опять посадят, и так до трех раз. А не то, в виде дополнения, насыплют в карцер на пол мелкой извести: дыши известковой пылью! Или зимою воды нальют, чтобы все обледенело. Бывало, что люди с ума сходили в карцере, теряли волосы, заболевали чахоткой. Старые каторжники и бродяги плакали в карцере, как малые дети.
Но все это к слову. Бутырский карцер, должно быть, был полегче таганрогского. Все-таки столица, не провинция.
Еще хуже было то, что наших оставшихся товарищей заставили заплатить за изломанные кровати и изрубленную дверь все из той же неистощимой семикопеечной диэты. Заплатить пришлось шестьдесят рублей. После того до самого от’езда они питались одним черным хлебом, и даже гороховая шелуха была для них роскошью.
Так протестовали мы в Москве двадцать лет тому назад, в доброе старое время. Тогда нас только избили и даже не изувечили по-настоящему. Теперь, если бы мы устроили что-нибудь подобное, нас бы перестреляли, как кур, потом уцелевших судили бы скорострельным судом и послали бы вдогонку убитым на тот свет. Видно, у каждого времени есть свои овощи. И какие овощи хуже, — сказать трудно. Все хуже.
Невольничий корабль и сибирский клоповник
Этапную дорогу в Сибирь много раз описывали. Я не стану повторять этих описаний. Расскажу только два эпизода о камском невольничьем корабле и о сибирском клоповнике. И то и другое одинаково невероятно. И теперь, перебирая свои воспоминания, я с трудом могу допустить, что это, действительно, было. Боюсь также, что у меня слов не хватит для надлежащего описания. Расскажу, как сумею.
В городе Нижнем нас сняли с поезда и посадили на арестантскую баржу. Наш пароход тащил две баржи. Обе были большие, грузные, и он мог подвигаться только черепашьим шагом. Обе баржи были до крайности переполнены людьми. С тех пор мне привелось видеть многое — эмигрантские корабли, манджурские теплушки, даже холерные бараки, но ничего подобного я никогда не видел.
На нашей барже было пятьсот мест. На нее сразу посадили семьсот человек. Всех их поместили внизу, в трюме. Палуба была черная, окруженная проволочной сеткой. Туда никого не пускали согласно инструкции. Она была похожа на пустой зверинец, грязный и скользкий, ни разу не чищенный. В Казани к нам подсадили еще двести человек, в Чистополе еще сто и в Сарапуле полтораста. В каждом уездном городе по дороге к нам подваливали все новые партии живого арестантского товара. Как будто все прикамское население надо было переслать в Сибирь и как можно скорее.
В трюме не стало места. Человеческая плесень залила все кладовые и товарные склады, потом вылилась на палубу, противно инструкции, вместе с грязными портянками, соломенными подушками, серыми халатами и прочей рухлядью. Особенно круто пришлось нам в последнюю ночь до Перми. На палубе тоже не хватило места. Пятьсот человек лежали вповалку, или, точнее говоря, не лежали, а сидели, скорчившись и опираясь на свои котомки. Даже пройти было негде. Матросы и прислуга на каждом шагу наступали на чьи-нибудь руки или головы. На всю эту армию было единственное отхожее место. Оно не запиралось ни ночью, ни днем. Стены его были вымазаны жидкой смолой, чтобы воспрепятствовать желающим обтирать свои пальцы об дерево. Ночью и днем у этой открытой двери стоял хвост кандидатов, как перед кассой в театре. Они проходили по очереди и поощряли друг друга шутливо и мрачно: «Веселей, торопися!»
На всех четырех углах палубы стояли часовые. Они шатались от усталости и от одуряющей вони и опирались на ружья, чтобы не упасть.
Внизу, в трюме, никто не спал.
Люди лежали, откинувшись навзничь, стонали и скрежетали зубами. Лампы гасли от духоты. Даже ругаться ни у кого не было силы. Только цени звенели, как единственный голос, еще не угасший в истоме, железный, скрипучий и бездушный. В черной тьме наша баржа подвигалась вверх по Каме, как огромная груда человеческих отбросов, пропитанных заразой.
Только один раз я видел нечто подобное, то было на Черном море осенью, во время снежной бури. Она подхватила нас у Батума и три дня бросала и трепала ваше судно. Лишь на четвертое утро мы подплыли к Новороссийску. Нас встретил норд-ост и не дал нам войти в гавань. Все наши палубы совсем обледенели. Даже во втором классе был сибирский холод. А между тем, на большой средней палубе, совершенно открытой, было четыреста турок, крестьян и чернорабочих. Они были полураздеты и почти совсем окоченели. Они жались, как овцы, друг к другу и все лезли в общую кучу, в середину, ибо в середине было теплее. Вместо покрывала им бросили парус. Но толпа была шире паруса, и этот обрывок холста все время странствовал с места на место, перетягиваемый закостенелыми руками в борьбе за последнюю искру тепла. Потом, когда мы пристали наконец к берегу, двадцать человек пришлось снести на руках и отвезти в больницу.
Я помню, эта картина напомнила мне почему-то арестантскую баржу. У нас на барже тоже были больные и пострадавшие. Мы оставляли их до дороге в каждом уездном городе: сдадим пятнадцать больных, возьмем полтораста здоровых.
Для нас, политических, нашлось все-таки отдельное место в каком-то чуланчике под рубкой. Этот чуланчик служил аптекой, больницей, амбулаторией и родильным покоем. В его стенках были вделаны внутренние ящики, наполненные склянками. Это по части аптеки. От стены до стены тянулись короткие нары. На этих нарах могли лежать больные или родильницы, по мере надобности. Мест на нарах было восемь, а нас к этому времени стало одиннадцать, в том числе две женщины. Мы отгородили для них часть помещения ситцевой занавеской, а сами забрались на свою сторону нар и расположились, как могли. Двери наши были открыты настежь, как все другие двери на этом невольничьем корабле. Долго мы ворочались и не могли уснуть; потом уснули, положив друг другу головы на плечо, как дикие гуси в степи. И вдруг среди нас протиснулось с наружной стороны что-то длинное, белое, полное крика. Мы всполошились и стали вскакивать. Это была родильница. Сонные сторожа, недолго думая, принесли ее сюда, на привычное место. Родильница, не теряя времени, принялась тут же рожать. Из наших дам одна оказалась акушеркой. Нас выжили вон из родильного покоя, и дамы стали хлопотать около измученной женщины.
Не помню, как и где мы провели остаток этой ночи.
Вот как перевозили арестованных по Каме в доброе старое время.
Сибирский клоповник был в несколько ином роде. Описывать его противно, но из песни не выкинешь слова.
Мы прибыли в Красноярск довольно поздно, и нас задержали при приемке. Потом оказалось, что ни одна тюрьма не хочет нас принять. Начальство посовещалось и велело нас отвести в арестантские роты. Это было большое низкое здание, человек на пятьсот, теперь совершенно пустое. Его слегка ремонтировали, но еще не кончили ремонта. В нем пахло плесенью, мелом и еще чем-то острым, как будто щелоком или горчицей. Мы как-то чуяли, что не все ладно, но начальство утешало нас, что зато места много и вся тюрьма в нашем распоряжении. Мы расположились по-двое. Я был вместе с моим другом Бреговским. Камера нам досталась огромная. На нарах можно было хоть в чехарду играть. Кругом стен на половину высоты шла красноватая полоска. Это был след раздавленных насекомых. Партии, проходившие мимо, изо дня в день прибавляли свой вклад, и вышла как будто черта, проведенная масляной краской. Мы, впрочем, не обратили на нее особого внимания. Почти на каждом этапе было то же самое.
Спать нам еще не хотелось, несмотря на усталость. Мы поставили казенную лампу на середину нар, достали до книжке и легли врастяжку, головами к лампе, а ногами врозь. Оба мы занимались языками, я — итальянским, а Бреговский — английским, и почему-то этот первый час в огромном тюремном сарае показался нам весьма пригодным для занятий. Кругом лампы на нарах был светлый кружок. И очень скоро в этом кружке проползло что-то маленькое, красное. Первый клоп. Я схватил его, бросил в лампу и даже головы не поднял. Мы привыкли не смущаться из-за такой безделицы.
Второй клоп. Теперь очередь Бреговского. Несколько минут проходят в молчании. Мы читаем иностранные книги и ловим клопов, бросая их в лампу. Только пламя потрескивает каждую секунду.
Мало-по-малу начинает пахнуть паленым. Лампа коптит, и пламя убавляется. Мы отбрасываем книги и принимаемся за исследование. Давно пора. Внутри стекла как будто налит ободок расплавленного сургуча. Он движется и шуршит. Это клопы. Их так много, что они не успели все сгореть. Половина еще живет и корчится под действием огня.
Это клопы пленные, а кругом нас клопы свободные. Их — полчища, они ползут со всех сторон. Одни вылезают из углов и из разных щелей. Другие падают с потолка. Вот один упал прямо в лампу, вспыхнул и сгорел. Даже подбирать не нужно.
Надо признаться, что мы испугались. У Щедрина есть описание, как во время политической смуты клопы с’ели Дуньку Толстопятую, но мы считали это обычным шаржем. Теперь перед нами воочию щедринский клоповник. Ибо эти клопы привыкли питаться кровью тысяч и успели проголодаться во время ремонта. А нас здесь было не больше десятка во всей тюрьме.
Мы соскочили с нар и принялись отряхиваться. Еще один клоп упал мне на шею. Я подбежал к двери и стал стучать. Время было после поверки, и по тюремному уставу — все двери были заперты замками.
— Что надо?
— Клопы заедают.
Часовые стали смеяться.
— Это у нас такая домашняя скотинка!
Но нам было не до смеха. Во всех камерах ожесточенно стучали в дверь.
— Советника сюда. Не можем сидеть. Нас заедят насмерть.
Началась ругань, но времена были еще довольно простые и патриархальные, и минут через двадцать губернский советник явился в тюрьму. Он подошел к нашей камере, которая первая начала стук, и начал «обкладывать по-русски», — впрочем, не нас, а так, в пространство…
Мы чесались, топали ногами по полу и стучали в дверь.
— Постойте, я вам покажу! — возопил, наконец, советник не своим голосом. — Откройте дверь.
Солдаты открыли дверь и вошли, стуча сапогами. Мы шарахнулись назад. Теперь мы были между двух огней. Сзади — клопы, а спереди — вооруженная сила.
Советник храбро вошел вместе с солдатами.
— Я вам покажу… Тьфу, что это?..
Он поднес руку ко лбу. Что-то упало ему на голову с потолка. Ибо клопы не разбираются, кто советник и кто арестант.
— Клопы! — вопияли мы в один голос. — Не можем сидеть!
Советник утих и сконфузился.
— Вы так бы и говорили, — сказал он совсем миролюбиво. — Я сейчас вас переведу в другое место.
На другое утро я заболел крапивной лихорадкой. По словам доктора, моя болезнь произошла от бесчисленных укусов. Потом я не мог от нее избавиться несколько лет.
Если кому покажется, что в том правдивом рассказе есть преувеличение, я советую ему отправиться в Красноярск и испытать самому. Я убежден, что все осталось попрежнему: арестантские роты и красный ободок вокруг стен и даже советник. Ибо это такие основы русской жизни, которые скоро не меняются. Даже конституция будет, и та их не изменит.
Куоккала, 1927 г.
Примечания
1
Лиственница — хвойное дерево.
(обратно)2
Карбас — лодка.
(обратно)3
Шпангоуты.
(обратно)4
Табанить — грести назад.
(обратно)5
Сушенная рыба.
(обратно)6
Взаймы.
(обратно)7
Миру и городу, т.-е. всем. (латинск.).
(обратно)8
Туда, туда, где лимоны цветут! (немецк.).
(обратно)9
Город (Латинск.).
(обратно)10
Челнок.
(обратно)11
Говори.
(обратно)12
На! Возьми.
(обратно)13
Поп захворал.
(обратно)14
Болен. Совсем болен. Ушел.
(обратно)15
Русские.
(обратно)16
На живом человеке (латинск.).
(обратно)17
Давайте веселиться (песня на латинск. языке).
(обратно)18
Описание жизни, биография.
(обратно)19
За и против (латинск.).
(обратно)20
Сифилис.
(обратно)21
Мишанька — кличка медведя.
(обратно)22
Римская богиня огородов.
(обратно)23
Название ружья (по имени конструктора), которым были вооружены французские войска во время франко-германской войны 1870–71 г.
(обратно)24
Двадцать верст.
(обратно)25
Наслег — поселок (якутск.).
(обратно)26
Всему свету (латинск.).
(обратно)27
Гиппофоб — конененавистник; гиппофаг — конепожиратель.
(обратно)


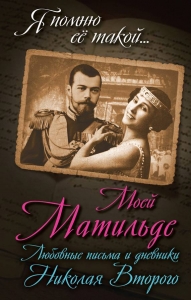



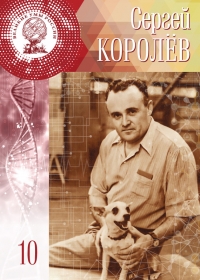
Комментарии к книге «Колымские рассказы», Владимир Германович Тан-Богораз
Всего 0 комментариев