Василий Аксенов ДЕСЯТИЛЕТИЕ КЛЕВЕТЫ Радиодневник писателя
ЭПИГРАФ, любезно обеспеченный генералом Ббквм Ф.Д. (КГБ СССР) и редактором А.Пьнвм («КРОКОДИЛ» СССР) и исполненный трудящимися СССР в 1988 году (январь-август)
«Уважаемый господин Аксенов! Во всем ли вы искренны? Сомневаюсь… Ведь прекрасно знаете, что видные политологи Запада давно уже не отождествляют тоталитаризм, сталинизм с сущностью социализма как формации… Идет демократизация в направлении культуры социалистического морализма, только Вы теперь чужой, не наш человек — из прошлого…»
Е.Глебов, инженер, беспартийный.«Предавшего свой род юношу сородичи привязывали к позорному столбу и, проходя мимо, плевали ему в лицо… Этот профессор литературы того же заслуживает… Я бы этого иуду вот этими самыми руками, как когда-то в разведке эсэсовцев…»
Катулов, Татарстан.«Браво, Аксенов! Вы поистине недосягаемы в столь омерзительном расшаркивании перед „желанным Западом“! Вы один на Джомолунгме… предательства и лицемерия…»
А.Ольховой, студент и стиляга 50-х годов, поклонник американского джаза, ныне простой советский интеллигент, Минск.«Мы вылавливали пресловутых „стиляг“, распарывали им узкие штанины вельветовых брюк, лишали набриолиненных „коков“. Ох, как было горько от того, что носители „нового“ держались стоически, не распускали слюни, а снова и снова собирали людей вокруг себя, выплясывая утрированный рок-н-ролл!..Эх, развернуть бы тогда на полную мощь перестройку! Не остался бы Аксенов по ту сторону кордона…»
Г.Петров, главный администратор Ташаузского госмуздрамтеатра, Ташауз Туркменской ССР.«„…Нет Бога, кроме Америки“, — утверждают новоявленные проповедники и получают весомые подачки…»
А.Абдурахманов, с. Цуреб Дагестанской АССР.«Сам я отбывал срок, был хулиганом, но никогда даже в душе не поливал грязью ни Советскую власть, ни кого-либо…
Чужим вы голосом запели:
Да видно, платят хорошо За эти бесовские трели, Коль так скрипит у вас перо. Вы смели написать от поколенья. Мертвец уже для всех. И нету вам от нас прощенья. Профессор, ваш отрывок — просто смех». Сергей С. Новокузнецк.«Нет, это же надо ж! Аксенов „всплыл“! Вот она — гласность!.. Как там у Пушкина! „Как загасить вонючую лучину? Да плюнуть на нее!“ А плюнуть хочется! Очень! От души. Ему — не стыдно. А мне за него стыдно. Я бы ему его книги через забор бросила, как когда-то люди гамсуновские книги „возвращали“».
Т.Коробкова, Ленинград.«…Значит, он выбрал свой „звездный билет“ — перебрался в свободный мир? Вы говорите, что он теперь профессор. Извините, каких же наук?.. Однако же лихо отрабатывает он свои сребреники. На что уж был Мережковский, так и тот более уважительно отзывался о своей бывшей родине… Как-то мне довелось один раз беседовать с шизофреником, свихнувшимся на идее изничтожения марксизма. Так вот, В.Аксенов по части шизофренического бреда дал тому несчастному сто очков вперед…»
Е.Терехов, ветеран труда и войны, Владимир.«Профессором литературы движет злость, а она плохой союзник и не заменяет порядочности, элементарной порядочности».
А.И.Василевская, Москва.«Теперь этот Аксенов вылез… с очередной занудной брехней заштатного пса американского антикоммунизма…»
A. В.Пронин, экономист, Москва.«В колледже он работает нештатником, а штатник он совсем в другом месте. В парижском филиале радиостанции „Свобода“— обычного подразделения ЦРУ… Там американские сержанты и майоры ставят по стойке „смирно!“ всяких там Basil и Со и дают им команды: „Оплевать! Оболгать! Оклеветать!“»
Вл. Жигалко, Москва.«Очень сильно потрясло меня бегство Аксенова за рубеж… То, что сделал тогда Аксенов, — это предательство.:. Думающий интеллигентный человек не поставит рядом со светлыми ленинскими идеалами революции имена Сталина, Берия, Ежова, Лысенко… Только наше общество способно трезво оценить ошибки прошлого».
М.К.Непомнящий, 30 лет, врач, Волгоград.«Советский Союз будет намного сильнее, а советский народ будет жить еще лучше… Ну, а профессора Аксенова мы, рабочий класс СССР, постараемся разочаровать в его иллюзиях».
B. М.Шевченко, плотник-бетонщик 1-го разряда, Магадан.«Вы, господин предатель, опубликовали себе приговор… я соберу подписи города, области, отправлю петицию американскому президенту с просьбой взыскать с вас суммы… А если президент вышлет вас обратно, вас будем судить как уголовника за оскорбление целого народа… Вы, господин Аксенов, как кулацкий вор. Украли, пусть временно, мое спокойствие на моем пенсионном Олимпе. Моему беспартийному возмущению и гневу нет границ».
Н.К.Климов. Северодвинск Архангельской области.«Моя мысль прыгает и мечется от этой поганой статьи гаденького подхалимчика В.Аксенова…»
В.Ковалев, 16 лет, Пермь.«Для аксеновых перестройка и гласность страшней чумы: пусть же лопаются его „опусы“ как мыльные пузыри».
А.Б.Шапиро, Саки Крымской области.От редакции: …Сотни наших читателей откликнулись на опубликованный в нашем журнале отрывок из книги В.Аксенова… Это был на редкость острый и заинтересованный разговор.
Послесловие к эпиграфу
До сих пор не совсем понятно, почему в начале 1988 года, то есть в разгаре либеральной перестройки, гэбэ начала на меня эту «всенародную» атаку. Выглядело это так, как будто было приурочено к первому со времени высылки приезду в Москву моей жены Майи. Один «прогрессивный» аппаратчик ей так и сказал, показав номер «Крокодила» с первой публикацией: «Видите, прямо к вашему приезду выпечка». Понять это можно было как предупреждение против возможного возврата на родину. Позднее, однако, проявились черты более сложного сценария. Сейчас можно предположить, что развивалось это странное дело приблизительно так. В декабре 1987-го в Вашингтон на первую встречу в верхах прибыл М.С.Горбачев. В этот день по каналу СВ8 прошел короткий сюжет, в котором я играл роль гида в воображаемой прогулке Горби по неофициальному Вашингтону. Я сам наметил различные объекты в городе, и к ним мы с комментатором Терри Смитом подъезжали в сопровождении телекоманды.
Происходили и некоторые неожиданности. Так в окне леволиберального книжного магазина «Common Concern» мы увидели портрет вождя без знаменитых «семи пятен во лбу». Вот видите, Терри, показал я своему спутнику, это и есть социалистический реализм в действии. Другой, еще более приятный сюрприз поджидал нас в джазовом клубе «Блюз Эллей», что в одном из переулков Джорджтауна. Входим туда, а там на сцене не кто иной, как сам великий Диззи Гиллеспи со своими гаргантюанскими щеками. Что бы вы сделали, Диззи, если бы сюда вошел Горбачев? — спросили мы. Я бы тут же прямо и скопытился, симпатично улыбнулся музыкант. В заключение этой маленькой сценки мы все выразили уверенность, что Михаил как юноша пятидесятых годов хоть и из комсомола, но должен любить свинг и боп, и пожелали ему и дальше развивать «весь этот джаз» перестройки.
Подводные камни, однако, еще ждали нас впереди. В торговом центре Джорджтауна среди сверкающих витрин Терри Смит задал мне провокационный вопрос: «Ну, а что бы подумал Горбачев, если бы попал сюда?» На это я ему ответил шутливо: «Ну, он мог подумать тут, что все это специально к его приезду подготовили…» Через два с половиной месяца глава советской писательской делегации, выступая по датскому телевидению, как раз на этот эпизод и обрушился: как смел Аксенов так пошло оскорбить лидера нашей перестройки, представить его таким дремучим и отсталым от западных нравов совбюрократом? Этот писательский глава, как впоследствии выяснилось, сопровождал Горбачева в поездке 1987-го года и был к нему приближен. По всей вероятности, он присутствовал при просмотре генсеком в посольстве видеозаписи, касающейся прибытия его в американскую столицу, по всей вероятности, и моя пятиминутка была на этой кассете, по всей вероятности, тут как раз и выразил «вождь перестройки» свое неудовольствие: как, мол, не стыдно Аксенову такую чепуху плести? Что это, мол, он так американцам угождает? Ну, или что-то в этом роде. Тогда-то и полетел сигнал дать отповедь ренегату Аксенову, тогда-то и потер радостно руки генерал Ф.Д.Ббкв: вот уж проучим! Ббкв к моей скромной персоне давно уж присматривался: и когда приказывал раскаявшемуся теперь полковнику Я.В.Карповичу выкрасть рукопись «Ожога», и когда во все тяжкие старался с помощью самых неожиданных персон торпедировать этот роман на Западе, и когда «МетрОполь» душил, и когда психологическая атака на меня велась, чтоб убирался за границу подобру-поздорову; словом, интересовался человек. Этот именно почтенный товарищ, ныне уже не застойный куркуль, а активист перестройки, вызвал к себе редактора Пьнва, поставил его по стойке «смирно» именно так, как в его воображении американские сержанты и майоры в парижском филиале радиостанции «Свобода» ставят всяких Basil и Со, и приказал: «Организовать на редкость острый и заинтересованный разговор!» Тогда-то и пошла писать губерния. Вот так мне все это представляется, когда случайно, год за годом, вдруг выплывают из советских пучин и соединяются друг с дружкой какие-то факты. Вполне возможно, так это все и было: музыку заказал Горбачев, композитором стал Ббкв, роль оркестра взял на себя Пьянв. Доказать это, впрочем, невозможно, и не исключено, что на самом деле произошла какая-то нелепая путаница.
2004
Сейчас, оглядываясь на те времена, я испытываю странную удручающую неловкость, как это иной раз бывает в споре с дураком. Ведь именно тогда, когда советский аппарат объявил меня клеветником, я вместе со многими другими писателями-эмигрантами профессионально занимался распространением правды по радио. Раныие-то я в основном сочинительствовал, то есть создавал художественные «фикции», да еще и в жанре гротеска. К «правде жизни» такая литература имеет только косвенное отношение. Она берет кашу правды, бесцеремонно смешивает ее с плодами воображения, напихивает в эту смесь специи метафор по стихийно возникающей рецептуре… Получается — если получается — карнавальный текст… Вот тут-то они могли меня и подцепить, попросив «трудящихся» выступить по поводу лживых текстов: не было «Острова Крыма», не было «Затоваренной бочкотары», не было «Стальной птицы», — все врете, Базиль и Ко! А я бы стал отбрехиваться: вы сами., товарищи., врете, сами., сами! И был бы отчасти не прав. У аппарата дезинформации ведь была совсем иная ситуация. Профессионально распространяя ложь, он создавал и правду, во всяком случае реальность, более правдоподобную, чем мои фантазии. Взять, к примеру, «всенародное осуждение». Советские «трудящиеся» и в самом деле любили писать подобные письма в редакции, особенно по заказу кагэбэшного страшилища. Интонации писем удивительно аутентичны, именно таким спотыкачом и протекал мыслительный процесс «зрелого социализма». Вот за эту аутентичность стоит поблагодарить профессионалов дезы. Должен признаться, что многократно использовал сии перлы в самых беспардонных «фикциях». Активный читатель, конечно, найдет следы этого процесса и в нашем прологе, единственном в этой книге куске беллетристики.
ПРОЛОГ Миссия «ИКС» Игрека ИгрекОвича
В изгнании я как бы оторвался от почвы, частично переселился в волны эфира. Волны накатывали, невзирая на настроения, не ожидая прихода вдохновения и не считаясь с его присутствием. «Болдинские осени» не подразумевались. Каждую неделю надо было выдать десять страниц текста и зачитать с «выражением» перед микрофоном. В месяц, стало быть, получалось сорок, в год четыреста восемьдесят — размер солидного романа. За прошедшее десятилетие десять романешти развеяны эфиром. В порядке утешения вспоминается из Аристофана: «Эфир — дом Зевса! Времени ль стопа?»
…С огорчением год за годом я смотрел на скапливающиеся в кладовке папки «скриптов», тлен радиовойны, раздерганный глушилками словесный хлам, и думал: «Неужели все это сгинуло втуне?» И только к концу XX века вдруг посетила меня самонадеянная литературная параллель. В семидесятых годах прошлого века Ф.М.Достоевский выпускал в виде своеобразного журнала свои записи, которые впоследствии собрались в толстый том «Дневник писателя». Что ж, почему бы и мне, следуя классическому примеру, не собрать эфирные летучки, не прокрутить их в центрифуге, не потрясти в сите, не образовать в конце концов книжку под заголовком «Радиодневник писателя»? В конце концов, чем иным, если не дневниковыми записями, были эти летучки, клочки с дымящимися еще хвостами, влетавшие в многоэтажные застройки «спальных мешков» Москвы, Питера, Екатеринбурга? В писаниях моих никто меня не ограничивал. Никто не заказывал ни тем, ни направлений, всегда я касался только того, что меня в данный момент интересовало, не представляя никогда ни правительств, ни частных групп. «Голосу» и «Свободе», очевидно, было важнее само мое участие в их программах, чем тематика передач.
Вдруг я загорелся идеей создать с помощью «Радиодневника» некую ретроспективу с моей собственной колокольни, попытаться воспроизвести то, что Мандельштам называл «шумом времени».
В январе 1981-го «Вестник Президиума Верховного Совета СССР» напечатал весть о лишении меня советского гражданства. Государственный департамент США прислал мне ксерокс касающейся меня страницы. Она, между прочим, с тех пор висит у меня на стене как основная награда за писательские труды. В ней, как и во всех других брежневских деяниях, можно увидеть характерную улыбку бровей, лукавый пришлеп верхней губы. Открывается эта страница указом № 72 о награждении главного редактора журнала «Работница» товарки Вавиловой Валентины Евгеньевны орденом Дружбы народов за многолетнюю плодотворную работу в советской печати и активную общественную деятельность. Указ датирован 9 января 1981 года. Затем идет указ № 73 о награждении генерал-полковника танковых войск в отставке товарища Буткова Василия Васильевича орденом Красной Звезды за заслуги перед Советской Армией. Дата та же самая, 9 января 1981 года. Страница завершается указом № 74 о лишении гражданства Аксенова Василия Павловича за систематическую враждебную деятельность, то есть за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР. Прошу отметить, датирована эта январская весть 20 ноября предыдущего, 1980 года. Что бы это означало, господа? Порядковый номер правильный, а датировано задним числом? Где блуждал два месяца мой указ, почему так странно схалтурил Брежнев? Ответ на этот вопрос, возможно, никогда не выплывет из анналов тайных действий КГБ против российских романистов, но так или иначе, когда через пять месяцев, в июне 1981 года, я начал систематически, а именно два раза в неделю, наносить ущерб престижу Советского Союза, я был уже беспачпортным бродягой, с которого взятки гладки.
Хорошо запомнилось первое посещение одного из «гнезд радиодиверсий», а именно — вашингтонской редакции станции «Свобода». В то время там работали два человека: Борис Михайлович Оршанский и звукотехник Богдан. Тишайший и милейший Оршанский был на «Свободе» со дня ее основания. Глядя на него, трудно было предположить, что однажды во время службы в первые послевоенные годы в Германии, будучи молодым капитаном артиллерии и членом партии, он положил в карман шинели табельное оружие, пистолет Макарова, и ушел на Запад. «А что вас к этому подвинуло, Боря?» — «А знаете, Вася, просто не мог уже всего этого переносить»… Мы сидели в крохотной студии, напоминавшей в лучшем случае колхозный радиоузел. Микрофон заваливался набок. «Холера ясна», — бормотал Богдан и подсовывал под прибор пустые коробки. «Ну что, Вася, давайте поклевещем», — предложил Оршанский. В разгар записи наверху начали работать сначала молотком, а потом дрелью. «Все время там что-то чинят, — извинялся Борис. — Придется записывать в промежутках между молотком и дрелью».
Признаться, я был поражен простотой нравов. По собственному слушательскому опыту я знал, что слова «Говорит вашингтонская редакция радио „Свобода“» вызывают в воображении советского человека нечто вроде светящейся космической тарелки, управляемой донельзя тренированными, изощренными боевиками ЦРУ. Масштаб демонизации в данном случае на самом деле достигал космических пропорций. В 1975 году я боролся за поездку в Америку по приглашению Калифорнийского университета. Исчерпав уже все доводы в ЦК и Союзе писателей, я написал письма Брежневу и Андропову, после чего меня пригласили в приемную КГБ на Кузнецкий мост. Там некий человек с дорогими запонками и булавкой в галстуке, от каждого жеста которого разило какой-то сверхгосударственной значительностью, сказал мне про моих старых товарищей, что к тому времени уже эмигрировали на Запад: «Скатились до самого дна, до радиостанции „Свобода“». Любопытно, что именно эту фразу без каких-либо изменений я прочел о себе в «огоньковской» статье В. Алексеева в 1987-м, когда шла свистопляска вокруг «Письма десяти». Многочисленные «разоблачительные» статьи в советской прессе о «подрывных радиоцентрах», особенно о «Свободе», всегда носили какой-то специфический зловещий оттенок, как бы развязывающий критику руки для любого рода действий, то есть для окончательной критики болгарским зонтиком в зад. Стоило ли лезть вообще-то на лубянский рожон и ради каких сомнительных выгод? Тут, однако, стали вступать в силу факторы, непривычные для советского человека. Во-первых, находясь на Западе, ты вдруг, к полнейшему собственному удивлению, перестаешь себя чувствовать беззащитным перед лицом Лубянки; во-вторых, тебя может охватить желание быть услышанным. Все-таки мои читатели все там остались, и эфир, пусть густо минированный, стал единственной к ним дорогой. Пусть знают, что их писатель работает, старается смотреть на мир их глазами. Им это интересно, говорил я себе. Вообрази себя самого на их месте, представь себе, что с тобой все утряслось, ты избежал передряг и сидишь сейчас в Переделкине, а вот Е.А.Евтушенко, скажем, изгнали и лишили гражданства. Было бы тебе интересно услышать голос этого гипотетического изгнанника, долетающий из-за морей к студенистой поверхности застоя?
В этом месте, мой дорогой только что упомянутый читатель, мне как раз и приходится совершить некоторое насилие над хронологией и перепрыгнуть сразу на грань студенистого застоя и пузырящейся гласности, а именно в 1985-й, судьбоносный; еще точнее — в апрель 1985-го. Короткие пасхальные каникулы мы с Майей и нашей собакой Ушиком провели тогда в Океанограде, на атлантическом побережье штата Мэриленд. Каникулы кончились, и мы прикатили домой в Вашингтон, в квартиру с гигантским окном, из которого открывался вид на скромные крыши столицы, венчаемые неожиданно очень нескромным четырехгранным обелиском. Было полдвенадцатого ночи. Едва лишь сбросили сумки на пол, как раздался звонок. У телефона был знаменитый советский писатель Игрек ИгрекОвич. Он жаждал немедленной встречи. Игрек ИгрекОвич! Сколько связано было с ним всякого: и молодые шалости «оттепели», и похмельные хляби неосталинизма. Личность в некотором смысле феноменальная по бесконечной, казалось бы, неистощимой выработке какой-то странной, далеко не всегда, скажем так, ренессансной энергии; своего рода комбинация неряшливого, раздрызганного фонтана и засасывающей жадной воронки. Много лет уже к нам никто носа не показывал из прежней компании: одних просто не выпускали, другим, кого выпускали, давали строгий наказ с Аксеновым не встречаться — и вдруг Игрек!
«Нам нужно встретиться», — сказал он. «Ну что ж, милости просим завтра к нам», — сказал я. «Завтра не получится, нужно сегодня».
Пропустив мимо ушей дважды в течение 30 секунд повторенное слово «нужно», я стал извиняться, что вот, мол, только вошли, в доме шаром покати… Досадливо, не дослушав моих доводов, он продолжал настаивать на немедленной встрече, и лучше не у нас, а на «нейтральной почве». «Что ж это значит, Игрек, „нейтральная почва“? — спросил я. — Мы что же с тобой во враждующих армиях состоим?» Возникла мгновенная пауза, мне показалось, что И.И. как бы с разбегу споткнулся, как бы что-то вдруг нарушилось в его априорности. Хм, сказал он, ухмылка эта читалась почти однозначно. Ведь он же все-таки всю жизнь был борцом за мировую революцию, за чистый ленинизм, против сталинских извращений святого дела, пылал и фидель-кастровским, и хошиминовским романтизмом, всеобщего счастья человечества жаждал, а я оказался в лагере реакции. И все-таки, что уж так однозначно? Ведь мы же все-таки писатели одного поколения, ведь даже друзьями когда-то были, вместе возмущались оккупацией Чехословакии… Танки идут по Праге, танки идут по «Правде», вашего-вкось-налево-от-борта-и-по-диагонали, так сказать.
Вдруг припомнилось нечто другое, особое, в свете чего мое замечание о враждующих армиях зазвучало притворством, а его хмычок — истинным положением дел. «Ты что-то очень медленно уезжаешь, — сказал он мне как-то пять лет назад, зазвав на чашку жасминного чая, — ты бы лучше побыстрее отсюда уезжал, а то ведь всякое ненароком может случиться, и потом, знаешь, будь поосторожнее за рулем…» Я, помнится, тогда похолодел и не собственно от угрозы, а от неожиданной трансформации привычного мира; произошло нечто сродни тому, что испытываешь, когда открываешь дверь на повизгивание собаки, а вместо нее на пороге козел в кавалерийской шинели, прямо с пьедестала. Вдруг вспомнилось то, что говорили про ИгрекОвича так называемые злые языки, завистники его международных успехов. Неужто правда, неужто порученец «учреждения»? Тогда же стал старательно дурную догадку отгонять: а все-таки, быть может, не угрозу передавал, а свою собственную тревогу выражал, может, где-то что-то услышал, мало ли, где он бывает, и вот озаботился судьбой бывшего дружка, оттепельного лицеиста?
Паранойя ведь все советские годы была распространеннейшим насморком интеллигенции, и очень часто приходилось то по поводу одного, то по поводу другого говорить самому себе и окружающим: предпочитаю не чихать, может, так оно и есть, но лучше не верить. Иной раз в эмиграции то один американский писатель, то другой передавали: встретился в Каракасе, в Джакарте, в Гонконге с Игреком ИгрекОвичем, он говорил о тебе гадости, будто ты всех под удар подставил, бежал за границу. Гэбэшная, хорошо отработанная дезуха засовывалась иностранным писателям в невинные запазухи, и все-таки опять хотелось отвернуть от простейшего и пошлейшего варианта: «А может, ИгрекОвич и сам стал жертвой инсинуаций, поверил в дезу просто для того, чтобы себя возвысить за счет снижения других?»
Все это мгновенно протарахтело в течение мгновенной паузы, и потом он сказал: «Ну, что ж, давай у тебя». Мы сговорились, как встретимся. В полночь я подъехал к отелю, возле которого за четыре года до этого странный юноша Хинкли пальнул в человека, только что объявившего СССР «империей зла». Игрек ИгрекОвич стоял у входа. Пять лет, прошедшие с нашей последней встречи, не согнули его, да и вида не изменили. На первый взгляд это была просто высокая массивная фигура в сером костюме, однако при малейшем движении писателя костюм начинал переливаться всеми цветами радуги и вспыхивать то там, то сям искорками сродни тем, что можно увидеть порой в рекламных заставках телевидения. Раньше, когда Игрек приезжал с Запада в таких костюмах, народ в Москве лишь простодушно вздыхал: «Вот ведь мода там какая!» Мало кому в голову приходило, что и на Западе такие костюмы уникальны и что наш герой, очевидно, заказывает их там же, где делают это нефтяные шейхи. Сейчас в самом центре Вашингтона швейцар, бас-бой, два таксиста, бродяга и часть проходящей публики смотрели на костюм: откуда, мол, такой явился «интертейнер»? Как будто и пяти лет не прошло, как будто и двадцать лет с места не сдвинулись, как будто и сейчас, словно в 1965-м на улице Горького, он схватит прохожего за пуговицу и возопит: «Кто первый писатель России?» — «ИгрекОвич! ИгрекОвич!» — вспомнит немедленно прохожий, кем бы он ни был, негром ли преклонных годов, конгрессменом ли, никарагуанским ли беженцем. Позор поколению, у которого такой человек несколько лет ходил в кумирах. Нет, все-таки это несправедливо. Те несколько лет в нем жива была еще искренность, он чувствовал строку; вообще, казалось, что он любит Божий мир отдельно от своих «прогрессивных лозунгов»; он, например, остро чувствовал снег. Все лучшее, что еще осталось за ним, связано с образом заснеженной Москвы; метель, волокущаяся широким фронтом по Садовой, или похрустывание плотного солнечного наста, или обильный мягчайший, без конца многообещающий снегопад, через который идет он в своих диких шубах, с бутылками импорта в карманах.
Дома у нас он уселся в кресло возле огромного окна и положил рядом пластиковый мешочек. В течение трехчасового разговора он, кажется, ни разу не вылез из этого кресла, может быть, только однажды прогулялся в туалет. Притушенное освещение мешало цветовой игре его костюма, в полумраке он казался почти приличным серым костюмом, и только лишь когда мимо окна пролетал полицейский вертолет, шаривший прожектором по дворам в поисках мазуриков, костюм вдруг вспыхивал, будто декорация к «Снежной королеве». Он сидел напротив, Майя сбоку. Мы с ней договорились, что она не будет перебивать ночного гостя. После почти полной пятилетней блокады важнее было слушать, чем говорить самим, особенно с И.И. В середине треугольника, то есть в метре от длинной штиблеты крокодиловой кожи с пряжкой из венесуэльского изумруда, расположился, положив морду на пушистые лапы, наш Ушик. Положение пса — весьма важная деталь в этой мизансцене.
— Послушай, что это ты так все пишешь? — спросил он. — Что это ты так над всем иронизируешь, издеваешься, а? Что это за лисенок в тебе сидит, в самом деле?
— А что ты имеешь в виду, Игрек? — спросил я в некотором обалдении: вот уж не ожидал, что разговор сразу начнется с литературно-психологических вопросов.
— Ну эту твою повестуху, ну как ее, ну «Бумажный пейзаж», что ли? Никчемная, паршивая книжонка!
— Что же это тебе так моя книжонка не понравилась? — спросил я. — Многие находят, что смешная.
— Смешная, смешная, — он оскалился. Еще в прежние годы я заметил, что он не любит юмора и совсем уж терпеть не может так называемой «иронической интонации». Странная мимика, беззвучное обнажение зубов и десен появлялись у него в минуты сильного неудовольствия. Впоследствии я думал, почему именно «Бумпейзаж» так раздражил И.И.? Ну, с какой стати писателю, богемщику, так раздражаться на книжку, где предметом юмора стали «сурьезные» лубянские мужчины? Именно с нее начинать разговор?
— Да и вообще, — продолжал он, — все эти смехуечки, подгребки, сколько же можно, пора тебе с этим кончать! — Признаться, я слегка растерялся от такого императива.
— Вот так просто и кончать?
— Да, да, пора понимать серьезность ситуации. И затем: чего это ты нападаешь с такой злостью на больших писателей? Брось отпускать свои ядовитые насмешки в адрес больших писателей!
— Какого размера писателей ты имеешь в виду? — спросил я.
— Не притворяйся, прекрасно помнишь, как нападал на Маркеса и Грэма Грина! — он твердо, отчетливо, очень серьезно выговаривал слова. Ни теплоты, ни усмешки, вообще никаких приятельских интонаций не отмечалось. Игрек ИгрекОвич явился сюда с чем-то похожим на предупреждение… или, скажем, на угрозу отщепенцу. Временами, правда, он брал себя за виски длинными пальцами птицелова и тихонько стонал: болела кудрявая голова, хотелось выпить и закусить.
В доме нашлась бутылка арманьяка, закусок не было, кроме зачерствевшего французского батона и коробки шпротов. А не выбить ли у него из пальцев стакан, не выгнать ли на фиг? От кого это он приехал нотации мне читать? Впрочем, стоит, пожалуй, подождать. Любопытно, откуда у него сведения о моих атаках на Маркеса и Грина? И тот, и другой упоминались мной по ассоциации в радиопередачах, то ли на «Свободе», то ли на «Голосе Америки». Представить Игрека ИгрекОвича, тихо в ночи слушающего «вражеские голоса», было просто невозможно: он даже сводку погоды на ти-ви не мог вынести, поскольку в ней о нем не говорилось. Значит, кто-то заботливо снабдил человека информацией об этих, прямо скажем, не очень-то уж сногсшибательных событиях. Я сам не очень-то отчетливо теперь уже помню, чем задел больших писателей. Впрочем, вот о Маркесе, кажется, что-то выплывает.
Радиоэссе «Левая самоцензура», 1982-й… Недавно в газете «Вашингтон пост» один обозреватель писал, что Маркес как будто сшит по заказу для Нобелевского комитета: талантливый прозаик, автор отменнейшей книженции «Сто лет одиночества», да к тому же еще и левый. В самом деле, левее Маркеса можно увидеть, пожалуй, только живот его личного друга Фиделя Кастро, но этот последний, увы, пока еще не взялся за перо, пока еще не последовал примеру Габриэля и другого своего старого друга, литературные заслуги которого уже отмечены в СССР и только и ждут теперь своего нобелевского часа. Все впереди! Маркес пока что левейший из левых мировых писателей — и с террористами связан, и из родной многопартийной Колумбии перебежал в однопартийную Мексику, устроил себе такой неплохой газетный шумок, и… как Нобелевский комитет определил его заслуги, «всегда политически на стороне бедных, а также против внутренних репрессий и иностранной экономической эксплуатации». Казалось бы, каждый либеральный в подлинном смысле слова писатель может присоединиться и поаплодировать новому герою, а про террористов можно и забыть, ну, увлекся романтическими юношами романист, с кем не бывает. Хочется многое забыть, но тем не менее вспоминается экран московского телевизора и физиономия Маркеса, полная провинциального высокомерия. Я дал зарок, вещал он, ничего не печатать из своих художественных произведений, пока не падет жестокий режим Пиночета в Чили. Аплодисменты. Кому приятна диктатура? И все-таки, товарищ Маркес, не лишайте человечества столь большого удовольствия, как чтение ваших романов. Он улыбается. Дальнейшее показало, что зарок был не так уж тверд. В те дни десятки тысяч вьетнамских беженцев, так называемый «лодочный люд», ежедневно тонули в море, пытаясь спастись от новых революционных хозяев. Весь мир шумел об этом, и Маркес был спрошен московским телевизионным человеком: «А что Вы скажете, товарищ Маркес, по поводу шумихи, раздуваемой буржуазными средствами информации, в связи с проблемой вьетнамских беженцев?» Не исключаю, между прочим, возможности лукавства со стороны телевизионщика. Иные советские телевизионщики были не так уж просты. У Маркеса на лице появляются следы марксистского анализа. «Это естественный процесс классовой революции, — объясняет он советским телезрителям. — Проигравший класс должен исчезнуть, уступить свое место победителям». Не правда ли, фраза эта весьма привлекательно звучит в устах политического сторонника бедных? Я помню, как хохотали тогда в Москве и как многие дали зарок ничего не читать маркесовского до падения коммунистов во Вьетнаме. Все-таки нужно обладать какой-то особенной вульгарностью, чтобы быть настолько заблокированным так называемой левой идеей.
…Ага, так вот что он имел в виду, говоря об атаке на Маркеса! Ну, а что же насчет Грэма Грина? Грэм Грин, надо сказать, в отличие от упомянутого выше нобелевского романиста, принадлежал к числу моих любимых современных писателей. Мне очень нравилось, как он расставлял слова в своих «антибских рассказах». Где же я его-то задел, как же я с Грином-то разгневал леволиберальную общественность, пославшую ко мне Игрека ИгрекОвича? Ба, да ведь вот же совсем недавно упомянул где-то беседу Грэма Грина с неким советским писателем. Беседа была опубликована в «Литературной газете», и я по радио мимоходом съязвил, что, мол, к счастью, мистер Грин не знает русского языка, иначе бы смог заметить, что собеседник едва ли не зачислил его в святцы социалистического реализма. Ну, конечно, прогрессивного социалистического реализма, не сталинского, конечно, вот именно, в святцы ленинского, то есть чистого, незапятнанного, стало быть, социалистического реализма. Ну, а собеседником старого шпиона и католика то ли в Антибе, то ли в Лондоне был не кто иной, как наш приятель Игрек ИгрекОвич, вот в чем дело. Тогда по остаткам наивности я еще полагал, что Грин был бы возмущен, прочти он перевод приписанных ему ИгрекОвичем гладких, обкатанных, социалистических сентенций. Позднее я понял, что он мог бы быть и доволен такой интерпретацией своих слов, а может быть, и сам слегка говорил в этом стиле: нельзя исключить, что где-то в извивах его страждущей души жила и такая идея — прибиться с помощью ИгрекОвича к неизведанной еще моральной твердыне. Ведь жил же где-то в извивах этой души и странно интенсивный антиамериканский пафос, позволивший ему однажды заявить, что пляжи Калифорнии — это явление сродни ГУЛАГу. Там же ведь, в тех же извивах, жило и нечто не позволившее ему даже отдаленно предположить, что этим заявлением он оскорбляет не столь калифорнийцев, дурех, поклоняющихся божку sin&fun, сколь заключенных ГУЛАГа. Впрочем, что нам сейчас судить о воспарениях и заблуждениях покойного мастера прозы, если сейчас перед нами сидит его антипод, слывший при жизни Грина его большим другом? Грин тыкался туда и сюда как подслеповатый старый мальчик. Игрек ИгрекОвич зорко и четко прет в одном направлении.
— Ну и как ты себя чувствуешь здесь, предав всех своих «метропольцев» и убежав за границу? — вдруг спросил он меня. И снова все опять выплыло на поверхность: «деза», сфабрикованная в гэбэ и запущенная через московское отделение Союза писателей. И ее, теперь уже прямо мне в лицо, преподносит бывший товарищ!
— А не ты ли предупреждал меня, что я слишком долго уезжаю? Как можно слишком долго убегать? Не ты ли намекал на возможность автокатастрофы? — спросил я вместо ответа и подумал, что, если он сейчас приходит ко мне с этой «дезой», может быть, он является не только ее передатчиком, а в какой-то степени и автором? Ему ведь надо и самого себя, и меня убедить в том, что он действительно так думает, а не просто болтается в заграничном пространстве как мелкий агент ведомства. Вообще, в течение всей беседы меня не оставляло ощущение, что Игрек все время работает на двух хозяев: на своего основного, то есть на самого себя, и на того, другого, без которого и основной хозяин прогорит, рухнет, обнажится. И все-таки чуть-чуть обманывает того, другого, говорит для него, будто по заранее приготовленному списочку, идет, будто ему магнитофончик положили в карман, а потом забывается и на себя начинает одеяло тянуть, обнажает свое матерое тело.
— Что же, ты меня подозреваешь в зависти, думаешь, что это я тебя выталкивал, хотел избавиться от соперника? — саркастически вопрошает он, и опять я не могу избавиться от впечатления, что он не ко мне с этим вздором обращается, а к тому, кто этот разговор мониторит или будет потом расшифровывать.
— Ты прекрасно знаешь, кто меня выталкивал. Ты и тогда это знал, — говорю я и, стало быть, впрямую упоминаю «мониторщиков». Увы, мой ответ-вопрос остался без ответа, как будто Игрек его не слышал. Казалось бы, возмутиться надо было, встать с громогласным: «За кого ты меня принимаешь?!», однако он как будто спешит, как будто торопится пройти по списочку; ему не важно, что я отвечаю, важно галочку поставить и к следующему пункту перейти.
— Ну, впрочем, не только ты своих метропольцев предавал, — быстро говорит он, — они тебя все тоже предали. — Вот эта галочка уже прямо бьет между глаз. Я едва ли не выскакиваю из кресла. Майя с трудом удерживается от взрыва: ведь сотни раз мы с ней превозносили всех наших друзей.
— Никто из них меня не предал! — выкрикиваю я.
— Все, все предали, — повторяет он с довольной ухмылкой, но опять вовсе вроде бы не заботясь о том, чтобы я поверил, как будто его задача вовсе не в том состоит, а только лишь в назывании очередного пункта. И затем сразу вперед, к следующему вопросу повестки дня. Возможно, к самому главному. — А теперь скажи, для чего ты работаешь на этих радиостанциях?
«А тебе какое дело? А ну-ка, пошел вон отсюда, посланец доброй воли!» — так мне хотелось крикнуть ему в ответ, однако мысль о том, что любопытнейший ночной разговор на этом может прерваться, останавливала. Я с опаской взглянул на Майю. Она, похоже, еле сдерживается, как будто даже старается зажать рот ладонью, чтобы не крикнуть: «Позвольте вам выйти вон, Игрек ИгрекОвич!» Ушик между тем, разомлевший у камина, поворачивается кверху пузиком.
— Почему же мне на них не работать? — почти как охотник, приближающийся к тетереву, осторожно спросил я. Сейчас, кажется, все выяснится. И точно, с каждой фразой И.И. все выше вытягивал из мешка ослиные уши. В те дни я еще не слышал имени Ббква, и за всеми этими играми виделся мне ныне раскаявшийся Карпович. Так или иначе, это были они. Сомнений почти не оставалось, Игрек пришел от них.
— Тебе что, денег не хватает? Денег, что ли, мало? — с сильной агрессией спросил он.
— Ну, вообще-то не хватает, — признался я. — А тебе разве хватает? — Вспомнились московские толки о том, почему ИгрекОвичу всегда денег хватает.
— А ведь я не работаю на «Радио Москвы»! — вдруг с гордым вызовом заявил он. Я подумал почему-то о русском свойстве начинать полемические фразы с «ну» или с «а». А кто там из писателей на «Радио Москвы» работает? Ну, разве «Радио Москвы» считалось когда-нибудь источником денег?
— Ты думаешь, это одно и то же: врать по своему радио или говорить правду по чужому? — спросил я. Нежелательные вопросы-ответы на вопросы-вопросы нас не смущают: мы просто не отвечаем на них. Вздув большущее пузо, Игрек ИгрекОвич вылез лицом вперед, так что блики камина заплясали на его щеке.
— Ну ладно еще «Голос Америки», — проговорил он, — а ты ведь до самого дна скатился, до «Свободы». Разве ты не знаешь, кто им деньги дает? — зловеще вещал он. — Не притворяйся, прекрасно знаешь, откуда к ним деньги идут. Из ЦРУ! — Фонетически русская аббревиатура не очень подходит к этой тайной организации. Она предусматривает какое-то хоть и сдержанное, но явное погромыхивание за горизонтом. Си-ай-эй — явно лучше: совсем уж почти нечто невидимое и еле слышно шелестящее. Я расхохотался: они обожают это ЦРУ, видят в нем свою зеркальную копию, именно поэтому так и содрогаются при упоминании.
— Скажи, от кого ты эти сведения получил? Уж не от Генриха Боровика ли?
— Все знают, кто дает деньги «Свободе»! — и снова вызов, снова презрение, весьма подчеркнутое голосом, как будто тот, кто посылал, предупредил: «Не забудьте, когда будете у Аксенова, каждое слово будет услышано!»
— Эти твои сведения, Игрек, устарели, — сказал я. — Конгресс дает деньги «Свободе» и «Свободной Европе». Утверждает весь бюджет до последнего цента. Да и вообще, — продолжал я, — какое тебе дело, где я работаю? Радиожурналистика — дело довольно естественное для писателя, особенно в эмиграции. Нам, конечно, предлагали и что-то другое, — начал было я.
— Что это вам другое такое предлагали? — с нескрываемым интересом перебил он.
— Хм, — сказал я. — Ну, скажем, полное профессорство, жить на кампусе где-нибудь в глуши, однако мы решили лучше на вольных хлебах…
— Кому это нам? Почему ты все время говоришь «мы»? — И снова в его голосе появилось какое-то странное презрение в адрес этого «мы».
— Говорю мы, потому что это мы: я, Майя и Ушик.
— Какой еще Ушик?
— Собака наша.
— Какая еще собака? — с досадой воскликнул он. Ушик, как было уже замечено, лежал в метре от его башмака. Ситуация напомнила мне рассказ его большого друга и моего любимого писателя Грэма Грина «Одиннадцать невидимых японцев». Странные все-таки нынче пошли литераторы с недоразвитой наблюдательностью! Может быть, на чем-то одном внимание все время сосредоточено? Он вперился в Ушика. Тот лапкой провел по своему уху, будто отмахнулся от неприятного взгляда. ИгрекОвич, обнаружив четвертого, мохнатого участника беседы, почему-то смешался, сбился, отвлекся от своего вопросника к коробке шпротов, этой «сардиннице ужасного содержания», где рядком лежали извечные советские закусочные мумии. Шпроты-то были ностальгические, из русского магазина.
Впрочем, может быть, и вопросник уже исчерпан?
— Ну, а почему ты теперь даже и меня, своего старого товарища, предал? — вдруг с какой-то феликс-кузнецовской вкрадчивостью спросил он. Вот так, значит, это раз и навсегда гэбэшным топором и долотом сработано: в предатели меня записали. Сначала метропольцев предал, убежав за границу, а теперь, оказывается, и ИгрекОвича, своего «старого товарища», в чем-то предал? Его самого, хитроумного сома, угря, в чем его кто-нибудь может предать? Оказалась такая история: третьего дня он прочел в «Нью-Йорк таймса бук ревью» мою статью «Кривобокий успех» о том, что такое литературный успех в условиях социалистического реализма. Там в одном месте был упомянут ИгрекОвич рядом с именами Евтушенко и Вознесенского. Говоря о взлете новой волны в начале 60-х, я сказал, что молодым писателям в те времена иной раз приходилось идти на компромиссы, подбрасывать куски ненасытному монстру. В этом, значит, заключалось мое предательство «старого товарища».
— Послушай, Игрек, да я, быть может, во всей эмигрантской общине единственный, кто еще не считает тебя агентом КГБ, — признаться, не без злости сказал я.
Он вздрогнул при звуке «бибабо». Он явно растерялся и принужденно хохотнул. Незавершенный хохоток высветился на лице странным оскалом.
— Вот так… вот так… комплимент… — произнес он с какой-то неопределенной интонацией.
Любопытно, подумал я. Ни малейшего возмущения не выражается в адрес «эмигрантской общины». Поразительно, что совершенно не открещивается от «бибабо». Может быть, боится, что при расшифровке какой-нибудь пленки его возмущение будет неправильно истолковано? Чего, мол, это вы от нас так яростно открещиваетесь, товарищ ИгрекОвич? Гордиться надо, а не стесняться таких подозрений со стороны эмигрантского отребья.
Так или иначе, но дело, кажется, было сделано: прошелся по всему списочку претензий. Суммируем: а) ироническая, издевательская над органами интонация («Бумажный пейзаж»);
б) атаки на прогрессивных больших писателей, друзей СССР;
в) работа на подрывных радиоцентрах, особенно на «черном дне» — станции «Свобода», и наконец, г) предательство его самого, Игрека ИгрекОвича, в газете «Нью-Йорк таймс». Он облегченно вздохнул, прогулялся в туалет и, вернувшись оттуда, вздохнул еще более облегченно. Допил коньяк. Протянул руку, чтобы погладить собаку, однако не донес, рука потрепыхалась в воздухе. Ушик после этого поднялся по спиральной лестнице и лег там, глядя сверху на нашу странную компанию.
— Ну как вы вообще-то живете? — спросил Игрек. — Хотите, я почитаю вам свою новую пьесу? — Не дожидаясь ответа, он вынул из сумочки пухлую папку.
— Тут часа на три чтения, — мрачно сказала Майя, но он уже ничего не слышал. Читал. Минут через пятнадцать несусветного чего-то, прогрессивного и в то же время глубоко народного, в котором боль за родную землю подобна крику журавля, я тронул его за колено:
— Давай-ка, Игрек, я отвезу тебя в гостиницу.
Он встал. От зоба до подошв прошла сильная цветовая гамма.
— Да, ничего не скажешь, меняются люди в эмиграции, черствеют душой.
О чем мы говорили на обратном пути, не запомнилось. Все прошлое ушло, я вез лишь докучливого посланника, явившегося в мой дом со странными и смутными предупреждениями. Вашингтон демонстрировал свой худший вариант: 100 % влажности плюс непрерывно сочащееся дождем небо. Меня слегка мутило. Через несколько минут мы расстались, чтобы не увидеться — еще шесть лет. Игрек ИгрекОвич выступал все эти годы как «флагман перестройки» и посланец доброй воли. Я до недавнего времени, как это видно из эпиграфа, третировался на родине как эмигрантское отребье, предатель и платный сотрудник «подрывных центров». Все это мне почему-то захотелось рассказать читателю, перед тем как перейти непосредственно к «Радиодневнику».
1980
КУЛИСА СКОРОСТЕЙ
Я все еще до конца не понимаю, что со мной произошло. Во сне часто вижу себя за рулем «Волги». Подъезжаю к Никитским воротам, переключаю скорости. Грань яви и сна — где я, «там» или «здесь»? Затрудненная мысль — что это «там» и «здесь», что за понятия? Могу ли я сказать «там» про родные Никитские ворота? Стараюсь не изменять своим привычкам. Утром получасовая пробежка. Утицы университетского городка, где я сейчас живу, отдаленно напоминают Переделкино. Навстречу тащится добродушный пьянчуга, поднимает пятерню… Что он сказал — «здорово, друг» или «hi, buddy»? Настоящий московский кирюха, только черный, впрочем, и у наших мужиков кожа сейчас часто чернеет — следствие многолетнего потребления страшного советского напитка, именуемого «портвейн». Вдруг вижу (всякий раз вдруг) над зданием университетского госпиталя звездно-полосатый флаг, который гордо реет в голубом небе. Не правда ли, странно — ведь гордо реять полагается совсем другому флагу. Я смотрю на этот флаг, и в этот момент, к счастью тут же пролетающий, как и полагается моментам, вновь остро ощущаю, что со мной произошло нечто очень существенное в том смысле, что я, очевидно, уже никогда не вернусь «туда» — «отсюда». Еду в своей автоматической «омеге», мелькают огни, правая рука ищет кулису скоростей, левая нога — педаль сцепления — их нету.
ОТКУПОРИТЬ ШАМПАНСКОГО БУТЫЛКУ
Наблюдая ежедневно по телевидению за ходом здешних выборов, прихожу к выводу, что «Спутник агитатора» чего-то недоговаривает. Неправы и здешние диссиденты — выбор есть! Один, вообразите, блондин среднего роста, другой — высокий брюнет. У блондина — голубые глаза, толстые мягкие губы, отменнейшие натуральные зубы. Однако и брюнет может похвастаться некоторыми преимуществами: губы тонкие, челюсть крепкая, зубы под вопросом, как и у многих избирателей. Один держится очень прямо, второй слегка сутулится. Один уже не молод, второй еще не стар. Жены у обоих очень стройные, но одну зовут так, а другую иначе. Один занимается джоггингом, второй увлекается боулингом. Костюм у одного с синей ниточкой, у другого как будто с коричневой. Голос у одного — бытовой дискант с небольшим металлическим оттенком, у второго — поставленный артистический баритон. Блондин зачесывает волосы набок, брюнет строго назад. Короче говоря, на одно место здесь двое. Почему бы и нашим доктринерам не выставлять на одно место в Верховном Совете не одного железного доктринера, а двух железных доктринеров? Сногсшибательная перспектива! Народ впервые за 180 лет существования нашей доктрины (год за три) получит возможность выбора, сможет предпочесть, к примеру, толстого тонкому, лысого кудрявому, или наоборот, — и доктрина не пострадает, потому что оба, и толстый, и тонкий, — железные доктринеры. Наоборот, даже выиграет доктрина: ведь сколько можно будет пресечь клеветы на нашу избирательную систему!
Когда-то я уже загорался этой идеей. Вспоминается беседа с Чапчаховым. Чапчахов — секретарь Союза писателей со дня основания последнего, бессменный депутат Верховного Совета, председатель различных обществ — и комиссий, главный редактор журнала, по сути дела, один из столпов доктрины. Столп утопал в мягком кресле, в зубах имел потухшую, но вонючую трубку, взгляд его сонных, но всегда хитреньких глаз ни разу не попадал на собеседника, но кружил вокруг, как бы очерчивая его контур. Излагаю депутату плоды своих размышлений. Подчеркиваю, что за доктрину волноваться не приходится, доктрина незыблема. Не кажется ли товарищу Чапчахову, что страна нуждается в таких небольших изменениях? В обществе, откровенно говоря, накапливается некоторое разочарование. Недавно в очереди за сыром женщины говорили, что теперь за весь огромный дом ходит голосовать одна какая-нибудь старушка. Соберет бюллетени за весь дом и разом в урну — бух! А можно и вообще никому не приходить — агитатор сам за тебя проголосует. При Сталине, вздыхали женщины, все ходили, а сейчас разбаловались, вот какой народ стал неорганизованный. Так не пора ли, говорю я столпу нашей древней немецкой доктрины, не пора ли «оживить одряхлевшее тело волной искрящейся крови» (А. Блок).
Вообразите двух внешне различных кандидатов на одно депутатское место! Какое разнообразие! Какая вспышка общественного подъема! Конечно, продолжаю я, не нужно крайностей. Не следует идти по пути диссидентской группы, которая недавно в противовес партийной кандидатке, народной артистке, Героине Социалистического Труда балерине Маше Иммортельевой выставила безработного историка Роя Медведева. Ведь нельзя же сравнивать изящество ног с мощью ума. Ноги надо сравнивать с ногами, головы с головами.
Молчит Чапчахов, сопит в свою трубочку, молчу и я, готов пострадать за общество.
— Вы думаете, вы один такой умный? — проскрипел наконец депутат. — Обсуждали мы уже в наших комиссиях подобную идею. Отвергнута. Могу объяснить почему. Берем пару кандидатов, оба равноценные бойцы за народное дело, но выбирает народ почему-то одного. Почему? Закрадывается невольное подозрение: а вдруг второй-то, неудачник-то полезнее все-таки был бы для нас, для нашей доктрины? Вот тут-то и тупик: не могут сами люди решить до конца, кто из двоих лучше. Кто может решить? Только доктрина, а она решила давно: двух не нужно, нужен только один, один всегда лучше.
Здесь все иначе. Один кандидат, оказывается, во время войны служил на флоте и показал себя героем, зато у другого обнаружился вдруг обострившийся геморрой. Вечером по телевидению очень симпатичный господин обещает нам уверенную жестко-мягкую-гибко-сбалансированную-несгибаемую внешнюю политику, и мы абсолютно ему верим, а наутро читаем в газете, что он страдает пороком митрального клапана.
Компенсированным, тут же успокаивает народ популярный еженедельник и предлагает читателям схему сердца кандидата, утверждая, что с таким, движком наш джентльмен может тянуть еще пару-тройку исторических эпох. Там, откуда мы приехали, на земле диалектического материализма, царит мистика. Здесь, куда мы приехали, в стране, построенной на фундаменте религии, то есть мистики, все проверяется детальным прагматизмом. Что делать дальше? Лечь на диван лицом к стене или откупорить шампанского бутылку, перечитать «Женитьбу Фигаро»?…
1984-й ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Последние несколько лет очень многое прояснили. Идеологии уже не удается скрыть ее намерение в отношении культуры. Аппаратчики торопятся — оруэлловский 1984 год близок. Взамен культуры формируется псевдокультура коммунистического общества. Им кажется, что они уже завершают свою миссию. К счастью, ошибаются. Впервые за всю советскую историю культура отвечает массовым и твердым непослушанием. Перед нами беспрецедентный исторический процесс, исход писателей без всякого катастрофического фона, без видимых войн и революций. Московские аппаратчики говорят, что, изгоняя писателей, они очищают воздух. Это неверно: они не очищают воздух, но заменяют его, создают новую бескислородную цивилизацию. Можно считать, что эмиграция — это бессмысленная экзистенциальная драма. С тем же успехом, однако, можно предположить, что у литературной эмиграции есть нравственный смысл и метафизическая задача. Молодость моего поколения была освещена Буниным, Замятиным, Ремизовым, Набоковым и другими эмигрантскими писателями, чьи книги нашли дорогу домой. Может быть, и нынешняя эмиграция осветит чью-то юность в будущем. Живя на Западе, мы превращаем идеологический Железный Занавес в нечто пористое и прозрачное, разрушаем вечную мечту аппаратчиков о литературе медвежьей берлоги. Россия уже сейчас стоит на пороге решительных перемен. Предсказать характер этих перемен невозможно.
АРЕСТ ПИСАТЕЛЯ
…На днях в Москве арестован 35-летний писатель Евгений Козловский. Чекисты пришли рано утром, кинулись на рукописи, на «вредные» книжки, забрали человека и бумагу (боятся, как черти ладана, такой комбинации) и свалили со своей добычей. Перепуганной жене, актрисе Лизе Никищихиной, было объявлено, что ее муж обвиняется по статье 70 (или какая там у них) в распространении антисоветской пропаганды (или как там у них) и что следствие будет вести некий Попов. Позорит человек хорошую русскую фамилию, даже на изобретателя беспроволочного телеграфа бросает тень. Козловский никогда не занимался тем, что сейчас называется диссидентской деятельностью, схватили его только за его прозу, за публикации в «Континенте», за участие в «Каталоге Клуба беллетристов». Экая тупая и свирепая дичь. Должно быть, хотят всех писателей подравнять к своим любимым «деревенщикам»; а тем, кто не подравнивается, для устрашения — арест Козловского. Евгений Козловский — восходящая звезда нового поколения русской прозы. Об этом можно судить по его публикациям в «Континенте» — рассказ «Чиновница и диссидент», повесть «Красная площадь», — об этом говорит пока еще не напечатанное главное произведение, панорамный роман «Мы встретимся в раю», свидетельствующий жизнь советской интеллигенции в курной избе семидесятых годов. Кто отдает приказы об арестах и преследованиях писателей? Кто заламывает руки писателям, заставляет каяться, бросать тень на друзей? Ведь не весь же Советский Союз, не весь ЦК, не весь, в конце концов, КГБ — кто-то ведь первый открывает рот или рукой «накладывает резолюцию». Любопытно взглянуть на это лицо, стоящее, разумеется, вне человеческих понятий о позоре. Увы, позор-то ложится на тех, кто эти акции осуществляет.
CAPITAL SHIFT
…Двадцать пять лет я жил в русской столице Москве, прежде чем меня из нее вышибли соответствующие органы в лице соответствующих сотрудников. Прежде, бывало, уезжая за рубеж, вспоминал Москву с теплым, даже слегка романтическим чувством, спешил вернуться: ах, Арбат, мой Арбат, Поварская, Садовая-Триумфальная, Манежная, Охотный, Тверская… о, нашей молодости споры, о, эти взбалмошные сборы, о, эти наши вечера… Сейчас, увы, город на семи холмах соединился для меня прочно с физиономиями идеологического аппарата и подозрительных литературных критиков — помните, господа, когда-то мы называли их «искусствоведами в штатском»? — с физиономиями столь же наглыми, сколь и тупыми. Ностальгия моя почему-то стала перемещаться к Югу, в понятие «оставленная родина» почему-то стали все больше входить берега Черного моря и Кавказ. Может быть, потому, что, вырываясь туда, мы отдыхали от «кувшинных рыл»? Теперь я живу в столице другого мира, «капитальное», ей-ей, перемещение, и все-таки от Москвы так просто не отмахнешься: стоит смежить очи, и тут же она выплывает, абсурдная, навалившаяся сама себе на бока и все-таки еще ждущая какого-то своего несбыточного ветра.
1981
ТАИНСТВЕННЫЙ ШЕДЕВР
В одном из сентябрьских выпусков «Литературка» напечатала статью такого А.Николаева под заголовком «Ярмарка подонков». В ней описывается мероприятие Нью-Йоркской публичной библиотеки, ставшее известным как «Прием высланных писателей в связи с Третьей международной книжной ярмаркой». Один из спонсоров приема, президент издательства «Рэндом-Хаус» Роберт Бернстайн, давно уже стал излюбленной мишенью ЛГ. Товарищ Николаев сообщает, что читатели возмущены его деятельностью. Один из них, некий Владимир Веселок из отдаленного Экибастуза, даже предложил подать в суд на Бернстайна за «возмутительное оскорбление миллионов честных людей». Этот Веселок является одной из многих загадок статьи тов. Николаева. Почему его отправили в Экибастуз? Почему не в Минск, не в Томск, не в Сочи? Почему, наконец, не в окрестности Лубянки, поближе к автору?
Эта загадка лишь одна из многих. Много непонятного тут с цитатами. Трудно разобраться, кого цитирует А.Николаев: «Нью-Йорк таймс», самого себя или корреспондента ЛГ в Нью-Йорке, товарища Манакова. И все-таки Веселок… Каким образом он познакомился с «отвратительным антисоветизмом Бернстайна»? Бога ради, как он умудрился заполучить в Экибастузе «отвратительные» плоды «Рэндом-Хауса»? Легче представить себе магазин этого издательства на обратной стороне Луны, чем в живописном Экибастузе. Может быть, Веселок просто верит всему тому, что пишет из Нью-Йорка тов. Манаков в «Литературной газете»? Простодушие такого рода, однако, трудно себе представить даже в степях Казахстана. Одна загадка за другой: согласно А.Николаеву, некоторые писатели на приеме Публичной библиотеки, в частности И.Бродский, В.Войнович, В.Аксенов, являются «выкормышами западных пропагандистских центров». Может быть, т. Манаков снабдил т. Николаева неверной информацией из США? Трудно все-таки назвать пропагандистскими центрами Мичиганский университет, Баварскую академию, Институт Кеннана, чьими «выкормышами» на данный момент эти писатели являлись. Даже в Экибастузе засмеют. Загадки, загадки…
Все-таки, если партия считает печать своим острейшим оружием, мы вправе спросить: в надежных ли руках металл? Кто вы такой, тов. Николаев? Мифоман со специальным допуском к «секретной информации» или просто лжец? Откуда вы выкопали цитату В.Буковского: «Мой метод — террор. С коммунизмом можно бороться только террором». В книгах Буковского вы не найдете ничего, даже отдаленно напоминающего призыва к насилию. Может быть, цитаты выкопаны из доноса двадцатилетней давности? Вдруг скачок из этого почтенного источника к итальянской газете «Эпока». Теперь уже меня цитирует А.Николаев: «Аксенов сказал газете, что свобода для него является лишь этической и литературной проблемой. Как же может человек с такой концепцией свободы принимать участие в приеме Нью-Йоркской публичной библиотеки?» Как будто только что не назвал меня «выкормышем западного пропагандистского центра».
В заключение хочется сказать несколько слов в защиту совершенно невинного персонажа, а именно Нью-Йоркской публичной библиотеки, где проходила «Ярмарка подонков». Тов. Николаев доверительно сообщает, что эта плохая антисоветская библиотека расположена на 42-й улице по соседству с порношопами, стриптизами, наркоманами и проститутками. Тут он торжествующе ставит рядом подонков внутри библиотеки и снаружи, умалчивая, однако, о том, что его собственный орган, «Литературная газета», расположена на Цветном бульваре, который и по сей день старые москвичи считают символом проституции. Кто-то все-таки должен был посоветовать А.Николаеву не увлекаться двусмысленной топографической игрой. Штаб-квартира КГБ, например, располагается рядом с универмагом «Детский мир», однако мы не можем утверждать, что чекисты там играют в дочки-матери. Главной загадкой статьи все-таки остается Веселок из Экибастуза. Послушай, Володя, почему бы тебе не послать подальше бездарную кодлу? Приезжай-ка ты к нам, на 42-ю улицу. Уверен, что неплохо время проведешь, может быть, даже и в библиотеку заглянешь, а?
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ ДЛЯ ЮРЫ
Невыносимо думать, что Юры Трифонова нет среди живых. Сижу сейчас здесь в Санта-Монике, одиннадцать часовых поясов от его дома на Песчаной в московском районе Сокол, вспоминаю наши столь частые встречи; и Крым, и Прибалтику, но чаще всего видятся снежная аллея, звезды над головой, заиндевевшие ветви; мы идем вдвоем и беседуем — иногда о серьезном, обычно о пустяках, которые увлекали нас обоих одинаково: о спорте, о политике, о путешествиях. Он был мне другом в самые трудные времена. Банально, но жизнь подтвердила: иные громогласно клянущиеся в дружбе застольные супермены оказались трусами; сдержанный, как всякий настоящий интеллигент, Трифонов явил свою дружбу в последний год нашей жизни в Москве, и я прекрасно понимал, что означают наши тихие прогулки под бдительным оком Большого Брата.
Последнее десятилетие в русской литературе было десятилетием Трифонова. Я бесконечно благодарен ему за его мастерство, за способность одной фразой вызвать из прошлого запахи, мелодии и шаги, за его гениальную сдержанность. Писатель безвременья, скупого на кислород последнего советского десятилетия, как он любил и жалел наш замороченный город, ведущий в сумерках свою тихую многомиллионную жизнь, — вспомните последние строки «Дома на набережной». Проза его многомерна и прозрачна, сквозь нее неизменно просвечивает иная жизнь, иной свет, иной смысл. Тромб — это шальная пуля среди остальных, свистящих по равнине. Трифонов ушел на вершине своего мужества и мастерства. Он был полон замыслов, вкуса к жизни, к успеху, любви к Ольге и своему годовалому Валентинчику, память его охватывала всю нашу жизнь, в том числе и те времена, о которых предпочитают забыть те, чья совесть нечиста. Уход его — трагедия для всех русских, европейцев и американцев, большая трагедия для нашей несчастной страны, в которой артисты столь недолговечны.
ТОВАРИЩИ И ТОВАРКИ
…Милостивые государыни и милостивые государи, уважаемые госпожи радиослушательницы и уважаемые господа радиослушатели… о, эти русские обращения! В силу исторических причин постоянно возникают в связи с ними всевозможные конфузии. В Союзе, помнится, многие уже чурались слова «товарищ», то ли остерегаясь получить в ответ «тамбовского волка», а то и «гуся, который свинье не товарищ», то ли стало претить производное от слова «товар» посреди «затоваренной бочкотары», то ли возникало какое-то смущение в связи с разнополостью — почему не употребляется «товарка»? Дорогие товарки и дорогие товарищи — в этом есть некоторая логика, если вспомнить граждан и гражданок. С другой стороны, в эмигрантских обществах иной раз можно встретить этого страннейшего советского «товарища». Писатель Гладилин, например, до сих пор, даже обращаясь к французским буржуа или русской аристократии, говорит: к столу, товарищи!
ЛАЙОНЕЛ РИЧИ «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ» (в собственном переводе для господ слушателей)
…Эй, друзья, время пришло! Сбрасывай крышу и — повело! Брось работу, доделаешь потом! Музыка пусть закрутит хвостом! Все поют и все танцуют! Затеряйся в сабантуе! Караму, Фиеста, танцуй народ! Уаху, Уеху, всю ночь напролет! Пляшет народ, и все вверх дном! Улица в ритме пошла ходуном! Дикая жизнь полна чудес! Музыка вздыбилась до небес! Прыгает по крышам до-ре-соль! Музыка всюду взяла контроль! Джемболи, Тамболи, танцуй, народ! Уаху, Уеху! Ночь напролет!РАННИЕ КЛАССИКИ
…Как мало написал Бабель! Не очень толстый том вмещает все его работы: «Конармию», «Одесские рассказы», еще дюжины две коротких рассказов, две пьесы и статьи. Может быть, в сундуке его было и еще что-то к тому времени, когда в сорокасемилетнем возрасте он «закончил свою литературную деятельность» (предисловие к недавнему советскому изданию), но об этом нам можно только догадываться. В переводах (даже самых лучших) проза Бабеля утрачивает самое главное ее качество — ее чудодейственный язык, однако даже американские студенты, которые не могут оценить бабелевских языковых чудес, все-таки чувствуют силу его художественной ауры и вслед за тем лучше начинают понимать время, которое иногда в литературе называют «золотыми советскими двадцатыми».
Считается, что эти годы были чуть ли не временем полной художественной свободы, что именно благодаря климату революционной новизны раскрылось тогда такое множество литературных дарований. Между тем сколько туманностей, сколько недоговоренностей и умолчаний оставили эти «золотые двадцатые». Взять хотя бы судьбу одного из лидеров «Серапионовых братьев» Бориса Пильняка. О нем тоже в сборнике прозы, выпущенном в Советском Союзе в 1976 году, в довольно-таки наукообразном предисловии сказано, что он «прекратил свою деятельность в 1937 году», однако добавлено, что умер писатель в 1941-ом. Для человека, знакомого с системой умолчаний, нетрудно будет догадаться, что здесь даны даты ареста и убийства писателя. Однако все-таки правила игры как бы соблюдены: не упомянуто — значит, как бы и не было.
Сталин, может быть, потому, что сам в юности графоманил, питал к писателям некоторое провинциальное уважение, сравнительно мало их убил, не стриг под одну гребенку, как партийные кадры, а подходил индивидуально. К некоторым, явно несоветским, писателям он даже благоволил; Булгакова, например, даже слегка опекал среди враждебной писателю стихии; Замятина, вместо того чтобы «полоснуть», отпустил за границу. Нужно было заслужить каким-то поступком право попасть под сталинскую гребенку. Что сделал Пильняк? Пильняк принадлежал к числу тех писателей, в почерке которых чувствуется наслаждение процессом письма. Этим он отличается, скажем, от Бабеля и Олеши, для которых письмо представляло всегда трудоемкую, филигранную, изнуряющую работу, как бы божественную каторгу. Пильняк же писал с божественной легкостью.
Вот его рассказ «Снега», ярко представляющий первый период творчества. Он написан в 1915 году, и действие его развивается в русской заснеженной равнине, в барских увядающих поместьях, где некто, явный наследник толстовского Левина, ведет простую жизнь и жаждет простоты, в то время как бывшая его любовь после декадентской парижской жизни возвращается в свое поместье по соседству в надежде родить от этого опростившегося барина ребенка и таким образом самой опроститься. Очень похожие вещи писал тогда и Алексей Толстой. Замечательно описаны снега, переливы их закатных, рассветных и полдневных окрасок. Снега, то есть сама Россия, видимо, были в то время для автора символом чистоты, простоты и смирения. Этот символ через несколько лет лишился всех прежних переливов и окрасился одним цветом — кровью.
Революционный катаклизм и Гражданская война с ее неслыханной жестокостью потрясли литературное поколение Пильняка. Родились новые писатели, среди них другой Пильняк и «Серапионовы братья», нарисовавшие мощные и стилистически совершенные картины народного бедствия. Без преувеличений можно сказать, что литература и даже еще точнее — проза двадцатых годов говорит гораздо больше правды о Гражданской войне, чем исторические хроники или даже газеты того времени. Очень точно знаменует второй и наиболее продуктивный, наиболее завершенный по художественному воплощению период Пильняка его повесть «Мать-сыра земля». Действие развивается в гигантском лесничестве на Волге. Все вокруг охвачено пафосом и хаосом Гражданской войны, давшей волю самым низменным инстинктам местного дикого населения. Жертвами темной, сырой и свирепой силы становятся вслед за прежними хозяевами, дворянами, и новые сознательные коммунисты, явившиеся из столицы оберегать лес, достояние республики. Все тонет в бессмысленной, почти инстинктивной жестокости. Крестьяне, на которых направлены революционные призывы, по Пильняку, больше связаны со злыми духами земли, чем с какой бы то ни было идеей. Таким было его видение революции. Он не отвергал ее, но никогда (вернее, до определенного момента) с ней не сюсюкал. Революция, по Пильняку, разбудила древних духов злодейства. Обуздает ли она их? — задавал он себе вопрос.
В этот же период Пильняк написал книгу, которая, по всей вероятности, повернула всю его судьбу к трагическому концу, — «Повесть о непогашенной луне». Тираж «Нового мира» с этой повестью был немедленно запрещен правительством. В ней отразились события, взволновавшие тогда всю правительственную, военную и партийную Москву и породившие массу слухов. В 1925 году легендарному герою Гражданской войны, командарму Михаилу Фрунзе, постановлением Политбюро ЦК было предложено пойти на хирургическую операцию. Он умер на операционном столе. Слухи, разумеется, касались борьбы за власть и роли Сталина в этом деле. Логически, конечно, можно было предположить, что такая фигура, как Фрунзе, представлялась Сталину, да и всем остальным цекистам весьма опасной. Через одиннадцать лет Пильняк был арестован. Ему не помогли его отчаянные попытки спастись. Даже антиамериканский роман «О'кей», написанный на уровне каких-нибудь «правдистов» вроде Заславского или Жукова, не спас. В 1937 году он был отправлен в идеологическую Лету, в поток забвения, который все-таки, к счастью для нас, оказался не таким нескончаемым, как истинная Лета. Благодаря возрождению таких писателей, как Пильняк, мы сохраняем память о революции или, что еще важнее, преодолеваем фальшивую о ней память.
ЧАСОВЫЕ БАРЬЕРА НЕСОВМЕСТИМОСТИ
Недавно попалась мне в руки книжонка под названием «Барьер несовместимости», выпущенная московским издательством «Прогресс». Отличная, между прочим, бумага, хороший принт — умеют, как говорится, когда хотят, а хотят тогда, когда издание сулит пропагандистский навар. Книга в основном состоит из писем бывших советских граждан, которые, как пишут всегда в таких случаях советские газеты, «совершили ошибку, равную преступлению», то есть покинули территорию Советского Союза, и не по суровой служебной необходимости, а по собственному желанию. Автор этой книжки и собиратель писем некто Александров (следует заметить, что все акции подобного рода выполняются простыми людьми под простыми именами — Александров, Николаев, Петров, Федоров) пишет во вступлении, что советский человек прижиться на Западе не может, мешает «барьер несовместимости», как если бы существо из кислородной атмосферы попало в атмосферу, где превалирует фтор; был, кажется, такой научно-фантастический роман о встрече в Галактике двух человеческих рас. Авторы писем жалуются на одиночество, на невозможность приспособиться к «жестокому миру чистогана», на чувство заброшенности; никому в Америке или Германии нет до нас дела. Многие мечтают вернуться в Советский Союз, упорным трудом искупить свою вину, пардон, «равную преступлению».
Я готов допустить, что товарищ Александров не сам настрочил эти письма, что есть реальные авторы, хотя не могу исключить и обратного: все-таки мы имеем здесь дело с опытными специалистами. Многие люди в эмиграции страдают, переживают так называемый «культурный шок», теряются от внезапной немоты и глухоты, то есть от отсутствия языка, но кроме всего этого, безусловно, существует и настоящий идеологический «барьер несовместимости», который для некоторых оказывается пострашнее всего остального. Мне рассказывали в Западном Берлине такую историю. В школе появились два новичка — маленькая девочка из Японии и ее ровесница из семьи восточногерманских беженцев. Маленькая японка, несмотря на полное отсутствие немецкого языка, чувствовала себя как рыба в воде, а маленькая восточная, то есть социалистическая, немка в западногерманской школе ужасно страдала, не могла понять, что происходит, почему мир так невероятно трансформировался. Конечно же, несовместимость! Именно ее и культивируют «товарищи Александровы» из года в год, из десятилетия в десятилетие, именно ради этого шрама они и пилят тупым ножом своей пропаганды народную кожу. Все из прежнего уже забыто, невозможно себе представить жизнь под властью царя, когда заграничный паспорт можно было выправить за неделю в полицейском участке, когда мужики отправлялись на заработки в Канаду, а паломники плыли из Одессы в Палестину без разрешения Выездной комиссии ЦК КПСС. Подумайте только, сколько лет уже они работают над созданием «барьера несовместимости».
Смрадом этой провинциальной пошлятины были отравлены даже такие блестящие писатели, как Илья Ильф и Евгений Петров. Еще в 1936 году они совершили на автомобиле путешествие по Соединенным Штатам Америки и написали довольно симпатичную книгу «Одноэтажная Америка». Все, конечно, помнят это сочинение и придурковатого мистера Адамса, сопровождавшего путешественников и дававшего пояснения, так сказать, изнутри. В свое время для детей моего поколения эта книга была основательным все-таки источником информации о той удивительной стране, в которой я сейчас живу. Любопытно будет как-нибудь сравнить впечатления Ильфа и Петрова с современным образом Америки, но не об этом сейчас речь. В книге этой — я недавно взял ее почитать перед сном — возникает иной раз тема русской эмиграции, можно даже при желании извлечь из нее некоторую метафизику, связанную с размещением человеческой личности и человеческого тела в той или иной среде. В Таосе, штат Нью-Мексико, Ильф и Петров случайно в ресторане встретились с русской дамой. Это была разведенная жена известного художника Фешина. До 1923 года они жили в Казани, а потом уехали в Америку. Фешин хорошо продавал свои картины, сделал себе имя, а потом решил отправиться в пустыню к мексиканской границе. В общем-то, в этом не было никакой тяги к отшельничеству, в том направлении в те годы двигалось много авангардных художников. В Таосе Фешин построил замечательный дом, а потом вдруг развелся с собеседницей Ильфа и Петрова и уехал в Мексико-Сити. Она осталась там одна, никто вокруг не говорил по-русски, что, конечно, хотя и несколько странно, но все же понятно, ибо живут там мексиканцы и индейцы. Встретив столь неожиданно земляков, да еще и писателей из Москвы, мадам Фешина, как пишут Ильф и Петров, «говорила жадно, хотела наговориться досыта, все время прикладывала руки к своему нервному лицу и повторяла: „Как странно говорить в Таосе по-русски с новыми людьми. Скажите, я еще не делаю в языке ошибок?“»
В самом деле, в тяжелом положении оказалась тогда эта женщина, можно было ей посочувствовать, и наши друзья посочувствовали эмигрантке, сказав: «Слушайте, зачем вы здесь сидите? Проситесь назад в Советский Союз». Отличный совет, ничего не скажешь, если учесть, что он был дан в конце 1936-го, то есть накануне 1937 года. «Куда мне ехать, поздно мне уже начинать новую жизнь, — посетовала мадам Фешина — и умчалась в темноту на своем старом тяжеловозе». Представьте себе ее будущее, если бы она не умчалась в темноту на своем старом тяжеловозе, а последовала снисходительному совету двух путешествующих советских грандов.
В Сан-Франциско Илья и Евгений посетили так называемую Русскую Горку и осевшую там колонию религиозных эмигрантов, так называемых молокан. Тут уже пошли, как говорится, настоящие «сопли с сиропом» как со стороны авторов очерка, так и со стороны самих молокан. Даже несколько на грани абсурда. Молокане, сообщают Ильф и Петров, настолько оказались своими русскими людьми, что и Октябрьскую революцию встретили по-пролетарски, то есть восторженно. В молоканском клубе висят портреты их русских героев — Сталина, Калинина и Ворошилова. Вот, рассказывают они, во время коллективизации в СССР получили мы от родни письмо, где испрашивается совет — вступать в колхоз или бежать куда-нибудь, сломя голову. Дескать, один старик-молоканин в СССР отговаривает их от вступления в колхоз. И тогда «старый человек (другой, стало быть) — не столько старый молоканский проповедник, сколько старый сан-францисский грузчик, ответил им — вступать». Как видите, классовое чутье в Сан-Франциско почему-то развивается лучше, чем в СССР, но зато, увы, отстает атеистическое воспитание — молокане в своих песнях нередко обращаются к Христу, такие они оказались отсталые из-за оторванности от родины социализма. Вся эта бредовина рассказывается путешественниками для того, чтобы провести фундаментальную мысль — нелепо русским людям жить вдали от отечества, да еще посреди капитализма. Вот они стоят на Русской Горке и смотрят на светящийся город. «Внизу кипели американские, итальянские, китайские и просто морские страсти… а здесь в какой-то добровольной тюрьме сидели люди со своими русскими песнями и русским чаем, сидели со своей тоской люди, потерявшие родину…» Всякие страсти, стало быть, могут кипеть в Сан-Франциско — итальянские, китайские, малайские, вероятно, японские, но уж никак не русские, им не полагается кипеть за пределами родины социализма. Не отсюда ли происходит «барьер несовместимости», наукообразно экспонированный товарищем Александровым, не от такой ли примитивной причины, как «невыпуск» советских граждан за границу, полувековая их изоляция от жизни остального мира?
Посмотришь в больших международных аэропортах — идет вся планета, кроме русских. Оглянешься на площади Святого Марка в Венеции — сидят мальчишки и девчонки из всех стран, путешествующие за гроши, только наших там нет. Прошлым летом в Мадриде я все время напрягал слух, пытаясь уловить в многоязычной толпе хоть одно русское слово. Услышал наконец — это были израильские туристы.
Я продолжаю листать «Одноэтажную Америку», вздыхаю на каждой странице: блестящие авторы «Золотого теленка», отцы Остапа, давшие, по сути дела, язык моей молодости (помню в институте ребят, говоривших только цитатами из Ильфа и Петрова), вдруг предстают в своей удивительной советской зашоренности. Буквально через несколько страниц, оставив страдающих молокан, они переезжают из Сан-Франциско в тихоокеанский курорт Кармел, где в те годы обосновалась левая американская интеллигенция. Здесь, оказывается, тоже существует тяга в Советский Союз, но уже не среди русских эмигрантов, а среди американских радикалов. В этом пункте Ильф и Петров вдруг приблизились к метафизическому повороту проблемы, однако проскочили его на полном ходу в журналистском партийном раже. Вот появляется сценаристка Люсита Сквайр, жена писателя Альберта Риса Вильямса. На ней холщовое мордовское платье с вышивкой в память о России. Она делится с путешественниками своими заветными идеями и мечтами. Черное море лучше Тихого океана, сообщает она. Москва лучше Кармела. Ей ничего не нравится на свете, только Москва, говорит ее муж. После того как она побывала там, она возненавидела все американское. Да, говорит Люсита, хочу в Москву! Мы не должны сидеть здесь ни минуты!
Линкольн Стеффенс, как сообщают Ильф и Петров, знаменитый американский писатель, страдал неизлечимой сердечной болезнью, он не вставал с постели, но все же строил планы на будущее. «Собственно, для себя у него был только один план: уехать в Москву, чтобы увидеть перед смертью страну социализма и умереть там. Я не могу больше оставаться здесь, — тихо сказал он, поворачивая голову к окну, будто легкая и вольная природа Калифорнии душила его, — я не могу больше слышать этого оптимистического идиотского смеха… — …Мы услышали короткое глухое рыдание: Линкольн Стеффенс плакал. Он закрыл руками свое тонкое и нервное лицо — лицо ученого. — „Мне пришлось открыть сыну, как тяжело всю жизнь считать себя честным человеком, когда на самом деле был взяточником… я был подкуплен буржуазным обществом“. — Год тому назад Линкольн Стеффенс вступил в коммунистическую партию. Мы долго обсуждали, как перевезти Стеффенса в Советский Союз. Ехать поездом ему нельзя, не позволит больное сердце. Может быть, пароходом?..» Я ни минуты не сомневаюсь, что так оно и было, что в этой истории не прибавлено ни одного слова. Поражает только неспособность советских писателей связать вместе два лежащих вплотную друг к другу явления: только что описанную ими же невозможность жить в чужой стране и вот эту противоположную, но такую близкую невозможность жить в своей стране. Откуда же взялась такая слепота? От того же самого, выявленного товарищами александровыми и выведенного ими же «барьера несовместимости». Ведь не о трагичности же человеческих метаний хотят нам сообщить Ильф и Петров, не о тщете этих мечтаний, а о том, что жить вне Советского Союза невозможно. Совсем невозможно для русского человека и очень трудно для честных прогрессивных людей Запада. Проблема под их пером из человеческой, духовной, эмоциональной, пусть даже вегетативно-дистонической становится единственно возможной — идеологической. Ведь невозможно же себе представить такого благородного, как Линкольн Стеффенс, человека с «лицом ученого», который не может жить в Советском Союзе, задыхается там и для которого, вообразите, вопрос выезда связан только с выбором между пароходом и поездом.
Есть точка зрения, что все это не столько марксистско-идеологическая, сколь сугубо русская проблема: дескать, только у русских патриотизм превращается вот в такую провинциальную пошлость, что русские таковы по своей природе, они просто физически не могут жить вне своей страны, даже временные отлучки причиняют им неслыханные страдания. Все вокруг опровергает такой расистский вздор. Миллионы русских стали активными членами мировой семьи и в то же время у совсем не русских наций немедленно появляется пресловутый «барьер несовместимости», как только там начинают верховодить свои «товарищи александровы». Барьер этот, в общем-то, сущий вздор, он рухнет, как только устанут его часовые. И русские страсти, по выражению Ильфа и Петрова, смогут спокойно кипеть среди прочих на холмах Сан-Франциско. Да и дома будет веселее.
2004
В Париже сейчас появилось много русских клошаров. Пьют красное вино и спят под мостами. Внедряют старую феню. Поклошарив вволю, возвращаются домой, бомжуют… И никаких «барьеров несовместимости»!
1982
НАМАГНИЧЕННОСТЬ…
Композиционно выстроенные воспоминания всегда кажутся слегка искусственными, а стало быть, и не совсем правдоподобными. Даже хронологический порядок и то вызывает некоторые сомнения, ведь для человеческой памяти ничего не стоит перескочить через пару десятков лет назад, а потом приблизиться на энное количество времени, а потом снова… и т. д., что, собственно говоря, память повседневно и делает. Если и есть у нее какая-то композиция, то нам она пока неведома. В эти дни, когда близка уже пятая годовщина смерти Александра Галича, первое, что выплывает, — сумерки на бульваре Распай, осень 1976 года, то есть за год до его кончины. Мы медленно идем от отеля «Эглон» в сторону Монпарнаса, собственно говоря, направляемся ужинать. Нас трое — моя мама Евгения Гинзбург, я (власти, благодаря вмешательству А.Б.Чаковского, вдруг проявили неслыханное благородство и разрешили нам загранпоездку вдвоем) и Саша. Он усталый, печальный. Он уже два или три месяца в эмиграции и смотрит на нас, приехавших «оттуда», с каким-то особым выражением, тогда меня озадачившим, а сейчас таким понятным. Сейчас-то улавливаешь «особенность» и во взглядах редких отпускников «из зоны», обращенных на нас, живущих «здесь». Странная с обеих сторон смесь униженности и превосходства.
«Знаете, — говорит Галич, — прочел я как-то у дедушки Кузьмича, том восемьдесят девятый, страница пятьсот шестьдесят третья, третья строка сверху, мысль такого рода, за точность цитаты не поручусь: „А врагов нашей партии будем наказывать самым суровым способом — высылкой за пределы отечества“. Помнится, я тогда только посмеялся — нашел, дескать, чем пугать. Ведь высылка-то из отечества в наши дни оборачивается чем-то вроде освобождения из зоны, из лагеря… ведь тех-то как раз высылают, что свободы жаждут, то есть как бы получается — щуку в воду… И вот знаете ли, Женя и Вася, прошли эти годы, и сейчас я понимаю, что старикашка был не так прост, наверное, по собственному опыту понимал, что означает эмиграция…» Он поеживается, поднимает воротник своего кашемирового пальто, вынимает из кармана зажигалку «дюпон», закуривает… все на нем и с ним по-настоящему «фирменное», как сейчас выражаются в Москве, то есть стильное, как говорили раньше в Ленинграде, или тонное, как говорили еще раньше в Петербурге. Всегда, когда я с ним встречался, я отмечал, как фирменно, стильно, тонно сидят на нем вещи, какая взаимная любовь связывает Галича с его одеждой и разными атрибутами стиля.
Он был денди, редкий московский европеец, он знал худо-бедно, почитай, три языка, в том смысле, что не был глухонемым ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии. Словом, он, казалось бы, лучше тысяч других был приспособлен к переносу этого дедушкиного «сурового наказания». Все так и думали в Москве, когда он уехал, — вот уж Саша-то станет этаким космополитическим поэтом, бродягой, членом международной литературной семьи. Этого не случилось. Ему, может быть, круче пришлось, чем какому-нибудь «ване», который не отличает кашемира от кошмара, диора от ора. Может быть, потому, что Галич, в отличие от вани-малахая, был очень точно вписан в элитарный и замкнутый круг московского европеизма, изолированный от окружающей среды, может быть, даже больше, чем какой-нибудь английский клуб в Индии или Африке прошлого века.
Максимов в одном из своих романов описал первую встречу с Галичем в начале пятидесятых годов, происшедшую как раз в центре этого московского круга, возле кафе «Националь», легендарной берлоги Юрия Олеши. Теперь давайте перепрыгнем в шестидесятые годы, в самое их начало, в блаженные (с нынешней точки зрения) времена оттепели — не оттепели, либерализма — не либерализма, словом, в те времена, когда власть растерялась, как тетка, у которой тесто убежало. Вспоминается березовая роща в Малеевке, в ста километрах от Москвы и в километре от знаменитого писательского дома творчества, где в то лето классик социалистического реализма Борис Полевой писал роман «На диком бреге» — по двадцать пять страниц в день выдавал, между прочим, на-гора! Саша Галич сидит на пеньке, настраивает гитару. Загорелый лоб, белая «водолазка». Рядом жена Нюша, веселая, с веером. Все вокруг пронизано июньским светом, дрожат тени берез: о, весна без конца и без края, о Русь моя, жена моя, — и так далее. Нас вокруг расселось с газетами, острейшим оружием партии, под задами человек тридцать. Румяный критик наш, насмешник толстопузый, полушепотом спрашивает: «Ты никогда его раньше не слушал? Тогда получишь нечто! Это просто, скажу тебе, Зощенко с гитарой». И Саша начинает с песенки, которую и сейчас я причисляю к одной из самых своих любимых, «Леночка Потапова, история красавицы-милиционерши».
Апрельской ночкой Леночка Стояла на посту. Милейшие коленочки, Аж видно за версту…Не поленюсь рассказать содержание этой песенки, ибо она принадлежит к моему любимому жанру городских мифов, эпосу московских бичей и таксистов. К этому разряду относится, например, и история про Клима Ворошилова, которую я слышал в разные времена по крайней мере пятьдесят раз.
«Ехал один шофер по Рублевскому шоссе, вдруг видит — „Чайка“ лежит в кювете, а рядом старичок стоит, замерз и промок в плащ-палатке. Ах ты, говорит, так-твою-налево, по-товарищески сказал шофер старичку и тросом вытащил его „Чайку“ из кювета. На следующий день вызывают шофера в спец-часть автобазы. Все, думает он, шиздец, а ему там говорят: вот вам, товарищ Ванямалахаев, ключи от новой трехкомнатной квартиры вместе с обстановкой. Это вам личная благодарность от Климента Ефремовича Ворошилова. Вот кем старичок-то оказался…»
Вся Москва тогда, в начале шестидесятых, наслаждалась историей Леночки Потаповой, которая принадлежит тоже к этому разряду, но рассказана гитарой Галича. Леночка стояла на посту и на шутки шоферов не отвечала, мужественно мерзла, как и подобает работнику советской милиции, пока вдруг с ней не произошло удивительное событие. В Москву из Шереметьева ехал африканский марксистский лидер, увидел Леночку и обалдел от ее красоты.
И, встав с подушки кремовой, Не промахнуться чтоб, Бросает хризантему ей Красавец ефиоп.Видите ли, он тоже красавец, значит, возможно создание счастливой семьи. И вот
Утром мчится нарочный С ЦК КПСС, В мотоциклетке марочной ЦК КПСС. Он машет Лене шляпою, А сам кричит, как бес, Пожалте, Эл Потапова, В ЦК КПСС. А там, на Старой площади, Тот самый ефиоп, Он принимает почести, Тот самый ефиоп. Он чинно благодарствует И трет ладонью лоб, Поскольку званья царского Тот самый ефиоп.(Может быть, тот, кого нынешний Менгисту зарезал? Впрочем, это к делу не относится.)
Уж свита водки выпила, А он сопит, как зверь. Сидит с моделью вымпела(то есть предмета, гордо заброшенного советской ракетой на планету Луна)
И все глядит на дверь…Как вдруг (в полном соответствии с жанром «московского мифа») раздалась музыка и отворилась (кто-что?) — дверь.
Вся в шелке и панбархате Тут Леночка вошла, Все прямо так и ахнули, Когда она вошла. И сам красавец царственный Ахмед Али Паша Воскликнул: «Вот так здраствуйте!» Когда она вошла.События дальше развивались стремительно, и вскоре, в соответствии с логикой классовой борьбы народов Африки, — «шахиню Эл Потапову узнал весь белый свет»…
Хохоту было! Это было молодое время, все тогда были молоды, в том числе и уцелевшие старики. К Леночке Потаповой вскоре прибавилась еще и товарищ Парамонова, — еще один миф, еще один перл в развитие зощенковской традиции угадывания советского хама. Карнавальный этот вихрь, однако, был короток и случаен. Увы, тяжкой памятью обременена вся наша земля, и мы с ней вместе. И Саша мрачнел, и песни его все чаще попахивали уже тем, что в нашем кругу тогда именовалось красивым словечком «безнадега»…
«Мы похоронены где-то под Нарвой, — поет Саша. — Все подпевайте! Под Нарвой, под Нарвой…» «Облака плывут в Абакан…» Давайте, друзья, выпьем за успех нашего безнадежного дела! Кто придумал этот тост? Уж не Герцен ли?
До песенного своего, то есть до основного, периода своей жизни Галич был абсолютно преуспевающим и абсолютно советским драматургом вроде Алексея Арбузова. В студенческие годы, помнится, ходили мы на его пьеску «Вас вызывает Таймыр», она шла по всей стране, собирала отличнейший рублевый урожай. И потом, и всегда у него была масса заказов, постоянные договора, даже совместная работа с Францией, то есть командировки в Париж, за кашемирами и диорами. Почему же он переменился, почему все эти дела забросил и взялся за свою бунтующую гитару? Чего, как говорят в стране победившего материализма, ему не хватало? На позорном судилище правления Московской писательской организации, когда Галича по приказу соответствующих органов изгоняли из Союза писателей, некоторые его бывшие товарищи-драматурги и некоторые наши общие бывшие товарищи прозаики и поэты кричали: «Чего ему не хватало? Славы ему не хватало? До славы жаден Галич! Пушкинского олимпизма в ем нету, а потому ату его! Гляньте, товарищи, он в лагере-то сам не сидел, а о лагерях песенки сочиняет! Ясное дело, чего захотел, — буржуазной валюты!»
Пять лет назад, в декабре 1977 года, мне снова случилось быть в Париже. Это была моя последняя поездка за рубеж в качестве советского писателя, то есть с возвратом. Оставалось, кажется, дня два или три до отъезда, когда в гостиницу прибежал Толя Гладилин и сказал, что умер Саша Галич. Мы помчались к третьему нашему товарищу Володе Максимову в «Континент». Там уже собрался народ — Некрасов, Глейзер, Горбаневская, Коржавин, потом еще и еще весь вечер приходили люди; Галина Вишневская утешала плачущую Нюшу, все сели за стол — оказалось, что в доме с утра пекли пироги по какому-то веселому поводу и вот они пришлись на первые поминки…
Нелепо и грозно бьет какая-то пушка, уходят друзья… Полтора года назад умер Юра Трифонов, неделю назад пришло из Москвы — еще одного замечательного прозаика не стало — Юрия Казакова…
Да будем мы к своим друзьям пристрастны, Да будем думать, что они прекрасны! Терять их страшно, Бог не приведи…— сказал Поэт задолго до этого времени потерь, когда эти строки воспринимались в основном ритмически. Рукописи не горят, сказал Булгаков, и это в общем-то верно, хотя и отчасти. Держиморды в нашей стране сбились с ног, охотясь за рукописями. Галич представлял собой новую технологическую пору борьбы за свободу духа и мысли — освободившийся магнитофон. Намагниченная пленка, хранящая пение свободного певца, наверное, страшнее для держиморд, даже чем бумага. Галич и сам был намагничен до предела своим новым творчеством, своей болью за страну, надеждой и молитвой. Свою намагниченность он и другим повсюду передавал, а люди жадны до этих качеств, хотя они и притягивают токи высокой частоты. Он думал — когда я вернусь? Но он никогда и не покидал России. Представьте только себе, сколько миллионов людей в один день хотя бы случайно напоют одну или две строфы из его песен. Магнитофонные пленки нынче и в самом деле непожираемы полицией — странный, но верный способ передачи энергии через время и расстояние.
2004
Причина гибели Галича — «короткое замыкание», до сих пор вызывает в обществе разноречивые толки. Многое раскрылось за эти годы, но не все, отнюдь не все.
Вместе с Советским Союзом ушла в прошлое и борьба против него. Нынче среди разливанного моря попсы странно выглядит высокое минестрельство Галича. Странно, но и отрадно то, что поют его сейчас лишь небольшие группы людей на маевках вроде описанной выше. Так проходит отбор высшей пробы.
НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ Заметки о прозе Саши Соколова
Фраза, вынесенная в заголовок этих заметок, появляется на 152-й странице сочинения «Между собакой и волком», давая как бы ключ к чтению этой книги. Щедрый, благородный жест автора, увы, не замеченный читателем. В этой связи можно было бы предположить еще один способ чтения саши-соколовской прозы, в принципе даже и не новый в практике словесного авангарда. Книга печатается на плотных листах и не брошюруется. Ее можно тасовать, как колоду карт, вытягивать страницы наугад, гадать, блефовать, как в покере, раскладывать пасьянс. Признаюсь, у меня с этой книгой поначалу сложились какие-то странные отношения, вроде как с транзисторным приемником. Врубаю — ну что там еще? Повсюду кошачье мяуканье. Вырубаю. Врубаю через пару дней на бегу, вдруг — Моцарт или Стенли Тарантин гудит на своей мощной дудке, тогда и сам «врубаюсь», как в Москве говорят, слушаю, пока телефон не позвонит. Вот так и с книгой — пару раз (может быть, под плохое настроение) попалось что-то жеваное-непрожеваное, с унынием было отложено, а потом как-то взято наугад и задержано в восхищении…
«Сторонушка хоть куда. Осмотритесь. На западе ветошница при долине граблями мусор гребет, на севере сучара трехлапая рыщет насчет пожрать, на востоке сержант в запасе в ручье ковыряется — мотоциклетку бредит собрать по частям, а на юге шантрапа радеет по части чинариков. Мир, покой… и дымки отечества повсеместно… привлекают нашего обывателя просторы земли…»
В другой раз уже охотнее, уже подтягивая стул, уже предполагая неотчетливое какое-нибудь очарование, открываешь — и вдруг тебя, как поток музыки, охватывает почти забытое чувство, нечто сродни приезду посреди долгой зимы на тропический остров, выходу из самолета и первому глотку воздуха.
Бывает так: с утра скучаешь И словно бы чего-то ждешь. То Пушкина перелистаешь, То Пущина перелистнешь… Шлафрок ли старый, тесноватый Велеть изрезать на куски, Чтоб были новому заплаты, Задать ли в город лататы?.. Когда вдруг — Боже сохрани! Сорвутся мухи белой масти. Вбегаешь в дом — и окна настежь: Ах, няня, что это, — взгляни!С разных сторон слышались негативные мнения. Читать Сашу С. трудно или почти невозможно. Не продерешься. Слишком жмет. Слишком уж старается писать гениально. В то же время из России доходило, что интеллигенция зачитывается. Что касается меня, то я не совсем даже и понимал — читал ли я «Между собакой и волком» или не читал. Так или иначе, если бы спросили, о чем там речь идет, постарался бы отмычаться. И вот, в очередной раз как-то взяв в руки, открыв наугад и прочитав «Господа, в Лето от изобретения булавки пятьсот сорок первое, в последнюю пятницу ноября, часу примерно в шестом, в значительном удалении от каких бы то ни было столиц, посреди России на берегу полноводной реки некто нетрезво бьет в бубен…», я задался дерзкой задачей — извлечь сюжет из этого валящего мимо потока слов, похожего на описываемую этим же потоком реку Итиль, то есть Волгу. Рискую уподобиться лектору общества «Знание», выходящему с листочками на сцену перед исполнением симфонии. В этой симфонии композитор Людвиг ван Бетховен отразил столкновение общественных сил в просыпающейся Европе. В первой части симфонии журчат ручьи и шелестят сады, во второй — грохочут пушки, и так далее. Риск, конечно, немалый, но цель все-таки благородная, дамы и господа. Итак, в путь. В первой части, названной «Заитильщина», то есть Заволжье, появляется вроде бы рассказчик Илья Патрикеевич Зынзырлы, точильщик железных предметов. Впрочем, он еще исчезнет из поля зрения читателя по крайней мере раз двадцать, пока мы его не идентифицируем окончательно. Через несколько страниц, на которых с аппетитом описываются какие-то речные ракушки, которых точильщик «едал без меры», а также внутренние отношения посетителей «кубаре», иначе местной «тошниловки», вдруг появляется некая красотка Орина и завязывается драма сродни Шекспировой — утерян подаренный гребень, а вместо него в волосах другой, чужой. Орина, сидя в диспетчерской на железнодорожном узле, гонимая скукотою, сопрягнулась со сцепщиками, стакнулась с ремонтным хамьем. Глава завершается бредовым проплытием под водой точильщика и русалкоподобной женщины. По поверхности протекает струйка трагедии. Большие кусманы прозы написаны в повелительном наклонении. Жить: знать цену глубоким галошам в пору разлива рек. Быть: мусолить жирно-зеленый лист… и так далее. В параллель к Орине на той же платоновской железной дороге среди паровозов и вагонов появляется некая Мария с тяжелым, невнятным и неряшливым ликом. Не задерживайте на ней внимания, ей — выть, выбегая на дамбу, зовя домой, и… исчезать без следа.
Еще одна стихия проходит через книгу в «Записках запойного охотника», стихия классического русского стиха, в котором время от времени начинают сквозить приметы нашей прекрасной действительности.
Впечатление есть, что кустарники Козыряют всей мастью червей, И кагор на дворе у бочарника Пьет когорта младых кустарей.«Е-кэ-лэ-мэ-нэ, — мы задумались, — откуда, с какого такого шоссе энтузиасты, в распозиции девушка провожает бойца…» — продолжает свой монолог точильщик, но сюжет пока не двигается, попросту утонул в Итиле. Майн готт, вдруг появляется страниц на десять Типография товарищества Кушнерова и К0, и по упоминанию англо-бурской войны читатель понимает, что из неопределенного кагорно-советского времени мы скакнули в конец прошлого века. Из следующей главы кропотливый автор заметок не без труда вылавливает некий поезд, в котором Дзындзэрэла встречает то ли поручика прежних дней, то ли инспектора нынешних, оказавшегося его родственником, а движется точильщик к главной своей цели — к Орине, которой, возможно, вовсе и нет в живых. Точильщик, кустарь посторонних солнц. По правую руку Стожары — пожары горят, по левую Крылобыл, косолапый стрелок пули льет… впереди Орина-дурина и чадо ее Орион… это после того, как братец в поезде угостил. Орина снова плывет в каких-то глубинах, и начинает опять просвечивать искомое нами — сюжет. Любовный пир в грозу под перевернутым баркасом — воспоминание? Орина в детстве в бараках жила, делила жировку с бабкой старьевщицей. Однажды лисенка ловец поймал и сказал: вырастет, будет лис. Она полюбила зверька. На сто седьмой странице повести чуть-чуть начинают побрякивать колокольчики рока, словно в «Соборе Парижской Богоматери». Лисенка нашли на рельсах разрезанным. Недобрые люди привязали зверька бечевками к рельсам. Тут познакомился с девочкой морячок, рот у него сладющий. Что ли, вы монпансье себе кушали? Морячок пригласил Орину под баркас, и вот с этого пошло дело. Бабуля дала ей шкуру лисенка: попроси соседа-кустаря, может, он тебе тапти сделает за так, а сосед сразу дверь закрыл, крюк навесил и — на тебе; зачастила тогда на примерки. Матрос тогда вдвоем с товарищем стал приходить, а потом и четверо как-то пришли, картошек принесли, портвейного. На этом рассказ Орины уходит снова в поток словесного Итиля, в котором через «кубаре» кувыркается несчастный, вечно пьяный точильщик и его друзья, все поголовно мечтающие об Орине. Она превратилась в губительный для мужиков миф наподобие древнерусской княгини Улиты. Обстоятельства же ее гибели пока читателю неведомы. Вдруг из пьянки выскакивает история, предназначенная вроде бы под занавес, — как у точильщика егери костыли сперли. Для охотника за сюжетом, однако, это настоящее открытие — ног нет!
Из лабиринтов саши-соколовской прозы вдруг, дико вихляясь, снова выскакивает уже названный поезд, а там в тамбуре моряк поет в тельняшечке, как тяжело ему жилось, бедняжечке. Попутчик-поручик-инспектор и родной брат, растроганный встречей, дарит Дзындзэрэле собственные вставные челюсти. Совершив благородный поступок, инспектор стал танцевать в купе цыганочку, а потом упал — и храповецкого. Точильщик снял тогда с него ботинки высокие меховые, бросил в заплечный мешок на добрую меморию, добрал, что осталось в баклажке, и присоединился к морячку в тамбуре. У того недоставало рук. Оказывается, кочегарил человек в каботажном плавании под Балаклавой, а друг ему в антрацит чего-то нехорошего подложил, вот и оторвало руки. Тоже мне, кореш еще называется. Уж не тот ли самый это морячок, думаем мы, который Орину приучил под баркас лазать? Сюжет погромыхивает все страшнее, все железнее, а ведь поначалу казалось, что просто отсутствует. Снова повелительное наклонение, десяток страниц невнятных ассоциаций, и потом морячок говорит точильщику: была тут у меня одна пацанка смурная, но безотказная. Да, тот самый и есть морячок. Илья Патрикеевич в унисон, можно сказать, товарищу по несчастью тоже начинает — продолжает — никогда не останавливался — вспоминать Орину, и снова, словно платок Дездемоны, из-за острова на стрежень выскакивает ее гребень. Слабоваты вы, Орина Игнатьевна, как выяснилось, на передок, неровно к сладкому дышите и не гребень утратили на путях, но честь. Бедолаги-попутчики решают вдруг сойти во что бы то ни стало на станции Луговая Суббота, ведь это же совершенно необходимо — Луговой Субботе в текущем существовании визит нанести. Придя, они спросили у местных жителей: как жизнь молодая? Ничего, отвечают, нуждаемся по-немногому. И вот здесь, а может быть, и не здесь, в воспоминаниях или в яви, сквозь пьянь или с похмелья, короче говоря, на 162-й странице ардисовского издания имеет место сердцевина всей истории.
Дзындзэрэла увидел, что любовь его Орина ушла в поля с четырьмя то ли сцепщиками, то ли смазчиками, короче — железнодорожниками. Ревнивец решил уличить, поймать на месте преступления, а вместо этого был измордован четырьмя мизгириками. Они втащили его на насыпь, к рельсу проволоками колючими принайтовали. Льзя ли, гаврики, я стонал, что я — лисенок вам, что ли, какой? Вдоль и намертво пассатижами, и слиняли — бояки. Жутковато и мне — жду скорого. Прошу обратить внимание на оборот «и мне». И, как принято, стал ушедшее освежать. Прошу обратить внимание на оборот «как принято». Как пожил на этот раз, пристойно ли. Прошу обратить внимание на оборот «на этот раз». Далее цитирую целый кусок, зачеркивая лишь крохи ненужного — для этих заметок, разумеется.
«И когда уже сыпались сверху огарки небесных дел, то возникла помочь, эта странная все-таки Оря. Лисом бедненьким величала… проволоки откручивать принялась… Подступает мой скорый, а проволок масса… метров маловато оставалось ему… Оря, дусенька, до встреч, отойди… а она — было мне с тобой, как земле с травой, а нестрогость мою запамятуй, зубы острые, хвост долгий… неужели всерьез я на лиса смахивал… Налетел, искромсал, руки-ноги по белу свету поразметал, прибыло полку доходяг… И лечебница. Подплывает врачина… На вопрос, где подруга, он скупое: с ней худшее… ишь, выдумали, я бузил. И потекло мое исцеление. Имелись газеты, шлепанцы, полагалось бритье».
Кода. Мужики Заитильщины спорят о том, что такое любовь. Одни говорят — Вечная жизнь зашла погостить, другие — раздор, недород… Вступает с эпитафией на кларнете Запойный Охотник:
Иван был стекольщик, хрусталь не любил, Поэтому больше из горлышка пил. Любил он толченым стеклом зажевать, но вдруг подавился, и вот — не узнать. Любовь — это счастье, а счастье — стекло. Стеклянному счастью разбиться легко.Зимней колеей едут на санях егеря (кажется, те самые, что костыли у точильщика сперли), везут тело не вполне определенного (по задумке Саши С.) человека. Голова человека постукивает по ухабам.
Но месяц был молод и ясен, Как волка веселого клык. Привет вам, родные свояси, Поклон тебе, русский язык.Проделав эту работу, я, честно говоря, был даже немного горд собой: извлечение сюжета из прозы такого рода дело нелегкое. А между тем сюжет этой как бы бессюжетной «формалистической» книги организован и развит с большим искусством. Страсть и рок пронизывают существование нынешних российских «каликов перехожих». Сюжета достаточно для отменного фильма. Будь я каким-нибудь собакой-режиссером наподобие Волкера Шлондорфа, я бы поставил этот фильм. Между Набоковым и Платоновым, имея в соседях Фолкнера (и это не в порядке охотничьих рассказов), расположился тридцатидевятилетний русский беженец Саша Соколов. Он живет в каньоне Бешеной реки рядом с горнолыжным курортом. С ним рядом светловолосая такая Кэрен. Как говорится — пиши-не-хочу. Забавно, но в штате Вермонт сейчас живут два русских писателя, и оба Александры С. Одного знает весь мир, другого — только «приятели по рассеянию», которым он и посвятил историю точильщика Ильи и диспетчера Орины. По слухам, дошедшим до Вашингтона, он только что закончил новый роман.
ИЗ ГЛУБИНЫ СИБИРСКИХ РУД
Недавно у нас тут произошло довольно примечательное событие: пришло письмо из Иркутска. Это письмо, по сути дела, могло бы стать хорошим экспонатом в музее Почты. Оно показало бы, как эффективно действуют международные почтовые соглашения в предпоследнем десятилетии двадцатого века. Дело в том, что ему понадобилось немногим менее года, чтобы достичь Вашингтона. Еще одна примечательная деталь: на конверте отсутствовали почтовые штампы сибирского города, вместо них там красовались штампы и марки великой селедочной державы Исландии. Вот какими странными путями идет сейчас иной раз иная важная и даже, пожалуй, срочная корреспонденция.
Ознакомившись с текстом иркутского письма, мы поняли, что у него было мало шансов достичь Америки, минуя Исландию. Речь шла об аресте (26 мая 1982 года) в Иркутске литератора и педагога Бориса Ивановича Черных. В марте 1983 года он был осужден по статье 70-й на 5 лет лагерей строгого режима. В чем же состояло преступление Бориса Ивановича Черных, повлекшее за собой столь суровое, если не сказать свирепое, наказание? В конце семидесятых годов вокруг этого любознательного и яркого человека сложился кружок сибирской интеллигенции, названный впоследствии «Вампиловским книжным товариществом» в честь известного советского драматурга Александра Вампилова, трагически погибшего в возрасте 35 лет. Черных и Вампилов в свое время были друзьями и работали вместе в местной газете. Товарищество собирало общую библиотеку, проводило семинары и издавало «Литературные тетради». Вот как определили они свою основную цель. Цитирую: «Наши заботы лежат в сфере нравственной. Помогая друг другу расти духовно, мы надеемся по мере сил способствовать подрастающей гуманности в нашей стране».
Гуманность, ничего не скажешь, подросла основательно. «Вампиловское книжное товарищество» было разгромлено отрядом гуманистов во главе с офицером идеологического сыска Гуртовым. Вот уж действительно подходящая для этой роли фамилия. С фамилиями, конечно, бывают существенные накладки: например, субъект, носящий в переводе с греческого имя Человеков, может стать шефом тайной полиции, но в данном случае судьба и история попали в точку. Иркутское это письмо, плывшее столько времени по северным широтам, показалось мне подобием какого-то слабого сигнала из океанской пучины, из какой-то Марракотовой бездны. Этот слабый сигнал дал нам знать о жизни наших братьев, российских гуманитарных интеллигентов, в глубинах закрытого общества. Бог знает, сколько еще таких сигналов не прошли через толщу воды, но по этим редким всплескам можно себе представить атмосферу на дне.
Год назад, кажется, я натолкнулся в русской зарубежной печати — а позже прочел об этом и в «Нью-Йорк таймс» — на сообщение о томской литературной группе «Оранжерея». Молодые люди по ночам собирались у своего товарища, работавшего сторожем в городской оранжерее, читали стихи и прозу. Отряд гуртовых вломился через стеклянную крышу, подавил сапожищами немало полезных растений и плодов, отлупил и разогнал литераторов. Или вот еще один звучок, прорвавшийся на поверхность даже через официальную советскую прессу, а точнее — через газету «Водный транспорт». Некто по фамилии Стукун («шельма» в этом случае отмечена правильно, не так ли?) пишет о преступлении молодого ученого-океанографа, который из плаваний заграничных привозил самую ужаснейшую контрабанду, то есть книги, имел неслыханную наглость давать их читать товарищам, за что и получил заслуженную кару — шесть лет лагерей строгого режима. Так наказывают нынче тех, кто хочет быть умнее других.
Вспомнив сейчас этого океанографа, я вспомнил и другого, а именно Славу Курилова, спрыгнувшего на траверзе Филиппинского архипелага с борта огромного прогулочного (без захода в иностранные порты) парохода «Советский Союз», три дня и три ночи плывшего в океане, доплывшего и написавшего о своем побеге удивительную книгу. В жизни мне не приходилось, между прочим, — читать лучшего описания океана. Есть там одна удивительная сцена. Курилов был весь покрыт светящимися микроорганизмами, каждое его движение вызывало нечто похожее на фейерверк. Туземцы острова, до которого он в конце концов доплыл, поначалу думали, что это какой-то морской дух, но потом еще больше удивились — зачем советскому ученому понадобилось прыгать с парохода? Ведь, в отличие от просвещенного океанографа, эти полудикари могут уезжать из своей страны и возвращаться, когда им заблагорассудится. И за книжки, господа, на Филиппинах не сажают.
Борис Иванович Черных к политической борьбе, конечно, не имеет никакого отношения. Мне кажется, я его когда-то встречал в какой-то московской редакции, но если даже этого не было, я отлично представляю себе образ этого человека, подлинного российского интеллигента, пекущегося о просвещении народа, а не о жалкой карьере официального борзописца. Вся его вина состоит в том, что он попытался выйти из гурта, поднять голову к горизонту, — вот это и вызывает столь неадекватную по масштабам ярость гуртовых.
2004
Сравните скорость этого письма со скоростью Интернета, и получится чуть ли не запредельное увеличение. Сравните нравственный потенциал тогдашнего и нынешнего средств коммуникаций, и ответа не будет: в первом был героизм, а во втором только «клик-клик».
1983
БОЛЬШОЙ КОРАБЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ
И вот, сидя в Вермонте, посреди зеленых гор, я вознамерился проанализировать статью «Курсом, проложенным партией», тем более что она как бы давала первые ЦУ послебрежневского руководства в области изящной словесности. Появилось ли что-либо новое в этом новом курсе, проложенном новым руководством? Может быть, хотя бы какие-нибудь стилистические новшества предлагаются, какие-нибудь сигары вместо «Беломорканала», какой-нибудь галстучек «Диор» вместо ждановских чугунных пуговиц? Прежде всего, за чугунные пуговицы можно не волноваться. Устойчивости партийных логических и стилистических построений могли бы позавидовать и схоласты Средневековья. Возьмите эпитеты, эти могучие символы нерушимости идей марксизма-ленинизма, они не меняются со времен Поскребышева. Какие бывают вехи? Знаменательные! Какие бывают победы и свершения? Правильно — славные и исторические! Какое бывает улучшение? Совершенно верно, господа, — дальнейшее! Скорее дьяволы разлетятся с кончика иглы, чем исчезнут все эти «славные, знаменательные и дальнейшие». Приступим теперь к содержанию статьи, подписанной неким почтенным «Литератором».
Вначале он перечисляет различные партийные постановления — «О литературно-художественной критике», «О работе с творческой молодежью», «О дальнейшем улучшении идеологической, идейно-воспитательной работы», «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства», которые явились свидетельством (каким? — правильно: красноречивым) заботы партии о литературе. Таким же свидетельством, сообщает Литератор, явилась и работа июньского, то есть последнего, пленума ЦК КПСС. Между прочим, и в самом деле, достойная удивления забота о литературе была продемонстрирована на этом достопочтимом собрании ничуть не меньшая, чем забота о разваливающейся экономике и о тупике во внешней политике. Докладчик Черненко посвятил литературе, пожалуй, больше строк, чем любой другой отрасли народного хозяйства. Черненку, однако, хитроумный Литератор умудрился ни разу не процитировать, зато там и сям разбросал генсековские, то есть андроповские, афоризмы. Один из них просто поразителен. «Партия добивается того, чтобы человек воспитывался у нас не просто как носитель определенной суммы знаний, но прежде всего как гражданин социалистического общества, активный строитель коммунизма с присущим ему и так далее» — так, оказывается, где-то высказался новый генсек. Если так логически разобрать это странное заявление, то получается, что где-то, где нет партии или где ослабло ее влияние, человек воспитывается только как носитель определенной суммы знаний… Где? Кем? Где и кто воспитывает человека как носителя? Церковь? Монополистический капитал? Продажная буржуазная пресса? Нет, они этого не делают, им и в голову не приходит воспитывать человека как носителя определенной суммы знаний. Может быть, тут какая-то путаница? Перепутали с ракетой-носителем? Кто пишет речи генсеку? Являются ли эти люди носителями определенной суммы знаний, или они прежде всего граждане социалистического общества, активные строители коммунизма? Литератор далее совершенно сногсшибательно заявляет, что коммунистическое воспитание — это прежде всего воспитание правдой, именно она, правда, является главным идейно-эстетическим критерием литературы, этой гувернантки социалистического общества. Она должна правдиво запечатлевать невиданный трудовой энтузиазм первых пятилеток, немеркнущий воинский подвиг в жесточайших битвах с фашизмом, уверенную поступь по пути к коммунизму.
Должен ли этот идейно-эстетический критерий запечатлевать (прошу прощения за вздорные сопоставления, но мы все больше и больше скатываемся к театру абсурда), должен ли критерий запечатлевать штурмовые ночи 1937 года, массированный грабеж крестьянства под флагом коллективизации, штурмовые дни ГУЛАГа, массовое доносительство и бесконечные нарушения законности на пути к коммунизму? Об этом Литератор ничего не пишет, это не относится к правде его, литера. Может быть, и слово-то само употреблено им ошибочно, ошибочно не с большой буквы, ошибочно не в кавычках; может быть, говоря о воспитании правдой, он имел в виду газету «Правда»? В этом случае все было бы логично. Правду о социалистическом обществе следует подавать в убедительной и доходчивой форме, рекомендует Литератор, то есть не класть в варево слишком много специй, не злоупотреблять ни солью, ни лавровым листом. А то, знаете ли, бывает, отварят вам правду на французский манер, так она и в глотку нашему литеру не лезет.
Вспоминается старая шутка времен оттепели: соцреализм — это умение восхвалять начальство в доступной ему форме. Поехали дальше, к тем ответственным задачам, которые сегодня стоят — цитируем Литератора — «перед всей социалистической идеологией и, стало быть, перед многонациональной советской литературой». Итак, литература — это просто часть идеологии. Тайгой попахивает, господа, дремучими бочагами тридцатых годов, болотами Комсомольска-на-Амуре. Каковы же задачи? «Лакировка» нам не нужна, заявляет Литератор, однако не думайте, пожалуйста, что в цементной пустыне вдруг пробился какой-то живой ручеек, что Литератор хотя бы на один момент отбросил окостеневшие догмы. Из дальнейшего текста видно, что «лакировка» потому не нужна, что социалистическая действительность попросту в ней не нуждается — и без «лакировки» невообразимо хороша! Нужны идеалы! Далее цитируется неназванный Черненко: «На экране или под пером некоторых авторов выступают порой лишь неудавшиеся судьбы, жизненные неурядицы, этакие развинченные, ноющие персонажи. А человек, особенно молодой, нуждается в идеале…» Потрясенный этой мудростью, Литератор благоговейно ее повторяет: «Человек, особенно молодой, нуждается в идеале». Нужны идеалы, а стало быть, примеры для подражания, то есть герои художественной литературы. Дается понять, что именно в этом деле, в создании идеального советского героя, как раз и слаба наша гувернантка, не дотянула до классических образов, созданных ранее.
Любопытен список героев, к которому следует подтягиваться. Он весь относится к чистейшей сталинщине и в основном к тридцатым годам, к неизбывной ностальгии «штурмовых дней и ночей», которой, как выясняется, страдает и новое отечественное руководство. К многомиллионному читателю, пишет Литератор, пришли Чапаев и Кожух, Давыдов и Корчагин, молодогвардейцы и «настоящий человек» Алексей Мересьев. Относительно Чапаева товарищи, по-моему, зря волнуются. Образ легендарного комдива жив в сердцах советских людей. Вот уже много лет десятки, если не сотни, историй о Василии Ивановиче и его ординарце Петьке помогают нашему современнику сохранять чувство юмора, то есть выжить в условиях «развитого социализма». Кожух — это, пожалуй, единственная новинка, предложенная Литератором своим коллегам, советским писателям конца двадцатого века, или, как любят говорить в той же «Литгазете», эпохи научно-технической революции. Кто таков человече? Что-то раньше такой Кожух не встречался в синодиках. Может быть, я уже отстал, может быть, это какой-то современный Пьер Безухов или Ставрогин? Звоню в Нью-Йорк, звоню в Чикаго — никто не помнит, все озадачены. Наконец, в Калифорнийском университете нашелся всезнайка, все прояснилось. Да ведь это же герой из древней повести Серафимовича «Железный поток». Тогда уж вспомнилось нечто жутковатое, мычащее односложные команды, сгусток революционной силы, человек-гвоздь. Да и вообще, все эти предложенные литератором имена и примеры для подражания представились мне отсюда, из мая 1983 года, из западного мира какой-то гудящей толпой неандертальцев.
На этих примерах, пишет далее Литератор, воспитывался и наш современник, пламенный патриот, убежденный в правоте идей коммунизма, трудящийся на колосящихся нивах и в животноводческих комплексах (здорово сказано, не правда ли?), а также — прошу прощения, далее следует невероятное — те, что «выполняют свой интернациональный долг, зорко охраняя рубежи нашей родины». Позвольте, может спросить здесь удивленный читатель, как-то всегда считалось, что охрана рубежей — это внутреннее, а не международное дело! А ведь интернациональный-то долг наш современник выполняет далеко к югу от рубежей нашей родины, не так ли?
Таков основной фарватер, предложенный новым руководством тому, что в статье называется «большим кораблем многонациональной советской литературы». В современном мире, бурлящем бесчисленными противоречиями, философскими, религиозными, литературными, эстетическими идеями, в мире, где и в самом деле происходит технологическая революция, о которой в Советском Союзе не имеют понятия, этот фарватер не напоминает ничего более, чем частоколы самой дремучей сталинщины. Итак, поехали дальше вслед за этим «большим кораблем». Долг литераторов, указывает Литератор, состоит в том, чтобы бороться за подлинного героя, пламенного патриота и интернационалиста, убежденного в правоте идеалов коммунизма, и против унылых «вибрирующих» личностей, которые все еще проникают на страницы книг под видом литературных героев. Призыв этот читается недвусмысленно — литерАторы, зорче следите за литерБэторами и всякими там кое-какерами, а то они, чего доброго, хорошие книги напишут. Однако за этим пламенным призывом открытым текстом прочитывается и определенный подтекст. Имена «вибрирующих» лицемерно не называются. Хорошо тренированный номенклатурный литератор сам должен догадаться, о чем идет речь. Впрочем, недопонимающим будет показано на пальцах, что новое руководство не любит романов покойного Юрия Трифонова и вообще этого трифоновского литературного направления «унылого бытописательства». В самом деле, в романах Трифонова «пламенного патриота и интернационалиста» не найдешь, разве только среди призраков «Дома на набережной». В своих сложных, мастерски написанных книгах он говорил о серьезной жизни, об одинокой человеческой душе, о ее печалях; он удивительно реконструировал прошлое и воссоздавал реальный быт нашей страны. По сути дела, все его основные книги, такие, как уже названный «Дом на набережной», как «Старик» и «Время и место», посвящены глубочайшей и болезненнейшей для многих поколений советских людей теме предательства. Предательство любви, друга, учителя, идеала, таланта, профессионального мастерства — вот императивы, с которыми в течение стольких уже бесконечных лет приходится сталкиваться русской интеллигенции. Трифонов не пришел (или не успел прийти) в открытом виде к религиозному откровению, но те маленькие победы человеческого достоинства, горечь, грусть и свет, которыми пронизаны его книги, явно небесного происхождения. Конечно, это направление (а речь именно шла о направлении, в писательских кругах говорили о «трифоновском десятилетии», о новом Чехове советских семидесятых) не могло нравиться литераторам литера «А» с их пламенным патриотизмом на колосящихся нивах и интернационализмом по охране государственных границ. Еще весной в письмах из Москвы сообщалось, что новым вождям трифоновская проза не по нраву, и вот теперь это выразилось в призыве к решительной борьбе с унылыми и вибрирующими…
Поставив этот противотрифоновский бакен, ЛитерАтор идет по фарватеру дальше и заявляет, что «художник в своей повседневной творческой работе не может не считаться с особенностями переживаемого человечеством исторического периода». Какова же главная особенность нынешнего исторического периода? Не волнуйтесь, господа, все та же, все та же особенность, существующая уже семь десятилетий; имя ей — «обострение идеологической борьбы». За два десятка лет, проведенных внутри советской литературы, не помню я ни одного года, когда бы идеологическая борьба не обострялась. В 1962 году, правда, в связи с лозунгом мирного сосуществования некоторые наивные писатели предположили было, что идеологическая борьба малость притупляется, так партия немедленно тогда посадила их голым задом на ежа, чтобы поняли раз и навсегда — обостряется, всегда обостряется, для того и существует, чтобы обостряться до беспредельной остроты. В свете этого к чему же зовет Литератор? К политической бдительности, к «надежной марксистско-ленинской вооруженности». Продолжая суммировать предложенные качества, мы видим перед собой идеального советского писателя — героя нашего времени во всеоружии блистательных качеств — пламенный, верный, идейночеткий, надежно вооруженный.
Следующий абзац руководящей статьи поставил меня, честно говоря, в новое замешательство. ЛитерАтор пишет: «Уже и самые злейшие враги советской литературы все реже пускают в ход клеветнические басни о „декретировании“, „навязывании сверху“ творческих замыслов, тем, мотивов, образов». Насколько мне известно, «злейшие враги», то есть те, кто всерьез анализируют положение дел в советской литературе, не все реже, а все чаще пишут о навязывании сверху, о засилии косного, провинциального догматизма в советской литературе. Да и самих этих «злейших врагов» становится больше, потому что все меньше людей в западном, скажем, академическом мире цепляется за устаревшие марксистские догмы. Сила партийного руководства, пишет ЛитерАтор, коренится в том, что художнику предоставляются самые широкие возможности для его творческих исканий. Как совместить это странное заявление со всем вышеизложенным? Не кажется ли это еще одним и весьма глубоким погружением в стихию театра абсурда или кафкианской пучины, то есть нет ли в этом потери курса, проложенного партией? ЛитерАтор, очевидно, и сам это почувствовал и в следующей фразе направил «большой корабль многонациональной советской литературы» туда, куда положено. «Из этого вовсе не следует — пишет он, — что развитие литературы — процесс стихийный, никем не контролируемый и не направляемый, подчиняющийся лишь собственным „таинственным“ закономерностям… Партия всегда будет направлять развитие литературы так, чтобы она служила интересам народа». Блестящий пример диалектического тупика. Если к этому еще добавить метафизическую идею «народ и партия — едины», а также вспомнить о том, что инструктор ЦК, выпускник ВПШ, конечно, лучше знает интересы народа, чем писатель, то тогда можно будет легко, опять же в диаметрах театра абсурда, представить себе «злейшего врага советской литературы», который все реже пускает в ход клеветнические сказки о декретировании.
Ссылаясь опять же на генсека, ЛитерАтор призывает к непримиримости к идейно чуждым и профессионально слабым произведениям, и снова попадает в диалектический тупик. Неужели марксистская мысль еще не дошла до довольно простого открытия: не может быть в природе идейно не чуждых и профессионально не слабых литературных произведений? Не всякое идейно чуждое является профессионально сильным, но всякое профессионально сильное литературное произведение отчуждено от великолепного мира идей литера «А». Вот тут мы подходим к еще одному узловому моменту как статьи товарища ЛитерАтора, так и соответствующих заявлений на июньском пленуме ЦК. Здесь, как и в антитрифоновской ремарке, атакуется кто-то неназванный, но очень ясно подразумеваемый. Цитирую: «Думается, что и многих недостатков нашей литературы, таких, как отступления от исторической правды в оценке коллективизации, проскальзывание „богоискательских“ (иронические кавычки) мотивов, идеализация патриархальщины, щеголяние „нестандартным“ (иронические кавычки) толкованием сложных проблем, в результате которых искажается наша действительность, могло бы и не быть, если бы наша критика более зорко всматривалась в литературный процесс, своевременно и принципиально давала оценку различного рода негативным явлениям». Атака на «унылых» и «вибрирующих», по сути дела, не нова, Трифонова в советской официальщине только терпели, а вот приведенная только что цитата демонстрирует и в самом деле некий новый поворот-удар по вчера еще любимым и обласканным государственными премиями «деревенщикам». Кто же еще, как не они, отступали от исторической правды в оценке коллективизации, то есть не восхищались марксистским вариантом крепостного права, а иногда даже и заикались об истинных причинах той ситуации, в которой богатейшая некогда хлебная держава уже в течение целого поколения не может дать своим гражданам полноценного и доброкачественного питания. У кого, как не у них, проскальзывает «богоискательство»; кто, как не они, идеализировали патриархальщину, то есть осмеливались иногда под сурдинку говорить о традиционных ценностях тысячелетней российской культуры, в сравнении с которыми некоторые великие свершения могут показаться лишь преходящим инфекционным заболеванием? Кто, как не деревенщики (добавим — далеко не все и весьма скромно), щеголяли нестандартным толкованием сложных проблем, то есть попросту позволяли себе к этим проблемам прикасаться? В свое время шестерку деревенских писателей назвал Александр Солженицын как надежду русской литературы. По его мнению, именно они должны были писать истинно народную литературу, ибо они сами из народа, из мужиков, в отличие от Тургенева, Бунина, Некрасова, Толстого. Он не учел, однако, того, что и аппаратчики идеологического отдела ЦК не из дворян и пажеских корпусов они тоже не кончали. Аппаратчики оказались не лыком шиты, а задним умом крепки. Вместо того чтобы давить «деревенщиков», то есть толкать к диссидентству, они их ловко приспособили, одарили всех государственными премиями, секретарскими титулами, большими тиражами, сделали это направление как бы гвардейским в советской литературе. Цель была более чем очевидна. При помощи «деревенщиков» задавить прозападные течения, вновь создать в России климат культурной изоляции. Надо сказать, удавалось неплохо, и многие были отлично приспособлены для проведения откровенно шовинистических кампаний, отлично дали себя противопоставить таким всяким диссидентикам и эмигрантскому огребью, отлично использовались для борьбы с западными вкусами советской молодежи. И все-таки иные из «деревенщиков», будучи талантливыми писателями и пользуясь своим крепким положением, нет-нет да грешили против агитпропа, вылезали из прокрустовых штанов; то вот необъективность высунется, то богоискательство, то нестандартное что-то, какое-то патриархальное… Теперь пришел и их черед попасть в опалу. Определились литературные вкусы и намерения нового руководства. Никаких новшеств! Никакого вам ни западничества, ни славянофильства. Выкинув десятки писателей из литературы и из страны, теперь и внутри нацеливаются на то немногое живое, что осталось. Нет ни Запада, ни Востока, ни Севера, ни Юга, стрелки обломаны, остался только один невращающийся центр, по нему держите курс. Отставив в сторону сарказм, скажу лишь, что все это вызывает даже уже не омерзение, как в прошлые годы, а только лишь неизбывную печаль о судьбе великой культуры великого народа, с которой, возможно, никогда уже не слезет так плотно навалившееся брюхо. Духовную жизнь современного человечества и в самом деле можно уподобить океану; плавание по нему — сложное, туманное, непознаваемое дело. Одному лишь нашему идеологическому лоцману все ясно. С литером «А» в кармане ему, похоже, любое море по колено. И, судя по всем признакам, не протрезвеет этот морячок от злой большевистской бормотухи уже никогда.
ХРУПКАЯ ИРОНИЯ
В некоторых статьях нынче, как в свободной русской прессе, так и в СССР, проскальзывает тенденция уничтожения иронии. Этические грехи современной литературы приписываются так называемому «паниронизму». Иронический взгляд признается как бы «культурным пораженчеством», проявлением слабости и отсутствия позитивных идеалов. Вспоминая недавнее прошлое, я думаю, что неприязнь к иронии зародилась в Москве, в тех кругах, где модная «реакционность», культивирующая Константина Леонтьева и Василия Розанова (найдите более ироничного писателя), прекрасно уживается с заседаниями в парткомах. Впрочем, это может быть и ошибочная догадка, да и не особенно важно, откуда начинают блуждания «летучие голландцы» современных идей. Важно то, что тут с первого же слова происходит некоторая подмена понятий: насмешливость смешивается с иронией, ну и наоборот, иронический прищур понимается как издевательство. Советский критик с симпатией вспоминает «ретрограда и аристократа» Леонтьева, который возмущался тем, что герои Достоевского и Толстого иногда сопят носом и брызгают слюной. Зарубежный русский писатель обеспокоен тем, что «на рекламном щите освобождающейся русской литературы один-единственный жест — высунутый язык — остался». Было бы понятно, если бы на иронию ополчались свирепые революционеры, твердокаменные социалистические реалисты или их антагонисты, контрреволюционеры, какие-нибудь там куклуксклановцы. Между тем атака на иронию идет со стороны людей, называющих себя либералами, то есть относящихся вроде бы к другому измерению.
В Советском Союзе нас с детства приучали относиться с презрением к слову «либерал», и вот результат этого воспитания — нет для меня нынче более высокого и благородного слова. Стереотипы марксизма и антимарксизма все еще толкают нас к ежедневному неправильному толкованию этого слова. На Западе нередко называют либералами различных университетских любителей Кастро и прочей так называемой «освободительной борьбы народов». Между тем они отстоят от либерализма даже дальше, чем сам Кастро, которому по долгу главы правительства иногда все-таки приходится вспоминать, что он живет в современном мире, и проявлять хоть минимальное снисхождение к своему народу. Революция — это древнее дело людской расы. Насилие, грабеж, возвышение тиранов — ни одна революция ничего нового не придумала. Отсюда и революционная эстетика — утилитарная, помпезная, исполненная самой что ни на есть «звериной серьезности». Единственная новизна, появившаяся в истории — в масштабе, скажем, пары десятков веков, — это либерализм как естественный продукт (прошу прощения за неаппетитное слово) молодой христианской религии; молодой христианской — Пастернак в «Докторе Живаго» многократно подчеркивал ее молодость — цивилизации. Эстетика либерализма проявляется в многообразности, в неожиданности, в юморе, в игре. В этой связи иронический жест — одна из главных позитивных ценностей либеральной цивилизации. Каждому поколению его время кажется каким-то поворотным, и наше — не исключение. Может быть, и в самом деле возможен какой-то поворот от древней революционно-контрреволюционной дикости к современному миру, где возникает другая шкала опознавательных понятий? В современной, то есть в прежней, системе стереотипов, возникшей от порядка размещения кресел в каком-то старинном зале для заседаний, мир уже окончательно запутался. Может быть, больше, чем другие, запутались мы, беженцы из страны, на немыслимо серьезном лбу которой лежат вековые тучи революционной серьезности.
В шестидесятые годы в Советском Союзе нас называли и мы называли себя «левыми». Оказавшись в изгнании, мы вдруг увидели, что на Западе многие люди, похожие на нас, не очень-то хотят развивать тему нашего изгнания, ибо теперь нас как бы причислили к «правым». Эта экспозиция неплохо иллюстрирует царящую сейчас в мире неразбериху, терминологический, семантический, лингвистический, эстетический хаос. Параметры абсурдистского театра бодро распространяются повсюду. Мы-то думали, что Советский Союз — заповедное место для писателя-сатирика. Теперь можно вздохнуть с облегчением — и остальной мир в смысле вздора недалеко ушел. Значит, можно работать. Кто нынче в мире борется за свободу? Ну, уж во всяком случае, не революционеры. За спиной у них с самого начала маячит дядька Грибачев с марксистскими кирпичами в длинных руках. Революционеры в Латинской Америке дерутся против своих авторитарных владык, то есть против порабощения за большее порабощение. Правые отбиваются от левых, то есть отбивают свое умеренное порабощение от большего порабощения. Значит ли это, что те или другие бьются за свободу?
Между тем на фоне этой древней пошлятины развивается современное человечество с его удивительными средствами коммуникаций, делающими вздором любую цензуру, с его новыми пластическими средствами. В принципе, в высокоразвитых странах рождается новый этнос, раса землян. Мне кажется иногда, что мир хочет выйти к новым параметрам — вне левых и правых ранжиров, жаждет новых измерений. Сено! Солома! — никто не отвечает, в определенном смысле вокруг полное невежество. Для простоты, да и для маскировки собственной неграмотности хочется, конечно, разделить нынешнюю свалку на силы либерализма, то есть на новые силы, и на древнюю мощь антилиберализма, то есть тоталитаризма. С той же примитивной задачей можно и нынешнюю эстетику разделить на эстетику иронии и эстетику серьезности. От серьезности всегда в большей или меньшей степени попахивает хамством. Мы, битые советские шкуры, знаем это лучше других, нас обмануть трудно. Серьезность — непременное свойство графомании, отсутствие профессионализма, непомерные претензии. Советская литература — это край непуганых графоманов, и нет более серьезных людей, чем советские писатели.
Вспоминается пленум правления Московской писательской организации, на котором состоялся погром нашего неподцензурного альманаха «Метрополь». Среди хорошо отрепетированных обличений и обвинений несколько необычно прозвучало выступление важного советского классика, прозаика Михаила Алексеева. Он был оскорблен в лучших чувствах творца, посему и вступился за классику, за непреходящие культурные ценности. Сначала он зачитал фразу из «метропольского» манифеста, она звучала так: «Муторная инерция ведет к возникновению раздутой всеобщей ответственности за штуку литературы; эта всеобщая ответственность вызывает состояние застойного, тихого перепуга, стремление подогнать штуку под ранжир»… «Что это значит — „штуку“? — вопросил Михаил Алексеев. — Это что же получается, значит, я „штуки“ пишу, а не романы, не книги? Горький „штуки“ вам писал? Шолохов „шутки“, что ли, пишет? Вот рядом со мной великий поэт сидит, — он показал на Егора Исаева — он что вам, „штуки“ пишет?»
Увы, и в эмиграции мы постоянно сталкиваемся с тем, что когда-то хорошо называлось «звериной серьезностью». Отсутствие иронической интонации на литературе сказывается губительно. Хочу оговориться лишний раз: говоря об иронической интонации, я не имею в виду сатиру. Иной раз и чисто сатирическая книга блещет полным отсутствием иронической интонации. Сколько обиженных авторитетов, непризнанных гениев — ну, а с признанными гениями вообще тяжелый случай — при защите престижа раздувание происходит даже большее, чем при завоевании оного. Сейчас наша рассеянная по всему миру общественность внимает современному варианту «спора славян», дискуссиям так называемых «авторитарников» и «демократов». Ну, спор как спор, господа, в самом деле ничего особенного ведь не происходит, вообразите только, какие бы споры запылали, освободись на неделю Москва. Нет, этому спору иной раз придается просто-напросто роковое значение, причем свирепость нынче идет вовсе не с той стороны, откуда вроде бы ожидается, не от «авторитарников», а от тех, кто претендует на больший либерализм, то есть на ироническую, художественную эстетику. С угрюмостью и упорством, достойным лучшего применения, «демократы» говорят о каком-то чуть ли не заговоре «авторитарников», об устрашающем характере их модели националистической России. Господа, говоря о будущем устройстве России на семидесятом году советской власти, не мешало бы хоть чуточку улыбнуться.
Запутавшись в «сене и соломе», я иногда говорю себе: больше следи за выражением лиц, чем за произносимыми словами. Прошлой осенью принц Чарльз нырял с аквалангом к затонувшему в XVII веке фрегату. Тут по законам шекспировской драматургии началась буря, возникло опасное положение. Вынырнув, Его высочество сказал телезрителям: «They say, the Britons never panic and we didn't»[1] — и улыбнулся. Улыбки было достаточно, чтобы сообразить: этот принц — не жлоб. Ироническая эстетика литературной фразы сродни определенному состоянию лица, мимических мышц, жестикуляции, походке. Стиль становится мерилом нравственности, эстетика перетекает в этику и наоборот. Это мир либерализма, иронии и самоиронии, чувство театра. Президент Рейган, как ни странно, в значительной степени соотносится с этим миром. Много ли шансов у хрупкой иронии выжить в кольце серьезности, у либерализма выстоять перед лицом тоталитарных колонн? Это уж в самом деле не наша забота. Писателю не обязательно присоединяться к потенциальному победителю, не обязательно, впрочем, и культивировать пораженчество. Нырнув в философский словарь, извлекаем из Кьеркегора: «Ирония движется непрямой коммуникацией к пункту, где необходим скачок веры». Дамы и господа, сколько бы у нас ни было пядей во лбу, к каким бы глубокомысленным школам, направлениям, союзам мы ни принадлежали, все равно мы останемся наивными детьми Господа Бога.
НАРЕЧИЕ НА «О» К 65-летию А.И.Солженицына
В русской эмиграции немало говорят о «затворничестве» Солженицына — очень популярная тема на вечеринках. Всякий раз, когда мне приходится слушать эти разговоры, я вспоминаю рассказ моей матери Евгении Гинзбург о ее встрече с Александром Исаевичем. В середине шестидесятых годов ее книга «Крутой маршрут» широко циркулировала в Самиздате, по некоторым оценкам число самодельных копий достигло пяти тысяч. Солженицын к тому времени уже напечатал всю свою «новомирскую прозу». Он все еще считался как бы «новомирским автором», но в Самиздате уже начали циркулировать и «Раковый корпус», и «В круге первом»; все уже чувствовали, что собирается гроза, хотя никто еще не мог предвидеть масштабов. Встреча двух писателей, вырвавшихся из ГУЛАГа, была вполне естественной и даже вроде нужной. Не помню точно, когда и где она состоялась, потеряны, увы, и многие из рассказанных мамой деталей, но одна тема их разговора врезалась в память.
Он спросил: сколько вам лет? Вопрос для немолодой дамы не очень-то привлекательный, если за ним не предполагается комплимента. Комплимента явно не предполагалось, но мама назвала цифру. Солженицын записал ее на листочке чистой бумаги. На осьмушке бумаги, как говорили в старину. Далее он спросил: а как вы себя чувствуете? Вопрос звучал скорее в медицинском, чем в светском ключе. Мама сказала «терпимо», что тогда вполне соответствовало действительности. Опрос продолжался. Сколько страниц в день вы пишете? Мама прикинула: что-то вроде шести, когда хорошо идет. Солженицын и эту цифру записал. Далее на глазах изумленной мамы началась калькуляция. Итак, в среднем вы можете писать столько-то страниц в день. Предположим, вы сможете работать активно еще столько-то лет. Каждый год — это столько-то рабочих дней. Помножим. Итак, вот число страниц, которые вы должны написать. Эту цифру вы всегда должны держать в уме. Это ваш долг, Евгения Семеновна, написать вот столько-то страниц о вашем жизненном пути и о ГУЛАГе. Мама рассказывала эту историю не без улыбки, вот, дескать, какой одержимый человек, однако нет никакого сомнения, что разговор с Солженицыным подтолкнул ее к дальнейшей работе, которая в конечном счете вылилась во второй том «Крутого маршрута».
Можно только представить, насколько суровый счет Солженицын предъявляет самому себе, насколько неумолима его самокалькуляция. Секрет так называемого затворничества именно в этом. Писать, писать, отмывать обосравшуюся во лжи историю. Лично для меня такой подход к писательскому долгу является недостижимым нравственным пределом, ощущением важности исторического пути и преодолением соблазна чистого сочинительства. В декабре 1983 года Александру Исаевичу Солженицыну исполнилось 65 лет. В декабре 1962 года, когда он триумфально явился в русскую (и советскую тех лет) литературу, ему было 44. Окиньте взглядом пространство, пройденное за это время этим человеком, — насколько оно больше одной жизни! Труд его и подвиги (очень просто в данном случае извлечь это слово из порочного круга словесной инфляции) отмечены поистине Геракловым масштабом, а из подвигов последнего вспоминается, конечно, прежде всего очистка Авгиевых конюшен, ибо именно к этому и направлены все труды Солженицына — к очищению. В своде народной мудрости есть одна лицемерная мерзость, призывающая «сор из избы не выносить», то есть смердить внутри избы, лишь бы соседи не подумали, что у нас какой-то сор завелся. Тоталитарные владыки этой идеей одержимы, причем даже с какой-то наивностью: неужели всерьез думают, что все останется шито-крыто? Простой и мощный призыв Солженицына «жить не по лжи» ошеломил хранителей сора, даже как бы подорвал основы их «веры». Этот призыв к выбросу грязи прежде всего из собственных душ стал, пожалуй, основным религиозным и нравственным кредо нашего поколения россиян.
Помню, еще в Москве читали мы в эмигрантском журнале «Континент» записки одного диссидента. Этот смелый человек рассказывал, что во время допросов в гэбэ он опирался на так называемую триаду — «не верь, не бойся, не проси». Вновь поражает простота и мощь этой тройной задачи, вдруг видишь, что и одиночка может быть не так уж безоружен перед карательной машиной. Войдя в разгар «оттепели» в советскую литературу, Солженицын как бы предложил ей иной путь развития. Поначалу казалось, что она даже готова принять этот путь. Кандидатура автора «Одного дня Ивана Денисовича» была выдвинута на Ленинскую премию; в «Правде» появилась статья советского классика, объявляющая скромного учителя из Рязани советским Львом Толстым, хотя место «большой медведицы пера» давно уже было занято Шолоховым. Очень скоро, однако, оказалось, что другого пути советская литература принять не может просто потому, что другого пути для нее не существует.
Вообразим фантастическое: Солженицын получает Ленинскую премию за «Один день». В советской литературе, стало быть, укореняется «лагерная тема». Последствия могли стать необратимыми для самой передовой цензурной системы в мире — метода социалистического реализма. Правдивый и страстный разговор о прошлом в конечном счете привел бы к выводу на чистую воду тех, кто с этим прошлым повязан грязными делами, кто и по сей день правит в Союзе писателей. Аппаратчикам вряд ли удалось бы адаптировать Солженицына, как это случилось с такими писателями, как Бондарев и Бакланов. Отвержение Солженицына было для советской литературы рефлекторным актом самозащиты. Феномен Солженицына, по сути дела, убил литературу «оттепели» с ее почти стабильно уже отработанной системой намеков, иллюзий и кукишей в кармане. Намек становится неуместным вздором, когда бок о бок с тобой находится человек, говорящий на ту же тему в полный голос.
В этой связи уместно провести параллель между Солженицыным и Евтушенко. Лидер нашей прозы и лидер поэзии отчетливо занимали выраженную гражданскую позицию. До появления Солженицына Евтушенко был кумиром мыслящей молодежи, непререкаемым вождем так называемого «четвертого поколения». Пойди Евтушенко вровень с Солженицыным, таким бы и остался. Увы, не смог, потерял темп, остался в позе стареющего придворного шалуна, а фигушка превратилась в непристойное шевеление пальцами в кармане. Жизнь показала, что проза острее чувствует мерзость полуправды, чем поэзия. Иные из бунтарей-поэтов шестидесятых годов стали благополучными конформистами, в то время как проза почти в полном составе, за исключением «деревенщиков», последовала по новому пути и взбунтовалась.
Благодаря Солженицыну и совершенно неожиданно для властей одним из поворотных пунктов в литературе «оттепели» оказался VII съезд Союза писателей СССР. Поначалу он проходил чинно и благородно в Большом Кремлевском дворце со всеми «этими делами», сидящими в президиуме и с либеральными шепотками в кулуарах. Тот год почему-то выдался влажным, мягким. Меня тогда, к полному моему удивлению, вместе с Евтушенко, Вознесенским, Казаковым, Окуджавой выдвинули в Ревизионную комиссию. Мы стояли на знаменитой парадной лестнице, по которой когда-то генералиссимус спускался, окруженный своими ворошиловыми и бериями, и отчаянно хохмили: вот, дескать, были ревизионистами, а стали членами ревизионной комиссии. Неподалеку глумливо ухмылялся главный литературный аппаратчик Беляев. И вдруг на следующий день улыбочка слетела с булыжной образины. Атмосфера съезда разительным образом переменилась, наполнилась электричеством. Чуть ли не несколько сотен делегатов съезда получили размноженное на папиросной бумаге письмо Солженицына. Он призывал — шутка ли! — просто-напросто покончить с нашей привычной и даже, как видим, иногда и уютной душительницей — литературной цензурой. Улыбочки, шепотки и подхихикивание разом были покрыты мощным и суровым голосом правды. Не удержусь от соблазна употребить здесь восхитительную фразу: кулуары забурлили! В президиум посыпались записки с требованием слова.
Составлено было несколько писем с требованиями отмены цензуры. Это был не просто скандал в благородном семействе, но, повторяю, поворотный пункт для многих из нас — хватит ходить пай-мальчиками под глумливой улыбочкой партийного дядьки. Так из хитрой и не очень успешной игры вырастала идея открытого сопротивления. Едкая проза Солженицына навсегда смыла плакатный грим с идеологической образины и обнажила перед всем миром ее глумливую улыбку.
Влияние солженицынских идей распространилось по всему спектру политической мысли Запада. Среди его «детей» и французские бунтари, так называемые «новые философы», и молодые консервативные либералы Соединенных Штатов. У нас, в эмиграции, сколько голов, столько и мнений. Немало есть мудрецов, что катят бочки на Солженицына; для иных хула, посылаемая в сторону Вермонта, стала уже как бы «делом чести». Обвиняют писателя в упомянутом уже затворничестве, в айятолизме, в реакционном русском национализме. Иные критики договариваются даже до того, что Солженицын ратует за установление в будущей России мрачного клерикального режима, при котором гражданские свободы будут подавлены еще пуще, чем при коммунизме. На мой взгляд, если уж говорить о столь широком и многоцветном понятии, как национализм, Солженицын представляет в нем самую светлую струю просвещенного русского патриотизма, во главе угла которого стоит не биология, но культура, и где на русского смотрят не как на владыку, но как на жертву, спасением которой должен быть озабочен каждый интеллигент, не меньше, во всяком случае, чем свободой печати. Не могу сказать, что я со всеми идеями Солженицына согласен. Не могу, например, согласиться с его оценкой русского либерализма между Февралем и Октябрем. Мне кажется, что не разнузданность либерализма привела к большевистскому перевороту, а как раз его слабость, количественная и качественная недостаточность. Ежедневно вихляясь между «измами», мы должны быть благодарны Солженицыну за то, что он силой своего пера и личным нравственным примером ослабил влияние этих существительных с язвительными окончаниями и протер до блеска наречия с окончанием на «о» — такие, как «чисто», «грязно», «подло», «честно»…
2004
Фигура Солженицына и поныне является ключевой в давнем споре: «Должен ли и может ли писатель стать „властителем душ“?» Иными словами, нужно ли всякому российскому писателю «тащиться под Солженицына»? Однозначного ответа на сей вопрос у меня нет. Суровый реализм А.И. чужд метафизике словесного творчества, кантианству и раблезианству литературы. И в то же время не исключаю, что и всякий сочинитель-вольнодумец должен быть хотя бы отчасти Солженицыным, ибо смысл наречий на «о» не обветшал еще и поныне.
ПОЭТ И МИЛЛИОНОПАЛАЯ
Июль оказался щедр на круглые даты. Среди них одна из самых примечательных — девяностолетие со дня рождения Владимира Маяковского. Воображаю помпу, с которой Страна Советов отметит юбилей своего «агитатора, горлана, главаря». Залогом успеха всенародных празднеств является то, что во главе юбилейного комитета стоит достойный преемник Маяковского в нынешнем периоде «зрелого социализма» — поэт Егор Исаев. Одесную, кажется, располагается второй великан — прозаик Михаил Алексеев. Оба вроде бы имеют какое-то отношение к одному из героев поэзии юбиляра, о котором он однажды написал: «Читали стихи Иванова Василия? Так же оригинальны, как его фамилия». Легко было так шутить Владимиру Владимировичу: кроме таланта к стихам, выдающегося роста и громового голоса одарен он был еще и исключительной фамилией. Не удивительно, что современники считали ее псевдонимом. Откуда она взялась на сухопутных просторах родины, с какого маяка сорвалась? В такой фамилии каждый отпрыск, по идее, должен был бы быть личностью уникальной: поэтом или адмиралом вроде Айвазовского, но уж никак не смиренным лесничим, как отец поэта.
Говоря о Маяковском, нельзя не вспомнить, разумеется, изречение товарища Сталина: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Даже и сейчас, по прошествии множества лет со дня моего первого увлечения стихами Маяковского, даже и теперь, когда увлечение мое, мягко говоря, видоизменилось, не могу не согласиться с мнением Вождя Народов. Маяковский — действительно лучший и талантливейший поэт их социалистической, тогда молодой и нахрапистой, а ныне так быстро дряхлеющей эпохи. Его современники — Хлебников, Пастернак, Мандельштам, Ахматова — никогда не принадлежали к их социалистической эпохе. Нечего говорить и о победившем Маяковского на конкурсе 1918 года в Политехническом музее «короле поэтов» Игоре Северянине. С «ананасами в шампанском» в социалистическую эпоху не пущали. Маяковский действительно был в огромной степени талантливее тех, кто его окружал и сопутствовал в хвалебных серенадах «Весне человечества», в славословии вождей, в размахивании кулаками в адрес «буржуев» и в бичевании «отдельных недостатков», — всех этих демьянов бедных, лебедевых-кумачей, жаровых, безыменских, джамбулов, сулейманов стальских, долматовских — имя им легион. Вот за что и в самом деле можно сказать «спасибо товарищу Сталину» — за эту фразу: она сохранила для молодости моего поколения Маяковского, яркого среди серых.
Присутствие Маяковского хотя бы в школьной программе сыграло огромную роль в подсознательном эстетическом сопротивлении советской молодежи, потому что он принадлежал не только к «социалистической эпохе», но и к другой, короткой, серебряной эпохе русской свободы. Недавно «Новое русское слово» перепечатало известное эссе Бунина о Маяковском. В редакционной сноске было указано, что этой публикацией как бы подводится черта под читательскими спорами о «месте поэта в эмигрантском строю». Мнение нашего великого прозаика и в самом деле не оставляет места ни для сомнений, ни для полемик. Цитирую: «Маяковский останется в истории литературы большевистских лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь…» И все-таки, и все-таки для той части «советской черни», к которой и я принадлежу и которая помнит тот пир и карнавал родной речи, что шумит в лучших «несоциалистических» стихах Маяковского, которая помнит такие, скажем, пустяки, как сногсшибательные корневые рифмы вроде «трещит сорокой радостной, пьяней сорокоградусной», или «приятно мне с Ядвигой греться, она сидит и двигается», которая помнит еще юношеский восторг от строк такого рода:
Боже, если есть Ты, Боже, Если звезд ковер Тобою выткан, Если этой муки, ежедневно множимой Тобой ниспослана, Господи, пытка…Для нас этот спор не окончен, и, напротив, однозначность классики Бунина в силу именно ее однозначности — под сомнением.
Иван Алексеевич в отношении братьев-писателей вообще был большой ворчун и брюзга. Мало кто ему нравился, и на негативные эпитеты он не скупился. Доставалось и Достоевскому. Блока терпеть не мог. В одном из писем Георгию Адамовичу он корил адресата за то, что тот ему присылает книжки молодых (и талантливых, по мнению Адамовича) советских писателей конца двадцатых годов. «Этого вашего Олеши я и трех страниц осилить не смог, бездарная скука», — приблизительно так отзывался он о романе «Зависть», каждой строчкой которого мы впоследствии, в конце пятидесятых, когда роман после долгого запрета был переиздан, наслаждались. Попутно с Маяковским достается и Пастернаку. Взволнованная невнятица гениального поэта вызывает у нобелевского прозаика враждебное недоумение. Со своей весьма тихой, скажем так, поэзией Бунин и в стихотворении ставил себя выше всех. В этом он был сродни Александру Трифоновичу Твардовскому, который, будучи ведущим поэтом Советского Союза, ни разу не напечатал в своем либеральном «Новом мире» самых либеральных поэтов шестидесятых годов: Вознесенского, Окуджаву, Ахмадулину — только потому, что они писали не так, как он. В молодых эскападах футуристов Бунин не видит ничего, кроме мошенничества и хулиганства. В этом он довольно близко сходится с цепными псами социалистического реализма Ермиловым, Зелинским, Дымшицем. Я не могу полностью опровергнуть мнение Бунина о Маяковском. Несправедливо, когда он называет поэта «заборной бездарностью», но абсолютно справедливо, однако, он говорит о мерзости революционной демагогии, об ужасающем подхалимстве перед Лениным, Сталиным и ЧК. Неплохо было бы все-таки чуть-чуть передохнуть от затрудняющих дыхание эмоций и подумать о том, почему этот поэт огромного драматического дарования и сатирического артистизма писал столько дряни.
Маяковский, как и другие гении «русского исторического авангарда» вроде Мейерхольда, Татлина, Малевича, оказался жертвой колоссального культурно-социального недоразумения. Открытие новой эстетики нового технологического и либерального века хронологически совпало с большевистским переворотом. Совпала отчасти и большевистская фразеология с выкриками возбужденных артистов. В силу этих причин русский авангард вообразил себя частью «пролетарской революции». Немолодой Мейерхольд бегал, как мальчик, в туманах Невского. Татлин мастерил башню Интернационала, хотя спираль увлекала его как манифест чистой свободы. Один за другим артисты приходили к новой власти и говорили: мы ваши, берите нас, мы слуги революции! Отчасти именно им мы обязаны тем, что партия так легко и охотно вообразила себя хозяйкой искусства. На самом-то деле комиссары только дальновидно ухмылялись в ответ на эти изъявления любовных чувств и предложения услуг. Может быть, еще некоторым троцкистам был интересен авангард, настоящим же большевикам-ленинцам он был отвратен. Ленин не любил Маяковского, а все эти желтые кофты и раскрашенные щеки были ему не менее противны, чем Ивану Алексеевичу Бунину, — отвлекают ведь молодежь от служения великому делу коммунизма. Супруга его Надежда, между прочим, еще в 1918 году на страницах «Правды» атаковала мейерхольдовскую постановку пьесы Маяковского «Мистерия-Буфф», самым убедительным образом доказав, что такое искусство не нужно классу-победителю и партии большевиков. В принципе, если уж говорить об искренней революционности Маяковского, то она была сугубо троцкистской. Если уж и был он увлечен (а он был какой-то период увлечен) романтикой революции, то это была, конечно, романтика так называемой «перманентной революции», так называемый «мировой пожар», идеи европейской «левой». Национал-большевизм, укореняющийся в Кремле, вся эта новая вульгарная «Византия» были ему чужды. Уместно вспомнить один его страшноватенький вождеборческий стих, который всегда изымался в сталинские времена из поэмы «Ленин»:
Если б был он царствен и божествен, Я б от ярости себя не поберег, Я встал бы в перекоре шествий, поклонениям и толпам поперек. Я б нашел слова проклятья громоустого, и пока растоптан я и выкрик мой, я бросал бы в небо богохульства, по Кремлю бы бомбами метал: долой!Анархическое всегда боролось в нем с конформистским. Даже и тогда, когда с неуклюжими движениями своего огромного тела танцует он перед партией комплиментарный танец живота, из-под пера его порой вырывается нечто, отчего морозец проходит по коже:
Партия — рука миллионопалая, сжатая в один громящий кулак!Поиск метафор приводит его иногда от восхвалений на грань разоблачений. Шпарит кожу неожиданный (может быть, и для него самого) удар и выброс на поверхность столь же иронического, сколь и мрачного гейзера. Эта миллионопалая лапа вряд ли простила бы поэту дерзость дальнейшего существования. Не только историческая фраза вождя, но и выстрел в апреле 1930 года способствовали тому, что поэт-троцкист остался в советской литературе и даже в учебниках для средней школы.
Впрочем, несмотря на сталинский «знак качества», Маяковский далеко не весь поощрялся. Вбивали в головы подрастающего поколения всяких там «товарищей Нетте», заставляли зубрить «Стихи о советском паспорте», однако «Флейта-позвоночник» считалась чуть ли не крамолой. С «советским паспортом» однажды на уроке литературы конфуз случился. Один ученик поинтересовался, почему поэт такую дорогую, священную вещь достает из «широких штанин»? Разве такую святыню в штанах носят, а не на груди? Пьесы Маяковского не ставились больше тридцати лет. Помнится, мы на третьем курсе института стали разыгрывать в студенческом клубе «Баню». Тут же прискакали люди-пальцы из парткома и чуть не пришили всем нам, студентикам, контрреволюцию. Говорят, что историческая фраза вождя появилась на свет в результате весьма хитро сплетенных кремлевских дворцовых интриг. Некоторые относят ее даже к дерзости Лили Юрьевны Брик, которая всячески старалась спасти память о Маяковском и его стихи от надвигающейся подлинно революционной эстетики. Так или иначе, но благодаря этой фразе он остался в живых, и в период моей, скажем, юности оказался, может быть, единственной нитью, соединяющей концлагерную «социалистическую эпоху» с короткой русской весной десятых. Каково было, прогуливаясь по дощатым панелям Магадана, читать вот эдакое:
Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего. Желтую кофту из трех аршин заката. По Невскому мира, по лощеным полосам его, профланирую шагом Дон Жуана и фата.Это был юноша молодой России, прекрасный и жалкий, зажатый впоследствии людьми-пальцами себе на потребу, однако умудрившийся все-таки и в нашу совсем уже социалистическую эпоху плеснуть свою краску из стакана и показать на блюде унылого студня «косые скулы океана»…
Таким и хочется удержать его в памяти и воображении даже ко дню девяностолетнего юбилея.
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Сейсмический эффект чехословацкого кризиса и по сей день находится в процессе своего развития. Не проходит, пожалуй, и месяца, чтобы он не давал о себе знать все новыми и новыми трещинами тоталитарного монолита. Американский журнал «Ю-ЭС ньюс энд уорлд рипорт» недавно напечатал любопытную подборку материалов. Принято думать, пишет журнал, что различные смуты и мятежи беспокоят главным образом западный мир, все эти традиционные районы социального беспокойства вроде так называемого «пылающего континента» — Латинской Америки. Сейчас, однако, центр событий такого рода смещается, и жарко становится Кремлю. И в самом деле, по всему миру начинает бурлить недовольство догматическими формами власти. Иногда это недовольство принимает характер партизанской войны, как это происходит сейчас в Анголе, Эфиопии, Мозамбике, Никарагуа, Афганистане, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме. Движением массового мирного протеста охвачена Польша, неспокойно во всем социалистическом лагере. Мы, однако, говорим здесь не об этих открытых бурях, а о психологических изменениях человеческой личности в условиях послепражского социализма, о трещинах основного марксистского психологического базиса, базиса лжи.
Принимая решение о вторжении, Брежнев, конечно, дико трусил. А вдруг армия подведет, а вдруг госбезопасность будет недовольна, а вдруг союзники заартачатся? Ему, конечно, казалось, что этим решительным шагом он спасает от катастрофы весь мир социализма, но в то же время он дрожал — а вдруг еще быстрее пойдет процесс распада? Прошло несколько лет, и все успокоились, воцарился милый сердцу днепропетровского партийца порядок: юбилейные празднества проходили без сучка и задоринки, партийные награды вручались во все возрастающем количестве, пресса занималась своим основным делом — славословием правящего партийного класса. Жизнь как бы подтвердила правоту брежневского решения, историческую мудрость пышнобрового генсека. Наверное, он и в мир теней сошел в полной уверенности, что в 1968 году спас мировую социалистическую систему. На самом деле Брежнев и компания, конечно, были разрушителями социализма в его старом понимании (говоря «старом», имею в виду марксистско-ленинское), спасти же социализм как раз пытались Дубчек со Смрковским. Они пытались приспособить социализм к новым временам открытых человеческих коммуникаций, заменить чугун какой-то новой, вязкой и тягучей массой, которая могла бы не только бить по башке, но и принимать иной раз соблазнительные формы человеческого лица. Оказалось, что это невозможно. Все дальнейшие события показали, что социализм старого типа не видоизменяется и к новым временам не приспосабливается, а талантливых, творчески настроенных людей из своей структуры выталкивает.
До 1968 года это было еще не ясно. Сейчас трудно поверить, но среди молодых коммунистов в Москве были люди, не догматически мыслящие. Среди моих знакомых таких было немало. Переломный год по-разному отразился на их судьбе. В принципе, партия хотела перешагнуть через это поколение. Конечно, не хронологический возраст считался крамолой, а некоторая моложавость души. Ты мог остаться в рядах номенклатуры, если бы внутренне подтянулся до облика вечно восьмидесятилетнего Арвида Яновича Пельше. Чехословацкий кризис привел к тому, что некоторые молодые коммунисты тех лет, перед которыми открывалась безусловная чуть ли не наследственная карьера, отказывались от пельшевизации и от соблазнов пайковой системы.
Я знал одного такого. Он начинал как обыкновенный партийный карьерист. Быстро поднимался по ступеням власти, если только можно назвать властью систему партийной иерархии: ведь там, на верхах, подчиненности и закабаленности еще больше, чем в низах. Подъем этого человека — назовем его Кимом, акронимом Коммунистического интернационала молодежи — был как бы запрограммирован с рождения: он происходил из партийной аристократии, умудрившейся уцелеть и в чистках 37-го года. Дедушка его с партийным чемоданом курсировал между Цюрихом и Гельсингфорсом, бабушка вместе с Сосо и Камо по закавказским банкам выступала, папа металлургическим гигантом тридцатых годов руководил, ну вот и Ким к тридцати годам без особого нажима стал заместителем заведующего отделом ЦК. Должность немалая, неплохие возможности, однако и ответственность велика. Прежде всего следует правильно выбирать круг знакомых. Ким этого не сделал, а, наоборот, сошелся с людьми довольно сомнительными, всякими там насмешниками из московской артистической среды. Иногда случалось так: сидит Ким в какой-нибудь шумной литературно-театральной компании, потом среди ночи снимает трубку телефона и тихим голосом говорит: «У телефона Ким. Машину, пожалуйста, на улицу Веснина». Этого достаточно. В любое время дня и ночи по первому же требованию номенклатурных товарищей ранга Кима из «гаража особого назначения» в любом направлении мчатся черные лимузины. Однажды как-то вывалились хмельной веселой компанией, тащимся под снегом, пытаемся такси ловить, но они все, как это в Москве бывает, проносятся мимо. Вдруг, батюшки, смотрим — и Ким среди нас. «Что же ты не вызвал машину?» — спросил я его. «Знаешь, как-то неловко мне стало пользоваться этими привилегиями, — ответил он. — Как-то, знаешь, в последнее время противно стало ощущать себя представителем этого джиласовского „нового класса“»… В конце августа 68-го мы одновременно с Кимом уезжали из Крыма в Москву. Странная ночь на перроне Феодосийского вокзала. Неподалеку бухало море. Поезд долго не подавали. Тучи неслись быстро. Толпа сидела на чемоданах по всему перрону, будто перед отправкой в эвакуацию. В воздухе пахло грозой. Там и сям без всякой опаски работали транзисторы, и, несмотря на вновь начавшееся глушение, можно было слышать последние новости о репрессиях в Праге и Братиславе. В те дни в Крым проникали даже сигналы подпольных чехословацких радиостанций. По волнам одной из них на перрон Феодосийского вокзала долетел голос Ганзелки, знаменитого путешественника, объехавшего весь мир на автомашине «татра». Он призывал «русских братьев» бороться против позорной оккупации, не верить газетной лжи. Мой собеседник, высокопоставленный партиец Ким, смотрел в землю, кулаками стукал себя в виски. Оказалось, что он лично знал этого Ганзелку и даже вроде бы дружил с ним. С этого дня началось довольно быстрое скольжение вниз по служебно-иерархической лестнице. Сначала Кима попросили из ЦК. Впрямую ничего сказано не было, не объяснили, но он и без этого отлично понимал, что в верхах известны его высказывания в низах. Однако это было еще не окончательное падение. Ким стал директором какого-то полумеждународного института. Любимцу партии все-таки дана была возможность исправиться. Увы, психологические изменения этой личности, видимо, были уже необратимы, он больше не мог врать. Вскоре за публикацию противоречивой статьи по экономическим вопросам он был изгнан и из института, то есть выпал из номенклатуры, отпал от «нового класса». Ну, а дальше уже покатился, как в Ереване шутят, словно Карапет с Арарата, все ниже и ниже, ибо партия на нем поставила крест. Когда его выгоняли из этой славной организации, то есть бросали уже на самое дно, он пытался объяснить собравшимся для изгнания пельшевистам диалектические сложности современной исторической ситуации. Пельшевисты в ответ не мудрствовали лукаво. Этот человек не наш единомышленник — таков был вывод. Незадолго до отъезда из СССР я встретил Кима в переделкинской церкви. После службы мы вышли вместе. Подумать только, вздохнул он, а ведь когда-то я отказывался верить, что сталинизм — это и есть квинтэссенция коммунизма. Впрочем, добавил он, меня теперь тошнит от всех измов. Кажется, я не проиграл, а выиграл.
Чехословацкие события 68-го года способствовали возникновению уникального явления — проблеме «отцов и детей» внутри правящего номенклатурного класса. Среди этих молодых людей я давно уже замечал нечто, что противоречило всей сути их родителей. Речь идет не только о приверженности западным модам или плейбойскому образу жизни. Иной раз в их глазах можно было уловить искорки какой-то еще неясной освобожденности. Еще и в ранние шестидесятые годы легкомысленные детишки частенько огорчали тугодумных родителей. Помнится, вся Москва говорила о том, как однажды отягощенный государственными заботами член Политбюро Полянский заявился на день рождения к дочке и в ужас пришел от танцев, от музыки, от картин на стенках, а текст песенок, которые он там услышал, вызвал в нем просто-напросто взрыв классовой ярости. 1968 год во многих номенклатурных семьях оказался драматическим. Несколько дней назад газета «Вашингтон пост» напечатала статью бывшего комсомольского работника Сергея Замащикова. Статья в переводе называется примерно так: «Таким парням, как я, не было места на родине». Вот что рассказал Сергей на страницах воскресного выпуска ведущей американской газеты: его отец был крупным офицером-политруком в ракетных частях специального назначения, твердокаменный идеологический товарищ. В 1968 году в августе между отцом и сыном, почти еще мальчиком, произошел катастрофический спор. Надругательство над братским социализмом произвело на юношу ужасающее впечатление, он был близок к отчаянию и полон гнева. Отец тоже был в ярости, но как раз по противоположному адресу: его бесили ревизионисты всех мастей, которые вот, оказывается, и родного сына отравили зловонными своими идеями. Разговор, как и водится в лучших классических традициях, закончился воплем: «Вон из моего дома!» Сергей покинул отчий дом, пребывал некоторое время в отчаянных бегах, но потом вдруг вернулся и исправился к полнейшему удовлетворению отца: восторжествовала партийная правда. В дальнейшем отец не мог нарадоваться на сына — парень стал бурно делать официальную карьеру. В двадцатипятилетием возрасте он был уже первым секретарем горкома комсомола латвийского города Юрмала. Все знают, конечно, Юрмалу — огромнейший курорт на Рижском взморье. Шишки всех рангов летом устремляются туда отдохнуть и погужеваться в многочисленных закрытых финских банях. Какие прекрасные возможности открываются для роста! Увы, Сергей этими возможностями не воспользовался, да и не собирался. С того памятного дня он только об одном думал — как вырваться из общества, где все человеческие понятия перекошены, где ложь считается моральной основой. С этой единственной целью он и делал комсомольско-партийную карьеру. Возможность возникла пять лет назад, когда он в составе специализированной туристской группы прибыл в Италию. Сейчас он живет в Калифорнии, пишет кандидатскую диссертацию в местном университете, работает в местной русской газете, где освещает в основном молодежные музыкальные события вроде рок-фестивалей и джаза.
По сведениям американской печати, в среднем каждый год четыреста советских людей из числа делегаций, туристских групп и морских экипажей остаются на Западе. А ведь это в основном проверенные, даже очень сильно проверенные товарищи. Каждый такой случай — это симптом пятнадцатилетнего землетрясения. Уверен, что в памяти или подсознании у этих людей все еще стоит августовская ночь 68-го года. Осенью 1968 года писатель Владимир Максимов был приглашен на заседание редакционной коллегии журнала «Октябрь», членом которой он в то время являлся. Он знал, что среди прочих вопросов на этом заседании предстоит коллективное одобрение политики интернациональной солидарности, иными словами — оккупация Чехословакии войсками Варшавского договора. Максимов стал членом редколлегии кочетовского журнала за несколько лет до этого. Помнится, это вызвало настоящую сенсацию в литературных кругах — Максимова знали как автора разгромленного властями либерального сборника «Тарусские страницы», его блестящая повесть «Двор посреди неба» уже несколько лет циркулировала в Самиздате; все полагали его писателем, близким к «Новому миру» и даже к его солженицынскому крылу, как вдруг махровый сталинист и ненавистник всего нового Кочетов ввел его в свою редколлегию. Что ж, доля вины за это ложится и на так называемую либеральную общественность тех дней. Ни «Юность», ни «Новый мир» не принимали максимовских повестей, рука была протянута совсем с неожиданной стороны. Цель кочетовцев была ясна — попытаться приручить Максимова, втянуть его в свою бражку. Будем, дескать, его печатать, появятся у человека деньги, утвердит свое имя в литературе и тогда поймет, кто его настоящие друзья, и от либеральных загибов отвыкнет. Максимов, конечно, эту стратегию прекрасно понимал, от взглядов своих отказываться не собирался, почерк менять тоже не хотел, однако не видел и ничего зазорного в сотрудничестве с Кочетовым. В конце концов, говорил он, важно не то, где я печатаюсь, а то, что я пишу. В этой ситуации был еще один любопытный психологический момент. В шестидесятые годы молодые писатели нашего поколения не чувствовали себя чужаками в советском обществе. Полемика внутри литературы носила более или менее парламентские формы. Борясь со сталинизмом, мы ощущали себя не антисоветской, а даже как бы просоветской силой. С наивностью, достойной лучшего применения, мы тогда еще полагали сталинизм извращением социализма. Гэбэшники еще не проникли в литературу в той степени, как это делается сейчас, — напротив, старались держаться в тени. Вражда была не окончательной, ибо общество ошибочно полагалось единым. С этой точки зрения пребывание Максимова в редколлегии «Октября» казалось хоть и странным, но не противоестественным.
Когда Кочетов предложил легким неутомительным поднятием рук одобрить действия советского правительства по оказанию братской помощи чехословацкому народу, Максимов встал и сказал, что в этом деле он принимать участие отказывается. Понятно, понятно, покивал Кочетов, не задерживаем вас больше, Владимир Емельянович. Когда за молодым писателем закрылась дверь, представитель органов в редколлегии, человек по имени Идашкин, произнес неизбежную в своей банальности фразу: «Как волка ни корми, все в лес смотрит». Через пару дней Максимов получил официальный приказ о выводе его из редколлегии журнала «Октябрь», этого бастиона истинного, то есть сталинского, социализма.
Вот так, бурными темпами, похожими на скольжение лавины, проходила в те дни политическая и моральная поляризация. Взрыв антиправительственных эмоций в среде интеллигенции был неслыханным в советской истории. Брежневисты хитро подгадали удар в разгар отпускного и курортного сезона. Люди, за полгода до этого участвовавшие в кампании так называемого «подписантства» против суда над Гинзбургом и Галансковым и других политических процессов — а таких людей, по самым скромным подсчетам, было пять или семь тысяч, — оказались в середине августа рассеянными по пляжам, туристским тропам, альпинистским маршрутам. Случись вторжение в октябре, к героической демонстрации Горбаневской, Богораз, Литвинова и Делоне присоединилось бы по крайней мере в сто раз больше людей.
Я был в те дни в Коктебеле, этой восточнокрымской вольнице, где постоянные купания, дешевое виноградное вино и повсеместные передвижения обнаженных тел создают среди молодежи ощущение ложной свободы. За день до вторжения, вечером двадцатого августа, мы сидели большой компанией на террасе и отмечали мой день рождения. Был зажарен барашек и дешевого вина закуплено в изобилии. Когда празднество закончилось и все разбрелись по своим дачам, среди ночи вдруг раздался свирепый визг. Я выскочил на темную террасу и увидел, что бродячие коктебельские кошки раздирают на столе остатки баранины. Хронологически это, очевидно, совпадало с высадкой десанта на Пражском аэродроме. В последующие годы, между прочим, я нередко боролся с соблазном использовать этот эпизод в романе «Ожог» или в каком-нибудь другом сочинении, но всякий раз останавливался — очень уж, как в литературных кругах говорят, в лоб, слишком иллюстративно, поверхностный получится символизм. Жизнь, как видим, не очень-то следует законам литературных композиций. Последующие дни и ночи в Коктебеле оказались, по сути дела, сплошной демонстрацией протеста. То на пляже, то на набережной, то на базаре возникали стихийные летучие митинги с истерическими выкриками в адрес душителей демократического социализма. Немало, наверное, ушло тогда доносов с крымских берегов в Москву. Возобновилось глушение западных передач. Ослиный рев глушилок подтверждал серьезность намерений кремлевских интернационалистов. У одного драматурга, однако, оказался огромный американский приемник «Зенит-Трансокеаник» с растянутыми короткими волнами, и можно было слушать даже пражские подпольные станции. Многочисленные барды с гитарами пели по ночам на прибрежных скалах «Танки идут по Праге, танки идут по правде»… Модная ассоциативная рифма как бы давала прощальный аккорд донкихотскому десятилетию.
Надо сказать, что не только наше послесталинское поколение было «ушиблено» чехословацким землетрясением. Потрясены были и «фронтовики», особенно те из них, что принимали участие в освобождении этой страны от нацистов. Покойный редактор «Юности» Борис Полевой в свое время высаживался в зоне словацкого восстания, подружился там с самим Александром Дубчеком, а от генерала Свободы получил звание «почетного гражданина Чехословакии». В 68 году цекист Беляев потребовал от него одобрения «братской помощи», то есть ареста его друга Саши и всего президиума чехословацкого ЦК. Полевой пытался увернуться, убеждал Беляева, что невыгодно будет для общего дела, если редактор молодежного «передового», так сказать, журнала даст свое имя для этой акции. Цекист пришел в ярость: все замараны, а вы, значит, хотите остаться чистеньким? Через несколько дней Полевой появился на экранах телевизоров и, глотая слезы, сказал, что, как старый солдат, одобряет мудрые действия советского правительства. Ему понадобился целый год для того, чтобы по-настоящему глубоко, всем партийным сердцем осознать диалектическую правоту Леонида Ильича. Разобравшись, он понял, что наступила новая, грубо говоря, эпоха, и выгнал Евтушенко и меня из редколлегии. Тому способствовал, впрочем, донос одного из бывших друзей.
Александр Трифонович Твардовский оказался тверже. Он категорически отказался присоединяться к льстивому хору соцреалистов с их одобрением мудрых действий ленинского ЦК. «Эх, Александр Трифонович, Александр Трифонович, что же вы наделали, — сказал ему один цекист, — ведь мы же вам собирались присвоить звание Героя». «Разве за трусость полагается звание Героя?» — холодно спросил редактор «Нового мира». Тоже немалая наивность, между прочим, сквозит в этом контрвопросе. Хорошо бы исповедовать этих «героев» мирного времени — за что они получили свои награды. Так или иначе, Александр Трифонович Твардовский не принял новой, грубо говоря, эпохи, и эпоха не приняла его. Через год после вторжения «Новый мир» шестидесятых годов был разгромлен.
Любопытно, как иногда в ничего не значащих мелочах начинают проявляться черты нового общественного сознания. Вскоре после оккупации начался так называемый «хоккейный резистанс» — странное спортивное сопротивление униженного чехословацкого народа. Коммунисты делали вид, что ничего особенного не произошло, поэтому все спортивные международные соревнования продолжали проводиться в соответствии с расписанием; все эти первенства мира и Европы, в которых ранее мощная советская хоккейная команда, наша славная «ледовая дружина», как величал ее шовинистически настроенный комментатор Николай Озеров, всегда побеждала чехов. И вдруг в сезоне 68–69 годов чехи и словаки несколько раз подряд разгромили советскую сборную. Они дрались отчаянно, как будто старались спасти честь нации, оправдаться за свою армию, не сделавшую ни одного выстрела, и за гвардию, позволившую арестовать президента республики и правительство, словно компанию обанкротившихся финансистов. Когда мы смотрели эти матчи по телевидению, нам казалось, что и наши ребята играли не так, как прежде, что они были угнетены каким-то, может быть, неосознанным, но сильным чувством позора. Самое интересное, однако, заключалось в том, что мы перестали болеть за нашу команду. В домах советских интеллигентов в ту зиму болели против советской команды и радовались каждому ее поражению, особенно от чехов.
Так проявлялся бурно развивающийся процесс отчуждения. Кончилась гордость за свою страну, возрождающуюся после сталинского сыпного тифа. Кончилась молодость и у тридцатилетних и у двадцатилетних. Прошла пора очарования. Теперь уже огромные пространства страны казались не страной надежд, встреч, откровений, не страной бесконечной, беспредельной и все нарастающей литературы, но пропитанным хлоркой и провонявшим мокрыми тряпками коридором лагерного барака. Именно после 68-го возникла и распространилась среди художественной интеллигенции сначала мечта, а потом и идея эмиграции. Невыносимо, невыносимо, невыносимо, как Хиросима, твердили художники, музыканты и писатели. Чем дальше шло к железобетонным 70-м, тем больше углублялось отчуждение. Все тот же хоккей. Один мой друг сидел на трибунах Лужников, когда в Москву после долгого перерыва приехала чехословацкая сборная. Толпа на трибунах вопила: «Фашисты! Бей фашистов!» Они жаждали реванша за хоккейное поражение. «Бей чехов!» — был общий вопль. Наш народ, который мы еще вчера считали просвещенным и жаждущим демократии, ненавидел тех, кого только что поработил. Ишь гады, нам нельзя, а им можно! Мы их кормим, а они на немцев смотрят!.. Боже, думал мой друг, да ведь мы здесь хуже чем чужаки — враги! Он один из первых пошел в ОВИР за визой в Израиль, хотя еврейской крови, кажется, и вовсе не было в его жилах. Конечно, нельзя обобщать, но ясно одно — тоталитарная пропаганда поднимает на поверхность худшие черты любого народа. Те, кто ей противостоят, в какой-то период становятся изгоями. В шестидесятые годы критически настроенная часть русской интеллигенции, даже и критикуя, говорила «мы». Мы разваливаем наше сельское хозяйство, мы опять извращаем факты и так далее. После 68-го отчетливо поляризовалось и стало ясно — где «мы» и где «они». Шестидесятые годы кончились за два года до своего календарного срока, но чехословацкое землетрясение продолжается!
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ
«…Бани у нас неплохие, мыться можно…» Эту фразу из рассказа Михаила Зощенко «В бане» можно поставить эпиграфом ко всей советской литературе. При чтении Зощенко или просто при упоминании его имени меня часто посещает воспоминание об одном разговоре, случившемся в ранней-ранней юности, чуть ли еще не в детстве, на центральном проспекте города Магадана, носившем имя «знаменосца мира во всем мире» генералиссимуса Сталина. Кажется, весной 1950 года дело было. Мы, несколько школяров, возвращались после занятий домой. Как и все цивильные граждане этого странного города, столицы ГУЛАГа, мы шли по дощатым тротуарам, а по проезжей части в это время плелась бесконечная колонна зеков, шли конвоиры с ружьями и собаками. Едва только открывалась навигация по Охотскому морю, в порт Нагаево начинали приходить пароходы с живым грузом, и поток заключенных на магаданских улицах никогда не иссякал. Мы их не замечали и болтали о своем. Один мальчик, в частности, сказал: «Я вчера, ребята, „Голос Америки“ слушал и прямо чуть не обалдел. Они говорят, что у нас в Советском Союзе нет свободы. Ума не приложу, что они имели в виду и как это понять». Ребята зашумели в недоумении. Как это так — в СССР свободы нет? Что за вздор такой несет иностранное радио? Пикантность этому спору придавали не только упомянутая уже специфика уличного движения в Магадане и силуэты сторожевых вышек, видные отовсюду, но и социальный состав самой группы спорщиков. Часть мальчиков была детьми бывших заключенных, отбухавших уже по десятке и переведенных на положение вечной ссылки, другая часть — детьми тюремщиков, офицеров системы МВД. Абсурдность заявлений иностранного радио была очевидна и тем и другим. Что касается автора этих строк, то он помалкивал, хотя и его-то собственная умудренность была не старше пары месяцев. Вдруг один из пареньков сказал: «А я знаю, что они имели в виду, говоря, что у нас нет свободы». — «Что, что?» — приступили к нему ребята. «Зощенко! — выпалил он. — Наверное, потому они так говорят, что у нас Зощенко критикуют!» После некоторой дискуссии ребята согласились — случай с Зощенко даже им казался некоторым ущемлением свободы.
Мы проходили исторические постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», или как там они назывались, а также идеологические речи Жданова как документы высочайшей мудрости и неоспоримости. Ахматова в этих идиотских бумагах называлась «буржуазной декаденткой», а Зощенко — «клеветником и очернителем советского образа жизни». Заметим, кстати, что, несмотря на то, что оба писателя сейчас в СССР признаются классиками, постановления эти партией не отменены, а презренное имя Жданова до сих пор носит город Мариуполь, крейсер-ракетоносец да, наверное, и колхозов сотен пять-шесть. А ведь даже и тогда, при Сталине, невежественной в культурном и нравственном отношении молодежи казалось, что с Зощенко «что-то не то». Ахматовой в школах не знали, и стихи ее невозможно было достать, в то время как сборники рассказов Зощенко еще сохранились по домам от его прежних больших изданий. Молодежь читала и «В бане», и «Аристократку», и «Случай в зоопарке», хохотала, узнавала главного героя зощенковской прозы, советского жлоба, и с недоумением спрашивала друг друга — где же здесь клевета?
Понятие «авангард» в литературе выглядит довольно расплывчато, но если предполагать его в виде какого-то передового отряда экспериментаторов и открывателей, то именно Михаил Зощенко являет собой тип безупречного авангардиста. Он великий открыватель, открывший миру лик нового советского хама, расплодившегося в несметных количествах наследника «охотнорядцев». Он первым увидел это лицо, первым назвал его по имени, открыл его лексику и мелодику речи и содрогнулся от тошноты. Маяковский взял в своего «Клопа» уже открытый тип и описал его вполне поверхностно как человека, недостойного жить в «светлом будущем». Зощенко в своих вроде бы немудрящих рассказиках исследует, как сейчас говорят, «на клеточном уровне», горько хохочет огромным напудренным лицом, как бы говоря, что никакого «светлого будущего» вообще не будет.
Этот зощенковский новый герой — назовем его условно «банщик», — а также появившийся у Булгакова одновременно человек-собака Шарик обладают колоссальной жизнестойкостью; они знают, что пришли в мир всерьез и надолго, что главная задача общества — удовлетворение их постоянно растущих материальных и духовных потребностей. Зощенко не ненавидел своего героя, то есть не испытывал к нему чувств «нижнего этажа». Находясь эмоционально всегда на «верхнем этаже», он, скорее всего, испытывал к нему смесь сострадания и презрения, хотя последнее, видимо, преобладало. Должно быть, в нем, как и во многих других людях его поколения, шла борьба между ленинградцем и петербуржцем. Авангардист лишь с точки зрения критика-догматика существо одинокое и выброшенное из времени, на самом-то деле — это прочное звено в цепочке культуры, которое даже и ждановщине не по зубам. Легко можно проследить звенья, идущие в обе стороны от Зощенко: Гоголь с его «Петербургскими повестями», Саша Черный с его «черной» городской поэзией, и в другую сторону — обернуты Хармс и Введенский, а еще далее — наши современники Владимир Марамзин и Виктор Голявкин. Один из самых любопытных аспектов творчества Зощенко — это его отношения с его героем, с этим открытым типом, позднее названным — с легкой руки Михайло Михайлова — Homo Soveticus. В течение очень долгого времени основные прототипы как бы не хотели себя узнавать в зощенковских персонажах. Официально считалось, что он борется с мещанством, то есть с пережитками прошлого в сознании, и с «теми, кто нам мешает жить» и строить наш величественный дворец. Эту так называемую «борьбу с мещанством» я помню из своей собственной литературной практики. В шестидесятые годы, когда иной раз удавалось напечатать или поставить сатиру, либеральные критики, сохраняя хорошую мину при дурной игре, обычно так и объясняли — ну, это же у него, товарищи, не что иное, как «борьба с мещанством». Зощенко, разумеется, принимал эти правила игры, рядился под заурядного бичевателя «отдельных недостатков нашей жизни». Как и многим другим талантливым советским писателям, ему даже приходилось время от времени подкармливать идеологического бегемота. В середине тридцатых годов он принимает участие в организованном Горьким печально известном пароходном путешествии советских писателей на строительство Беломорско-Балтийского канала. Основной задачей этого плезира было опровержение слухов о том, что на строительстве используется труд политических заключенных. Есть, мол, конечно, заключенные, но в основном бывшие мазурики. Увы, и Зощенко с его чудным даром и чувством языка к этому делу приложил руку. В его очерке, вошедшем в Горьковский сборник о Беломорканале, есть беседа с заключенным. «Вы здесь за политику или слямзили чего?» — спросил зэка Зощенко. «За политику, — ответил зэк. — Слямзил малость».
В конце концов все эти ухищрения не помогли. Прототипы развивались, прогрессировали, «банщики» и «шарики» захватывали все больше командных высот, пока не укрепились повсеместно. По сути дела, сам Жданов — это и есть квинтэссенция зощенковского героя. Легенда о том, что он умел играть на пианино, только подкрепляет предположение. Пройдя сквозь кровавую парилочку тридцатых, «банщик-шарик» стал беспредельным хозяином и оплотом общества, и тут он дал понять Зощенко, что узнал себя в его героях. Послевоенная кампания идеологических чисток призвана была уничтожить всякие надежды на то, что после победы «все будет по-новому». Жданов, разумеется, играл свою политическую игру в борьбе за власть, за благоволение Сталина, но он был искренен в своей ненависти к Зощенко (и всем прочим ахматовым и булгаковым), полагая себя носителем здравого смысла, а своего открывателя — уродом, отрыжкой общества, недобитком петербургской художественной элиты. Конфликт, в общем-то, вполне естественный, закономерный. В нем, может быть, в этой короткой схеме «Зощенко-Жданов», воплощается основной духовный конфликт нашего времени. Он был ясен с самого начала, предельно обнажился в тех партийных постановлениях, увял слегка в шестидесятые оттепельные годы и с новой силой накалился во второй половине семидесятых, когда зощенки вдруг неожиданно для Ждановых взбунтовались. Как этот конфликт дальше будет развиваться, только лишь время покажет, пока что Ждановы в огромном количестве преобладают, затаскивая советскую литературу в марксистские потемки.
Помню, как-то в Москве за бутылкой водки рассказывал один известный актер о своих встречах с Зощенко. Они жили на одной улице в том районе Ленинграда, где много было писательских квартир, где и прочие «люди искусства» шлялись в избытке. После громоподобной партийной критики от Зощенко стали отворачиваться знакомые, при встрече с ним многие переходили на другую сторону. Все были уверены, что его со дня на день возьмут. Зощенко спокойно шествовал по улице, глядя прямо перед собой, как бы никого не узнавающим взглядом, чтобы не создавать людям дискомфорта. Ежедневно можно было видеть его одинокую фигурку, в грустном спокойствии сидящую на бульваре. Спокойствие поношенного опрятного костюма, спокойствие левой ноги, странным образом закрученной вокруг спокойной же правой, спокойствие руки, несущей папиросу к спокойному рту, спокойствие неузнающего взгляда. Актер подсаживался к нему, начинал разговор о пустяках. Михаил Михайлович отвечал не сразу, как бы давая актеру возможность еще одуматься, изобразить поспешность, убежать от опасного человека. Мне казалось иногда, говорил этот актер, что Зощенко не просто так там сидит на бульваре, что это не просто скамеечка под липкой, что это его позиция, что он сидит там во всеоружии, что он как бы демонстрирует свою единственную оборону, имя которой — готовность ко всему. Ей-ей, братцы, говорил актер, иногда мне казалось, что это достаточно сильное оружие. А иногда, признаюсь, меня раздражала эта фигура, и я думал: что это он тут сидит у всех на виду, лучше бы дома сидел.
Вот один из зловещих парадоксов ждановских времен: люди, даже сочувствующие, даже либеральные, подсознательно принимали ждановский мир как нормальный и отвергали зощенковский как ущербный и постыдный. Сейчас Ждановых вокруг огромное количество, но их мир уже смердит, и люди признают истинным как раз мир Зощенко, Ахматовой, Булгакова, Пастернака и Мандельштама. В этом месяце исполняется двадцать пять лет со дня смерти Михаила Михайловича Зощенко. Для современной русской литературы творчество этого удивительного писателя играет, возможно, ту же роль, что для современной западной литературы играет Франц Кафка с его профетическим даром. Личной же жизнью своей Зощенко дает нам пример поистине рыцарского сопротивления.
КАЖДЫЙ МИГ, СВОБОДНЫЙ ОТ СТРАДАНИЙ
Почему на долю моей матери, красивой и романтической девочки-гимназистки из Казани, пришлось так много беды, убожества, унижений? Очень редко в ее жизни была крепкая обувь и вкусная пища, надежная крыша над головой. Ей было тридцать два года, когда начались глумливые допросы ублюдков НКВД, свирепость вооруженной охраны, бесконечное недоедание, бесконечная сырость и холод, бесконечная измученность колымской лагерной жизни, вечный страх «вечного поселения» на Колыме — вот ее лучшие женские годы. Страшная физическая боль и тошнота выжгли ее закат. Вопрос мой нем, несмотря на все сказанные слова. Почему? Знаю, что тысячи и тысячи людей моего поколения могут задать такой же вопрос о своих матерях, так что же, от многотысячного повторения вопрос становится все более немым, все более огромным.
Позже мама жалела, что не боролась против Сталина. Хотя бы знала, за что сижу… Был, правда, один случай, улыбалась она, когда я распространяла антисталинские листовки в Харьковском университете, но как раз об этом случае следователи и понятия не имели. Листовки против Сталина за истинный — о, Господи! — ленинизм. Насильственная идеология гипнотизировала свои жертвы, и моя мать не была ни сильнее, ни слабее вооруженных до зубов маршалов Тухачевского и Блюхера, когда те забывали о подчиненных им армиях и покорно отдавались в руки чекистов.
Думая о ее жизни, я иногда предполагаю, что она была удивительно коротка; и в самом деле, как полет оторвавшегося листа, несмотря на семьдесят три прожитых земных года, ибо мне иногда казалось, что она измеряла свою жизнь только по ярким и таким редким моментам счастья, а все мерзкое относила как бы не совсем к себе. Она была удивительно витальна, удивительно остро чувствовала все самые маленькие радости жизни. Но ей выпадали и большие ярчайшие моменты вознаграждения, то есть настоящего житейского счастья: артистические очарования молодости, сильное любовное чувство, религиозное вдохновение и обретение Бога, верная дружба, завершенные книги и даже триумфы.
Единственное в ее жизни заграничное путешествие во Францию и Германию она воспринимала тоже как один из триумфов, и это было так — триумф за семь месяцев до кончины. Я смотрю на фотографию — моя мать на Елисейских Полях, вдали Триумфальная арка, над головой со здания банка свисает огромный французский флаг, мимо проходят беззаботные туристы, мама осторожно улыбается, словно не вполне уверена в реальности этого счастливого мига. Она начала тогда новую книгу под заголовком «Колымчанка в Париже»; вообще она была полна планов, идей, раздумий, увы, им не суждено было воплотиться — ужасная или, как пишут в официальных сообщениях, «тяжелая, продолжительная» уже сжигала ее. За спиной этой фотографии несколько месяцев лечения кобальтовой пушкой, полная потеря всякой надежды, когда врачи уже разводили руками и поднимали глаза. Она решительно отказывалась произносить имя болезни, охотно поддерживала всякие утешительные выдумки, и, как мне кажется, вовсе не от недостатка мужества, просто ей было неловко выставлять на обозрение свое очередное страдание. Вдруг началось некоторое чудо: из-за границы через Солженицынский фонд стало поступать незнакомое в СССР лекарство. Врачи не верили своим глазам: опухоль стала уменьшаться в размерах, пропали боли. Да, это и в самом деле было чудо: Господу было угодно, чтобы мама увидела Париж и испытала триумф.
Мы взяли машину в AVIS и поехали: пожизненная каторжанка ГУЛАГа отправилась на Лазурный берег. После Февральской революции мой дед, фармацевт Гинзбург, холеный джентльмен с большими пушистыми усами, решил, что, когда девочки (моя мама и ее сестра Наташа) вырастут, он отправит их учиться в Женеву. Начались усиленные занятия французским языком и, разумеется, фортепиано. Маршрут, как известно, оказался другим, однако детские уроки пригодились: фортепиано — еще в Магадане, чтобы не умереть с голоду, и даже французский, всю жизнь пропадавший втуне и ставший уже чем-то вроде тайного знания инопланетной речи, в конце жизни сослужил хорошую службу Кажется, образ этой «Старой Женевы» прошел через всю ее жизнь как бесконечно далекий огонек. Маме не нравились супермаркеты и кафетерии самообслуживания и восхищало в Европе то, что осталось от того образа «Старой Женевы».
Вы входите в маленький парижский магазин, и вам навстречу устремляется хозяйка с сияющей улыбкой на устах. Вы скажете, что эта улыбка формальна, но мне, говорила она, эти формальные улыбки так милы после бесконечного искреннего хамства. Вот воплощение старой Европы — завтраки в кафе «Ле Дом» на Монпарнасе, обеды в «Кафе де ля Пэ» на площади Оперы: тишина, чистота, обилие формальных улыбок. То, что естественно для европейцев, для нас, русских, то есть порабощенных европейцев, всегда некоторое чудо: пересечение границы сродни выходу в астрал. Для моей матери, которой и Казань в течение восемнадцати лет казалась чем-то вроде «Старой Женевы», это было чудо вдвойне. Мы сидели с ней на Английской променаде в Ницце, и я вспоминал Магадан, наш барак у подножия Волчьей сопки, неподалеку от так называемого санпропускника, вокруг которого на желтом снегу вечно сидело на корточках несколько сот зека, а над ними прогуливались вохровцы с собаками.
Когда шестнадцатилетним мальчиком я впервые встретился с ней в Магадане после двенадцати лет разлуки, меня поразило, как она молода, полна юмора и жизни. Все, что хоть как-то в этом жутковатом сюрреалистическом городе связывало с нормальной жизнью — магазин, аптека, кинотеатр, — доставляло ей наслаждение. Мы шли с ней по деревянным промерзшим мосткам, и она рассказывала мне о Пастернаке, Ахматовой, Гумилеве, о запрещенных книгах, о забытом «Серебряном веке». Она удивительно умела каждый свой миг, свободный от страданий, использовать для нормальной, простой человеческой жизни, и это тоже было ее счастьем. Особая радость — спокойная утренняя работа над книгой, ежедневный труд, высоко ценимые часы нормальной писательской работы. Не верилось — вот книга, изданная в Италии, прошедшая по всему миру… Нет, ничего не удастся скрыть этим людям, у которых совесть нечиста. Что стоят шумные вознаграждения — внимание прессы, восторги окружающих? Много это или мало? Это снова немой вопрос. И все-таки вспоминается триумф — прием во французском ПЕН-клубе в честь Евгении Гинзбург. Я вижу, как она стоит и неуверенно сияет, когда президент Клансье произносит приветствие в ее адрес, когда ей пожимают руку Эжен Ионеско, Натали Сар-рот, Пьер Эммануэль и другие знаменитости; я смотрю на нее, пока вокруг говорят о ее литературном подвиге, и думаю — мама, мама, мама… Через месяц после возвращения из Франции у нее началось обострение болезни, а через полгода она умерла в своей квартире у метро «Аэропорт» в Москве. Исповедовал ее православный священник, а отпели мы ее на девятый день в католической церкви.
ПО ПРАВИЛАМ МОСКОВСКОГО ЖАРГОНА
Пятидесятилетие Андрея Вознесенского для меня — событие еще более невероятное, чем собственные полста. Ведь все еще молодым, свежим и снежным кажется Беллино:
Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей, выходит мальчик с резвостью жонглера. По правилам московского жаргона люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»Вот уж и Андрея, значит, очередь пришла превращаться постепенно из московского лихого паренька в переделкинского маэстро наподобие Ильи Сельвинского. Пастернаковскую вечную юность, когда в шестидесятишестилетнем возрасте сочинялось «во всем мне хочется дойти до самой сути», увы, и поэту не каждому дано обрести. Вероятно, к этому рубежу следует подходить с пристойным благоуважением и к себе, и к возрасту. В приложении к нашему поколению, однако, в нем что-то ощущается постыдное. Может быть, оттого, что слишком долго не старели, слишком долго гуляли «в мальчиках»?
Вот вспоминается снова и снова март 1963-го, «зима тревоги нашей», когда Хрущев в Кремлевском дворце и на Андрея, и на меня кулаками махал. Тридцатилетние мужики, мы чувствовали себя тогда полнейшими мальчиками, царскосельскими такими шалунами. В юношеских стихах Вознесенского живет проносящаяся рычащая метафора — мотоцикл. Вот и «у царя на роже очи, как буксующий мотоцикл», и «мотогонки по вертикальной стене», и «мотоциклисты в белых шлемах, как ангелы в ночных горшках»… Опасное средство передвижения, символика бунта и одиночества в стиле Джеймса Дина. Насколько я знаю, сам Андрей никогда не ездил на мотоцикле. Тоже как будто затянувшееся мальчишество. Воображаемый бунт, мастурбация одиночества, современный чайльдгарольдизм.
Но самое главное, самое вознесенское всегда и с самого начала было истинным. Это то, что можно назвать игрой в слова, игрой слов, карнавалом слов, божественными звуками русского языка. Этому Вознесенский всегда отдавался самозабвенно, как одержимый флейтист. Он был всегда в облаке перемешанных звуков и букв, всегда в этом облаке дышал с наслаждением, даже и тогда, когда вопил от злости. Возьмите знаменитое давней поры:
Бьют женщину. Так бьют рабынь. Она в заплаканной красе Срывает ручку, как рубильник, Выбрасываясь на шоссе.Возмущение поступком, восхищение возникающей в связи с поступком конструкцией слов. Присной памяти Валерий Брюсов: «сокровища, заложенные в чувства, я берегу для творческих минут»… Недавно мои здешние студенты читали ранние стихи Вознесенского об Америке. Восхищение поэта новооткрытым миром, равно как и приложение к этому миру неизлечимых советско-европейских стереотипов, было искренним и сильным, но опять же не главным из восхищений. Главное, что возникло и что даже студентами было замечено, — удивительный звуковой и русскоязычный образ страны. «Кока-кола, колокола, вот нелегкая занесла!» «Я — семья, писал он в давние времена, во мне семь я… Семь я семья семь… Мать тьма ть ма тьма ть…» В самом деле нечто жонглерское. С резвостью жонглера вращение слов и звуков на длинных, костлявых, хоть и воображаемых пальцах, жажда окружности, кольца, то есть завершенности, гармонии. Не исключаю тут и влияния архитектурного образования: небось немало поработал циркулем в студенческие годы.
В этом году вдруг возникло прозаическое воплощение давней кругообразной идеи: в «Новом мире» появилась повесть под коротким или, так скажем, довольно коротким заголовком «О». Тут, к месту или не к месту, хочется заметить, что в разных частях мира сложенная из пальцев фигура «О» воспринимается по-разному: в Европе, скажем, с восторгом, а в Южной Америке за такой жест могут дать по щеке. С прозой Вознесенского произошло, на мой взгляд, нечто странное: выпущенные из ритмических упряжек слова не смогли затанцевать с прежней достоверностью, возникающие фигуры вдруг явили вроде бы несвойственную поэту высокопарность, неуклюжесть многозначительных поз, утечку юмора.
Говоря о наиболее фундаментальных заслугах Вознесенского в области русской культуры, следует в одну из первых очередей сказать, что он как бы восстановил своим творчеством прерванную разными там Ждановыми коммуникацию между поэтическим авангардом двадцатых годов и нашими днями. Помню, как-то мы с моей мамой Евгенией Гинзбург остановились возле афиши поэтического вечера Вознесенского; кажется, в Ленинграде дело было. «Оза, — читала мама, — Антимиры, Треугольная груша, Ахиллесово сердце, Противостояние очей, Отступление для голоса и там-тама… — Боже мой, вздохнула она, эта афиша напоминает мне юность, двадцатые годы, какой-нибудь вечер в „Стойле Пегаса“». Я подумал тогда, что это значит для нее после восемнадцати лет Колымы — снова почувствовать атмосферу двадцатых. Вознесенский, может быть, последний оставшийся футурист.
Всем нам приходилось в большей или меньшей степени кормить, точнее, подкармливать ненасытного бегемота идеологии. От нашего поколения пришлась чудовищу, впрочем, одна лишь мелочь, ошметки, малосъедобная дрянь. Вознесенский, однако, даже и эту дрянь упаковывал как-то талантливо. Даже вот его дурацкая «Секвойя Ленина» как бы подсвечена каким-то огоньком, а вопль «Уберите Ленина с денег!» звучит почти искренне. Иногда он позволял себе какие-то невероятные прорывы. Вот, например, после лубочно-ландринной «Лонжюмо», которая (которое) сразу же подняла его акции в коридорчике отдела культуры на Старой площади, он пишет и, что самое поразительное, печатает свой настоящий поэтический ответ на хрущевское избиение молодого искусства: «Неизвестный — реквием в двух шагах с эпилогом».
И смерть говорит: «Прочь! Ты же один, как перст! Против кого ты прешь? Против громады, Эрнст!»Против четырехмиллионнопятьсотсорокасемитысячевосемьсотдвадцатитрехквадратнокилометрового чудовища…
«Да ведь это же как раз и есть тот самый бегемот!» — воскликнем мы в этот момент.
Против глобальных зверств! Ты уже мертв, сопляк?.. Еще бы, — решает Эрнст, И делает первый шаг.Иногда, впрочем, прорывы и кормления бегемота следовали в обратном порядке. В 1978 году поэт принес в редакцию неподцензурного альманаха «Метрополь» четверостишие, которое мы тут же поставили в эпиграф всей коллекции:
Над темной молчаливою державой Какое одиночество парить! Завидую тебе, орел двуглавый, Ты можешь сам с собой поговорить.«Метропольские» дни были для нас временем какого-то странного возрождения посреди брежневского окостеневающего царства. На фоне развала нашей привычной литературной и артистической среды возникло новое ощущение дружбы, игры, праздника. И вдруг в самые горячие деньки мы потеряли Андрея, он вылетел на самую холодную плешку мира, точнее — на Северный полюс, встречать комсомольскую лыжную команду, дерзновенно повторившую подвиг коммодора Пири, правда, в сопровождении вертолетов. Такова поэтическая парабола.
Трудно предъявлять товарищам какой-то слишком требовательный счет в подбегемотной жизни, да и не нужно. Существование исключительного таланта в этой жизни — уже дерзновенность, а у Вознесенского талант — исключительный. И раньше, и сейчас находятся разные, так сказать, потребители поэзии, которым не хватает у Вознесенского то чувства, то искренности, а главное — «боли». Поэзия измеряется болью, а не метафорой, рассуждают деловитые теоретики. На Волгу, на Волгу, пожалуйста, там стон раздается. Вознесенский холоден, рассудочен, геометричен. Нужен вопль и скрежет зубовный, а не музыка сфер. Между тем через всю поэзию Вознесенского проходит негромкое, произносимое сквозь сжатые зубы слово «невыносимо». Я не касаюсь сейчас эстрадной жизни поэта, в которой он все еще орет, как будто ему под тридцать, все еще поддерживает свою, увы, несколько уже устаревшую торговую марку, но в выражении того, что принято называть болью, он сдержан. Все окутано облаком его самой большой любви, освещено радугами русской речи. Он — настоящий мастер, это не станут отрицать и недоброжелатели, ну, за исключением какого-нибудь интригана и завистника. Чисто русский его стих имеет еще и необычную универсальность, возникающую, может быть, от того, что происходит Андрей из редкой породы длиннолицых русских, смыкающихся через Новгород с Ганзой. Не очень удобная позиция для московского поэта в наши дни — быть национальным и искать рифму в Европе. Между тем он приезжает в Париж, натягивает таксидо и начинает махать руками, как будто ничего не произошло за последние полтора десятилетия, а на дворе все еще, как он сам пишет в «О», весна 1966 года. Две девушки из эмигранток, окончившие уже здешние колледжи, переглядываются — кто этот динозавр? Не берусь судить — возможно, в этом еще сквозят остатки потерпевшей крушение миссии. Космополитичность — давняя тоска русского робкого карнавала. И все-таки, может быть, стоит задуматься, чуть-чуть оглядеться по сторонам, чтобы космополитичность не принимала иной раз курьезные черты.
Приехав последний раз на Запад, Вознесенский сказал журналисту из «Нью-Йорк таймс», что разрабатывает проект престраннейшего какого-то золотого шара, интернационального монумента слову, который, плавая на воздушной подушке, будет путешествовать по городам мира. Всерьез (может быть, в пику Виктору Урину с его «Глобусом поэзии»?) обсуждаются технические возможности этой игривой штучки, а в это время в Киеве гориллы хватают хорошенькую девушку Ирину Ратушинскую и впаивают ей семь лет концлагеря за сочинение стихов. Простите, маэстро, ваш «золотой шар слов» сегодня — немного не по делу, это опять же из шестидесятых. Тютчев, царский чиновник, будучи в нашем возрасте, записал в дневнике: «Тридцатилетие подавления всякого инакомыслия в России привело ко всеобщему отупению». Невыносимо трудно быть звучащим поэтом в глухонемой стране. Андрей Вознесенский развил исключительную способность пробивания мембран и бетонных стенок. Его искусство сродни работе космонавта в тренировочной трубе. К юбилею хочется пожелать, чтобы поэт сохранил свое искусство на тот случай, если пространство вдруг заполнится воздухом и звуком.
2004
ОН — СОХРАНИЛ!
В этом году АА исполнилось 70; о, Боже, что прикажешь делать с этим изгнанием из рая?!
К юбилею я послал ему стишок:
В те дни, когда мы шли на приступ Социализма достаточно пердячих батарей, В зеленом фраке футуриста Всех вел стремительный Андрей. Приходит старость, край гористый, Ветшает физиономия, как ее ни брей, Но с парапланом футуриста Парит возвышенный Андрей. Смешай бокал всех вин игристых:, Поддай, кирни по-человечески, офонарей… За всех завзятых футуристов И за тебя, наш друг Андрей!НА ВОСТОК В ЕВРОПУ
…Ну и наконец слегка философское: по Бердяеву, любое путешествие — это экзистенциальный прорыв. Не нужно особой наблюдательности, чтобы заметить, как изменяется время во время путешествий. Дни и недели, в рутинной жизни утекающие с унылой стремительностью, в дороге растягиваются непомерно, хоть ноги и ходят ходуном… Словом, мы с женой стараемся каждый год бывать в Европе, и в этом, конечно, не только охота к перемене мест, но, возможно, и аргумент в каком-то подсознательном споре, настаивание на своих корнях. Два года назад, например, оказались мы в Греции. Боже, какое упоение — на улицах народ кричит друг другу: Константин, Дмитрий, Василий! — твою фамилию произносят без всяких искажений: да мы ведь все немножко греки, милостивые государыни и милостивые государи; и острова Эгейского моря так похожи на Крым, да и как может быть иначе, если Крым для Греции столько веков был своего рода Камчаткой. Ну, а в Париж каждый год приезжаешь, будто в Москву. Хоть и паршиво говоришь по-французски, а чувствуешь себя как дома: традиционная столица Русского Зарубежья…
Погода, надо сказать, на обоих берегах Атлантики царила преотвратнейшая. Нью-Йорк провожал дождем, столь же противным, сколь затяжным. Таксист оказался афганцем, кандидатом экономических наук из Кабула. Слышали, сказал он, бомбят Герат, огромные жертвы. Вы не волнуйтесь, я к русским отношусь хорошо, много раз бывал в Москве и Ленинграде, русские — хороший народ, они не виноваты. Вы не виноваты, мы не виноваты, кто виноват? Большевикам лучше забыть об Афганистане, мы никогда не перестанем драться. Вот оставлю немного денег семье и тоже поеду драться. Странный разговор в разболтанном, дребезжащем «чеккере» под дождем по дороге к аэропорту Кеннеди. В аэропорту мы повстречали Леонида Ржевского с женой Аглаей, генерала Григоренко и Зинаиду Михайловну, Сашу Глейзера и Михайлу Михайлова, Марка Поповского, Эму Коржавина. Это были американские участники международной писательской конференции, организованной ведущим журналом русской эмиграции «Континент», его итальянским филиалом и коммуной Милана. Направлялись, однако, сначала в Париж, чтобы присутствовать на другом важном международном событии, о котором речь впереди…
Ночь над Атлантикой в самолете «Эр Франс», обильное кормление во французском стиле, красное вино в неограниченном количестве, кинофильм с Жаком Тати, бесконечная болтовня с женой, соседом, нефтяником из Нью-Джерси, направляющимся в Нигерию, с бродящими по самолету русскими писателями. Если бы знал, что ждет в Париже, покемарил бы хоть часок. Согласно законам вращения Земли, теряем шесть часов времени и прибываем в Париж в разгаре делового утра. Первые хорошие новости, сообщенные парижанином Гладилиным с довольно кислой миной: доллар стоит семь с половиной франков. Три года назад, когда мы эмигрировали, соотношение было один к четырем. Набирают силу акулы Уолл-стрита. Худеет французский социализм. Первые плохие новости — уличное движение в Париже постоянно блокируется студенческими демонстрациями. Несознательные школяры не понимают, что, бунтуя против социалистов, они превращаются из левых в правых. Первые симптомы авиационного недуга, так называемого джет-лэгга, то есть реактивного отставания, — в Вашингтоне сейчас спят все, даже президент Рейган.
Не получится, мой дорогой, говорит мой старый друг и переводчик Лили Дени, у нас с тобой сегодня шесть интервью в издательствах и близлежащих кафе. Такси, такси, улица Себастиан Ботэ, силь ву пле… Внутренний двор издательства «Галлимар» — подстриженный газон, мраморные потрескавшиеся вазы. Кажется, вот-вот здесь появится некто в напудренном паричке, в белых чулках, с табакеркой в одной руке и с лорнетом в другой. Вместо воображаемой фигуры появляется реальная — фотограф в фиктивно заношенной кожаной куртке — такая мода, чтобы сваливалось с плеч, — обвешанный своими сумками и камерами. Разумеется, говорит немного по-английски и немного по-русски. О, Москва, о-ля-ля, Останкино… о-ля-ля, Вашингтон Ди Си, канал в Джорджтауне… Затем начинаются мои интервью, каждое из которых длится около полутора часов и в течение которых я несколько раз от недосыпа впадаю в прострацию и озабочиваюсь, как бы не сыграть со стула, но все-таки тяну, тяну, из кожи вон лезу, чтобы выглядеть умным таким, понимающим, ироничным международным писателем, пока не приходит второе дыхание — в Латинском квартале, в студии журналиста из «Либерасьон», где полы искривлены, как после землетрясения, — и тогда уже можно чесать языком, на втором-то дыхании, до бесконечности, не переключая скорости, как бы на автоматической трансмиссии.
Одна журналистка поставила передо мной так называемый провокационный вопрос: «У нас тут иногда говорят, месье Аксенов, что вы написали свой „Остров Крым“ для того, чтобы понравиться Западу, не правда ли?» — «Это правда, — сказал я. — В принципе, все, что я пишу, направлено к этой цели — понравиться Западу». Конечно, я промолчал о том, что за час до этого согласился с другой журналисткой, предположившей, что «Крым» — злая сатира на Запад. «Но на Востоке это вряд ли понравится, не так ли?» — с остротой необыкновенной вопросила журналистка. «Увы, я очень мало думал о Востоке», — признался я. «Мы считаем Востоком Советский Союз», — сказала она. «Все было бы гораздо проще, если бы это было так», — туманно, но с важностью заметил я и в очередной раз едва не сыграл со стула.
В один из дождливых дней мы с Лили отправились на площадь Трокадеро, где стоит одноименный дворец. Уступами сбегают к Сене фонтаны и лестницы, и высятся золоченые статуи. Стиль раннего тоталитаризма, смесь Муссолини и Выставки достижений народного хозяйства. Здесь располагается один из крупнейших парижских театров «Шайо», которым сейчас руководит мой старый друг Антуан Витез. Когда-то он руководил постановкой «Затоваренной бочкотары» его ученицей Мари-Франс Дюверже в заброшенной бане пролетарского квартала Иври. Потом в Москве в Театре сатиры ставил «Тартюфа». Вот тогда-то мы и встречались. Последний раз мы увиделись год назад на Манхэттене. Вдоль всей Пятой авеню Антуан развивал идею «Цапли». Это парафраза «Чайки», говорил он. Мы будем играть ее в тех же декорациях. Вполне естественно, современный советский захудалый пансионат «Швейник» может оказаться в бывшем имении Тригориных. «Чайка» и «Цапля» пойдут параллельно — один вечер романтическая птица, другой — болотная красавица. В конце чеховского спектакля Тригорин снимает с камина чучело подстреленной им птицы. Он совершенно не помнит, когда это случилось. Уверен, что он искренне не помнит. То же самое чучело чайки будет стоять на камине в пансионате «Швейник». Тут уже совсем никто ничего не помнит. В обоих спектаклях будет играть приблизительно тот же самый костяк актеров.
С этим театром «Шайо» связано у меня одно из воспоминаний о Высоцком. Осенью 77-го года здесь играла Таганка, и мне случилось быть на одном из лучших, как утверждали знатоки, Володиных представлений «Гамлета». После спектакля толпа россиян стояла еще довольно долго на площади Трокадеро, решали, куда поедем. Высоцкий явно еще не пришел в себя после спектакля, как-то суматошно отбивался от предложений. Увидев меня, он спросил:
— Ты что, в самом деле?
У них в театре стукачи пустили слух, что я решил остаться на Западе.
— Врут, — сказал я.
— Понятно, — он кивнул и заглянул мне в глаза с каким-то странным выражением: — Понятно, понятно.
— Вот тут еще пушкинская у вас, месье, парафраза, — сказал Витез и почитал немного:
Наш дядя был, по мненью многих, Большим сторонником миноги, Но, времени не тратя зря, Жевал частенько и угря. Под рокот пламенных моторов Прошел он путь командный свой От юных штурмов Беломора На героический Дальстрой…В кабинет вошла Цапля — девушка в черном берете, с острым носом и круглыми глазами.
— Это наша Цапля, — сказал Антуан. — Богуша Шуберт. Она недавно бежала из Польши. Вот так совпадение: ведь и Цапля в пьесе — это частично польская девушка, летающая по ночам через болотистую границу в братский социализм, она и говорит частично по-польски. Удачный выбор актрисы. Стоит поблагодарить не только Витеза, но и генерала Ярузельского.
Зал «Мютюалите» в Париже известен. Для нас, бывших советских граждан, это тоже знакомый звук. Даже и в ранней молодости, помнится, нередко по радио слышалось или в газете читалось: «Зал „Мютюалите“, прогрессивная общественность Франции, сторонники мира, отпор силам войны и реакции»… словом, зал «Мютюалите» в сознании довольно прочно соединялся с коммунистической фразеологией. И вот мы направляемся в зал «Мютюалите», чтобы присутствовать на собрании организации, именуемой Интернационалом Сопротивления. Звучит это как будто все в той же монотонной тягомотине левых клише, но означает нечто иное: Интернационал Сопротивления — это международная организация, у которой главная цель — объединение антитоталитарных сил и идей по всему спектру. Инициаторами его стали русские диссиденты, и среди них два Владимира — Буковский и Максимов. Последний с некоторой иронией пожимает плечами: что поделаешь, пришлось брать в заголовок неаппетитное слово — легче объясняться с западниками. В принципе, речь, возможно, идет лишь о том, чтобы иначе настроить собственное ухо. Очередная попытка вернуть звукам смысл. Что касается слова «Сопротивление», то оно и в наше время не заржавело и не потеряло упругости.
Первым оратором оказалась Мадлен Фуко, героиня французского Сопротивления времен нацистской оккупации, одна из самых популярных женщин страны. В своем слове она и обращалась к прошлому, напоминала о героике Резистанса, а также воздала должное современным борцам против тоталитарного коммунизма. Был представлен и в самом деле интернационал, так сказать, непрогрессивных народов мира, то есть тех, которые сопротивляются.
Красавец негр говорил о борьбе в Анголе, поэт Вальярадес, просидевший двадцать лет в кастровской тюрьме, рассказывал о своей родине, сменяли друг друга на трибуне чех, тибетец, вьетнамец, крымский татарин… Молодого афганца «Мютюалите» встретил овацией. Полной неожиданностью оказалось выступление китайца. Он рассказывал о многоликой диссидентской активности в КНР. А нам-то казалось, что там и в самом деле царит Единодушное Одобрение. От России выступали три знаменитых человека: Эдуард Кузнецов, возглавивший дерзкую попытку ленинградской молодежи прорваться через «железный занавес»; Петро Григоренко, порвавший с советской военной кастой во имя — пусть это звучит как звучит — идеалов добра и справедливости, и Владимир Буковский. Удивляюсь, между прочим, энергии этого человека. При огромной общественной деятельности он умудряется писать интересные книги и заниматься биологической наукой. В перерыве миланского конгресса он звонит в Станфорд, чтобы узнать, как чувствует себя обезьянка, которую он третьего дня прооперировал, вживил в нее какие-то экспериментальные электроды. И все это он делает без напряга, без фанатизма, серьезно и спокойно, к тому же при полном сохранении чувства юмора.
После собрания глубокой ночью мы сидим втроем в греческом ресторане в Латинском квартале — Майя, я и наш метропольский друг поэт Юра Кублановский. Мы не видели его со времени отъезда из СССР, то есть почти три года. Юра на Западе совсем еще новичок, всего семь месяцев, как объявился; гэбэшка давила его несколько лет: собирайте вещички, мы вам тут в гениях ходить не дадим, уезжайте сами на закат или повезем к восходу. Русский патриот Юра не хотел расставаться с неласковой родиной, старался удержаться, уходил в бега, промышлял на хлеб и стакан портвейна всякими несчастными способами. Однажды, рассказывает он, было так: на Белом море мы ныряли и ловили морских звезд, потом их красили и продавали в Сочи, на море Черном. Прошлой осенью все-таки додавили, собрал свой небольшой багаж. Гэбэшники вздохнули с облегчением. Юра Кублановский по-прежнему ходит в гениях, но все же в Париже, а не в Москве, где гениев столько, что все время с помощью гэбэ приходится освобождаться от избытка. Уже почти все гуляки разошлись, в Латинском квартале стало тихо, а мы сидим и вспоминаем большой нелепый город с величественным метрополитеном. Вот нечто Юрино:
Шампанское в наклейках темных Для встреч надежных и укромных, Знакомый с детства шоколад, Где Пушкин няне, словно брату, Читает вслух «Гаврилиаду», Задрапированный в халат… Или «арабика» душистый Под пленкой пены золотистой, В сердца вселяющий экстаз… Да что — балтийская селедка, Доступная с мороза водка… Продолжим перечень потерь… Мослы, копчености и чресла… Мы помним все… Зачем исчезло? Куда теперь?На следующий день мы прилетели в Милан. Серое небо, мелкий дождичек. Довольно стильно. Милану при всей итальянскости не очень идет яркое солнце. Быстро мелькает ногами и руками наша миланская подруга, золото на запястьях, на шее, на щиколотках. Резкие повороты руля, переругивание с карабинерами. Город запружен войсками и полицией — приехал сюда, кроме нас, еще один человек — папа Войтыла. Оставляем чемоданы в доме, где будет проходить конференция. Он называется Палаццо Экс-Стеллино. Неплохое название для конференции русских эмигрантов — Дворец Бывших Звезд. На улицу и за угол. Здравствуйте, пожалуйста, — капелла с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи. Выйдя из капеллы, замечаем довольно высокого и плотного немецкого туриста в солидном костюме и белых ботинках. Господи, да это Фриц! Неуклюжие объятия. Тоже не виделись почти три года! Еще один метрополец — Фридрих Горенштейн. Через несколько минут все уже выглядит вполне естественно — мы прогуливаемся по Милану вместе с Фрицем Горенштейном, рассматриваем собор и выстроенные под арками подразделения берсальеров в их смешных колпаках с кисточками. «Что же столько войск, и все из-за ЭТОГО папы?» — спрашивает Горенштейн со свойственным ему не вполне адекватным ударением, в данном случае на слове «этого», как будто есть еще какой-нибудь другой папа, не ЭТОТ.
В общем, Горенштейн доволен своей жизнью в Берлине. Денег мало, но пишется хорошо, а стало быть, жива постоянная писательская мечта о лучших деньгах. Книги кое-где переводятся, начинают даже и кинорежиссеры подъезжать с предложениями. Есть кое-какое русское общество, с которым можно сентиментально прогуляться вдоль важнейшего социалистического монумента — Берлинской стены. Фриц вызвал в левых германских кругах некоторый скандален, опубликовав эссе под названием «Идеологические проблемы берлинских туалетов». Некое культурное общество заказало перевод этого эссе, но, прочтя текст, было весьма шокировано: как можно так издеваться над прогрессивными идеями!
В Палаццо Экс-Стеллино между тем прибывали все новые участники конференции и международная публика. Появились загорелые люди, вернувшиеся с только что закончившегося Каннского кинофестиваля. Один из главных призов там получил Андрей Тарковский с фильмом «Ностальгия». О нем было сказано в газетах — «базирующийся в Италии советский режиссер». Все-таки времена меняются: раньше такая формулировка показалась бы абсурдом, сейчас всего лишь туманностью. Фильм гениальный, рассказывали очевидцы. Смотреть его почти невозможно, продолжали они. Например, десять минут экранного времени симпатичный советский актер Янковский лежит на экране, молча страдая ностальгией. Головная идея картины состоит в том, что русский человек, где бы ни базировался, без родины не может. В самом деле, болезненная и важная современная тема, уж кому-кому, а нам, эмигрантам, особенно близкая. Немало вокруг примеров такой тоски, невозможности адаптироваться в чужой среде. У ностальгии, кроме различных лирических, психологических, идеологических и литературных сторон, есть еще и биохимическая основа. Должно быть, существует нечто, что можно было бы назвать «химией родины» — состав воздуха, воды, почвы, особенный для определенных зон Земли, называемых Россией, Италией, Америкой… Многих мучает отрыв от Родины, который кажется окончательным, невозможность вернуться. С этой точки зрения, по словам очевидцев фестиваля, финал картины Тарковского поражает. Янковский просто-напросто идет в кассу «Аэрофлота» и покупает билет на Москву. Оказывается, он не эмигрант, а просто командировочный, просто советский ученый, временно базирующийся в Италии; и вот, несмотря на временность пребывания за границей, такая мука, такая тоска! Такое только с истинно русским человеком может случиться! Понятен теперь гуманизм соответствующих органов, предотвращающих граждан от чрезмерных путешествий.
Позднее оказалось, что очевидцы фестиваля то ли ни черта не поняли, то ли все наврали ради возможности позлословить. Трагический финал картины каким-то образом оказался этими людьми не замечен. Советская принадлежность режиссера как бы отрицала возможность серьезной трагедии или серьезного о ней разговора. Между тем в последнее время некоторые советские талантливые режиссеры начинают всерьез работать на западных студиях. Кроме Тарковского, Отар Иоселиани начинает съемки в Париже, Андрей Кончаловский снимает в Голливуде. Можно посочувствовать ребятам — нелегко им приходится под давлением этой жуткой ностальгии и органической заботы.
К вечеру в Милане появились две дружеские пары — Копелевы из Кельна и Профферы из Анн-Арбора. Соединившись с двумя милейшими миланскими русскими дамами, да еще и подцепив по пути поэта Бобышева из Милуоки, мы в составе, приближающемся к дюжине, засели в итальянском ресторане и галдели там так, что сдержанные миланцы на нас оглядывались. Эта русская привычка, говорили они, говорить всем сразу и размахивать руками перед носом друг друга.
На следующий день, 21 мая, открылась конференция «Континент культуры». Событие было приурочено к дню рождения академика Андрея Сахарова. За день до этого президент Рейган и Конгресс США объявили 21 мая Национальным американским днем Сахарова. Об этом сделал сообщение главный редактор журнала «Континент» Владимир Максимов. В своем коротком вступительном выступлении Максимов развил интересную мысль о том, что в мире сейчас появился новый генетический тип русского писателя, отвергающего тоталитаризм. Потом было зачитано приветствие Милована Джиласа, который с оптимизмом, достойным восхищения, высказал идею о перманентности культуры и о ее живучести даже в условиях коммунизма. В Милан съехалось около шестидесяти писателей, поэтов, литературоведов, политологов и социологов. Впечатляюще — увидеть в одном зале значительную часть нашей зарубежной общественности, в обычное время раскиданной на огромных пространствах мира от Израиля до Японии. Иные встречи и во «временных параметрах» были почти невероятны. Лет пятнадцать-семнадцать назад в Москве мы тайно читали потрясающую книгу Роберта Конквиста «Большой террор», и вот он среди нас, улыбчивый моложавый английский джентльмен.
Одной из удач конференции был ее творческий тон. Политическая риторика звучала почти нериторически, как бы в рутинном таком бытовом ключе, ибо политических эмоций и в самом деле здесь возбуждать не требовалось. Единодушия по творческим вопросам, слава Богу, не наблюдалось. Почти все выступления, по сути дела, были полемическими. Я, например (мне всегда по алфавиту приходится вылезать первым), говорил об иронической интонации как о позитивной ценности либеральной цивилизации, пытался опровергнуть московских и зарубежных сторонников «звериной серьезности».
Юрий Кублановский в своем выступлении оказался моим оппонентом. Он как раз призывал к патетике, говорил о том, что «тотальная хохма» ослабляет понятие абсолютного зла. Попутно он коснулся одной любопытной тенденции в современной советской поэзии. Николай Тряпкин поет «отчую полынь без святынь и пророчеств». В творчестве Давида Самойлова тоже идут струи некоего пантеизма и беспамятной «полынной» любви к родной стране. Кублановскому представляется эта тенденция как контртеза христианству.
Огонек полемики пробежал по цепи выступлений Жорж Нива — Александр Зиновьев — Дмитрий Бобышев. Первый, кстати сказать, на безукоризненном русском говорил о том, что Россия осуществила «обратный ввоз» в Европу двух важнейших слов — «интеллигенция» и «диссидентство», наполнив их новым огнем и страстностью своей, как он выразился, «религии отказа». Выступавший вслед за ним Александр Зиновьев саркастически заметил, что Россия, кроме названных двух, получила из Европы еще два слова: «террор» и «репрессия» — и сейчас с благодарностью их возвращает. Выступление Зиновьева было страстным и мрачным. Он говорил о том, что выброс русского писателя из России на Запад — жестокая расправа, а не сравнительно либеральная акция. Русский писатель здесь не найдет читателя. Запад видит в русском писателе представителя второразрядной культуры и никогда не позволит себе потесниться и пропустить его в свою групповщину. Западные писатели принципиально другие люди, озабоченные более рекламой, чем творчеством, тратящие минимум времени и сил на творчество, максимум на завоевание признания. Русского писателя на Западе ждет забвение. Выступление Дмитрия Бобышева полемизировало с Зиновьевым не впрямую, а своим общим светлым тоном. Поставив рядом некрасовское «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» и пушкинское «мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв», он присоединился к последнему. Он вспоминал «Ориона и Тассо» Мандельштама и слова Арсения Тарковского, сказавшего на похоронах Ахматовой, что она самим своим существованием удерживала от подлости… Было очевидно, что Бобышев мало обеспокоен вопросами признания и забвения и что его творчество от проживания в Милуоках, штат Висконсин, не уменьшилось.
Среди обычного для него каскада увлекательных идей Наум Коржавин высказал одну, на мой взгляд, чрезвычайно несуразную. Тоталитарные вожди, сказал он, преследуют модернизм, который, по сути дела, выражает их сущность, то есть и сам как бы является тоталитарщиной. Чего же они тогда его преследуют, Эма? Почему они тогда так свирепо ненавидят все авангардные школы и формальные течения; почему они так рьяно хотят, чтобы все было «культурненько»? Коржавин считает, что Серебряный век приблизил революцию, между тем он лишь совпал с ней по времени и был ею безжалостно уничтожен, ибо Серебряный век — это росток либеральной эры, а революция — унылая дичь отсталого общества.
Еще один узел дискуссии завязался вокруг выступления профессора Мальцева. Он развивал свой хорошо известный в эмиграции тезис о «полуправде», о невозможности создания художественных ценностей внутри советской и подсоветской литературы. Никакой, даже малый, компромисс с советской властью, по мнению Мальцева, невозможен, все достижения советской культуры фиктивны, перед нами попросту пустыня. Мальцеву многие возражали. Профессор Вольфганг Казак защитил от него Валентина Распутина, подчеркнув затаенную религиозность этого автора. Нельзя отрицать положительного действия его произведений на советского читателя. Герман Андреев говорил о «бытовании культуры в условиях антикультуры», о том, что в советских условиях все-таки возникли и Шостакович, и Ростропович, и Тарковский (добавим — отец и сын), и Аверинцев, и Лихачев, и Белов, и Распутин все тот же. Сталин хотел добить язык — недаром взялся за языкознание, — однако не успел. В этом споре мне, может быть, следовало бы отмолчаться как одной из прошлых жертв профессора Мальцева, однако вряд ли удержусь от соблазна добавить несколько фраз. Когда-то он подверстал меня к приспособленцам, сказав что-то о фальшивках советских писателей, всех этих «аксеновых и бондарсвых», уравнял, стало быть, на две трети «непечатного» автора с лауреатом всех возможных Ленинских премий, секретарем всех секретариатов и депутатом депутатств. Потом, когда я напечатал «Ожог», он признал меня настоящим писателем. Я понимаю чувства Мальцева и кое-что знаю о том, что стучится в его сердце, но все-таки мне кажется, что в его подходе к подцензурной литературе есть какое-то парадоксальное сочетание повышенной эмоциональности и механистичности, схематичности — не с нами, не наш. Что касается существа дела, то я еще не совсем уверен, кто больше бьет по тоталитаризму — яростный профессор Мальцев в Турине или сочинитель рок-н-ролла в Москве.
Недостатка в парадоксах на конференции не ощущалось. Народ-то непростой собрался все же. Культура всегда локальна, провинциальна, заявляет, к примеру, Борис Парамонов. Данте происходил из Флоренции и только свой городок и описывал. Эти сентенции при всей их увлекательности звучали немного странно в устах ленинградца, живущего в нью-йоркской эмиграции, на конференции в Милане, среди участников которой итальянец Родольфо Квадрелли говорил об одиночестве современного авангардного писателя; чех Павел Тигрид подтверждал право меньшинства работать для всех; болгарин Барев как будто прямо в пику г-ну Пономареву заявлял, что Данте и Достоевский универсальны и что прогресс, в том числе и технический, враждебен тоталитаризму; англичанин Конквист заявлял, что пока не выполняется Хельсинкский договор, никакие договоры в принципе невозможны; норвежец Виктор Спарре предполагал, что Господь зовет нас прийти не к невинности, но к умудренности и готовности пожертвовать собой в борьбе за человеческие сердца…
Так или иначе, конференция в Милане демонстрировала «беспачпортный космополитизм» как непременное свойство культуры. В определенный момент в коридоре Дворца Бывших Звезд прозвучал громовой глас: «Лев Наврозов! Все, кто хочет слышать „Майские тезисы“ Льва Наврозова, пожалте в зал!» Побросав сигареты, народ ринулся слушать еще одного нью-йоркского парадоксалиста. Тезисов было провозглашено двенадцать. Для освещения их потребуется специальное исследование; здесь скажем лишь, что основной мишенью Льва оказалась на сей раз американская современная литература, которую он сравнил (не совсем понятно, по каким параметрам) с литературой социалистического реализма начала 50-х годов, писателей же Джона Апдайка и Филипа Рота уподобил Бубеннову и Бабаевскому. Чехов, сказал он, не заработал бы в Нью-Йорке ни цента (за исключением, конечно, тех миллионов, которые он уже там заработал), а Вольтера немедленно заклевала бы злокозненная тамошняя «Таймс»…
Увы, не хватает места для того, чтобы подробнее остановиться на всех выступлениях этой уникальной конференции. Скажу лишь, что Леонид Ржевский убедительно выдвинул художественность как основной критерий подлинности, что Юрий Милославский, ссылаясь на работы Гаспарова, любопытно говорил о мелодике советской речи, что Владимир Войнович предложил забавную метафору о прыжках в комнате с заниженным потолком, что зал хохотал, когда Юз Алешковский читал рассказ о незадачливом гэбэшнике, проникшемся идеями подопечных диссидентов, что Карл Проффер с юмором рассказывал о своем полуфантастическом опыте американского издателя русской литературы, что все в очередной раз были впечатлены ораторской силой Петро Григоренко и Владимира Буковского, что Лев Консон прочел страшный и трогательный «лагерный рассказ», что Марк Поповский весьма поучительно поднимал тему о нравственности писателя в эмиграции, что Юрий Ольховский рассказал о русской культурной жизни в нашей столице, городе Ди Си, что Фридрих Горенштейн в свою очередь ударил по удивленному «модернизму», что Владимир Алой говорил о писательской жизни в метрополии и диаспоре, что Наталья Горбаневская размышляла о сопротивляемости русского стиха в иноязычной среде, что Михайло Михайлов со свойственной ему остротой поставил проблемы плюрализма и посетовал, что среди нас не было таких хороших писателей, как Синявский (добавим к этому сожалению и Солженицына), что Вадим Рыбаков говорил о русском свободном профсоюзе СМОТ, а Эммануил Штейн рассказал, как он правил шахматные этюды Набокова и Войтылы, что Ефрем Янкилевич говорил об иерархических структурах и о борьбе групповых интересов, а Игорь Ефимов высказал предположение, что культура не всегда совпадает с развитием демократии, Лосев же Лев с блестящей парадоксальностью указал на некоторые благодеяния, которые несет нам цензура…
К счастью для Дворца Бывших Звезд, конференция продолжалась всего два дня, иначе интеллектуальная энергия русских писателей привела бы к короткому замыканию и пожару. Все, однако, обошлось настолько благополучно, что местная газета «Република» даже смогла написать: «Впервые за все времена конференция русских изгнанников обошлась без скандала». В заключение состоялся импровизированный концерт, на котором среди названных уже поэтов выступил ленинградский бард Алеша Ершов, а израильская певица Лариса Гирштейн спела известную чукотскую песню «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке»[2]. Из Милана на просторном европейском самолете «аэробус» мы вернулись в Париж.
Утром следующего дня, решив, что хватит с меня интеллектуальщины, я отправился бегать. Обычно в Париже я бегу из нашей гостиницы вдоль бульвара Пастер, потом вдоль бульвара Бретей до площади Инвалидов, оттуда до набережной Сены, где говорю двум примелькавшимся клошарам «хай» или «привет» и получаю от них неизменное «салю», после чего поворачиваю обратно. В то утро я почему-то пересек Сену по мосту царя Александра Второго Освободителя и побежал по правому берегу каштановой аллеи, от красоты которой слегка сбивалось дыхание. В Париже наш брат, пресловутые джоггеры, заполняющие американские города, довольно редки, поэтому я не без интереса смотрел на приближающуюся трусящую фигуру, пожалуй, более тяжеловатую, чем моя собственная. Далее началась цепная реакция совпадений. Сначала я опознал в бегуне советского человека (характерное припадание на пятки), потом я опознал в нем советского человека моего поколения (подражание несколько развинченному стилю бега футбольной команды «Спартак» образца 1956 года), потом я понял, что это мой коллега, и, наконец, я узнал старого друга, такого же внутреннего эмигранта, каким и я был последние лет десять-пятнадцать советской власти. Разумеется, не кто иной, как Фил Фофанофф собственной персоной! Мы не виделись, почитай, три года. Последний раз я заметил его на собственных проводах за стеклянной стенкой шереметьевского аэровокзала. На прощание тогда он воспроизвел любимый приветственный жест нашей молодости — поднял сжатый кулак над ухом, как бы говоря «но пасаран». А потом резко опустил его вниз, как бы дергая шнурок бачка.
— Вот так встреча! — вскричал я.
— Не валяй дурака, — сказал Фил. — Встреча как встреча.
— Прости, Фил, но ведь это же невероятно — пробегая по Парижу, встретить друга молодости из Москвы.
— Что же тут невероятного — пробегая по Парижу, встретить друга молодости из Вашингтона? — проворчал он. Он вспотел, и от него несло родиной, восхитительной комбинацией одеколона «Шипр», консервов «Завтрак туриста» и спиртного напитка «Горный дубняк». Можно было бы не задавать ему следующего вопроса, но я все-таки задал:
— Ты не эмигрировал?
— Внутренне да, — сказал он с обычной заносчивостью. — Внешне нет. Я здесь туристом в составе специализированной группы советских византологов.
— Так смойся же от них, и поскорее!
Он оглянулся и чуточку дернулся, увидев прогуливающихся неподалеку двух ажанов.
— Не бойся, Фил, это же не ваша полиция, это наша…
— Ты хочешь сказать? — поднял он брови.
— Да-да, наоборот…
Советский человек, даже вот и такой внутренний эмигрант, как Фил Фофанофф, даже вот и в Париже не может поверить, что родные органы оставили его в покое. Оказавшись на проводе, обычно мямлит «это не телефонный разговор» в полной уверенности, что родная гэбуха и здесь его подслушивает, даже не допуская и мысли, что уж если кто здесь и подслушивает, то какое-нибудь собственное французское бюро. Фил Фофанофф преодолел рефлекс и радостно расхохотался:
— Как это приятно! Ты, наверное, уже забыл, как это приятно — без них! Итак, встречаемся через час. И где? В кафе «Дё Мага»! Что ж, интуиция меня снова не подвела. Всякий раз, направляясь в Париж, я думаю, что встречу там кого-нибудь из старых друзей; нередко так и получается.
И вот мы сидим с Филом в кафе и ведем поначалу, честно говоря, не очень-то содержательный, но зато типичный русско-советский разговор. Вот так вот расскажешь кому-нибудь, не поверит — мы с тобой в парижском кафе! Ну, что нового в Москве? Да ничего особенного. Постепенно мы начинаем чувствовать себя все более естественно, и выясняется, что новостей в Москве немало. Увы, новости все в старом брежневском стиле — у того картину закрыли, у другого спектакль запретили, третьего взяли в гэбуху и предупредили, чтобы не печатался за границей, иначе не поздоровится. Надежды, возникшие после конца бровеносной эпохи, развеялись. Никто, конечно, не думал, что Андропов примет христианство, но многие почему-то и впрямь в тон со всей мировой прессой ждали от него более гибкой, более интеллектуальной, хоть в некоторой степени реалистической политики. Да откуда же гибкости-то взять, когда столько отложилось сталинистской соли в суставах? По-прежнему ни черта нет в магазинах — из всех возможных сортов сыра остался в сознании населения только один, называемый словом «сыр», за которым идет неутомимая и не очень успешная охота; по-прежнему партия призывает писателей создавать высокохудожественные героические образы современников, достойные нашей великой эпохи, с прежней неизбывной тупостью мечтают о современном варианте Павки Корчагина с его троглодитским воплем «Смерть врагам революции!»… Все по-прежнему… все та же прежняя большевистская «Пошехонская старина»… И все-таки, вне всякого сомнения, город над лучшим в мире метрополитеном еще жив: приглашают друг друга в гости — у нас сегодня вырезка из… Продовольственной программы, — отправляют самолеты с продовольствием во Вьетнам и Камбоджу с надеждой, что их перехватят в районе Саратова; звонят, спрашивают Николая и, узнав, что Николай умер вчерась, удивляются — значит, и в баню не пойдет?.. Вместо корреспондента армянского радио появился в столице лукавый чукча с университетским значком в петлице… Советский юмор, уникальнейшее явление культуры, опровергает общепринятое мотто, что юмор убивает. Никого он не убивает, как мы видим, а главную свою героиню Степаниду Властьевну тем более: может, потому, что до нее не доходит, а может быть, потому, что без нее и с юмором будет хуже. Другое дело, что при ней он помогает выжить, это бесспорно.
Спустя несколько дней Фил Фофанофф-снова сбежал от своих византологов и археологов, которые, говорят, недавно обнаружили бесспорные доказательства того, что Ахиллес был советским славянином, и мы вместе с Виктором Платоновичем Некрасовым отправились на Луару. Кто был в тот день в городе Орлеан, наверняка заметил возле памятника Жанне Д'Арк трех немолодых молодых людей, задумчиво похрустывающих длинными французскими булками-багетами. Нет в мире ничего равнозначного, господа, и нигде не удается воспроизвести фантастический французский хлеб. В Вашингтоне есть немало французских буланжери с настоящими французскими пекарями, но ни круассаны, ни багеты не получаются у них до конца по-французски. Ничего не поделаешь, химия родины…
На всех нас огромное произвел впечатление замок Менг в окрестностях Орлеана. Там сохранилась в первоклассном виде до наших дней тюрьма-колодец, в котором держали поэта Франсуа Вийона. Вообразите себе выложенный серым камнем цилиндр, уходящий метров на тридцать под землю. На дне этого цилиндра вместе с другими мошенниками сидел поэт. Там у них был еще один колодец поуже с водой, из коего зеки и пили, куда и испражнялись. Франсуа просидел в этом колодце четыре месяца, а потом, не выдержав, написал хвалебную оду Людовику Одиннадцатому. Эй, крикнул он страже, ода есть, вынимайте! Ода пришлась королю по душе, и он освободил Вийона, после чего поэт пропал из поля зрения народа и истории уже навсегда. Мы постояли над колодцем молча, стараясь не развивать возникших у каждого соображений о прогрессе человечества.
Обратно ехали вдоль мягких холмов долины Луары, на которых располагается таинственное для советского человека капиталистическое сельское хозяйство. В самом деле, время-то было, что называется, «страдное», но никаких следов «битвы за урожай» обнаружить нам не удалось — ни единого комбайна в поле, ни одного труженика полей. Та же самая картина наблюдается и в Канзасе, скажем, и у «хлеборобов Канады» — пустынно, тихо, ни в какое сравнение не идет с вечным накалом Курской дуги или несмолкающего Сталинградского побоища. Фил Фофанофф вспомнил, как некая дама из их делегации, взглянув из окна самолета на поля Франции, презрительно скривила губки и фыркнула: «Какая тут у них чересполосица!» Мы едем втроем вдоль холмов Луары и дразним друг друга всеми этими советскими заклинаниями — в копилку родины, в закрома государства, — с которыми прожили мы большую часть нашей жизни. Одному из нас скоро возвращаться к этим закромам и копилкам, двое других лишены гражданства и, если смотреть реальности в глаза, вряд ли когда-нибудь вернутся. Не задаю никаких вопросов Филу Фофаноффу, потому что и сам не раз возвращался на «родину социализма» и почти все ответы мне известны. Спрашиваю сам себя — хочу ли в Москву? Вопросец не из простых, односложно не ответишь, любой «детектор лжи» выйдет из строя. Размышляя по самому очевидному кругу: с одной стороны, Москва — наша родина и духовная столица, была таковой, есть и будет; с другой стороны, нельзя даже и вообразить себя вновь под «их» юрисдикцией, среди этих «закромов» и «копилок», под властью глумливых ряшек.
Незадолго до конца нашего путешествия по русскому Парижу полетела сенсация — во Франкфурт прибывает из Москвы писатель Георгий Владимов с женой и тещей. Гладилин, схватив магнитофон, помчался в Германию. Мы с женой тоже было ринулись, но спохватились — в ненадежных наших беженских документах уже не было места для виз, да и времени для их получения не было. Оставалось только повиснуть на телефоне. И вот наконец мы говорим с Жорой и Наташей. Вырвались. Последний раз я разговаривал с Владимовым года полтора назад из Вашингтона после первого обыска в их квартире в Филях. Многие тогда на Западе были встревожены: над одним из лучших современных писателей нависла угроза. Звонили из Франции, из Германии, даже сам бывший канцлер Брандт поднял трубку, встревоженный таким оборотом политики «разрядки». На власти эта волна тревоги произвела должное впечатление, и они обрезали Владимовым всякую телефонную связь с внешним миром. После этого в течение долгих месяцев шел непрекращающийся террор писателя и его семьи — обыски, вызовы на допрос в Лефортовскую тюрьму, провокации и угрозы; в конце концов некий гвардеец идеологического сыска майор Губовский (если не Гэбовский) пригрозил арестом и даже назначил последнюю дату для покаяния. Все-таки не решились отправить Владимова вслед за Бородиным, Марченко, Ратушинской в ГУЛАГ, оказался не по зубам, слишком велик авторитет писателя, и поддержка как на Западе, так и внутри страны оказалась достаточно сильной. Довели человека до болезни сердца, но выпустили. Слава Богу, он вырвался. Голос спокойный. Первые часы на Западе. Утром еще купался в Москве-реке, говорит он. Привез новый большой роман.
Ну вот, нагулялись, и домой пора, на западный берег океана. Последние прогулки по левобережью Сены. На улице Бак в старинном доме Волкер Шлондорф снимает фильм по Марселю Прусту. Знакомимся со Сваном (англичанин Джереми Айронс), с Одеттой (красавица итальянка, фамилия ускользнула). Может быть, лучшее место для предотъездного ужина — это кафе «Клозери де Лила» на Монпарнасе. Пианист играет старинные регтаймы. В окне сквозь зелень платана виден маршал Ней, князь Московский. Не знаю, изменил ли он позу со времен «Фиесты»? Господин за соседним столиком смущенно улыбается:
— Простите, что это за язык, которым вы столь непринужденно пользуетесь?
— Пушкин, — отвечаем мы.
— Это где?
— Повсеместно.
1984
РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ЛЮБИМ
После перелета через Атлантику в темноте подъезжаем к театру «Шайо». Ближе к полуночи площадь Трокадеро затихла. В кафе видны лишь несколько припозднившихся посетителей. Возле театра большой подсвеченный плакат. На нем русскими буквами — названия двух «птичьих» пьес: «Чайка» Антона Павловича Чехова и «Цапля» Василия Павловича Аксенова, обе в постановке Витеза Антуана Павловича, имя его отца Поль. От такого соседства с классикой вся округа приобретает черты весьма условной театральной декорации.
По французской традиции театральной премьере предшествует дискуссия в прессе. Ее открыл Владимир Янкилевич. Разумеется, по звучанию имени можно предположить, что он относится к нашему брату, «эмигрантскому отребью», однако это не так. Янкилевич — француз, то есть человек, родившийся во Франции. Маститый и почитаемый деятель культуры, композитор и автор философских книг. Мой отец, вспоминает месье Янкилевич, был врачом, он лечил Николая Бердяева. Вместе с Бердяевым в наш дом входила великая русская культура, образ той России, которую я — единственную — знаю, почитаю и люблю. Нынешний день России скрыт от меня туманами безобразной идеологии настолько, что я не уверен, существует ли она на самом деле. Какая разница, с горечью восклицает Янкилевич, между тем старым русским образом жизни и так называемым «общественным мнением» в Советском Союзе! Думать сейчас о подлинной России можно только в ностальгическом ключе. Или меня окружает пустыня, заключает философ, или живая Россия все-таки где-то притаилась, и я просто не могу ее найти.
Далее в разговор вступает прозаик и публицист Клод Руа. Его статья начинается с довольно короткого предложения. Чехов, пишет Клод Руа и ставит точку. Далее идет фраза, вполне искупающая своей протяженностью и вкусом лаконизм и претенциозность начала. Я люблю русских, пишет Клод Руа, с которыми забываешь, что они русские, как забываешь название предмета при поедании малосольного огурца. И снова восклицание — Чехов! На этот раз оно не звучит, впрочем, как заклинание, а, напротив, расшифровывается следующей мыслью. Чехов, пишет Клод Руа, уже харкал кровью, когда складывал свой чемодан для поездки на сахалинские каторги. Именно дух старой, творческой и интеллигентной России толкал смертельно больного автора в это странное путешествие, пишет Клод Руа. Трудно представить себе Евтушенко в лагере строгого режима. Клод Руа вспоминает своих русских друзей, самозабвенно читающих наизусть километры поэзии, вспоминает он и тех, кого называет «великими отверженными», — Пастернака, Ахматову, Мандельштама. Именно их, а не власти предержащие полагает он истинными властителями дум России, то есть, видимо, именно той России, о которой он говорит. России, которую он любит. Самое же главное, говорит писатель в заключение, состоит в том, что я люблю Россию за то, что она все еще дает мне возможность себя любить даже после 65 лет абсурдного и жестокого режима.
Польский критик Ян Котт начинает свой разговор о России, которую он любит, с Ленинграда… Ледяные воды Невы… эти слова вызывают в памяти огромное и вечно тревожащее пространство между Зимним дворцом, Петропавловской крепостью и колоннадой Биржи. Поляку, думается, надо обладать такой же широтой, чтобы присоединиться к Пушкину в этой любви. Не уверен, что Мицкевич присоединился к этому простору без борьбы с собой. Идя по цепочке интеллектуальных ассоциаций, Ян Котт говорит, что он любит ледяной ум и неумолимую натуру Сахарова. Браво, Котт! Избегая прямой метафоричности, он выводит образ Сахарова из вод Невы, в равной степени ледяных и неумолимых. Сахаров является символом современной русской несогнутой интеллигенции. В принципе, русская интеллигенция вызвала к жизни очередное чудо. Джордж Оруэлл даже хронологически все рассчитал довольно точно. К 1984 году на Земле, во всяком случае в России, должно было возникнуть общество, не оставляющее никаких надежд. В том, что это еще не произошло, то есть в том, что надежда еще теплится, повинно неожиданное духовное сопротивление интеллигенции. Очевидно исходя из этого образа теплящейся надежды, Ян Котт говорит о «свече в ночи», и, конечно, имеется в виду пастернаковская свеча. Таким образом расширяется география любви, и мы переносимся от ледяных берегов Невы в Камергерский проезд Москвы и далее вслед за словами Яна Котта к иконам Андрея Рублева. Дух диссидентства — вот что я люблю в современной России, заключает эмигрантский польский писатель и философ Ян Котт.
Далее слово предоставляется видному французскому журналисту Антуану Спиру. Я люблю Россию альманаха «Метрополь», с места в карьер заявляет он. Прочитав эту первую фразу, я отодвинул журнал и вспомнил свистопляску в московском отделении Союза писателей СССР, когда несколько десятков писателей по приказу соответствующих органов обрушились на наш альманах, вопя о какой-то изобретенной каким-то серяком-поэтом «порнографии духа». В истории «Метрополя» как раз и произошло столкновение той России, которую любят, и той, которую во Франции — да теперь уже и нигде — не любят. Я нахожу в «метропольских» текстах столько всего, что меня волнует, продолжает Антуан Спир: секс, безумие, бунт, конфликт поколений, мистические обвалы, крушение иллюзий и новые иллюзии — поистине микромодель русского космоса, все в этих текстах. Замечательно то, продолжает Антуан Спир, что «Метрополь» не находится в сфере политического протеста. К политике его можно отнести только постольку, поскольку любое неподчинение в этой стране автоматически выбрасывается в область политики. Такое уникальное явление в советском обществе, как возникновение альманаха «Метрополь», позволяет нам на Западе лучше понять, что политическое диссидентство является лишь одним аспектом общественного недовольства и жажды, а на самом деле недовольство и жажда охватывают все слои советского общества, перехлестываясь далеко за рамки политики и разливаясь по всему Советскому Союзу. Да и сама история возникновения этой художественной группы, носящей теперь известное всему миру имя «Метрополь», исполнена все той же национальной жажды. Именно желанием утолить ее хотя бы одним коротким глотком вызвано появление этого сборника на свет Божий.
В этом же номере театрального журнала была напечатана моя беседа с писательницей Даниэль Сальнав. Интересно, что она тоже пространно говорит об альманахе «Метрополь». Вы даже не представляете, сказала она, с каким напряжением следили мы в Париже за всеми перипетиями этой вашей истории, какое вам в самых разных кругах выражалось сочувствие. В самом деле, отбрехиваясь, так сказать, перед столь же унылым, сколь и злобным секретариатом, мы не очень-то представляли себе тот размах, который примет «дело „Метрополя“», что альманах сразу же станет событием не только русской, но и европейской и американской культурной жизни. Я до сих пор еще удивляюсь, когда вижу, что о «Метрополе» знают решительно везде. Приедешь куда-нибудь в глубинку, в какой-нибудь университетик штата Огайо, и вдруг тебя спрашивают из зала о «Метрополе», о его авторах, о том, над чем они сейчас работают. Вспоминается африканский дневник Хемингуэя, то место, где как-то ночью у костра в саванне случайный попутчик сказал ему: «Я вас знаю, вы принадлежали к блестящей плеяде „Квершнит“».
…Приведенные выше высказывания участников дискуссии «Россия, которую мы любим», как мне кажется, отражают довольно ярко настроения западной европейской интеллигенции в отношении нашей страны. Одни считают, что интеллектуальная и гуманитарная Россия вся в прошлом и что сейчас огромная и могучая страна озабочена только лишь своим мрачным маршем в неизвестном направлении. Другие — и их больше — все-таки полагают, что творческий дух России все еще жив и что наступит день, когда он соединится с гением Европы. Значение этого воображаемого воссоединения трудно переоценить. Западногерманский кинорежиссер рассказывал нам о своей беседе с французским поэтом. Они говорили о том, что в последние десятилетия Европа работает на холостом ходу как в экономическом, так и в культурном отношении. Динамика, свойственная Соединенным Штатам или Японии, иссякает в бесконечных повторах европейских циклов. Быть может, это происходит оттого, предположили поэт и кинорежиссер, что Европа сейчас изгнана из своих огромных восточных и центральных пространств. В западных странах тесно, экономическое и духовное возрождение Европы невозможно без тех стран, что сейчас именуются социалистическими, и без России.
Рассказывать русскому человеку содержание «Чайки» вроде бы так же нелепо, как втолковывать, что Волга протекает по территории России. Кто не слышал об этой пьесе, давшей эмблему Художественному театру, ставшей уже давно национальной достопримечательностью наравне с Царь-пушкой? И все-таки практика показывает, что порой невредно пройтись по задам нашего хрестоматийного образования.
Итак, «Чайка». Знаменитая драматическая актриса Аркадина вместе со своим любовником, знаменитым писателем Тригориным, проводит лето в своем имении. Ее сын Костя Треплев мечтает стать писателем нового модернистского направления. Вместе с соседской девушкой Ниной Заречной, в которую он влюблен, Треплев ставит дачный спектакль. Высокомерная мать высмеивает сына. Знаменитый писатель снисходительно покашливает. Нина Заречная влюбляется в Тригорина и уезжает вслед за ним в Москву в надежде стать профессиональной актрисой. По прошествии нескольких лет все персонажи снова собираются на даче. Тригорин остался с Аркадиной. Треплев хоть и стал печататься, но отнюдь не избавился от комплекса неполноценности. Нина, печально повзрослевшая и измученная жизнью провинциальной актрисы, по-прежнему не любит Константина. Романтический образ чайки оборачивается чучелом чайки. Треплев кончает самоубийством.
Теперь с той же унизительной лапидарностью остановимся на второй пьесе этой двойной премьеры — на «Цапле». Пансионат «Швейник» расположен в Прибалтике, неподалеку от польской границы. Его директор Кампанеец, старый партийный демагог, превратил место отдыха трудящихся, по сути, в семейную дачу. Три сестры, три его дочери от разных матерей, но родившиеся в одном году, работают здесь на разных ставках. Его любовница Степанида Власовна тоже оформлена как культработник, а ее сын, спортсмен, — как матрос-спасатель. Фальшивые трудящиеся Леша-сторож и Леша-швейник, единственный законный отдыхающий с путевкой, на деле являются как бы замаскированными людьми московской богемы, имеющими таинственное отношение к сюжету пьесы. Здесь же прыгают старички Цинтия и Кларенс, забытые после Второй мировой войны шпионы разных держав, превратившиеся к этому времени в лесных чертей. Мимо пансионата через границу по ночам летает цапля. Ее тревожные крики не дают спать обитателям и толкают их на странные поступки. Неожиданно из-за морей приезжает законный муж Степаниды Власовны, международник Моногамов. За годы службы в ЮНЕСКО он отвык от советского образа жизни. Он влюбляется в Цаплю, которая появляется то в виде птицы, то в виде фабричной девчонки с комбината «Червона Рута». Общественность осуждает Моногамова за связь с пернатым. Ружье, висящее на стене, по неумолимому закону драматургии убивает Цаплю, однако в финале она снова является к Моногамову с огромным яйцом, которое она для него снесла, и со словами «Русский, жди!» садится его высиживать.
Антуана Витеза я знаю, пожалуй, уже лет десять. Он входит в число парижских друзей русской культуры. Прекрасно знает русский язык, вот и «Чайка» идет сейчас в его переводе. В середине семидесятых он работал в московском Театре сатиры, ставил там мольеровский спектакль. В 1976 году по приезде в Париж я получил приятнейший сюрприз. Оказалось, что в рамках театра в пригороде Иври, где властвовал тогда Антуан Витез, группа молодых актеров под его эгидой поставила спектакль по моей повести «Затоваренная бочкотара». Нежданно-негаданно я приехал к самой премьере. Большую часть своей творческой жизни Витез принадлежал к Коммунистической партии Франции, хотя и был всегда из числа, так сказать, «трудно управляемых»: то к Роже Гароди примкнет в его требовании «реализма без берегов», то выступит с протестом против оккупации Чехословакии. В декабре 79-го года после очередного подвига марксистско-ленинской идеологии Витез формально вышел из компартии. К правым он, однако, не примкнул и полагает себя, насколько я понимаю, левым либералом, то есть тем, кем он, по сути дела, и был всю свою жизнь.
Таким импульсивным творческим натурам с резкими и легкими движениями вообще не место в каких-либо политических партиях, не говоря уже о самой передовой и основополагающей. Года полтора назад мы встретились с Антуаном в Нью-Йорке. К тому времени он уже прочел русский текст «Цапли», напечатанный в «Континенте», и французский текст, сделанный замечательной переводчицей Лили Дени. Разгуливая по Пятой авеню и по Бродвею, два европейских господина средних лет вели разговор о русских птицах. Велик город Нью-Йорк: можно только гадать, о чем говорили в тот вечер несколько миллионов других прохожих. Перед премьерой Витез высказался в театральном буклете.
Вот его соображения: Чайка прилетает с ТОГО БЕРЕГА, пишет он. Она — заречная. Ее появление разрушает будни, она сеет тревогу, беспокойство и ссору, и она это знает. Знает она также, что ее ждет беда, но повернуть обратно не может. Тот берег в «Цапле» — это Польша, Запад. Птица перелетает на этот раз не просто через реку, но через границу, и не через простую границу, но через советскую, «священную». Она зовет в ночи и появляется как аллегория свободы, эта нелепая новая модель «синей птицы». Герой искал ее в большом открытом мире; он знал, что она существует, но ни разу ее не встретил ни в Океании, ни на огромных материках, которые были для него не государственными, а географическими понятиями. Он встречает и узнает ее здесь, в закрытом мире, потому что она больше нужна именно здесь, на Востоке; здесь она необходима. Тяга к иноземному, прервемся еще раз, Пьер Паоло, Тартюф, Христос или Антихрист, Жар-птица, птица страсти, птица болот, женщина, ее беспардонные вторжения, презрение к границе, воинствующая невинность, катящаяся от неизвестного к беспредельному, о да, сиротская гордость!.. Русский автор жалеет свое творение, проливает слезы над ним. Да ведь это же Феникс нашего времени, бедная тяжелая птица, с которой герой встречается по колено в грязной воде, она из тех нынешних птиц, что почти уже позабыли искусство полета. Вдруг выясняется, что она всех притягивает к себе, что в чем-то сродни ангелам. Вдруг у всех раскрываются глаза, и ее встречают как праздник. Поэт принимает свое желание за реальность. Стало быть, добро возможно, будто мы в фильме Де Сики «Чудо в Милане»? Вдруг возникает мир, в котором простое слово «здравствуй», как выясняется, что-то значит.
Далее Антуан Витез вспоминает Хорошего человека из повести «Затоваренная бочкотара», который во снах приближается к героям, идя по траве. Все эти счастливые моменты, наивные в своей хитрости хеппи-энды. Свершается невероятное, осуществляются затаенные надежды, люди со вздохом неистового облегчения сбрасывают свои личины, приближаются к своей сути. В нашей пьесе, пишет Витез, женщина Степанида раздувается на глазах зрителей, у нее непомерно растут груди, ягодицы и ляжки, она превращается в символ могущества и власти, но по приближении Цапли вдруг вся эта жуткая спесь прокалывается, спадают огромные шары.
Когда-то в молодости Степанида была полна легкости и энтузиазма, но в зрелые годы стала неузнаваема: спит с паршивым типом и вещает прописные истины своей идеологии. И все-таки надежда как бы еще сохранилась даже для нее, может быть, она еще обретет свое истинное тело и душу после встречи с мокрой фабричной девчонкой. Каждое слово здесь, продолжает Витез, имеет два или три значения, но нужно ли подбирать ключи к каждому? Рассказчик переполнен эрудицией и опьянен лексиконом. Пожалуй, я воздержусь от этого, сохраню аллегорию ради нее самой. Здесь слишком много всего, необязательно знать все. Одно надо все же знать окончательно и выявить до предела, что это дань русского поэта Польше. Пьеса была написана в начале 1979 года, за полтора года до Гданьска. В принципе, она следует долгой традиции демократического мышления своей страны, внутри которой Герцен обрекает себя на самоссылку, а Чехов отправляется на Сахалин. Эта традиция не слишком-то весома на политических весах: там ее преследуют, здесь не знают, повсеместно предпочитается обскурантизм. Эту традицию легко и удобно отшвырнуть, а между тем она служит интернациональной реставрации мира на обломках революции. Ради этого мы должны полюбить нашего автора. Повод для нашего спектакля окрашен в нравственные и даже политические тона. Здесь, в Шайо, мы веруем в силу театрального свидетельства. Как бы ни был слаб театр, я знаю: нет лучшего места, чтобы оставить в памяти людей, расходящихся после спектакля, большое деревянное яйцо странной закордонной птицы.
Так заключает свое предпремьерное заявление Антуан Витез. Большие русские буквы на афише выглядят как элементы супрематического дизайна в стиле Казимира Малевича. Всякий, конечно, спрашивает: как вам вообще-то от соседства с Чеховым? Прохладно, конечно, слегка познабливает, да, впрочем, и без такого почтенного соседства перед премьерой автор всегда — не идеал спокойствия. Я вспоминаю свою первую премьеру — девятнадцать лет назад, 1965 год, московский театр «Современник», спектакль «Всегда в продаже». Порядочный тогда был мандраж! В московских театрах вообще предпремьерное состояние всегда сродни тропической малярии — всю труппу, включая и костюмерш, и гримеров, и машинистов сцены, бросает из жара в холод, театр на грани истерики. В «Шайо» обстановка хоть и нервная, но вполне деловая. Вообще существенно отличается от московской. Полностью опровергнут, например, непреложный закон Станиславского «Театр начинается с вешалки». Здесь вешалки вообще нет. Публика сваливает свои кацавейки или там норковые шубки прямо себе в ноги, там, где сидит. Дух театрального священнодействия, увы, давно испарился, говорит Витез. Какой-нибудь сноб может посреди действия спокойно собрать свои шмотки и свалить из зала. Словом, все волнуются, но не очень — успех так успех, провал так провал. Автор тоже волнуется умеренно — жизнь научила подходить к театру проще. Вчера было предпремьерное представление, то, что в Москве называется «папы-мамы», то есть прогон для родственников и друзей и для разной контрамарочной публики. Прошел он блестяще, однако это вовсе не значит, что сегодня успех повторится, говорит Витез. Сегодня в зале самая страшная публика: театральные критики, журналисты, люди искусства и снобы, множество «врагов нашего театра». Не удивляйтесь, если будет полное молчание или даже снобистское презрение, уходы из зала.
Между тем зал был полон, вся тысяча мест распределена и продана, и все пришли. В толпе мелькают лица русских писателей-эмигрантов: Владимир Максимов пришел с Татьяной, Александр Зиновьев с Ольгой, Александр Глейзер с Франсуаз, Анатолий Гладилин с Машей и Аллой, Виктор Некрасов с Галиной. Забегая вперед, скажу, что единственное кислое лицо, которое я заметил после окончания спектакля, принадлежало моему старому другу Вике Некрасову. Что поделаешь, не любит человек авангарда, модернизма, всяких, как он выражается, «этих штучек». Сильна у нашего чудесного Виктора Платоновича новомировская закваска шестидесятых годов, и никакая сила его из этих окопов Сталинграда не выбьет.
Пьесу «Цапля», краткое содержание которой я рассказал в предыдущей передаче, можно играть по-разному. В ее трактовке, на мой взгляд, существенную роль могло бы сыграть замечательно емкое русское выражение «как бы». Пьеса написана как бы в традициях русской «дачной драматургии», ее можно играть как бы всерьез, как бы в ряду со всеми этими «Варварами», «Дачниками», «Вишневыми садами», ну и, разумеется, с «Чайкой». Собственно говоря, я так себе и представлял этот спектакль — как бы всерьез, как бы в традициях, как бы клочок реализма посреди сюрреального мира. Витез, однако, пошел по другому пути. Первые же движения спектакля делают заявку на эксцентричность. Пылесос в руках Леши-сторожа описывает бешеные круги и ревет, как реактивный самолет. Сын Степаниды Власовны и Моногамова, чемпион по прыжкам в высоту Боб, проносится по сцене, делая кульбиты и сальто. Этот последний образ поначалу у меня вызвал сопротивление. Боб, по замыслу автора, член спортивной советской элиты, очень важный и снисходительный молодой человек с неторопливыми, самоуверенными движениями. Поэтому, с моей точки зрения, звучит сильнее одно неожиданное обстоятельство: оказывается, Боб не может прыгать, когда в его личной зоне кто-нибудь несчастен. Витез и молодой актер Жан-Клод легко рисуют Боба полнейшим неврастеником с самого начала. У него все дергается, все падает из рук, выворачиваются суставы, дрожит голова, он — заика и с приветом. Поначалу я сопротивлялся этой трактовке, но актер был настолько талантлив и неотразим и зал так живо реагировал на его появление, что я вскоре убедился в правомочности и такого решения.
Спектакль шел в быстром темпе, эксцентрические, на грани буффонады сцены сменялись иной раз, и, к счастью, не очень часто, лирически-пронзительными кусками. Декорации, сценография, костюмы, освещение, музыка и хореография прежде всего отличались тем качеством, которое больше всего ценю в искусстве, — настоящим, без дураков, профессионализмом. Мелькание огней из проходящего автобуса с польскими туристами, пролеты цапли, мираж героического города — все было сделано безукоризненно. Любопытно, что в глубине декораций была даже построена сама советская святыня, граница со шлагбаумом, и при приближении к ней игрушечного автобуса — сумерки, экзальтация, близость Польши, недодоенные крики трех сестер — возникало состояние какого-то тихого юмора. Кое-чего на сцене все-таки не хватало. Прежде всего, конечно, лозунгов. Французам почему-то не пришло в голову, что советский пансионат просто не может обойтись без какого-нибудь красивого и дерзкого лозунга вроде «Наша цель — коммунизм», без портрета Брежнева-Андропова или бюста Ленина, без, по крайней мере, стенгазеты «Здоровый отдых», тем более что в тексте пьесы как раз наличие такой стенгазеты и указывается.
Неизбежно, конечно, то, что в переводе и в переносе на европейскую сцену наша простая советская Цапля, естественно, теряет несколько перьев. Пока не доходит до дела, мы не понимаем, как много ассоциаций, аллюзий, намеков, интонаций, понятных только нам, советским выкормышам, нас окружает. Ну, вот, например, Леша-швейник, позавтракав в пансионате, снимает рубашку и, оставшись в маечке, отдыхает: играет на гармонике и поет «Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой». Одна лишь фраза этой песни напоминает нам о целой эпохе. Переведенная на французский и положенная на другую музыку, песня остается только забавным эпизодом. И все-таки много раз игра витезовской труппы поражала своей достоверностью. Особенно это относится к актеру Пьеру Вьялю, исполнявшему роль жуликоватого аппаратчика Кампанейца. Некоторый морозец пробегал по коже, когда он, широко раскрыв руки и улыбаясь масляными глазками, объяснял происходящее: «Объективная реальность, товарищи!» Режиссер Волкер Шлондорф после спектакля сказал мне: этот Вьяль играет так, как будто он сам был когда-то аппаратчиком. В аппарате Пьер Вьяль, впрочем, никогда не состоял, однако среду эту и в самом деле знает изнутри, потому что чуть ли не всю сознательную жизнь был рядовым членом компартии, да еще и настоящим энтузиастом, участником Сопротивления, борцом против войны в Алжире, за что даже в тюрьме отсидел. Только лишь несколько лет назад, окончательно во всем разобравшись, Вьяль покинул боевые ряды.
Неумолимую Степаниду Власовну играет актриса Эдит Скоб. Это она, тоненькая, изящная женщина, на глазах у почтеннейшей публики начинает раздуваться шарами грудей и ягодиц, превращаясь в символ всеподавляющей власти. Однажды после репетиции она пригласила меня зайти в свою гримуборную и показала портрет царского генерала в пышных эполетах. Это мой прапрадед, генерал Скобельцын, сказала она, отсюда и сценическое имя Скоб, а по матери мы — Нарышкины. Вам это имя что-нибудь говорит? Да, говорит, сказал я. Увы, по-русски я совсем ни бум-бум, смущенно засмеялась Эдит. Странная какая-то история, Эдит, сказал я, вы, потомок Скобельцыных и Нарышкиных, играете этот символ. Не правда ли? — улыбнулась она…
И вот наша польско-русско-французская Цапля (ее, кстати, играет польская актриса Богуслава Шуберт) выносит на сцену свое деревянное яйцо, садится и накрывает его своими крыльями. Все погружается в темноту, а потом в зале зажигается свет. Премьерная публика оказалась щедрой на аплодисменты и даже на крики «браво». В театре воцарилась счастливая атмосфера успеха. Стоя на сцене и кланяясь — специально для этого дела смокинг купил, — толкаясь потом в возбужденной толпе после премьерного приема, я вспоминал зиму 79-го года, свой переделкинский дом, в котором писал «Цаплю», огромные сугробы и сосульки, среди которых мы чувствовали себя как в ловушке. Я был уже тогда выброшен из всех легальных институтов советской литературы и искусства, и, разумеется, возможность постановки «Цапли» на русской сцене равнялась нулю. Мало было надежд и на западный театр: интерес к современному русскому театру на Западе ничтожный. Словом, пьеса писалась в идеальных условиях — для собственного удовольствия, для поддержания духа, так сказать. Куски читал друзьям из альманаха «Метрополь», хохотали нервным смехом. И вот спустя пять лет — премьера в «Шайо»… Среди разных приятных эмоций, связанных с премьерой, есть одна, пожалуй, самая главная: здорово все-таки быть из той России, которую все еще любят люди европейского искусства.
ВОЛГА ВПАДАЕТ В БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
Путешествуя этим летом по Европе на автомобиле, мы неожиданно оказались в Советском Союзе. Вот уж, право, вспомнишь зощенковское «втравили меня в поездочку»: ни с того ни с сего вдруг снова оказаться в потных объятиях социалистической родины! А ведь начиналось путешествие вполне рутинным европейским образом. Однако по порядку, как принято говорить в подобного рода путевых заметках. В самом начале июля мы перелетели Атлантику и прибыли из душного Вашингтона в прохладный Париж. Приезд в этот город всегда волнует, даже если ты передвигаешься в одной кроссовке на правой ноге, имея левую конечность в гипсе и опираясь на алюминиевый костыль, а именно так я выглядел в день прилета, потому что за неделю до каникул умудрился во время бега зверски порвать сухожилия на левой стопе. Парижские друзья-писатели, конечно, мне не поверили и сказали, что я это все придумал только лишь для того, чтобы выделяться из их среды. Не обращайте на него внимания, говорили они, он хромает только лишь для того, чтобы выделиться из нашей среды. С костылем, понимаете ли, на Елисейских Полях выступает! Всякий так может, не только ты один. Желание выделиться из окружающей среды, если оно должным образом разоблачено, всегда достигает результатов, то есть выделяет из окружающей среды, но даже и без этого ковыляющий с перекошенной физиономией господин выделяется из парижской среды, потому что она в основном прет, жарит, «дает шороху» — город был переполнен туристами. Обычно в Париже я отправляюсь в многочасовые прогулки с левого берега на правый и обратно. Бесцельное шляние по этому городу оставляет всегда ложное впечатление «не зря потраченного времени». Теперь мне ничего не оставалось, как сидеть в квартире на авеню Фош и писать книгу об Америке. Лучшего, в самом деле, места не найдешь для завершения книги об Америке, чем Париж. Впрочем, здесь и о России писать неплохо. По соседству, на авеню Клебер, знакомый американец как раз этим делом и занимался.
Иногда мы встречались в кафе на площади Виктор Гюго и делились опытом. Не стремись к совершенству, Дэйв, говорил я ему, а то никогда не закончишь. Того же я и тебе желаю, Бэз, говорил мне американец. Тот, чьим именем названа эта площадь, никогда не стремился к совершенству и написал немало томов. Плодотворно поговорив таким образом, мы расходились в разные стороны. Я хромал к себе на Фош, он топал на свой Клебер.
Несколько слов здесь надо сказать о нашем щенке Ушике; он вполне этого заслужил, перелетев океан в специальном домике, который называется «небесная конура». Пес впервые за границей, если не считать прошлогодней поездки в Канаду. Он и ведет себя как человек, впервые попавший в Париж. Запахи этого города кружат ему голову, он сует свой нос буквально в каждую лавку и с наслаждением проводит время в кафе, откуда его не только не выгоняют, но наоборот, оказывают знаки внимания в виде мисочки с водой. В Париже хорошо не только людям, но и собакам.
В связи с ограниченностью движений автора книга неплохо подвигалась, но потом вдруг что-то забуксовала. В чем дело? Оказывается, нога моя стала понемногу подживать, и сфера прогулок непроизвольно расширилась, сузив соответственно сферу работы. Однажды мы с Ушиком дошли даже до бульвара Ланн и здесь остановились в полном изумлении перед зданием совершенно сногсшибательной архитектуры. Это было новое советское посольство. Мне о нем уже рассказывали местные люди, но я как-то не ожидал, что оно столь внезапно передо мной и моей собакой предстанет, в такой же гармонии со старой парижской улицей, в какой оказался бы сорокатонный самосвал «БелАЗ» среди фиакров прустовских времен. Это было даже и не здание, а гигантский бетонный блок, какая-то ядерная фортеция, символ тоталитарной антиутопии. Маленькие окошечки едва угадывались среди могучих железобетонных панелей, вся конструкция вызывала ощущение немыслимой тяжести, незыблемости и неумолимости. За окошечками не угадывалось никакой жизни. Фасад украшала скульптурная группа, достойная нескольких дополнительных слов. Что-то в этой скульптуре было даже конструктивистско-кубистическое, однако в полном соответствии с современными требованиями могущества. Изображала она кулак и в кулаке — факел. Ошеломленные, мы с Ушиком смотрели на угловатый кулачище величиной с бульдозер, на коническую колонну факела и на пламя, которое — вообразите, господа! — бетонным своим узором изображало «голубя мира». Мощь и стремление к миру — так, видимо, полагали творцы идею своего произведения; у нас же в этот момент появилась мысль, что, если уж чем и пугать западных либералов, так вот именно образом голубки в роли огня.
Однажды я отодвинул от себя кучу бумаги и сказал «уф» — работа была закончена. А ведь не истек еще и первый месяц каникул. Нет-нет, растяжение и разрыв связок стопы и в самом деле способствуют творческому процессу. Решили отправиться в путешествие. Куда? Ну, давайте поедем в Данию; никто из троих членов семьи пока что там не был, а между тем страна на расстоянии выглядит довольно миловидно — Ганс Христиан Андерсен, замок Эльсинор, парк Тиволи, копенгагенская Русалка, гамлеты, офелии, ну, что там еще, ну, конечно же, пиво «Туборг», ну, разумеется, селедка. Как поедем — поездом, самолетом, машиной? Ушик нервно зевнул и вильнул коротким хвостиком. — предпочел бы на машине, больше обозревается окрестностей. Папаша Карло, кряхтя, надел второй ботинок и, не взглянув на алюминиевый костыль, отправился в контору наемных автомобилей компании «Авис». Вернулся он верхом на замечательном изделии французских умельцев, основательном авто «Рено-25».
Европа, милостивые государи, только на карте выглядит маленькой. Когда едешь по ней на машине, во все стороны вокруг тебя простираются огромнейшие просторы, пригодные, как в старых советских песнях поется, и для труда, и для обороны. Мы выехали из Парижа, держа курс на восток, по той дороге, по которой, если не сворачивать, можно приехать и в Германию, и в самую демократическую Германскую Демократическую, и в Польшу, и в СССР. Часа через три пути мы оказались в царстве шампанского, а именно в провинции Шампань с центром в городе Реймс. Там мы остановились на часок, чтобы посетить знаменитый собор, один из витражей которого расписан Шагалом. Витебские краски мастера, надо сказать, поразительно звучат среди средневековых мраморных кружев. Шел дождь, свистел ветер, собор упорно сопротивлялся, как он это делал уже столько веков даже и под свинцовыми осадками. Вокруг хлопали пробки. Вкуснее шампанского, чем в провинции Шампань, не найдешь. Вино всегда немного огорчается, когда отъезжает от родных лоз. Вскоре мы пересекли германскую границу. На наши паспорта с визами, как водится, никто и не взглянул. Стоило ли околачивать пороги в консульстве? Приближались к городу Кайзерслаутерну, крутили радио.
Американская военная станция передавала вперемежку новости, рекламу и рок-н-ролл. На одной волне вдруг сладкий голосок запел «ля-ля-ля-ля». Это «ля-ля» продолжалось чуть ли не три минуты, и мне вдруг показалось, что это они — соотечественники. Не может быть, сказала жена, но, кажется, это советские поют. Никто так не поет «ля-ля-ля-ля», как они. Бесконечное «ля-ля-ля-ля» тут оборвалось, и возникла весьма продолжительная пауза. Это молчание в эфире тоже показалось очень знакомым. На Западе ни одна радиостанция не позволила бы себе роскоши молчать столь продолжительную минуту, обязательно всунула бы в паузу рекламу непромокаемых подштанников для младенцев. И наконец… как Леонид Утесов когда-то пел «нет, не солгали предчувствия мне»… в машине с удивительной отчетливостью прозвучало советское наречие русского языка. Задушевно и с огромнейшей теплотою советская дикторша сказала: «Продолжаем концерт по заявкам…»
В Европе, особенно в Германии, это не в диковинку, но мы, жители Америки, после пяти лет эмиграции впервые услышали советское радиовещание. Это была радиостанция «Волга», обслуживающая группу советских войск в ГДР, то есть пятьсот тысяч солдат, поселения офицерских семей и соответствующее количество пушек, танков и ракет. В основном эта радиостанция — очевидно, очень сильная, прием был отличным на всем протяжении нашего пути до Копенгагена — передает ретрансляцию центрального радио из Москвы, однако иногда включается и их собственная программа, перлом которой, безусловно, являются политические комментарии подполковника Овсянникова под рубрикой «В мире капитала».
Мы оставили наше радио стоять на этой советской волне и временами на протяжении последующих двух дней простым толчком клавиши как бы возвращались в прошлое. Возникла иллюзия, что ты перенесся из «мира капитала» в «мир агитпропа», что гладкий германский автобан вот-вот оборвется и ты поползешь по опасной, грубо наляпанной и узкой полосе асфальта с бесконечной чередой встречных порожних грузовиков, как когда-то ездил по матушке России в «поисках жанра», и что торговые рекламы в отдалении вдруг сменятся на унылые лозунги обанкротившейся идеологии.
Радиостанция «Волга» текла вдоль всего нашего пути, направляясь к Балтийскому морю. Вернемся, однако, к концерту по заявкам. Должен сказать, что я всегда, в отличие от многих моих снобствующих друзей, был поклонником советской эстрады, хотя и кощунственно извлекал из нее порой материал для того, что на официальном языке называется «очернением советской действительности», а на снобский манер именуется ридикюлизацией, то есть высмеиванием. На самом деле у меня не было никогда ни стремления очернить эту восхитительно серую действительность, ни высмеять ее, а просто лишь хотелось подметить смешное и глупое, слащавое и жеманное, придать характерное движение прозаической фразе. Так или иначе, я старался не отставать от советских поп-новинок и сейчас, после пятилетнего отсутствия, жадно прислушивался — что новенького споют? Увы, номер шел за номером — и все старье. Много почему-то было про птиц. Мелодичный голос вопрошал: «Вы слыхали, как поют дрозды, нет, не те дрозды, не полевые…» Как будто слушатели с самого начала априорно настаивали именно на тех дроздах, на полевых. Потом, конечно, спели про лебедей: «Где же ты, моя любимая, лебедь вопрошал…» Это лебединое дело вызвало у нас более живую реакцию. Вспомнилось проживание в сочинской гостинице «Приморская» зимой 1979 года. Окна нашего номера были близки к знаменитой полукруглой террасе гостиничного ресторана. После одиннадцати каждый вечер, когда градус «культурного досуга» достигал пика, весь ресторан медвежьим хором вопрошал: «Где же ты, моя любимая, отзовись скорей!» Терпкий запах ностальгии, смесь самшита и цыпленка табака… Этим орнитология не завершилась. Пошли «Соловьиные рощи» композитора Давида Тухманова. Просьба не путать с «Соловьиным садом» Блока. Вряд ли Александр Александрович решился бы на столь дерзновенный извив русского языка: «Соловей российский, славный птах»…
Ведь «птах» все-таки в его время был родительным падежом множественного числа. Все же к финалу «концерта по заявкам» прозвучала и новинка, которую мы прослушали не без определенного возбуждения, потому что сразу догадались: исполняется любимый нынче нашим народом «хит». Это была песня Владимира Мигули «Трава у дома» в исполнении группы «Земляне». Мы не ошиблись, между прочим. На протяжении нашего пути радио «Волга» передавало «Траву у дома» по крайней мере три раза. Песня исполнялась в устоявшихся уже традициях «советского рока» и была неплохо инструментована, хотя и сопровождалась опять некоторой словесной халтурой. Словам, очевидно, придается все меньше значения в сфере популярной музыки. Вот они поют:
И снится нам(то есть каким-то будущим звездоплавателям)
не рокот космодрома, Не эта ледяная синева, А снится нам трава, трава у дома, Зеленая, зеленая трава…Редактура фирмы «Мелодия» могла бы подсказать автору текста, что звуковой рокот не может сниться рядом с визуальным образом ледяной синевы, его как-то надо было бы выделить особо. Впрочем, это мелочи, у песни «Трава у дома» есть хотя бы одно достоинство — она лишена приторной слащавости всего остального концерта по заявкам.
В заключение прозвучал знакомый, как касторка, детский хор с песней «До чего же хорошо кругом», которую, безусловно, надо исполнять в качестве музыкального эпиграфа перед каждым сообщением «По родной стране», о которых мы будем держать речь ниже.
Тем временем мы прибыли в городок Кайзерслаутерн и немножко там заблудились. Чтобы спросить дорогу, мы остановились на маленькой площади, которая была не так уж чтобы слишком оживлена местными жителями, а именно только один негр разъезжал на велосипеде вокруг афишной тумбы, да за столиком в угловом кафе сидел вьетнамец. Наконец появились два молодых блондина, вот у них надо спросить. «Энтшульдиген битте вуд ю плиз мэ монтрэ де шэмэн аут оф таун порфабор», — обратился я к молодым людям, употребив языки доброй половины стран Северо-Атлантического оборонительного содружества. Парни остановились, растерянно раскрыв рты, а потом чего-то залопотали не по-нашему. Из натовских наречий мелькнуло только что-то вроде «нур цвай монат», а потом опять пошли сплошные «пшеки». Поляки, что ли? Иа-иа, радостно закивали ребята, и тогда мы перешли на систему коммуникаций Варшавского блока. Оказалось, что ребята только два месяца назад драпанули из Польши и на местной фене еще не ботают. Тут подошел вьетнамец и все очень толково объяснил: он как раз оказался местным жителем, потому что драпанул из Вьетнама уже восемь лет назад.
Вот одно из преимуществ автомобильных передвижений по Европе — маленькие городки, в любой из которых ты можешь свернуть с автострады, погулять там и даже переночевать. Во многих из них еще сохранилась патриархальность, мирный устойчивый быт, милые маленькие события. Вот, например, в Геттингене на главной площади вокруг фонтана сидят старики, рядом в кафе средний возраст прочищается пивом, юность страны колеблется на «корсо»; двенадцатилетнего периода великих нацистских деяний как и не бывало. И в самом деле, всего двенадцать ведь, милостивые государи, всего двенадцать. Хоть и жуткая дюжина, а все-таки не так длинна…
Подъезжая к Геттингену, неизбежно вспоминаешь Пушкина…
В свою деревню в ту же пору Помещик новый прискакал. И столь же строгому разбору В соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленский, С душою прямо геттингенской, Красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной Привез учености плоды: Вольнолюбивые мечты, Дух пылкий и довольно странный, Всегда восторженную речь И кудри черные до плеч.В центре Геттингена я остановил одного такого, с кудрями пегими до плеч, и на языке Северо-Атлантической оборонительной организации попросил его показать нам какой-нибудь отель. Нынешние Ленские здесь выглядят на первый взгляд довольно хипповато, но на поверку оказываются любезными молодыми людьми.
Въезжая в подземный паркинг под отельчиком «Цум кирхе», мы все еще слушали радио «Волга». Передавались самые свежие новости оставленной родины: «…На трассе газопровода укладываются трубы большого диаметра… коллектив домны имени Ленина поставил агрегат на горячее опробование… директор завода „Красный автопогрузчик“ рассказал нашему корреспонденту о выпуске партии новых автопогрузчиков. Мы попросили товарища Грузчикова поподробнее остановиться на гидромеханических передачах…» Все меняется под луной ежедневно и ежечасно, только лишь сводка новостей Советского Союза остается неизменной. Своды паркинга заэкранировали голос родины. Выключая мотор, мы подумали, что завтра нас ждет новый путь и новые подарки радиостанции «Волга».
«Волга» заработала немедленно, как только мы выехали из-под экранизирующего свода подземного паркинга, потому что мы ее вчера просто забыли выключить, вот она и включилась теперь одновременно с мотором «Рено-25». Что-то в этом все-таки было особенное — впервые после пяти лет начинать день с русского радиовещания… «На полях страны полным ходом разворачивается битва за урожай… уборку ранних зерновых одним из первых завершил коллектив совхоза „Первомайский“… хлеборобы Ставрополья проводят уборку урожая методом прямого комбайнирования… в Вологодской области по всему фронту идет широкая косовица трав. С каждым днем все больше коллективов и отдельных тружеников включаются в социалистическое соревнование. Стремясь достойно ответить на призывы Апрельского (1985) пленума ЦК КПСС, побеждают многие…»
В этом месте мне захотелось воскликнуть: «Позвольте, что это за оборот? Побеждают многие, но почему не все? Это ведь вам не футбол, дорогие товарищи, тут проигравших не бывает!» — воскликнуть, однако, не удалось, потому что бурный поток самых последних и самых горячих советских новостей увлек нас почти немедленно к вопросам «закладки зеленой массы». Отвыкшее от советизмов и тронутое уже, без сомнения, буржуазным декадансом сознание, услышав о «закладке зеленой массы», немедленно вызвало в воображении нечто двусмысленное. Закладка зеленой массы, милостивые государи! Экие странности! Откуда она проистекает, эта мистическая зеленая масса, нет ли тут намека на метафизику ислама, на марихуанные миражи, или просто-напросто это появилась на советских просторах еще одна родственница рязанской «затоваренной бочкотары»? Испорченное западной жизнью воображение продолжало предполагать за «зеленой массой» вторые смыслы и предлагать новые метафоры, пока вдруг не пришло в голову соображение, что все эти так называемые новости без новостей, не изменяющаяся десятилетиями продукция советских «Последних известий» есть не что иное, как вот именно «закладка зеленой массы», ежедневная заготовка словесного силоса для идеологического жевательного процесса.
В самом деле, ведь не обман же это, не ложь! Ну, скажем мягче, не полный же обман, не стопроцентно же лгут новости Всесоюзного радио. Ведь идет же там и в самом деле уборка методом прямого комбайнирования (а прежде, стало быть, шла методом косвенного комбайнирования, или это совсем не обязательно?), ведь проходит же широкая косовица трав (косовица трав, впрочем, об эту пору везде проходит, даже вон и в Германии, хоть битвы за урожай не видать, а поля скошены, но, как видно, везде, кроме СССР, косовица идет обыкновенная, а не широкая, поэтому, видно, об этом и не сообщают западные средства массовой информации), словом — не обман народа является первостепенной целью советской системы информации (это, очевидно, уже в прошлом), а заготовка для него ежедневной «зеленой массы», словесного силоса для жвачки миллионных масс.
Предаваясь этим не очень-то вдохновляющим размышлениям, мы ехали на север, к датско-германской границе. Окружающая действительность совершенно не соответствовала данным радиостанции «Волга», то есть той действительности, которую мы оставили уже пять лет назад и которая сейчас нам представлялась не совсем реальной. Особенно остро забываешь существование той действительности во время заправки бензина или приема пищи в придорожном германском ресторане. В Германии, то есть в Западной Германии, в этой, стало быть, недемократической части страны — ведь вторая, меньшая, часть этой страны назвала себя Германской Демократической Республикой, очевидно, для того, чтобы отличаться демократизмом от первой, большей части, — я бывал уже не раз, но впервые так пересекал ее с юга на север в автомобиле, имея еще в виду и обратный путь на юг до швейцарской границы. Поражают дивные пространства возвышенности Гарц, что лежит между Франкфуртом и Ганновером. Реальный лик страны, к счастью, не соответствует информационному образу Западной Германии как супериндустриального монолита, переплетенного лентами бетона. Перед нами одна за другой открывались свободные дали, по красоте не уступающие и огромным просторам Франции. Разные оттенки желтого, зеленого и коричневого подчеркивают мягкие склоны холмов, в долинах проплывают крошечные городки с черепичными крышами, с неизменной кирхой в центре; в каждом из таких городков хочется пожить недельку и написать там рассказ.
Мы едем со средней скоростью сто километров в час, то есть на спидометре у нас не менее ста двадцати, а мимо нас, обгоняя, словно стоячих, проходят, свистя совсем уже по-авиационному, «мерседесы» и «порши» местного населения. Немцы мчатся, как одержимые, по своим автобанам: здесь, в отличие от Америки с ее железными пятьюдесятью пятью милями, совсем нет ограничений скорости. Мелькает где-то щиток — поворот по направлению к Марбургу Марбург! Так ведь это же Пастернак, это просто-напросто один из его ранних стихов, так и названный — Марбург.
В тот день всю тебя от гребенок до ног, Как трагик в провинции драму Шекспирову, Носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал… ………………………………………………………… Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм. Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. И все это помнит и тянется к ним. Все живо! И все это тоже — подобья.Германия все-таки огромным и разлохмаченным от частого употребления томом лежит на полке русской культуры. Где ни откроешь, повсюду возникают какие-то наши исторические или литературные ассоциации.
Со старыми друзьями Натальей и Георгием Владимовыми — они сейчас живут неподалеку от Франкфурта в маленьком городке, одном из тех, где хочется написать рассказ, — поехали мы в Висбаден. Вот вам Английский парк, милостивые государи, вот вам казино, да-да, это все вот именно то самое, где прогуливались и профершпиливались герои романа «Игрок», где и сам Федор Михайлович Д., одержимый идеей огромного денежного выигрыша, провел немало времени, которое можно было бы с большей пользой употребить для редактирования, скажем, литературного журнала. Впрочем, нам ли уж с занудством партийных моралистов упрекать классика.
В июле, будучи в Лондоне, я узнал из телепередачи, что умер Генрих Белль. Когда человек постоянно и тяжко болеет, как-то привыкаешь к этому и не думаешь, что он в конце концов от этих болезней умрет. Было очень горько. Блуждая по Челси, я старался вспомнить все, что связано было с Беллем, а связано с ним было немало. Первые его повести «Хлеб ранних лет» и «И не сказал ни единого слова», а также сборник рассказов «Путник, если ты придешь в Спа…» были переведены у нас на заре нашего «ренессанса», в 1956 году. На нас, молодых литераторов, они произвели сильнейшее впечатление — вот она, новая проза послевоенной Европы! — и оказали немалое влияние. Потом один за другим стали появляться его романы, и наконец приехал и он сам, грустный писатель в поношенной хорошей одежде; детские, вечно озадаченные глаза на пожилом хорошем лице. Официальные писатели и аппаратчики в Москве пытались с ним заигрывать, лепить очередного «прогрессивного деятеля западной культуры», но он стал другом неофициальной либеральной Москвы и не раз на протяжении долгих лет выступал в защиту людей смелых, придавленных брюхом советской идеологии.
Мою мать Евгению Гинзбург он очень любил и называл Женей. Осенью 1976 года мы гостили у него в Кельне и проводили долгие часы в беседах и спорах. Белль очень остро чувствовал свою причастность к европейской культуре, он и был со своим христианско-либеральным мировоззрением ее неотъемлемой частью. Мысль об опасности, нависшей над Европой, иногда лишала его равновесия и толкала к довольно малопривлекательному пораженчеству. Однажды он даже высказал мысль о том, что ради сохранения накопленных в Европе культурных сокровищ нужно прекратить сопротивление. Эта идея, в принципе, очень опасна, потому что она, с одной стороны, вызывает соблазн двинуться, а с другой — не принимает в расчет очень существенной мощи объединенной Европы. Сам Белль нередко совершал яркие сопротивленческие поступки. Чего стоит; например, его демонстративный приезд в Москву для поддержки альманаха «Метрополь».
В программе радиостанции «Волга» для советских воинов, «выполняющих свой интернациональный долг за рубежом», меня поразила одна фраза. Передавали письмо родственников какому-то военнослужащему «ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан». Тем же самым немыслимо задушевным голосом (кажется, на этот раз говорила даже и не дикторша, а жена воина: стиль этой задушевности распространяется все шире) сообщались семейные дела: Юрочка в пионерлагере, бабушка здорова, Светлана сдает экзамены в педагогический институт — в конце же последовало пожелание «успехов в ратном труде». Вот так так, значит «ратный труд» на просторах «нашей родной Афганщины» стал уже как бы элементом семейной жизни. Колониальная война за южными границами входит в быт, рождает не только дикие литературные произведения вроде «романешти» Александра Проханова, но и элементы семейных отношений. Вот так так…
Между прочим, слово «так» по-датски означает «спасибо», то есть если вы в ресторане просматриваете меню и глубокомысленно повторяете «так-так-так», официант, ожидающий вашего заказа, пребывает в полной уверенности, что вы его заранее благодарите. Проезжая через страну, в которой мы не знали еще даже и этого единственного, приобретенного позднее, слова, мы временами все продолжали нажимать клавишу радио, и на нас снова и снова, как бы вместе с восточным ветром, через просторы Балтики налетали волны того, что можно было, правда, с большой долей условности, назвать русским языком. Это был именно условный русский язык, потому что большей деструкции, чем в лексике советских средств массовой информации, наш язык не подвергался даже и в стихах футуристов, писавших «дыр бул щир». Среди блоков идеологической жвачки теряются и простые логические концы. Что означает, например, понятие «ограниченный контингент»? Может ли хоть какой-нибудь контингент, пусть хоть и миллиардный, быть «неограниченным»? Подразумевается тут, конечно, что он, этот контингент, пока еще маленький, но может быть увеличен в любую минуту; тогда почему бы его так и не называть — «маленький контингент, готовый стать большим в любую минуту». Непотребное отношение к языку постоянно приводит к возникновению логических уродств. Если бы советские пропагандисты лучше чувствовали язык, некоторые юбилеи они бы предпочли отмечать в скромном молчании. Радиостанция «Волга» между тем вовсю готовила своих радиослушателей к празднованию сорокалетней годовщины группы советских войск в Германии, что наводило на мысль, что когда-нибудь потомки будут отмечать столетний юбилей ограниченного контингента советских войск в Демократической Республике Афганистан.
Вырвемся, однако, из мира аляповатых символов и вернемся в маленькую страну Данию, которая является, между прочим, старейшим действующим королевством Европы. Тоже символика, скажете вы, однако, согласитесь, не лишенная гармонии и даже благородства. Когда нацистские оккупанты приказали всему еврейскому населению Дании надеть желтые звезды, первым, кто сделал это, был король этой арийской страны. Кажется, не было еще в современном мире лучшего понимания сути Божьего помазания.
Первый датский ночлег мы сделали в городе Орхус. Бесконечный балтийский закат. Силуэты готических шпилей. Высокие девушки с прозрачными глазами. На главной площади стояли тысячелетний собор и двухсотлетний театр. Даже и не упоминая памятника какому-то великолепному викингу, можно сказать, что это было самое подходящее место для постановки балтийской пьесы русского автора. От заката в сторону Риги, Таллина и Вильнюса летела нелепая птица с длинными ногами, оттянутыми назад с претензией на стремительность.
На следующее утро мы выехали из Орхуса в Копенгаген, то есть с полуострова Ютландия мы переехали на остров Зееландия. Любая поездка по Дании — это слегка морское путешествие. Нет ни одного местечка здесь, отдаленного от моря более чем на пятьдесят километров. Масса островов, связанных дамбами и паромами. Куда ни бросишь взгляд, везде увидишь парус или трубу парохода. Вспомнив гоголевскую интонацию, воскликнем здесь: какой же русский, проезжая по Дании, не завернет в город Ганса Христиана Андерсена, в знаменитый Оденсе! Следует сказать, что зрительный образ Дании при близком рассмотрении весьма отличался от того, что воображалось. Датские старые города воображались белыми с черными балками и наличниками, на деле же они в основном выглядят красноватыми от черепичных крыш до кирпичных стен, с редкими вкраплениями желтой штукатурки. Стараясь не добавлять ничего к туристическим буклетам, остановимся лишь на одной чугунной статуе, созерцание которой погрузило нас хоть и в мимолетные, но все же горестные раздумья «о судьбах нашей родины», как говаривал когда-то добровольный эмигрант Иван Сергеевич Тургенев. Скульптура изображала пьяненького толстяка в горизонтальном положении на бочке, опорожненной той самой лишней — тридцатой или сороковой? — кружкой пива. На всех берегах Балтийского моря существует определенный интерес к алкоголю, и наш восточный визави Ленинград — тоже не исключение. В связи с мерами, принятыми партией по борьбе с алкоголизмом, недурно было бы и там поставить скульптурную группу, изображающую знаменитый триумвират, только что разделивший на троих бутылочку бормотухи. Это слово «бормотуха», которое мне недавно удалось перевести на английский язык как murmur booze, странным образом окрашивает уже несколько десятилетий советской жизни, и как иначе, если не «идеологической бормотухой», назовешь программы радиостанции «Волга»?
Через несколько часов пути мы прибыли в великий город Копенгаген, который иногда называют «Северным Парижем». Говоря так, очевидно, имеют в виду веселый, подкрученный ритм жизни этого города; внешнее сходство с Парижем не так уж часто тут обнаруживается. Скорее напрашивается «Западный Петербург», особенно на набережных каналов, во многих местах вызывающих чуть ли не иллюзию Мойки или Фонтанки. Неподалеку от королевского дворца, у стен которого сдержанно позевывают гвардейцы в медвежьих шапках, мы нашли гостиницу, которая в свою очередь, хоть и не без труда, обнаружила в своем компьютере наши имена. Из окон этого отеля «Адмирал», переделанного из старого пакгауза в некоторое подобие замка Эльсинор с кондиционированным воздухом, открывался вид на Копенгагенскую гавань, в центре которой стояла королевская яхта. Мимо этого корабля весьма благородных очертаний проходили огромные паромы курсом на Осло и Гетеборг и оттуда, а в отдалении сдержанно посвечивали орудийные башни и ракеты королевского военного флота, небольшого, но серьезного.
Большое количество датских мужчин передвигается вроде бы при помощи бутылочки пива в правой руке. Иногда на берегу канала можно видеть пару парней, сидящих с этими бутылочками на мачтах рыбацких шхун и распевающих воинственные песни Северо-Атлантической оборонительной организации. Вглядитесь — ну, конечно, Розенкранц и Гильденстерн опять накирялись! Всюду, впрочем, слышишь «так-так-так», то есть «спасибо-спасибо-спасибо»; народ даже в приподнятом состоянии неизбежно вежлив. Женщины тоже пьют пиво, но тем не менее поражают стройностью и прозрачностью глаз. Налицо большая любовь к четвероногому другу. Одна пожилая дама остановилась, чтобы поцеловать нашего Ушика в нос, а узнав, что он американец, пришла в экстаз. По-английски говорит сто процентов населения, по-русски — не все. В центре Копенгагена обширное пространство отведено для непрерывного карнавала. Автомобили сюда не допускаются, и толпы туристов и местных людей блуждают среди реставрированных домов семнадцатого века, сидят в кафе возле старинных фонтанов, слушая бродячих музыкантов и наблюдая вольтижировку на одноколесных велосипедах, пожирание огня, разрывание цепей, заклинание змей, жонглирование чем попало.
В этих кварталах мы однажды набрели на русский ресторан под почти неизбежным названием «Калинка». Два официанта: один похожий на царя Николая, второй — на бывшего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Сергея Павлова — принесли нам пельменей и жидкого русского. По соседству ужинала пожилая пара копенгагенских евреев. Разговорившись, мы узнали, что они провели пятнадцать лет в Сибири, будучи высланными в эти вольготные края из Вильнюса накануне нацистского вторжения. Эта высылка, конечно, спасла нам жизнь, сказали они нам, иначе мы бы оказались в Освенциме. Мы очень намучились в Сибири, но русские там нам всегда помогали. Русские — замечательный народ!..
Мы ехали из Дании обратно во Францию. Радиостанция «Волга» текла теперь в обратном направлении, к Средиземному морю. Русские, конечно, замечательный народ, но что они делают со своим языком на всех этих радиопрограммах: «портреты коммунистов», «эстафета трудовых будней», «на полях страны», «дневник пятилетки», «в мире капитала», почему они не устают пережевывать семидесятилетнюю жвачку, почему они так врут про Америку и Европу, почему они так слащавы или высокопарны, когда говорят о себе, и неужели неизбежны эта жеманно-наглая поза и блудливо-угрожающий взгляд? Иногда думаешь, это не русские говорят, наш народ не имеет к ним никакого отношения; чаще, однако, с тоской признаешь — это мы все, вещатели бормотухи, забормотушенные или до полнейшего опупения или до полной безнадеги. Деформация языка подобна развалу на клеточном уровне: порой кажется, что процесс уже необратим… В Эльзасе сигналы радио «Волга» стали увядать. Свидание с родиной закончилось.
2004
Как теперь стало ясно, празднование столетнего юбилея ограниченного контингента советских войск в Афганистане не состоится.
ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ ЛИЦА
В последнее время западные журналисты и вся общественность ищут перемен в советском руководстве, в советском обществе вообще. Чего, например, тут только не пишут об Андропове. Брежневских костюмов, скажем, никто не замечал. Партийный пинжак, отягощенный орденами, штаны с любимой мотней не были объектом ни насмешки, ни восхищения, они сами собой разумелись. Андропову же стоит появиться на трибуне, как журнал «Тайм» тут же фиксирует — он был в хорошо сшитом темно-синем костюме и хорошо подобранном коричневом галстуке. Чудовищной величины ленинский бюст на задах кремлевской сцены, изобилие застылых знамен меркнут перед этой изысканной элегантностью. Сразу же делаются далеко идущие выводы: прозападные вкусы (говорят, что книжки-де по-английски читает, джазом не брезгует) и вообще, господа, внешность цивилизованного человека. То, что западная пресса обращает внимание на всякие внешние приметы, мне кажется вполне оправданным. Стиль — очень чуткий показатель нравственности, а всем так хочется изменений в России; в принципе, западное общество мечтает увидеть в нашей стране не угрюмого и коварного марксистско-ленинского медведя, сосущего лапу в вонючей берлоге, а члена современной семьи народов, которые могут ссориться и даже иной раз махать кулаками, но живут в современном мире и говорят на человеческом языке.
После нескольких лет жизни на Западе можно сказать, что люди здесь к русским относятся хорошо и желают им только одного — чтобы большевики наконец-то дали им волю. Однако дадут ли? В этом вся и загвоздка. Изменив что-то, меняешься и сам, а этого они боятся. Конечно, демократия выгоднее для страны, но выгоднее ли она для нас, товарищи? Трудно понять, что воля выгоднее даже для самых высокопоставленных чекистов-цекистов. Увы, начинают работать законы порочного круга, и вместо подлинного изменения стиля, скорее всего, опять возникнет прежнее дурацкое: давай прикинемся, давай опять обманем буржуазию.
Я хочу сейчас поговорить о тех, кто уже давно влиял на Запад цивилизованностью лиц и костюмов, — о советских журналистах-международниках. Еще остались и среди них представители старой сталинской гвардии типа известного всем советским телезрителям низколобого комментатора, назовем его Жук Юрьев, но преобладает все-таки, так сказать, «цивилизованный тип», внешне мало отличающийся от ребят из «Вашингтон пост» или телекомпании АВС. У них и стиль разговора отличный, не только штанов. Жук Юрьев, дремучий советский политрук, в дремучести своей тоже обладает некоторой эстетичностью: тридцатые годы, заря сталинизма, стиль «ретро». Прогрессивные силы мира, бубнит он свою ежевечернюю бубню, пригвоздили к позорному столбу истории апологетов реакции и поджигателей войны. Десятилетиями неизменяемые заклинания. «Цивилизованного» мальчика-международника юрьевская бубня все-таки коробит, ему все-таки нужны некоторые аргументы, и, если он получает задание в ответ на сообщение о «желтом дожде» в Афганистане пригвоздить к позорному столбу американцев, он обязательно снимается на фоне Кабула и показывает зрителям дезодорант, то есть средство против дурных запахов, с надписью «Made in USA». Такие штуки Жуку Юрьеву, наверное, кажутся сомнительными. Надо бить врага проверенным оружием, каленым партийным словом, а не мудрствовать лукаво. Однажды, выступая с теоретическим докладом в Союзе журналистов, он сформулировал свое кредо таким образом:
— Мы освещаем факты с классовых позиций и никогда не будем освещать фактов, которые пойдут нашим классовым позициям во вред.
Присутствующие на докладе «цивилизованные лица» тонко улыбнулись, а один из них, эдакий совхемингуэй по фамилии Бонвиванцев, даже прошептал на ухо соседу: «В каком классе застрял наш классик? В пятом или в шестом?»
Любопытный человек этот товарищ Бонвиванцев. Как-то мы разговорились о нем с одним известным американским журналистом, назовем его Чарли Кей. «Все-таки, знаешь ли, что-то там меняется у них, — сказал Чарли. — В ход пошли новые люди. Возьми Бонвиванцева, в нем что-то есть просто-напросто человеческое. Можешь себе представить, однажды он даже натуральнейшим образом покраснел, когда был уличен во лжи. Да-да, во время круговой дискуссии на парижском телевидении его спросили, можно ли в Советском Союзе купить западные журналы — „Пари-Матч“, скажем, или „Ньюсуик“. В принципе, конечно, можно, ответил он, почему бы нет, только мало кто покупает, неходовой товар, советскому человеку такие журналы скучны. Все, конечно, покивали с серьезными лицами, народ воспитанный, не хватать же за шиворот; но вдруг одна скандинавская дама сказала ему в лицо: как вам не стыдно так врать, господин Бонвиванцев? И он покраснел — можешь себе представить? — катастрофически, до пота покраснел, и это было отлично видно на цветном телевидении».
«Не знаю, кто как, — продолжал Чарли Кей, — но я вижу в этом румянце стыда грандиозный социально-психологический симптом. Я сейчас пишу книгу о кризисе элитарного сознания и думаю о том, правда ли, что ложь неотделима от плебса. В румянце же Бонвиванцева мне видится неожиданный симптом какого-то обнадеживающего байронизма…»
Мы говорим о Бонвиванцеве за обедом в вашингтонгском ресторане «Золотой лев». Неподалеку от нас за отдельным столиком обедает сам товарищ Бонвиванцев. Он делает вид, что не узнает меня, а ведь мы когда-то неплохо знали друг друга. Сейчас он основательно расплылся, а когда-то был настоящий рыжий шакал, подвижный и веселый. О нем тогда говорили — знаете, а он не лишен. Помнится, он даже частично входил в нашу компанию тех лет, особенно в отпускное время. Как-то ведь даже в пинг-понг играли, и он, конечно, всех обыгрывал. Как-то ведь даже шашлыки где-то жарили в горах, в Восточном Крыму, он тогда хвастался дружбой с генералом, личным шашлычником главного шашлычника — генералиссимуса. Помнится, в те времена Бонвиванцев не выпускал из рук журнал «Плейбой», который ему привозил дядя, шофер советского посольства в Бразилии. Под влиянием «Плейбоя» у него вырабатывался иронический взгляд на советскую действительность. Потом он отбыл за рубежи нашей родины, и мы стали наслаждаться его взволнованными репортажами с героической Кубы, из героического Вьетнама, его портретами таких романтических фигур, как братья Кастро, дядюшка Хо, а по мере продвижения романтики и такого вдохновенного орла революции, как Менгисту Хайле Мариам. Иронический взгляд у него, однако, не пропал, но направился в другую сторону. Появляясь на телевидении, он иронически и даже саркастически говорил о западной действительности, а о советской высказывался с сыновней нежностью, серьезностью и даже слегка прикрытой торжественностью. Годы показали, что он вовсе не плейбой какой-нибудь доморощенный, но глубокий толкователь международных событий с истинно научных марксистских, а не каких-то там анекдотических жук-юрьевских классовых позиций.
Неподражаемо он критиковал Китай, этих плохих китайских марксистов, проще говоря, ге-ге-монистов. Тут в его голосе появлялась даже некоторая интеллектуальная усталость — ну что, мол, с них возьмешь — постоянно товарищи нарушают собственную конституцию, суды над политическими противниками устраивают, понимаете ли, при закрытых дверях, а вместо публики, подумать только, специально подобранные функционеры. Вот какое там, оказывается, в Китае вопиющее извращение ленинизма!
И вот, вообразите, по прошествии многих лет я вижу этого бывшего шакала, а ныне почтеннейшего деятеля «зрелого социализма» со значком депутата Верховного Совета в вашингтонском ресторане. Ну кто скажет, что это такой принципиальный противник капиталистической системы! Перед нами обыкновенный гурман, и депутатский значок в петлице его пиджака кажется просто значком какого-нибудь коннектикутского гольф-клуба, а не гордым знаком доверия народа Кара-Калпакской автономной ССР. С мирным наслаждением вкушает Бонвиванцев скампи на гриле вперемежку с эскарго, запивает это дело хорошим «шабли». Приготовлены уже для дальнейшего гурманства голландские тонкие сигарки «Риттенмейстер», зажигалка «дюпон» и орган прессы «Нью-Йорк таймс мэгезин» — вот такая экспонируется перед нами цивилизованность.
— Таков современный марксизм, — сказал я Чарли Кею.
— Легче, легче. — Чарли улыбкой дал понять, что ему знакомы русские крайности. — При чем тут марксизм? Я сам в свое время отдал дань этому учению.
— Твой марксизм, Чарли, стоит в меню между соусом «Тысяча островов» и «Блу чиз». Ты никогда не питался чистым марксизмом, потому что даже в Москве ты покупал все в валютном магазине. У Бонвиванцева — это настоящий марксизм, потому что он знает разницу. Однако не думай, пожалуйста, что я желаю ему поперхнуться. Мне это просто интересно в свете твоей работы о кризисе элитарного сознания. Совместим ли марксизм с гедонизмом?
Бонвиванцев, продолжая делать вид, что не узнает ни меня, ни Чарли Кея, укоризненно покачал головой: дескать, к чему эти эмигрантские провокации?
— Так или иначе, — сказал Чарли, — но в наших кругах ходят разговоры, что Бонвиванцев отнюдь не дурак. И потом, этот красноречивый румянец на французском телевидении! Уверен, что таким людям, как Бонвиванцев, врать гораздо труднее, чем каким-нибудь мастодонтам вроде Жука Юрьева, хотя бы уже потому, что их молодость прошла в период «оттепели».
Бонвиванцев за своим столиком с аппетитом затянулся голландской сигаркой, таинственно затуманился.
— Этот румянец ему еще может дорого стоить, — сказал я. — Он ведь однажды был в опале.
Я рассказал Чарли историю, связанную с опалой нашего международника, которую знал почти из первых рук от нашего общего приятеля, москвича Фила Фофаноффа. Лет десять назад Бонвиванцев попал в опалу — кажется, с валютой проворовался или эротически оказался нестойким. Короче говоря, отозвали на родину социализма, оторвали от ненавистного «общества потребления», вот таким жестоким образом наказали своего родного товарища. Бонвиванцев тогда впал в полное ничтожество, поехал даже на Волжский автозавод, стал посылать оттуда репортажи, тоскливо все-таки возвращаясь иногда к любимой международной тематике. «Иностранные делегации — частые гости в городе Тольятти. И впрямь есть чему поучиться у волжских автомобилестроителей…» — так он писал в те времена. Однажды Фил Фофанофф стоял на улице Горького в очереди за праздничными — к Седьмому ноября — пакетами. Содержание пакетов было богатым: круг колбасы, два яйца, полдюжины пряников, бутылка пива. Вдруг на улице возникло всеобщее волнение, как во время революции. В толпе появились граждане, обвешанные рулонами туалетной бумаги в той манере, в какой революционные матросы носили пулеметные ленты. И вот, что же видит Фил Фофанофф — в толпе среди пулеметчиков согбенный бредет международник Бонвиванцев. Заметил и он Фила. Молча смотрели они друг на друга.
— Идешь? — молча спросил Фил Фофанофф.
— Стоишь? — молча спросил Бонвиванцев. Затем он подошел к своему чудовищно постаревшему за время опалы «мерседесу» и стал складывать в багажник рулоны дефицита. Фил Фофанофф не выдержал жуткой картины и убежал из очереди.
Бонвиванцев, делая вид, что не слышал этой ужасной истории, тем не менее посерел и попросил подбежавшего официанта принести аспирина.
— Если о румянце узнают на верхах, — предположил я, — Бонвиванцеву опять несдобровать, опять его отправят внутрь, и он тогда выпадет в осадок.
— Этого не произойдет, — уверенно сказал Чарли Кей. — Новой администрации в Кремле нужны люди прозападной ориентации, способные на выражение хотя бы элементарных человеческих чувств. Как раз недавно из хорошо осведомленных источников стало известно, что Москва готовит представительную делегацию сторонников мира и возглавит ее Бонвиванцев.
Сделав вид, что и этого не расслышал, наш герой воспрял и спросил столетнего коньяку. Для пищеварения, пояснил он большим пальцем правой руки. В чем-то я был даже согласен с Чарли Кеем. Бонвиванцев, безусловно, не самый худший из советских «цивилизованных лиц», то есть журналистов-международников. Конечно, процент фальши в его цивилизованности был достаточно велик для занимаемой должности, но все-таки временами и мне самому, не только американским либералам, виделась какая-то тоска в его взоре. Вот однажды я его снова встретил, на этот раз в супермаркете «Гигант». Толкая колясочку с покупками, он шествовал довольно беззаботный, довольно счастливый; ему явно нравилось быть своим среди покупателей «Гиганта», благо никто здесь статей его не читает. В коляске у него лежали лобстер, жареный миндаль, рейнское вино, парфюмерия «Фаберже». Вдруг он заметил меня, и на лице у него появилось нечто напоминающее то, что Чарли Кей называл «симптомами обнадеживающего байронизма». Казалось, он говорил: да-да, я вижу, что ты читал недавно мою статью о разгуле правого терроризма и, конечно, презираешь меня за то, что я не сказал ни слова о терроризме левом. Конечно, я знаю, что левых свиней в мире сейчас больше, чем правых, и синагогу на днях взорвали левые свиньи, но ведь я же не могу писать о синагогах — неужели ты не понимаешь, старик? — у нас ведь о синагогах не пишут. Как же я мог о евреях с сочувствием писать, ведь все равно бы вычеркнули. Ты, старик, прямо как иностранец рассуждаешь. Забыл правила игры? Что же мне делать, если у меня судьба такая? Если бы не стал я таким вот с-понтом-журналистом, тогда бы не брехал.
Мы не сказали друг другу ни слова и разошлись в лабиринтах «Гиганта». Я спрашивал себя, следует ли забыть о постыдной круговой поруке, связывающей, в принципе, всех советских людей, не слишком ли уж оторвался от родины, можно ли презирать Бонвиванцева, не следует ли ему посочувствовать? Ведь на других-то, на большинстве этих «цивилизованных лиц» уж просто ведь и креста негде ставить. Попробуй окинуть взором окрестности. Я окинул взором окрестности и подумал: если бы у этой братии недостаток совести компенсировался талантом или попросту журналистским искусством; увы, недостаток совести у них усугубляется бездарностью и профессиональной некомпетентностью.
Вот есть, например, довольно активный такой дружок, назовем его Антип Ионов, статейки его довольно часто то там, то сям мелькают. Жил он одно время и в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, кажется; и вот, проживая в этом, как здесь говорят, «Большом Яблоке», с благодарностью червяка описывал его внутренности. Однажды большую статью накатал о новых эмигрантах из России, об этих, как он оригинально выразился, «отщепенцах, добровольно лишивших себя родины». Ну хорошо, если бы просто описал он их злоключения в жестоком мире чистогана, потерянность, растерянность, неизбывную тоску по руководящей роли партии и по бдительному надзору ее «вооруженного отряда», однако в силу бездарности своей не удержался Антип Ионов от соблазна употребить и самый занюханный, в стиле Жука Юрьева, советский штамп и назвал все-таки эмигрантов «людьми, которые осознают свою вину, равную измене, которой нет оправдания». Перемена адреса, оказывается, равна измене. Потягивает XV веком, пыточными подвалами Малюты Скуратова. До тупицы Антипа Ионова даже не дошло, как бестактно употреблять эту галиматью в стране аккредитации, то есть в Америке, все население которой состоит из потомков людей, которые, по выражению Антипа, «добровольно лишили себя родины, то есть совершили измену, которой нет оправдания».
Дальше — больше: Антип Ионов на ниве литературного сарказма под рубрикой «Ха-Ха», которая ничуть не пострадала бы, если б назвалась рубрикой «Ка-Ка». Один американский журналист написал в репортаже из Москвы, что русские сейчас называют своих детей старыми христианскими именами, в том смысле что традиция тридцатых годов, когда невинных младенцев называли революционными сокращениями, забыта. Наблюдение, прямо скажем, не ахти уж какое глубокое, но верное. Вряд ли кому в России сейчас придет в голову дать новорожденному имя вроде Марлен (Маркс-Ленин), Ким (Коммунистический Интернационал Молодежи) или Велира (Великий Рабочий, было и такое). И вот Антип Ионов в связи с этим вполне невинным и не задевающим даже чести великого, ошеломляющего учения репортажем разражается вполне отчетливо антисемитским сарказмом, намекая на еврейское происхождение американца.
Девиз известнейшей газеты мира «Нью-Йорк таймс» в русском переводе звучит примерно так: «Все новости, пригодные к печати». Тот, кто взялся бы исследовать советскую журналистику, сразу бы заметил, что она меньше всего озабочена сообщением новостей. Невольно возникает вопрос: да и журналистика ли это, милостивые государи? Да и журналисты ли они вообще, эти «цивилизованные лица»? Бездарность подводит их на каждом шагу, иной раз она даже раскрывает некоторые их тайны. Вот, например, коллега Антипа Ионова, тоже проживающий в глубине «Большого Яблока», назовем его Мамлакатов, печатает однажды статью о своих похождениях. Звоню, говорит товарищ Мамлакатов, в польский эмиграционный комитет и представляюсь «русским журналистом, живущим в Нью-Йорке»… Каков товарищ Мамлакатов? Может быть, там, где он учился, о журналистской этике вообще не упоминали? Что происходит далее? Наивные поляки думают, что с ними действительно говорит «русский журналист», ну и выбалтывают ему огромную тайну, что им не нравится социалистический режим в Польше. А Мамлакатов, подтвердивший своей статьей, что он вовсе не русский журналист, живущий в Нью-Йорке, а советский не-журналист, живущий там же, направляется к следующему своему объекту — в нью-йоркский филиал профсоюза «Солидарность» и рассказывает об этом своем приключении в следующей статье. Пришел туда, понимаете ли, совершенно случайно, в обеденный перерыв. Все кабинеты открыты, а людей нет. Лежат конверты на столе — ну кто удержится? Быстренько вытащил из конверта бумаги, прочитал — бац, раскрыта еще одна огромная тайна: «Солидарности» не нравится военная хунта генерала Ярузельского!
А как они, эти аккредитованные «цивилизованные лица», освещают американскую жизнь? Бездарности, вялости, непрофессиональности диву даешься, не могу даже создать более-менее правдивую картину так называемых контрастов и негативных сторон, хотя сама американская пресса ежедневно и в огромных дозах приходит им на выручку, детальнейшим образом сообщая обо всех бедах страны, начиная с уровня безработицы, действительно небывало высокой, и кончая драками в местных барах. Казалось бы, чего проще — отбирай, переводи и замечательно разоблачишь капитализм; увы, даже и в этом не могут наши «цивилизованные лица» обойтись без мелкой и дурацкой лжи. Особенно по этой части отличаются колотильщики из так называемой «Литературной газеты», в которой от литературы остался на первой странице лишь профиль Пушкина, удивленно повернутый к двум здоровенным бляхам, полученным на государственной службе. Читаю там как-то раз: разгул цензуры в Соединенных Штатах Америки, запрещен Марк Твен. Протираю глаза — с потолка, что ли, свалился брехун? Марк Твен, стало быть, запрещен, а журналы и газеты коммунистической партии разрешены? По каким же полям гуляет эта разгулявшаяся американская цензура? Потом вспоминаю — а ведь эта наглая и жалкая ложь основана все-таки на одном из бесчисленных американских скандалов. В самом деле, за месяц до этого по телевидению рассказывали историю, как родительский комитет одной из средних школ Вашингтона, где население на 70 процентов составляют черные, потребовал изъятия из школьной библиотеки «Приключения Гекльберри Финна» на том основании, что один из героев книги употребляет обидное для черных американцев словечко «ниггер». Дело было передано в суд, и вот как раз из зала суда и были показаны глупейшие дебаты — является ли эта классика расистским произведением, оскорбляет ли она чувства черных детей, или все это можно отнести к истории, когда расизм действительно был в расцвете, и нельзя ведь правдиво описать время без употребления языка, на котором в то время разговаривали, и так далее, вполне в стиле какого-нибудь советского районо. На основании этой истории журналист «Литературной газеты» сообщил своим доверчивым (если таковые еще остались в Советском Союзе) читателям, что книги Марка Твена запрещены по всей Америке, но не упомянул, однако, о словечке «ниггер» и об обиженных черных родителях (они, согласно советским штампам, запрещать ничего не могут, потому что сами запрещены). Причина же запрета Марка Твена, оказывается, в его прогрессивных взглядах и его симпатиях к России. Автор, видимо, был готов сказать «к Советскому Союзу», но все-таки вспомнил, что во времена Марка Твена такового еще не существовало.
Чудесная еще произошла в советско-американских интеллектуальных обменах история с сыром. Прошлую зиму несколько раз правительство США выдавало нуждающимся бесплатный сыр из федеральных складов. Не знаю уж почему, но в складах этих накоплено гигантское количество более-менее съедобного сыра. В принципе, как тут недавно говорили по телевидению, если бы не проблемы транспортировки и технические сложности раздачи, можно было бы одарить все население отменнейшей головой сыра, и запасы бы не убавились. Итак, мы видим в новостях, как нуждающиеся стоят в очереди и получают по голове или более сыра. Затем мы читаем в советской газете сообщение местного корреспондента: «Изголодавшиеся люди получали по ломтику сыра. Некоторые его тут же съедали». Примитивность такой подлянки может даже вызвать улыбку.
Вершиной антиамериканского идиотизма я бы все-таки назвал недавнюю статью в московской газете под названием «Почему убили Джона Леннона?». Оказывается, это дело рук «американской охранки» ФБР, и Чапмен, стрелявший в Леннона в манере заправского агента этой организации, как раз таковым и являлся. За какие же грехи досталась музыканту такая участь? За то, что он был прогрессивный (видимо, в той же степени, что Марк Твен) и выступал против войны во Вьетнаме.
Для того, чтобы продемонстрировать масштаб идиотизма, предлагаю вариант американской корреспонденции из Москвы. Черненко решил украсть из Кремля Царь-колокол, однако Андропов об этом узнал и ночью там где-то спрятался. Едва Черненко потащил Царь-колокол, как Андропов тут выкатил Царь-пушку и сказал «руки вверх!». Вот если бы такая история была описана американским журналистом, ее еще можно было бы сравнить с советским вздором о Джоне Ленноне. Не со злорадством, но с печалью думаю я о том, что со времен закрытия «Биржевых ведомостей» нет у нас на Руси ни журналистики, ни журналистов. Не могут у нас появиться такие молодцы, как Карл Бернстин и Боб Вудворд, даже обычный полицейский репортер не мыслится на русских берегах, потому что все человеческие сущности подменены какими-то заменителями, как и журналистика подменена псевдожурналистикой. Потому-то появление большого и настоящего журнализма в творчестве Солженицына вызвало такой ужас. Бездарностям невмоготу рядом с талантом. А все-таки, сопротивляются остатки оптимизма, все-таки ведь говорят, что идут новые времена, что по-настоящему цивилизованные лица пойдут в ход, что вот покрасневший от собственного вранья Бонвиванцев скоро должен возглавить делегацию серьезных интеллигентных сторонников мира.
На днях позвонил мне Чарли Кей и сообщил о прибытии делегации. Во главе ее — нет, не Бонвиванцев, но другой серьезный международный комментатор, Жук Юрьев. Какая цельность, монолитность личности, восторгался Чарли Кей. Сродни ему только расисты Южной Африки, консервативные мужи Претории! И знаешь ли, никакой безнадежности, явно чувствуется ветер перемен. Вообрази, как он четко сформулировал основную мысль. Цитирую: «Мир будет сохранен и упрочен, если народы мира возьмут дело мира в свои руки и будут отстаивать его до конца!» Каково? Кремль определенно протягивает нам оливковую ветвь.
Вообрази, он сидит в западном кашемировом пиджаке, на руке часы «сейко», на ногах итальянские башмаки, на носу германские очки, на голове французский парик в стиле «панк», а самое главное — он сторонник сохранения биологической среды на нашей планете. Так что мы можем сами себя поздравить — цивилизация продолжается!
2004
Интересно, что Чарли Кей во многом оказался прав. Ныне, когда российская журналистика полностью и даже с избытком восстановилась, многие бонвиванцевы стали сначала «флагманами перестройки», а потом в РФ даже властителями дум и проводниками либерального сознания. Меня — да и многих других старых эмигрантов — иногда оторопь берет, когда вижу этих молодцов на современных телеэкранах. Трудно забыть, как в 1983-м или 84-м один такой бонвиванцев по телемосту общался со студентами Вандербильдского университета. Кончилось это тем, что в аудитории вскочил какой-то спортивный малый и закричал, тыча пальцем в огромное лицо, висящее над залом: «Ребята, сколько еще мы будем здесь терпеть этого брехуна?! Пусть убирается к чертовой матери!»
Огромное лицо выслушало этот монолог и без зазрения совести продолжило свою брехню о гибели корейского авиалайнера… Ну что ж, не гнать же теперь тех бонвиванцевых с экранов, тем более что они сейчас не врут. Простим те враки: «ведь не это сокрытый движитель его».
ПРОХОДЯЩИЙ 1984-й
Эта дата, до ухода которой в историю остались считанные дни, выглядела зловещим символом, по крайней мере для трех предшествовавших десятилетий. Следуя по стопам Евгения Замятина с его романом «Мы», в котором он приоткрыл изнанку коммунистической мечты о «хрустальных городах», Джордж Оруэлл создал мир своей антиутопии, роман «1984». Я, помнится, впервые прочел эту книгу еще в начале шестидесятых годов — провез серенький томик тайком из заграничного вояжа — и с тех пор не без содрогания воспринимал всякое упоминание о 1984-м. А он между тем приближался. Иногда в наших компаниях заходил спор — добьются ли «они» своих целей к этой дате, окончательно ли «они» дожмут «нас» к этому сроку? Оптимисты говорили, что оруэлловская мрачная фантазия противоречит человеческой природе и никогда его предвидения не осуществятся. Пессимисты же, напротив, утверждали, что, может быть, и раньше на несколько годиков установится империя тотального полицейского контроля и безоговорочного послушания. Промежуточное звено, то есть среднемеланхолические люди, говорило, что не следует эту дату принимать буквально, что в таких делах можно и ошибиться на пару столетий.
Сейчас, подходя к жутковатой дате, думаешь о том, что гений Оруэлла выразился не только в создании потрясающего романа, но и в довольно близком определении срока. В принципе, оруэлловское общество возникло бы в какой-нибудь части земного шара как раз сейчас, если бы не ряд непредвиденных обстоятельств, вызванных, может быть, и человеческой природой, а скорее всего, Божьим Провидением. В принципе, в течение бурных этих десятилетий мы видели дела и пострашнее оруэлловских. Камбоджийский коммунизм превзошел все самые мрачные фантазии. Будем, однако, сейчас говорить не о подобных эксцессах «человеческой природы», а о том, что в солидных марксистских кругах именуется «ходом истории».
Вот возьмите, скажем, пресловутую кибернетику, которую в сталинские времена объявили лженаукой и буржуазным извращением. В послесталинские времена марксистские социологи сделали полный поворот кругом и стали утверждать, что кибернетика или компьютерная наука и техника являются символом зрелого социализма и что только при социализме с его научной организацией труда и планового хозяйства компьютеры достигнут высокого развития и сами в свою очередь будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию социалистического общества, быстрому его переходу к завершающей фазе истории, коммунизму. По идее, вроде бы так и должно было быть, и в связи с этим вполне реально выглядели оруэлловские картины контролируемого компьютерами общества, все эти описанные в романе «телескрины», при помощи которых Большой Брат, то есть тоталитарное государство, денно и нощно наблюдает за каждым из своих граждан. Как вдруг произошло непредвиденное — оказалось, что компьютеры не очень-то хорошо развиваются при социализме; оказалось, что им, как, впрочем, и всем другим продуктам цивилизации, для развития нужен рынок, конкуренция, свободный обмен. Советский Союз безнадежно отстал в области развития компьютерной техники. В американской же жизни весь проходящий год прошел под знаком развития компьютеров и их все большего внедрения в повседневную жизнь. Компьютеры нынче повсюду — в продовольственных магазинах, в банках, в учреждениях и — самое неучтенное марксистскими теоретиками — в частных домах, на столах у простого люда.
Этот последний аспект вносит существенную коррекцию в оруэлловские предсказания, если их приложить к демократическому обществу западного образца: не Большой Брат следит за своими гражданами при помощи компьютеров, а как раз наоборот — граждане следят за действиями Большого Брата при помощи своих бесчисленных компьютеров. Подключаясь к различным информационным системам, рядовой гражданин на Западе может получить такую информацию о работе своего общества, которая и не снится советскому министру. Вот основная причина советского отставания — компьютерная техника не может в должной мере развиваться без внедрения ее в частную жизнь, внедрение же ее в частную жизнь в СССР невозможно, так как это нарушает один из основных принципов общества — секретность. Другим неприемлемым аспектом деятельности компьютеров для советского строя является так называемое словопроизводство. Современные компьютеры-словопроизводители и множительные аппараты делают частную персону самоиздателем и самораспространителем информации, литературы, науки, идеологии. Воображаете, какая паника началась бы среди органов идеологического контроля в СССР, если бы граждане получили возможность такой деятельности. Паника эта привела бы к своего рода космической катастрофе — к устранению органов идеологического контроля. Может быть, советская власть все-таки добьется определенной степени развития компьютеров, заблокирует их распространение среди населения и направит их работу в свое русло; этого исключить нельзя, как нельзя исключить и всех прочих оруэллиановских тенденций в советском обществе.
По идее, тоталитарное общество должно было возникнуть в Советском Союзе приблизительно в сроки, указанные Оруэллом, однако вновь вошли в силу непредвиденные обстоятельства, и к ним нужно отнести совершенно неожиданный для марксизма бунт интеллигенции шестидесятых годов. В сталинские годы много было сделано для того, чтобы превратить поколение шестидесятых годов и последующих десятилетий в нерассуждающих и идеально послушных исполнителей «предначертаний партии». Массовый террор и оглушающая пропаганда в общем-то добились внушительных результатов; общество и по сей день не может освободиться от инерции страха и от марксистско-ленинских клише, но все-таки они не добились всего. В шестидесятые годы в среде советской интеллигенции распространилось массовое критиканство, непослушание, начались поиски нежелательных альтернатив. Если сейчас, к концу 1984 года, посмотришь на советскую жизнь даже без особого прищура, не говоря уже об оптике, можешь обнаружить два ее основных слоя. Первый слой — это официальный портрет советского общества, картина, создаваемая официальной печатью и прочими средствами информации, картина ужасающая и вызывающая немедленные ассоциации с романом «1984». Неслыханный энтузиазм, единодушное одобрение, поголовная влюбленность в партию, бодрый марш к заветной цели, иными словами — полный тоталитаризм. Мы знаем, однако, что тоталитаризма в Советском Союзе пока что нет; во втором слое советской жизни, то есть в реальности, идет разброд и массовое замешательство, идейные и духовные шатания, жажда лучшей жизни, масса всяческого вздора и смутные надежды. Все это под крышкой вышеупомянутой официальщины булькает, взбухает, словно поднимающееся тесто.
В самом деле, человеческая природа мало подходит для советской модели социализма. Советское население томится сейчас глухой тоской по понятию, именуемому «рынок». Рынок, деньги — что ж, кто будет спорить, эта система отношений далека от совершенства, однако пока еще ничего более естественного человечество не придумало. Предложенная Марксом сто пятьдесят лет назад система на поверку оказалась не новинкой, а системой доденежных отношений, системой насильственного захвата и последующего рационированного подкорма. Народ этого не любит, недаром вот уже китайские коммунисты, пытаясь вывести свою страну из состояния дряхлости и распада, объявили марксизм устаревшей теорией. Уже пятый год я живу в самой, так сказать, «рыночной» державе мира, однако кроме рынка в этой стране существует то, о чем люди в Советском Союзе имеют лишь очень отдаленное, либо полностью извращенное пропагандой, либо книжное, умозрительное понятие. Я имею в виду систему ежедневного рынка демократии. В прошедшем году я первый раз в жизни оказался свидетелем американского избирательного процесса от его начала и до завершения шестого ноября 1984 года. В самом начале, когда шли так называемые «праймериз», то есть предварительные выборы кандидата демократической партии, однажды вечером на экране перед миллионами зрителей оказалось ни больше ни меньше как девять претендентов. Поди выбери из них — каждый полыхает самыми благими намерениями, каждый благообразен и не лишен чувства юмора; один слегка склоняется вправо, другой чуть-чуть отклоняется влево, третий торчит в центре, четвертый, пятый… девятый — сложность выбора стоит перед каждым американцем: колоссальная, в общем-то, ответственность каждого гражданина.
В американской жизни можно заметить много теневых сторон, много беспардонного нахрапа по отношению к главному предмету этой цивилизации — к деньгам, но одно неоспоримо: здесь действует система выбора во всем, начиная с сортов варенья в магазине, кончая выборами в конгресс. В проходящем году в мире появились какие-то не вполне еще ясные, но довольно уже ощутимые признаки того, что социалистические изменения в ходе истории вовсе не так уж необратимы. Социализм в упадке. Год завершается на фоне ужасающих сцен эфиопского голода. Местный молодчик Менгисту потратил сто пятьдесят миллионов на празднование годовщины своего путча, в то время когда уже умирали тысячами. Теперь он предоставляет «тлетворному Западу» право спасать благородный народ Эфиопии от голода, по масштабам близкого к украинскому на заре колхозной системы. Так называемый капитализм между тем идет к какой-то новой реальности, окрашенной развитием технологии, науки и поисками новых отношений на фоне своего обычного неравенства, которое нередко оказывается благотворным. Может быть, мы на протяжении веков все это — я имею в виду наше земное путешествие — как-то неправильно называли и последовательность событий вовсе не такова в реальности, как это представляется марксистским ученым? Не следует ли нам в отношениях друг с другом больше полагаться на Слово Божие, чем на научные теории, которые начинаются с того, что объявляют себя самыми передовыми?
ПРОГУЛКА В КАЛАШНЫЙ РЯД
Сравнительно недавно стараниями Сюзан Зонтаг через журнал «Ярмарка тщеславия» дошло до нас фундаментальное изречение И.Бродского; звучит оно приблизительно так (в переводе с английского): «Проза — это пехота, а поэзия — авиация». Читателю с опытом советского «литературного фронта» такая диспозиция не покажется странной; трудно не оценить метафору, особенно если у вас в резерве затаился «оружия любимейшего род, готовая рвануться в гике». На правах пехотной рвани, сидя с дружками в окопе, хотца все ж таки иной раз сунуть пальцем в небо вслед проносящимся громадам: «Эва, чешет!.. во дает!.. скоростная». …Иными словами, тянет иногда завернуть с суконным рылом в калашный ряд.
В эмиграции, болтаясь в потоках чужой речи, особенно начинаешь ценить русскую рифму. Благодарение Богу, она еще не утрачена! На Западе рифмованные стихи считаются детской игрушкой или куплетами для бродвейских оперетт. Нелегко бывает объяснить студентам значимость рифмы для русского стиха. Она, шалунья, придает поэтичность, то есть (см. выше) «авиационность», даже и пустому ведру. Вот Пастернак однажды высказался на эту тему так:
Поэзия, когда под краном Пустой, как цинк ведра, трюизм, То и тогда струя сохранна, Тетрадь подставлена — струись!Не исключено, что сама мысль возникла от неожиданной рифмовки «трюизм — струись». Конечно, в поэтическом слоге накал сильнее, чем в прозаическом. Беру и с той и с другой стороны нечто усредненно-хреновое. Вот, скажем, прозаик пишет фразу: «Он вошел, снял пальто и…» Поставленный в таком порядке зловредный союз «и» требует либо завершения, либо продолжения. И швырнул его в огонь, что ли? Глупо. И повесил его, разумеется. И на что же он его повесил — не на бычий же рог, откуда тому тут взяться? И повесил его, разумеется, на вешалку, господа, такая проза! Усредненно-хреновый рифмач в элементарном и вполне дурацком поиске рифмы может достичь здесь вольтажа повыше. «Он ушел, надел пальто и уехал на авто» — извольте, какое значительное пространство поместилось.
На эту тему я уже однажды разглагольствовал в «Поисках жанра». Клетка русской рифмы показалась мне тогда флажками новой свободы. «По пятницам в Париже весенней пахнет жижей». Не будь нужды в рифме, не связался бы Париж с весной. «Отдавая дань индийской йоге, Павлик часто думал о Ван-Гоге». Совсем уж глупое буриме, а между тем — контачит! И Павлик какой-то появился почти реальный, и дикая произошла связь явлений под фосфорической вспышкой рифмовки. Расхлябанный, случайный, по запаху, во мгле, поиск созвучий — нечаянные контакты, вспышки воспоминаний, фосфорические картины… Напряжение, накал, вольтаж, контакт — неспроста, видно, появляются электрические слова при разговоре о поэзии.
Для меня нередко чтение стихов становится чем-то вроде подзарядки собственных аккумуляторов. Вот садишься к столу и пишешь в романе новую фразу: «Вечерело, мороз крепчал», и вдруг фраза кажется тебе фригидной, не способной ни к зачатию, ни к соитию, и весь твой «магический кристалл» становится дерьмовой пластмассой. Это означает: аккумуляторы подсели. Не теряя времени, снимай с полки томик стихов и читай: «Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины»… или: «О, ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б, и я б опоил тебя чистой печалью!», или: «Не узнанным ушел день-Свет, день-Рафаэль, но мертвый дуб расцвел средь ровныя долины»… Тебя охватывает теплая, гудящая на разные голоса волна, вот ты и подзарядился, или, говоря языком улицы, «заторчал». Порывисто, как Пушкин, ты придвигаешь лист бумаги и пишешь бессмертное «вечерело, мороз крепчал», и в этих «черело» и «репчал» видится тебе мутноватый блеск старинного серебра.
Русский поэт — это, конечно, не только строчки, но и «другие долгие дела», и прежде всего личность, образ, миф. У поэта всегда меньше профессионального литературного, чем у прозаика, вот почему многие хорошие поэты в прозе и в других жанрах, требующих профессионализма, часто оказываются несостоятельными. Образ поэта переживает не только его тело, но и строчки. Понятие «поэт своего времени» сложнее строчек и всего словесного. В создании образа участвуют, во-первых, не только его собственное перо, но и чужие… — вспомним ахматовское «тебе улыбнется презрительно Блок, трагический тенор эпохи»… — а во-вторых и далее, все опосредованное и пережитое, все вдохновения и унижения, вся аура времени. В этой связи для меня нелепостью звучат ахматоборческие идеи Алексея Цветкова, его попытки лишить поэтессу укоренившегося титула «великая», основанные на структуральном, надо думать, анализе строчек, на мнимых недостатках словаря.
В калашном ряду, надо сказать, то и дело возникает занятная возня вокруг проблемы величия. Собираются, скажем, двое: для одного титул «великий» уже привычен и звучит в применении к его имени просто уж почти как «достопочтенный», второй пока что как бы еще не добрал баллов и в присутствии первого о собственном «в-и» не заикается, не по чину. Первый, однако, великодушен. Тщеславие — не из его пороков. Вечно ошибаются эти современники, говорит он, почему-то всегда выбирают себе одного великого поэта, а между тем у поколения ведь может быть не один великий поэт, а, скажем, два. Как ты думаешь? У второго тут слегка что-то отвисает, что-то перехватывает: великодушие гения потрясает. Давай поговорим теперь о каком-нибудь третьем, а? Третьего я ненавижу, тут же говорит первый. Физически не переношу, тошнит. И я, и я, подхватывает второй, только что приглашенный в сонм. Примечательно то, что разговор этот происходит не в кабаке, как обычно происходило в московском ЦДЛ, где часам к одиннадцати вечера Анатолий Заяц и Леша Заурих схватывались в рукопашном бою за корону русской поэзии, а на страницах зарубежного еженедельника. Примечательно также, что третий, так пылко презираемый (тоже претендует, что ли, на свою долю банки?), ответить двум первым не может, так как живет в Советском Союзе. Напечатай он ответ за границей, цековские дядьки взъярятся, следующий раз за границу не пустят; ответь в «Литературке», передовая общественность заклеймит как предателя. Советское местожительство в данном случае поэту выходит боком: до величия оттуда дальше.
В зарубежной части нашего калашного ряда к советскому местожительству существует какое-то особенное пристально-ревнивое, вызывающе-отвергающее, а порой, как это ни странно, не очень-то порядочное отношение. Говоря о сов. м-жительстве я, конечно, имею в виду не только физико-географическое расположение производящего поэзию тела. Юрий Кублановский, громыхая в электричке из Апрелевки до Киевского вокзала мимо Переделкино, к советскому местожительству явно не относился, что, конечно, делает честь как его поэтическим, так и человеческим достоинствам. И все-таки не стоило бы настоящему поэту с таким мучительно прищуренным напрягом приглядываться к своим советским коллегам, пусть даже если они его в чем-то (житейском, разумеется, приспособленческом) переплюнули: «…хорошо вам не знать недосыпа, хитрый Межиров, глупый Евтух, Вознесенский, валютная липа». Стоило ли Кублановскому настаивать в своем последнем парижском сборнике на этом стихотворении, на которое его друзья по альманаху «Метрополь» указывали как на довольно противное? Не очень-то этично выглядит и новая редакция или, скажем, «перелопачивание» этого стиха, когда из инвективного списка изымается одно имя, к которому поэт в течение некоторого времени переменил свое отношение, и вставляется другое имя, к которому он тоже переменил отношение. В этой связи некоторым неприличием веет и от последующей страницы: «…великие тени беречь вам дано за павлиньей террасой, а коверкать родимую речь полуправды хвастливой гримасой». Уж лучше бы талантливому поэту и в самом деле «великие тени беречь», а не претендовать на полную правду и право на инвективу с неизвестно откуда взявшейся революционно-демократической пошлостью.
Кублановский у нас уже железно отнесен к «сентиментализму», тем более странно встречать в его стихах железное клацанье затвора, склонность к внутрилитературной расправе. Посмотрите, как сентиментален, как прост и тих поэт в своей простой поэтической жизни… «Мы будем с тобой перед Богом чисты, Что осени огнепалящей листы… И глядя из мрака в Успенскую сень, Мы милости ждем, а не мщенья»… А теперь взгляните, как свиреп поэт в своей литературной жизни: «…в десяти шагах ЦДЛ. Вот бы там старика Катаева На оптический взять прицел!.. / затаившись в посольском скверике, / в линзу чистую вперив глаз. (Есть еще один — да в Америке / с младшим Кеннеди хлещет квас.)». «Еще один» — это, очевидно, Вознесенский. Любопытно, что объектами мстительной линзы оказались не какие-нибудь там махровые грибачевы и фирсовы, но самый яркий прозаик и самый яркий поэт советской литературы. Чем же именно эти двое так досадили Кублановскому — не талантом же своим, в самом деле?
Поэт «подполья» скрежещет зубами на тех, кто в силу различных причин — возраста, времени, успеха, страха, недостатка или избытка адреналина в крови — оказался на поверхности. К этим «поверхностным» литераторам «глубинные» их собратья (нынче, впрочем, в большинстве своем потерявшие привычный запашок подпольного потца, заглушившие его «ярдлеями» и «острыми пряностями») питают чувства, увы, не лучшего разряда. Вот Дмитрий Бобышев в статье «Юрочка, Юрочка мой», посвященной новой книге Юрия Кублановского, размышляет об альманахе «Метрополь»: «…целый ряд советских литературных баловней, которым можно то, чего нельзя другим, дали этому рукописному изданию свои громкие имена. Видимо, официальный успех перестал их удовлетворять…» С тонкостью необыкновенной поэт проникает в душевный мир «баловней» (к которым наряду с Вознесенским, Ахмадулиной, Искандером, Битовым мне приходится отнести и себя: ведь и я довольно много печатался в советских изданиях) — мало им оказалось официальной славы, решили хапнуть и чужой, неофициальной. Что же, другие категории человеческого поведения вам недоступны, Дмитрий? Из размышлений Бобышева следует, что неизвестные, подпольные авторы «Метрополя» хлебнули лиха, а «баловни и любимцы были ограничены лишь устными взысканиями, оставшись в результате при всех своих привилегиях». Тут же, впрочем, автор статьи «Юрочка, Юрочка мой» отмечает, что имя Кублановского стало известно, когда «Метрополь» открыл свой выпуск как эпиграфом (вместе с семью другими поэтами. — В.А.) стихами Кублановского. Значит, не только лиха хлебнул от альманаха Юрий, извлечена все же была и основательная польза. Что же касается «устных взысканий», то к ним как-то трудно отнести декретированное Президиумом Верховного Совета СССР лишение советского гражданства «за систематический ущерб престижу Советского Союза».
В эмиграции я сделал для себя одно неприятное открытие: оказалось, что в период нашего хилого советского, но все-таки ренессанса, когда иной раз с «малыми потерями» удавалось что-то напечатать, выставить, поставить в театре, снять в кино, мы были не только объектами ненависти со стороны шолоховистов-черносотенцев, но и предметами скрежета зубовного со стороны «левых» — тех людей, которых полагали своими и для выхода которых на поверхность пытались раздвинуть цензурные рамки. Скрежетали, оказывается, основательно, да и сейчас скрежещут. Вот Иосиф Косинский нападает вслед за Ниной Воронель на Андрея Тарковского, пытается все творчество большого мастера свести к подсоветскому приспособленчеству, к погоне за успехом и привилегиями. Ни факты, ни тем более оттенки фактов в такой критике в расчет не принимаются, а ведь если по гамбургскому-то счету брать, то окажется, что за бортом «сов. ренессанса», кроме реальных поэтов, как Рейн, Бобышев, Сапгир, Найман, Бродский, Кублановский, Цветков, Горбаневская, даже уж куда ни шло Лимонов, оказывалось немало публики просто профессионально негодной; от нее-то и идет основной скрежет. Все это, увы, мне пришлось высказать для того, чтобы перейти к творчеству одного из лучших нынешних поэтов русского языка, напечатавшего почти весь свой поэтический объем в СССР.
Белла Ахатовна Ахмадулина, 47 лет. Адрес: Москва, ул. Воровского, 20, мастерская Бориса Мессерера. В рецензии на недавно вышедшую в Москве книжку Ахмадулиной «Тайна» один из упомянутых выше эмигрантских поэтов снисходительно писал, что вот, мол, наконец-то появляется в сумасбродстве серьезная нота, переходит поэтесса в новое качество, приближается к народной жизни, к истинной поэзии, которую рецензент представляет, и потому достойна теперь сдержанной похвалы. Может быть, и глупо прозвучит, но мне эта сдержанность в адрес Беллы кажется кощунственной. Внимая сейчас через океаны ее новой «серьезности», с любовью и непреходящим очарованием вспоминаю ее «несерьезность», весь блеск и нищету той нашей молодой поэтической эстрады, «пятнадцать мальчиков», толпящихся у подмостков, а может быть, и больше чем пятнадцать, и думаю о том, что Беллин трескучий факелок, то разгорающийся до городского фейерверка, то оборачивающийся одиноким светляком, всегда давал в «черном бархате советской ночи» больше огня, чем фонари профессиональных правдоискателей.
Однажды в студеную зимнюю пору Ахмадулина везла Ахматову на своем видавшем всякое «Москвиче». Розовощекость водителя в те отдаленные времена не поддавалась описанию. Даже благоговейное дрожание перед величественным пассажиром не остужало ланит.
Но ее и мое имена были схожи основой кромешной лишь однажды взглянула с усмешкой как метелью лицо обмела. Что же было мне делать — посмевшей Зваться так, как назвали меня.Пассажир, очевидно, к этому моменту не знал водителя — просто сказали: Анна Андреевна, за вами тут девушка заедет — и потому «метелью не обметал», вообще не смотрел, думал о чем-то своем. Водитель же между тем, крутя баранку вдоль Садового кольца, шептал в полубеспамятстве строчки будущего стиха: «…я завидую ей молодой и худой, как рабы на галере…», «я завидую ей же седой…», «…с вещим слухом, откликнутым зовом, / то ли голосом чьим-то, то ль звоном, / излученным звездой и судьбой, / с этим неописуемым зобом, полным песни, уже неземной».
Завернули на Каретный, остановились перед светофором. Здесь от ужаса перед поэтическим грузом «Москвич» передернулся лошадиной дрожью и заглох. Позади скапливались транспортные средства. Доносились рулады Великого-Могучего-Правдивого-Свободного. Ахматова иронически молчала, Ахмадулина в полном унижении и отчаянии занималась разрядкой аккумулятора. Подошел по-зимнему огромный городовой, заглянул внутрь, усмехнулся: «Две дуры сидят, молодая и старая». Орудовцу, конечно, и в голову не могло прийти, что он присутствует при значительном явлении русской поэзии — передаче жезла. Скорее всего, это не приходило в голову и прямым участникам события. Ахматова недоумевала, Ахмадулина мучилась от неслыханного юношеского унижения. Что ж, передача жезла не всегда происходит на царскосельских торжественных актах.
Когда Ахматова умерла в 1966 году, Ахмадулиной было 29 лет. Она родилась, стало быть, в год принятия Великой Сталинской Конституции, в достославный 1937-й. Русский поэт в прошлом ставил под вопрос место своего рождения, нынче поэт мучительно обозревает время своего появления на свет — много ли вокруг совершено преступлений?
Я думала в уютный час дождя: а вдруг и впрямь, по логике наитья, заведомо безнравственно дитя, рожденное вблизи кровопролитья.В отместку палачам младенцы тридцатых годов как раз оказались первым советским поколением, вернувшимся к основам нравственности. Обозревая сейчас из столь далекого далека различные периоды Ахмадулиной (если можно так сказать о Белке, добром друге времен соседства и разлуки), я думаю о том, как гармонично и естественно все это протекало. Вот где-то стала мелькать на молодых сборищах, описанных Евтушенко, высокомерная студентка с «тяжелокованной косой». Молодые влюбленности, «зеленый ветер шипра», бурная, загульная погоня за ассоциативной рифмой, просвисты вдоль московской поземки. Оттепельная, едва ли не развязная (во всяком случае — развязанная) рифмовка вырабатывала походку и мимику молодого литературного поколения.
Я так щедра была, щедра В счастливом предвкушеньи пенья, И с легкомыслием щегла Я окунала в воздух перья.Недорого я дам за писателя, не испытавшего в юности этого щеглиного легкомыслия и неряшливой щедрости, с которой опять же в поисках ассоциативки удалой ты сравниваешь мазурку и мензурку «внутри с водою голубой»… писателя, не замиравшего в комическом утреннем ошеломлении перед автоматом с газированной водой и перед другими источниками питья, пусть это хоть подземный метрошный конус с томатным соком… и далее, и далее, что стоит в базарный день молодой писатель, не разбудивший в поисках прочих влажностей иной десятиэтажный дом?.. Стакан воды, судари мои, не более того! Не менее органично, чем поиски влаги, на поверхности в свое время появились ахмадулинские «О», эти пузыри неуместного в быту и в бытовой поэзии восторга.
Перетряхнув пару сундуков отечественных традиций, молодая Ахмадулина завершила до поры свой гардероб весьма неожиданными в синтетический век натуральными боа и шлейфом.
Влечет меня старинный слог. Есть обаянье в древней речи. Она бывает наших слов И современнее и резче.В этом было, на мой взгляд, нечто «хипповое», «желто-блузное», усмешка в адрес стереотипов журнала «Юность»; вывернутая наизнанку аристократичность оборачивалась изрядной «затоваренной бочкотарой».
Вот «Маленькие самолеты», одно из лучших стихотворений начальной поры. Поистине свободный стих. Нахальная рифмовка «самолета» с «соломоном»:
Те маленькие самолеты, Как маленькие соломоны, Все знают и вокруг сидят…Недаром смеховой орган ЦК КПСС «Крокодил» рядом с издевательствами над «Апельсинами из Марокко» в ярости перепечатал этот стих целиком — ратуйте, мол, дорогие товарищи! — по глупости увеличив тираж «самолетиков» на три миллиона своих копий. Кстати, о гардеробе: у современников, порой довольно злых, одежда Ахмадулиной иной раз вызывала подъем отрицательных гражданских чувств. Почему-то вид молодой Беллы дразнил ощущением непозволительной роскоши, возникали миражи драгоценных каменьев и бесценных мехов — как может русская поэтесса носить такие шубы на фоне того, что происходит? Хохма в том, что ни шуб, ни каменьев просто-напросто не существовало в ее быту, они лишь мерещились революционным демократам, ассоциировались с эстрадой (19 руб. 50 коп. за выступление по шкале Бюро пропаганды художественной литературы), а все туалеты роскошной суперстар можно, пожалуй, было охарактеризовать двумя словами: разлетайка да кацавейка.
Эстрадные шестидесятые катились через Беллину жизнь клоунским, или, как тогда говорили, «феллиниевским», карнавалом, и в полной гармонии с его средиземноморским звоном поэтессе подчинялись мужчины, льстили женщины и предлагали дружбу животные. В средиземноморской части нашей суровой родины, в миражном Тифлисе, ходила легенда, что Белла однажды зашла в клетку к медведю в сопровождении сотрудника местного ЧК князя N. Князя медведь помял, поэтессу поцеловал. Про медведя, может быть, и врут, но вот своими глазами видел я другое. Однажды провожали из Москвы в Ленинград Артура Миллера, и на боковом перроне увидели свору сторожевых собак, привязанных к столбам — самых что ни есть «верных русланов». Хозяева их, сержанты и старшины, куда-то отошли по железнодорожным делам, и псы просто разрывались от ярости при виде такой массы расконвоированных граждан. Вдруг Белла — скачок, скачок — приблизилась к одному из страшилищ: ах, милая собачка, взяла в руки жуткую морду, сплошную пасть, и поцеловала в обнаружившийся вдруг нос. Видел своими глазами, господа, как чудовище мгновенно успокоилось и стало лизать Беллины руки.
Знаменитости, эстрадные звезды окружены очень активным полем. На них валится гигантский заряд чужой энергии, потная прана зала, взаимодействие и противоречия двух стихий: взять и отдать. Эстрада — не только услада тщеславия, это дикий напряг навытяжку, руки за спиной, закинутая голова, «огромный мускул горла»: отдать и взять, опять отдать… «Горло» — подарок структуралисту и фрейдисту: «…обильные возникли голоса в моей гортани, высохшей от жажды»… «мой голос, близкий мне досель, воспитанный моей гортанью»… «во мне иль в ком-то, в неживом ущельи гортани, погруженной в темноту»… «рана черная в горле моем»… «всего-то было горло и рука, в пути меж ними станет звук строкою…» Что ж, и в самом деле, при всей своей внешней изысканности — это балаганная, дерзновенная поэзия, ради массовой раздачи красот «берущая на горло».
Гармоничность Беллиного пути через славу развита, оказалось, до такой степени, что в разгаре этих явлений она едва не умерла от боли в солнечном (!) — что может быть естественней? — сплетении.
Сплетались бы в сторонней мгле! Но хворым силам мирозданья угодно бедствовать во мне — любимым месте их страданья… Быть может, сдуру, сгоряча я б умерла в том белом зале, когда бы моего врача Газель Евграфовна не звали.Ее спасла, конечно, Поэзия и приходящий ее любовник Юмор. Тахикардию сменил четырехстопный ямб. Больная Белла, дочь Ахата, вместо умирания глазела теперь на Газель, суть краха видоизменялась под рифмовочным потенциалом отца врача, добрейшего Евграфа.
Итак, мы выживаем и отправляемся к истокам еще не истребленного Ренессанса, в усладу горла — Сакартвело. Грузинская нота Ахмадулиной связана, очевидно, с тягой к Средиземноморью, которое у всех у нас в каких-то там близких или далеких генах вместе с нашими греческими именами и иудейскими корнями, ну а ей-то сам Бог велел грезить «колыбелью человечества» с ее прямым итальянским происхождением, с синьором Стопани, шарманщиком и «донжуаном».
…Итак, сто двадцать восемь лет назад В России остается мой шарманщик. Одновременно нужен азиат, Что нищенствует где-то и шаманит.«Шарманство» и «шаманство» — по сути дела, две основные стихии и Беллиного, и вообще русского стиха, и есть ли лучшее место для их слияния, чем холмы Грузии?
Грузия — источник христианской веры для России не менее важный, чем Византия; она и сейчас там живее, чем где-либо, недаром в грузинских стихах Ахмадулиной столько раз встречается слово «Господь», всякий раз низводимое к строчной букве советской цензурой. Грузия — карнавал, заговор средиземноморских веселых плутов против одолевшей орды марксизма. Белла — ренессансное дитя, поэтому, тяжко страдая от утечки российского (советского) «ренессанса», она всякий раз бежит в Грузию…
От нежности все плачет тень моя, где над Курой, в объятой Богом Мцхете, в садах зимы берут фиалки дети, их называя именем «Иа»… О, Грузия, лишь по твоей вине, когда зима грязна иль белоснежна, печаль моя печальна не вполне, не до конца надежда безнадежна…И Грузия ей отвечает всеми остатками своего рыцарства. Помню, в конце шестидесятых годов в тифлисских застольях всякий раз наступал торжественный момент, когда пили за «нашу девушку в Москве». У националистов среди портретов выдающихся грузин висел портрет Ахмадулиной: «наша дэвушка».
Однажды марксистский князь давал обед в Кахетии. Белла сидела по правую руку князя-секретаря, принимая его льстивые речи, а на другом конце огромного стола сидел еще один москвичишко, так называемый поэт, пропахший ссаками сучонок-сталинист. Желая тут потрафить кахетинцам и заслужить стакан на опохмелку, поэтишко привстал над коньяками и тост за Сталина как сына Сакартвело скрипучим голосом провозгласил. Гульба затихла, и грузины смолкли, усы повесив, шевеля бровями, продажностью московского народа который раз в душе поражены. Тогда над шашлыками и сациви вдруг Беллина туфля промчалась резво, великолепным попаданьем в рыло ничтожество навек посрамлено. Все пьем за Беллу, князь провозглашает, и весь актив, забыв про сталиниста, второй туфлей черпая цинандали, поплыл, врастая в пьяный коммунизм.
«Сны о Грузии» — самый внушительный сборник Ахмадулиной, том в 541 страницу, из них чуть ли не треть переводы из Бараташвили, Галактиона Табидзе, Тициана Табидзе, Симона Чиковани, Отара Чиладзе… Среди карнавального шума сделана была серьезная и в высшем смысле профессиональная работа, иные стихи стали русскими шедеврами, сохранив свою грузинскость. «Молитва во время бомбежки» Симона Чиковани читалась сотни раз с русских эстрад; и это всякий раз была общая молитва всего того, что живо еще в двух народах, огромном одном и растерянном, и в другом, малом и гордом.
«Я — человек! И драгоценный пламень в душе моей. Но нет, я не хочу сиять заметно! Я — алгетский камень. О, Господи, задуй во мне свечу!» Вот входит друг, Отар Чиладзе, со своим лицом индейца в какое-то малошикарное питейное заведение…
Я попросил подать вина и пил. Был холоден не в меру мой напиток. В пустынном зале я делил мой пир Со сквозняком и запахом опилок…Он делит его, конечно, и с Беллой. Друзья обеих словесностей видят поэтов за колченогим столиком. Не в ту ли ночь Белла разглядела следующую фазу своей поэзии, о которой речь впереди?
Входили люди, супа, папирос себе просили, поступали просто и упрощали разнобой сиротств до одного и общего сиротства.Пока что, в соответствии с законами неведомых гармоний, начинается бриллиантовый период в карьере Ахмадулиной в том смысле, что она становится своего рода «бриллиантом Империи». С ней происходит, в принципе, то же, что и со всеми поэтами «поэтической лихорадки». Ореолы противоречивости, непредсказуемости над головами Евтушенко и Вознесенского лысели с каждым годом; они становятся национальным советским достоянием. Окуджава из «хулигана с гитарой» (как его гвоздили газеты в 60-е годы) год за годом превращался в солидного литературного либерала. Белла становится «звездой голубого экрана». Едва ли не каждую неделю появлялась она перед миллионами «сограждан усталых», никогда не изменяя себе, не подхалимствуя власти, но только лишь делая вид, что власти этой с ее страннейшей системой логики просто нет на дворе. Есть мир красоты, как бы настаивала она, он существует, есть русская речь, прекрасные архаические обороты, есть белый снег и холмы Грузии, тени Пушкина и Лермонтова, жива убиенная вами Марина, День-Рафаэль встает над ровныя долины… Быть может, власть эту, которая лишь только лестью и ложью жива, такая позиция художника и не устраивала, однако людей власти сама художница восхищала: так далеко зашли дела. Министр телевидения нередко снимал с полки томик Ахмадулиной и застывал в задумчивости, как мусульманин на намазе, жены гэбистов шептали строки ее стихов. Что ж, ведь нельзя ж и эту публику не делить, одним миром мазать.
Помнится, в одной компании случилось быть паре-другой таких молодцов. Поднабравшись, стали выяснять, кто крупней по части человеческих качеств. Один сказал: я хоть и на государство работаю (так у них называется принадлежность к тайному ордену), а подлостей не делаю. Раз пять за вечер повторена была эта фраза. Белла в этот период стала уподобляться антикварной мебели. В «домах» полагалось ее иметь — реставрируемое благородство. В какой-то степени она, будто герой из «Хулио Хуренито», как бы выписала себе справку о протекции государства в качестве памятника старины. Времена изменились, и уже не требовалось мандельштамовской «прививки от расстрела». Все противоречило социалистическому реализму, не говоря уже о «цветаевской теме». Перешедший по наследству образ Пушкина говорил о кризисном перевале в русской культуре. Конвульсия пушкинского мира в цветаевской поэзии, возникновение нового пушкинского мира в поэзии Ахмадулиной, усыновление курчавого поэта (попутно и юный внук Арсеньевой усыновлен), эзотерические связи, молитвы — все принималось новым советским потребителем на ура. Ах, восхитительно! В старинном кресле на сцене Консерватории под звуки Берлиоза, уже как бы подобием памятника дедушке Крылову… И ничего ведь не требовалось в ответ, лишь только сохранение вечной изящности, в которую не входят — ну, что там говорить об этом — лишь суетное цепляние за дружеские союзы да собственный поход по приокской грязи… «в рассеянных угодьях Ориона», в которых «не упастись от мысли обо всем»…
И все-таки ведь это была она, уже когда-то, еще в юности, восставшая против собственной изящной всеприемливости; та, за которой «дождь, как маленькая дочь» увязался и не отстанет. Сомнительно, что приживается в гостиных «зрелого социализма» среди коньяков, каминов и хрусталей поэт, уже тогда заметивший всеобщее настроение: «Дождливость есть оплошность пустых небес. Ура, о пошлость, ты не подлость, ты лишь уют ума». Отчетливо видит поэт и «убийцу в сером пиджаке», перед которым его жертва стоит навытяжку, и верность ее друзьям не под вопросом, под вопросом обратное — верность и чистота помыслов ее друзей на «площади Восстанья, в пол шестого»… Сказав выше, что образ поэта своего времени всегда выходит за пределы его словесного контура, я имел в виду, кроме прочего, и нравственный его облик, его душевную стойкость, даже его участие в литературном сопротивлении. Белла дала свое имя «Метрополю», Дмитрий, не потому, что ей кусочка вашей (неофициальной) славы захотелось, а потому, что лучшего места ей было не найти для множества ее собак и той одной собаки.
С той же жгучей потребностью разместить своих собак она бросалась в бесплодный бой за Сахарова, тащилась в Шереметьево, чтобы посигналить на прощанье своей оберегающей рукой и нам, и Копелевым, и Войновичам, и Владимовым. В калашном ряду, конечно, рассудят, почему, и главное — зачем Ахмадулина «пошла в народ»; мы, простаки, скажем спасибо любому побуждению, благодаря которому в нашей словесности появился цикл стихов «Сто первый километр». Родная затоваренная бочкотара, она, как ей и полагается, еще жива на холмах и в оврагах меж селами Пачево, Алекино и Ладыжино — всегда еще жива. Конь Мальчик, баба Маня, к автору стихов обращающаяся со словом «андел», безвременно ушедший Французов (кажись, сродни Володе Телескопову?), цветок будущего Пашка…
…Вчера: писала. Лишь заслышав: Белка! я резво, как одноименный зверь, своей проворной подлости робея, со стула — прыг, и спряталась за дверь. Значенье пряток сразу же постигший, — я этот взгляд воспомню в крайний час — в щель поместился старший и простивший, скорбь всех детей вобравший, Пашкин глаз. Пустился Пашка в горький путь обратный. Вослед ему все воинство ушло. Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий И с ними дактиль. Что там есть еще?Все это поэтическое воинство теперь затерялось в бессмысленной толпе лишенцев 101-го километра, в жестоком мире, где обдирают каких-то сов, убивают собак, друг друга молотками, топорами, кирпичами по башкам; апрель, субботник ленинский, «землечерпалка со дна половодья взошла, чтоб возглавить величие свалки», над руинами храма Воскресенья, вокруг «Оки», заведения второго разряда, льется «вино», пошел «по вино» —…знаем мы, что здесь имеется в виду под словом «вино» — совсем не то, что во всем другом мире…
Субботник шатается, песню поющий. Приемник нас хвалит за наши свершения. При лютой погоде нам будет сподручней Приветить друг в друге черты вырожденья.Вдруг возникает идея: а не со дна ли это все морского?
Наш опыт старше младости земной. Из чуд морских содеяны каменья глаз голубой над кружкою пивной из дальних бездн глядит высокомерно.И впрямь — Марракотова бездна, откуда до поверхности почти уже не доходят сигналы. Беллино войско — ямбы, дактили, амфибрахии — топчется посреди ленинского субботника с притворным добродушием. С натужной изо всех жил надеждой бормочет воинство в волнах моря разливанного: «…к нам тайная весть донесется: Воскрес! Воистину! — скажем. Так все обойдется». Гармонически вместе со всем своим поколением русской культуры Ахмадулина приходит на грань отчаяния. На самих себя мы уже не надеемся, только лишь ждем чуда. Тайного странника с благой вестью, способного пересечь кольцо 101-го километра. Среди других основных мотивов поэзии Беллы Ахмадулиной особенно силен мотив товарищества. Иные строки этого мотива проходят через всю нашу жизнь, став уже чудесными клише. «Когда моих товарищей корят, я понимаю слов закономерность, но нежности моей закаменелость и т. д.»… «Да будем мы к своим друзьям пристрастны, да будем думать, что они прекрасны»… «друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова»… Я иногда ловлю себя на том, что слушаю или читаю стихи бессмысленно, то есть не вдаваясь в их смысл, ловя лишь их тон, ритм, синкопу, подобно тому, как слушают джазовую пьесу. Работая, однако, над этой статьей, я заново перечитал стих, откуда взята последняя из вышеприведенных цитат, и в изумлении остановился на станце, что прежде терялась в созвучиях:
Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх вас, беззащитных, среди этой ночи. К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи.В свете этих четырех строк следует, очевидно, в финале сделать упор на слове «прекрасные». Других черт своих друзей благородный поэт видеть не хочет.
1985
КЛАСС ПРОТИВ МАСС
Свои «Полемические заметки о модном в культуре», опубликованные в июльской книжке журнала «Наш современник», поэт Станислав Куняев предваряет цитатой из Маяковского: «Цените искусство, наполняющее кассы, Но искусство, разносящее Октябрьский гул, Но искусство, блещущее оружием класса, Не сдавайте врагу ни за какую деньгу!» Далее, уже в тексте заметок, Куняев приводит цитату из романа Виктора Астафьева «Последний поклон», цитату, в которой «оружие класса» если и блещет, то довольно мертвящим блеском, а Октябрьский гул если и гудит, то зловеще, хотя цитата преподносится автором полемических заметок как воплощение положительных качеств, за которые он ратует. Речь там идет о голодном фэзэушнике, с которым не менее голодная девочка делится кружкой молока. Тут же, разумеется, в стиле всех этих дерзновенных деревенских лауреатов Государственной премии подчеркивается, что это было в прошлом, не подумайте чего, уважаемые товарищи, не сейчас, не под вашим чутким руководством. Нынче-то другое время, говорит Куняев, мирное, сытое… Какое-то неожиданное поэтическое определение времени, в котором люди только и делают, что рыщут в поисках самого необходимого по магазинам да выстраиваются в бесконечные очереди за маслом, мясом, картошкой, а то и за простым хлебом. Впрочем, Куняев ведь пишет с классовых позиций, с позиций того класса, к которому вот уж много лет как прибился, в котором награждают друг друга государственными премиями, распределяют секретарские посты и пакеты-пайки с дефицитом. С позиций этого класса в самом деле время мирное, сытое…
Основной мишенью полемических заметок является так называемая массовая культура в Советском Союзе, однако не та, что идет из телевизоров, не подумайте чего, уважаемые товарищи, не кобзоны, не ансамбли государственных песен и плясок, а та, что не одобрена «классом»; та, что спонтанно идет из глубинки, из масс; та, в которой, как в закопченном стекле, отражается гигантская массовая культура Запада; та, в которой, по сути дела, только лишь и теплится, порой в весьма курьезных формах, то, что еще не задавлено сапогом «класса». Ниже мы увидим точнее, против чего ярится поэтический реакционер соцреалистического толка. Поначалу он на ходу, наотмашечку прихватывает «жидков-аблакатиков» Винокура, Бориса Эйфмана, Александра Иванова, потом, демонстрируя удивительное знакомство с Западом, сообщает, что «зарубежные упростители классики» выпускают «Войну и мир» семидесятистраничным дайджестом в виде рекламы для противозачаточных пилюль фирмы Кун и Леб. Откуда эти имена, между прочим, взялись? Просто еще пара еврейских звуков, нужных Станиславу для запева, или это в каком-то мазохистском извороте сокращение имен Куняев и Лебедев? Литературные легенды, принадлежащие к ненавистной массовой, неконтролируемой культуре, гласят, что в прошлом автору полемических заметок не раз чистили блюдо за антисемитские наглости. Впрочем, сейчас время мирное, сытое…
Далее Куняев еще более демонстрирует свое знакомство с западной культурой, ссылаясь на мнение Симонова, корреспондента «Литературной газеты» в Америке. Вот уж до чего дело дошло внутри своего «класса» — поэт ссылается на авторитет штатного пропагандиста. Последний ловок в подчеркивании негативных сторон западной жизни, благо не надо особенно и трудиться: западная печать об этих негативных сторонах только и делает, что трубит; позитивные стороны — это не новости, вообще не предмет для разговора. Симонов, а вслед за ним и простодушный Куняев сообщают читателям «Нашего современника», что дельцы массовой культуры на Западе программируют кумиров толпы, и не врут — действительно часто можно прочесть про то, как программируется и даже на компьютерах рассчитывается тот или иной успех. Не сообщают только Симонов и Куняев, что кроме этих запрограммированных идолов в мире западной массовой культуры существует гигантский, практически неисчерпаемый выбор и требуется лишь очень небольшое усилие, чтобы высвободиться из-под влияния массового гипноза. Второй вопрос, возникающий при взгляде на массовую культуру Запада: кто кого программирует — дельцы программируют массы или, наоборот, массы с их вкусами давят на дельцов, требуя желанного идола? Эти вопросы Куняев и Симонов оставляют за бортом своих глубокомысленных рассуждений, потому что у них одна лишь задача — просто-напросто обвалять в грязи то, что идет в Советский Союз с Запада, то, что вызывает некоторую спонтанность вкусов, то есть, прошу прощения за лаконичность предлагаемой формулы, РЫНОК, а не ВЫДАЧУ.
Именно этим объясняется гнев, который вызывает у Куняева музыкальная рубрика газеты «Московский комсомолец», которая именуется «Звуковая дорожка». На этой дорожке поэт топчется, почитай, несколько страниц убористого текста, раскрывает читателям «Нашего современника» картину деятельности сомнительных московских комсомольцев в полной уверенности, что читателей так же, как и его, должны эти действия глубоко возмутить. Подумать только, дают информацию о событиях в мире рок-музыки, о намерении жителей Ливерпуля построить памятник четверке своих знаменитых «жуков», о том, что группа ABBA продала уже 60 миллионов своих пластинок; но вот что самое злокозненное — устроили, понимаете ли, что-то вроде западного списка бестселлеров, то есть самого продающегося товара, и сообщают, кто кого оттеснил на прошлой неделе — Давид Тухманов Раймонда Паулса или наоборот. Распустили! Тащить! Вязать! Не пущать! Безобразники из «Московского комсомольца» не обратили даже внимания на ЦУ, спущенные, если можно так выразиться, с Олимпа почвенной литературы — хм, странноватая получается метафора. Эти ЦУ, подписанные Виктором Астафьевым и другими деятелями культуры Красноярска, вызваны к жизни, оказывается, возмутительным успехом песенки «Синяя птица» в исполнении самого популярного советского рок-ансамбля «Машина времени».
С расстояния в четыре с половиной года мне все еще кажется странным тот факт, что талантливый и совестливый писатель Астафьев, лучше других знающий благие результаты идеологической нетерпимости, подписывается под безобразными устрашениями в связи с выступлениями «Машины времени», «каждый вечер делающей тысячам зрителей опасные инъекции весьма сомнительного свойства», но, может быть, за эти четыре с половиной года моего отсутствия все так разместилось в советской культуре, что подобные выступления писателя уже никому, кроме эмигрантов, не кажутся странными. Замечательно, однако, то, что Куняев возмущен «Московским комсомольцем» — как они смели сообщить, что песни Андрея Макаревича находятся среди самых популярных, в том смысле, что тут-де нужна не информация, а контрмеры.
Станислав Куняев, очевидно, причисляет себя к «славянофилам», однако и в этом отношении приходится развести руками в недоумении. Когда-то все-таки считалось, что в московских литературных кругах существует определенного рода «просвещенное славянофильство», умеющее не переходить грань посконного идеологического рыка; что же нынче-то произошло — или славянофильство само деградировало, или Куняев столь примитивно его понимает? Чем объяснить его ненависть даже в адрес какого-то западногерманского техника, который на страницах «Московского комсомольца» рассказывает о возможности современной звуковой аппаратуры? Куняев печалится по поводу отсутствия единодушия в нашей прессе по отношению к рок-н-роллу. «Разве не показательно, что две крупнейшие молодежные газеты „Комсомольская правда“ и „Московский комсомолец“, оценивая одни и те же явления (ABBA, „Машину времени“ и т. д.), делают диаметрально противоположные выводы? Какой же может быть спрос с молодых, незрелых голов, если „воспитатели“ единую точку зрения выработать не в силах?» Боже, каковы же все-таки масштабы конформистского разложения, куда же все-таки пропали все эти «нашей молодости споры» и «зеленые огни веселых светофоров» — ведь Куняев все-таки, крути не крути, принадлежал к «послесталинскому поколению» — неужто все это совсем бесследно испарилось, заменившись «классовой» — читай пайковой — позицией, если уж даже разномыслие по вопросам рок-н-ролла кажется русскому поэту приметой национального кризиса?
Выработанная единая точка зрения — это, по сути дела, не что иное, как директива. О недостатке директив, а не об их избытке печалится поэт, и уж совсем ему в голову не приходит, что газета — это, как сказала Надежда Константиновна Крупская в разговоре с Инессой Арманд, не только орган воспитания, но и источник информации. Любопытно выглядит, между прочим, столкновение точек зрения Станислава Куняева и латышского композитора Раймонда Паулса. Помнится, в конце семидесятых годов самой популярной песенкой в Советском Союзе была «Листья желтые над городом кружатся» Паулса. Заменяя слова «листья» на «лица», народ называл ее песенкой китайских парашютистов, а если уж возникают пародии такого рода, значит, популярность достигла предельной высоты. Сейчас, оказывается (узнал благодаря Куняеву), самой популярной песней является паулсовский «Танец на барабане». Придется поехать в вашингтонский магазин советских книг и кассет. Итак, Раймонд Паулс весьма осторожно и с массой оговорок выступает как раз против куняевского дремучего мнения выработки «единого мнения» и предлагает в своей статье, напечатанной в газете «Советская культура», научиться изучению спроса на «легкий жанр», изучению вкусов публики, то есть, по сути дела, изучению весьма любопытного явления спонтанной популярности в условиях действия современных средств коммуникации; иными словами, популярный композитор осторожно подталкивает нашу мысль к понятию РЫНОК, которое так бесит популярного поэта, настаивающего на понятии ВЫДАЧА…
Противопоставляя эти два понятия, я вовсе не наделяю «рынок» какими-то благородными качествами — уж в самом деле, каждый день перед глазами масса и пошлого, и дурацкого, и тупого, — я только лишь хочу сказать, что, наряду с этими отрицательными качествами, «рынок» обладает множеством положительных, и прежде всего разнообразием, гибкостью, невероятно чуткой восприимчивостью; то есть рынок имеет естественное отношение к жизни человеческих масс, в то время как тоталитарная идеологическая «выдача», за которую ратует Куняев, хотя и прикрывается рассуждениями о хорошем вкусе, к жизни человеческих масс не имеет никакого отношения.
Куняев приводит неопровержимые примеры песенно-текстовой пошлятины, заполнившей советскую эстраду и эфир. «Ах, как хочется влюбиться, влюбиться, влюбиться, сердце бьется словно птица, птица та — душа певицы…» Такой дребедени и в западной продукции полно, однако чем дальше читаешь куняевские примеры советской пошлятины, тем больше видишь, что они все-таки из другой оперы и львиная доля их относится как раз не к «рынку», а к идеологической «выдаче», к идеологической спекуляции и халтуре. «Двадцатый век, ракеты вверх, у золушек экзамен на водителей ракет! Комсомольском Гагарин идет! К новостройкам вновь едет народ! Продолжается новой атакой борьба! Не нужна нам другая судьба!..» Очень сомневаюсь, что эта псевдопатриотическая и столь неизменная за все советские десятилетия жвачка популярна в массах и что именно ее выносят на эстраду те, кого Куняев атакует в следующем абзаце, — молодые артисты в стоптанных кроссовках и мятых джинсах вроде саратовского ансамбля «Интеграл». Эти молодые люди поют не официальную бредовину, а то, что ближе к их спонтанному восприятию жизни, вроде песен Макаревича, которые хоть и далеки иной раз от поэтического совершенства, все ж полны искренности, вызова, грусти.
Куняев совершил сентиментальное путешествие на танцевальную площадку в Калуге. Впечатления мрачные, шибко отрицательные, слова бичующие. «Я глядел на танцующих. С отрешенными лицами, в каком-то полугипнозе они включились в стихию ритма. В их движениях, в их глазах, во всем их существе было какое-то безликое, механическое растворение в ритме… Танцевали не парами, а чаще группами по три-четыре человека, кое-где танцевали по одному, опустив головы, лениво работая локтями и коленками, полузакрыв глаза… Что это? — подумал я. Игра или естественное состояние, соответствующее духу музыки и тексту песен? Дух какого-то безликого стандарта царил над толпой, какое-то добровольное пассивное превращение в пыль, в однообразную толпу человеческую»… Вот как замечательно получается, противоборствует поэт как бы однообразию, безликому стандарту, а звучит его текст один к одному наподобие зловещего рычания в адрес молодежи во времена сталинской антикосмополитической кампании.
Музыка и вообще-то ведь вещь опасная, высказывается наконец Куняев и тут же, как бы чего-то испугавшись, начинает нахватывать цитат, чтобы подкрепить свою пошехонскую идею. Тут вам и Платонов, который запрещал «петь и плясать несообразно со священными общенародными песнями» под угрозой обвинения в нарушении закона. Тут и Лев Толстой, который, оказывается, объявил музыку государственным делом и очень был озабочен, как бы музыка не вышла из-под государственного контроля и не начала гипнотизировать массы. Откуда, из какого контекста взята толстовская цитата, Куняев не уточняет. Тут вам далее преподносится и глубокая мысль ракетоносца Циолковского, сравнившего музыку с медикаментами и также призывающего к контролю специалистов. Тут, наконец, и Родион Щедрин, поставивший музыку по опасности на один уровень с током высокого напряжения. Из этой последней идеи не следует ли, что конверты пластинок и нотные альбомы следует украшать теми же эмблемами, что отпугивают от трансформаторных будок? Жаль, что Куняев остановился в цитировании и не привел что-нибудь из основополагающих идей партийного постановления «Сумбур вместо музыки», при помощи которого в свое время душили Шостаковича и Прокофьева. В равной степени жаль, что он не развернул знаменитой ленинской цитаты, которая в СССР едва ли не запрещена к разворачиванию.
Припоминаю сейчас, что вслед за словами «удивительная, нечеловеческая музыка» в адрес Апассионаты вождь куняевского класса высказался в таком духе: «…я не могу часто слушать музыку… она мне действует на нервы, вызывает желание говорить глупые милые вещи, гладить по головкам тех, кто творит такую красоту… Нынче мы не можем гладить по головкам, иначе нам руки откусят… Мы должны бить по головам, и без всякой пощады…» В самом деле, немалый вклад сделал основоположник в классовое музыковедение. Под сенью таких идей еще очаровательней прозвучали бы куняевские сетования на агрессивные анархические инстинкты поклонников рок-н-ролла. Удивительную вообще-то картину советской жизни рисует в своей статье Станислав Куняев. Возникает даже впечатление, что он говорит о не совсем том обществе, которое я покинул всего лишь четыре года назад. Призывая к контролю, к тотальной регламентации, к выдаче, он как бы пребывает в состоянии некоторой растерянности; у него явно нет уверенности, что массы примут его классовую позицию, не говоря уже о неоплатоновской национально-социальной идее «города-крепости».
Массы, похоже, живут совсем другой жизнью или, как в Москве говорят, «выступают по другому делу»; массы-то как раз стремятся к «рынку», к настоящему удовлетворению своих «постоянно растущих». В куняевской статье можно даже уловить какие-то нотки отчаяния — что, мол, за препротивнейшие массы и как они далеки от партийной мудрости! Может быть, он несколько преувеличивает, несколько сгущает краски, как бы стараясь привлечь внимание чуткого руководства к безобразной идеологической дезорганизации масс? Да и не только масс, между прочим. Не массы же, в самом деле, закупают за границей художественные фильмы, а вот посмотрите, какие фильмы идут по Москве к восторгу идеологически нетребовательных масс: «Черная мантия для убийцы», «Дива», «Похищение по-американски», «Месть и закон», «К сокровищам авиакатастрофы», «Укол зонтиком» — это еще что такое, болгарская, что ли, продукция?
Итак, определенная часть руководящего класса идет на поводу у распустившихся масс или, возвращаясь к куняевскому эпиграфу, сдает искусство, блещущее оружием класса, за кое-какую деньгу. Список фильмов, приведенных Куняевым, напомнил мне московские магазины системы «Березка», где продают советским людям импортные вещи за так называемые «сертификаты». Трудно было в тех магазинах найти что-нибудь по-настоящему качественное и элегантное. К сбыту шел залежалый товар, который, очевидно, закупался на Западе за сущие гроши, а потом продавался в СССР за реальные деньги, ибо выбора опять же почти не было. Из всех фильмов, названных Куняевым, я только об одном — о «Диве» что-то слышал как о неудачном боевичке французской «новой волны», все остальные просто не существуют, являясь капельками в волне дешевой коммерческой мути. Ленин, которого тут цитирует Куняев, чертовски прав, когда говорит, что «наши рабочие и крестьяне достойны большего, нежели зрелищ»; боюсь только, что под большим он подразумевал не совсем то, что мы имеем в виду. Почему эти соответствующие товарищи отбирают только из мути, а из хорошего никогда не зачерпнут?
Станислав Куняев, впрочем, не видит разницы между хорошим и плохим, для него все западное от лукавого. В то же время, отшвыривая все западное, массовое, модное, популярное и, стало быть, халтурное, Куняев подравнивает к своим «душа-девицам» и народного певца Владимира Высоцкого, как бы не видя между ними существенной разницы. Впрочем, об этом позже. Любопытные трансформации, между прочим, происходят с искусством, «блещущим оружием класса». Когда-то само собой подразумевалось, что это самое массовое искусство; теперь реакционные деятели культуры вроде Станислава Куняева выводят его в некий хоть и смехотворный, но элитарный разряд. Слов нет, любой культуре нужно элитарное искусство, нужен авангард, эксперимент, нужна «башня из слоновой кости», «искусство для искусства» и так далее, ибо без всего этого как на Западе, так и на Востоке происходит унылая усредниловка, начинают довлеть бездарность и наглость. Увы, это совсем не то, что Куняев имеет в виду. Его от всех приведенных выше слов с души воротит, он нечто другое подразумевает, нечто сугубо регламентированное, строго подчиненное законам воображаемого неоплатоновского «города-крепости» социально-национального типа.
К счастью, жизнь, как мы это видим из самой статьи Куняева, не так-то легко затолкать в крепостные стены или, если угодно, в классовые рамки. Всячески сопротивляясь, изворачиваясь, принимая иной раз диковинные, аляповатые формы, она развивается не по классовым, а по массовым законам… Оказывается, за полтора года до разбираемой сейчас статьи Куняев уже нападал на память Высоцкого, не в силах был перенести непопулярный поэт неслыханной всенародной популярности покойного певца. Результаты этой первой атаки оказались потрясающими: поэт вдруг прославился как хулитель кумира. Цитирую: «…то, что последовало за статьей, совершенно ошеломило меня. Груды писем обрушились на „Литературку“. Девять из десяти проклинали автора статьи с такой страстью, что если бы слово обладало материальной силой, то он должен был бы испепелиться. По ночам то и дело взвизгивал телефон…» Ошеломленный поэт занялся сортировкой писем, их классификацией и статистикой. Сколько писем «диктаторски-фанатичных», сколько «недоумевающих», кто пишет — студент, рабочий, инженер, школьник, торговый работник, кандидат наук… При сортировке по полам оказалось, что женщин среди авторов писем было больше, чем мужчин, однако Куняев так и не дал понять, считает ли он этот факт положительным или отрицательным. Вот некоторые фразы из этих писем, приведенные Куняевым: «Не надо трогать народных любимцев, наших героев, наших кумиров», — пишет Милена Милковская из Ставрополя. Куняев не выделяет в этой фразе одного важного слова, которое мне здесь кажется основным и нагруженным большим смыслом. «Наших героев», — говорит автор письма, как бы подчеркивая — наших, а не ваших, товарищ реакционный поэт соцреализма. «Кроме Высоцкого, ни одному поэту не верю», — говорит еще один корреспондент Куняева. «Вы Сальери — и больше никто!» — восклицает третий. «Высоцкий — это драгоценный камень, выброшенный океаном на нашу грешную землю», — пишет четвертый.
Несколько слов по поводу последнего замечания. Я со своей стороны не сомневаюсь, что суперзвезды популярной музыки являются и в самом деле чем-то вроде посланцев из иных, астральных измерений. Они обладают уникальной экстрасенсной способностью принимать то, что называется «праной», от толпы и отдавать ей ее обратно в каком-то особом качестве. Многие из них не выдерживают этого напряжения, пытаются искусственно себя подстегивать и уходят молодыми, как Элвис Пресли и Владимир Высоцкий. От Высоцкого, когда он пел, исходил заряд колоссальной силы, он объединял миллионы разобщенных людей, а это, конечно, тревожит ревнителей крепостной дисциплины. Общенародную и такую непредвиденную, не учтенную соответствующими органами, на сто процентов спонтанную любовь к творчеству и к личности Высоцкого поэт Станислав Куняев с неподражаемым фарисейством выдает затягу к стандарту, к агрессивному культу.
«Почему столь унифицированы, стандартизованы их чувства? — вопрошает он и продолжает: —…Почему эти люди ведут себя так, будто за их спиной нет великой поэзии, нет великой культуры, словно бы лишь вчера они шагнули из небытия в цивилизованный мир, услышали Его и отдали Ему всю свою душу, ничего больше знать не желая?.. Может быть, массовая культура при сегодняшних средствах распространения стала наркотиком невиданной, не знакомой человечеству силы?…» Перечитав последнюю фразу этой цитаты, я подумал, что она представляет из себя не что иное, как полное жульничество, передергивание карт, наглый перевал с больной головы на здоровую. Что это значит в условиях Советского Союза — массовая культура при «сегодняшних средствах распространения»? Основные средства распространения массовой культуры во всем мире — это радио, телевидение, газеты, журналы, издательства, фирмы звукозаписи, магазины пластинок и кассет. Может быть, эти «средства распространения» в Советском Союзе захвачены поклонниками Высоцкого? Может быть, они, эти средства распространения, нынче только и заняты тем, что с утра до ночи передают по своим волнам и на своих страницах и «Охоту на волков», и «Лечь бы на дно», и «Каретный ряд», и «Сережу»? Может быть, Куняев не знает, сидя в своем неоплатоновском граде, что путь к этим «средствам распространения» был для Высоцкого отрезан в течение всей его жизни?
Я помню, как он мне рассказывал о своей поездке в Донбасс и о выступлениях перед шахтерами на шахтах и перед рабочими на заводах. Все это носило характер какой-то нелегальщины или в лучшем случае полулегалыцины. Ни одной афиши о его выступлениях в качестве певца никогда не было выпущено. Народ страстно хотел встречи с ним, а партийное начальство страстно этого не хотело. Возникал какой-то не очень-то приличный компромисс. Концертов как бы не было, они проводились под видом каких-то других мероприятий, гонорар певцу платили, но вроде бы и не платили, ни в каких ведомостях эти расходы на значились как гонорар Высоцкому. Потом его же самого и таскали на унизительные допросы к фининспектору. Суперзвезды этого калибра на Западе, где они действительно имеют доступ к средствам распространения, становятся мультимиллионерами, Володя едва набрал деньжат на трехкомнатную кооперативную квартиру. Так продолжалось всю его жизнь — ханжеский заговор полумолчания в правящем классе и восторг масс. В двух-трех фильмах ему разрешили спеть несколько его специально для этих оказий сочиненных песен из разряда туристско-альпинистских, а в большинстве фильмов этого ему не разрешалось: власти пытались представить дело так, как если бы это был просто лишь обыкновенный актер, не более того. У всех у нас на памяти (за исключением, может быть, Куняева) ханжество «Литературной газеты», когда после смерти певца, потрясшей всю Россию, она напечатала три стиха Высоцкого из разряда «туристско-альпинистских», снабдив их врезкой о том, что вот, мол, жил да был такой драматический актер, умер и оказалось, что он иногда пописывал стишки. К средствам распространения массовой культуры песенное творчество Высоцкого на самом деле не имело никакого отношения, но вот к массам — огромное. И массы распространяли его сами. Любовь к Высоцкому, то есть то, что Куняев называет унификацией, стандартизацией чувств, на самом деле была и является первым такой мощи прорывом за ограду советского стандарта. Магнитиздат и Самиздат, а отнюдь не Госиздат и Совмуз — вот что было уделом творчества Высоцкого всю его жизнь. Как-то раз откуда-то с Урала ему прислали несколько дюжин копий удивительного издания его стихов — 378 страниц в твердом переплете с многочисленными фотографиями его выступлений. Стихи предваряются коротким предисловием: «Этот сборник составлен почитателями удивительного таланта Владимира Высоцкого без его ведома. В сборнике только 250 песен. Не исключено, что составители приписали авторство некоторых песен Владимиру Высоцкому ошибочно. Если это так, заранее приносим извинения как ему, так и подлинным авторам». Этот сборник и сейчас в Вашингтоне, у меня под рукой, и я могу его сравнить с тем, что купил в здешнем магазине советских книг — со сборником, который через два года после смерти поэта со скрипом, со слезами выпустило официальное издательство. Сравнение не в пользу последнего. От него-то как раз и разит боязливым, осторожненьким советским стандартом, в то время как самиздатская книжка полна раскованности и любви, столь ненавистной славянофилам-коммунистам в их пайковом неоплатоновском граде.
2004
Интересно, что Куняев почувствовал опасность как раз через год после того, как стало ясно, что оруэлловский «1984» не состоялся… Еще через несколько лет, уже в стихах, он впал в паническое состояние: «Защити нас, ЦК и Лубянка, больше некому нас защитить!» Отвергая демократию, он и не понимал в ней ни черта, иначе бы сообразил, что даже нацболам при демократии нечего опасаться. Вот как сидел он, так и сидит в своем «Нашем современнике» и теперь может, не кривя душой, поговорить о рыночной масс-культуре. Платоновской республики в РФ не получилось.
АФИША ГЛАСИЛА (К 120-летию Чехова)
Прошлый, столь многозначительный 1984-й начался для меня скорее под знаком Чехова, чем Оруэлла. Ночью в Париже через площадь Трокадеро я увидел на фасаде театра оранжевую афишу с черной кириллицей, напоминавшей в этом латинском мире супрематический рисунок раннего русского авангарда. Афиша гласила… Позвольте, разве это не Чехов? Можно ли найти ночью в Париже — от кафе, через площадь, к стене театра — нечто более чеховское, чем начало фразы «афиша гласила»? Тут же возникает явление Чехова под мягкой шляпой. Подслеповатый денди, измученный туберкулезным эротизмом, на грани двух стихий — вздорного ялтинского шторма с перекатом через парапет и имперской обыденщины с ее афишами, которые гласили…
Итак, афиша на площади Трокадеро гласила имена двух птиц: «Чайка» и «Цапля», его и моя, обе воплощают мечту, хотя и питаются всяческой гадостью. Далее по-французски имена авторов и всех тех, кто что-то делал в этих двух параллельных спектаклях Национального театра «Шайо». По-французски Чехов лишается своей коронной «Ч» и приобретает какую-то потустороннюю комбинацию «ТСН»; в языке Мольера, увы, нет всех этих «чаев», «чушек», «чар»; кроме того, туда до Милана Кундеры еще не пробирался ни один «чех», как это произошло в таганрогской торговой династии.
Антуан Витез ставит «Чайку» и «Цаплю» почти в одинаковых декорациях — те же стенки, те же двери и лестницы, что в доме Аркадиной, что в пансионате «Швейник», лишь задник с его попеременно меняющимся освещением — то дневной рассеянный свет пустопорожней болтовни, то клюквенные закаты туберкулезного томления, то сполохи ночной мечтательности — несколько меняется. В «Чайке» за купами деревьев подразумевается одна грань, река, из-за которой прилетает Нина Заречная; в «Цапле» грань — это польская граница, пересекаемая птицей, по-польски именуемой Чаплей — опять этот мутно-серебристый звук.
Чехов современен до такой степени, что располагает даже к некоторой непочтительности. С этой позиции как бы даже позволительна шутка, бытовавшая за кулисами: мы ставим «Чайку» молодого русского драматурга и «Цаплю» пятидесятилетнего эмигрантского зубра. Даже и в дни 120-летнего юбилея перо упорно отклоняется от академического поворота. Чехов воспринимается в качестве современника отнюдь не в хрестоматийном духе — дети, у нас тема сочинения «Чехов — наш современник» — и не в области идей — какие уж там идеи, одна душевная смута, — а всей своей личностью, неотделимой, разумеется, от творчества, но в той же степени и от его воображаемой нынче нами походки, сутуловатости, подслеповатости, хорошего пальто, пенсне и трости, от его литературной мифологии, от актрис Художественного театра, от хмельной Ялты, от обжористой Москвы. В школярские грубые годы, несмотря на усиленное изучение «жизни и творчества певца сумерек общественного сознания» или благодаря этому, образ Чехова был безразличен и далек, цинически обхохатывался в переменках, раздевалках и отливалках, воспринимался как нечто маленькое и чернявое сродни Чарли Чаплину с его утиной походочкой. Чем дальше, тем больше Чехов вытягивался, грустнел, тем яснее он обозначал появление на русской сцене нового общественного персонажа — современного писателя.
Чехов в большей степени, чем следовавший за ним Бунин, представлял новую либеральную эру, что была разрушена пошлостью революции. В «сумерках общественного сознания» мягко светились окна интеллигентских жилищ, крутые лбы присяжных поверенных, профессоров теологии и философии склонялись возле зеленых абажуров, погромыхивал первый электрический транспорт, обыватель мешкал у киоска — какого направления газету избрать, уездные барышни, жадно вдыхая сладостный дым столиц, в книжных лавках Камергерского проезда и Невского проспекта тянули ручки к свеженьким томикам — ах, Чехов! — возникала атмосфера, пригодная для существования российской либеральной беллетристики. Блаженный литературный период, начатый в 1861 году Александром Вторым Освободителем и законченный в 1917 году Лениным…
Деликатному молодому человеку нелегко закрепить за собой место в Пантеоне. Бунина с его величавостью мы запросто относим к российской классике, Чехова в глубине души мы классиком не считаем: он более соотносится с проходящим через десятилетия мифом современного писателя, нарцисса, самоеда, философского неряхи, эклектика. Наше поколение прозаиков легко соотносит его с самими собой, то есть с теми, кого вытеснил за пределы родины нахрап социалистического реализма. Мы легко соотносим его, скажем, с Юрием Трифоновым, не раз названным «Чеховым семидесятых». Тут, впрочем, стоит подумать о реальной цене подобных параллелей, о перекате времен и возможности именовать Чехова, предположим, «Трифоновым восемьсот девяностых». При всей схожести тона, мазка, наклона пера Чехов и Трифонов все-таки совсем разные писатели, хотя бы уж потому, что отец Чехова не бесчинствовал в революционных порывах и не был впоследствии убит сталинскими чекистами, и не говоря уже о том, что кончина Чехова гнездилась в легких, а Трифонова — в почках. И все-таки наш незабвенный друг Юра всегда чувствовал тесную связь с незабвенным другом Антоном Павловичем. Он назвал Чехова «катализатором» своей собственной работы. Это туманное определение, которое я почерпнул из английской «Обсервер», проведшей осенью 1980-го интервью с Трифоновым именно под рубрикой «Чехов семидесятых», все-таки немало приоткрывает. Так можно сказать и об отдаленном классике, и о соседе по этажу в ялтинском Доме творчества писателей имени А.П.Чехова.
Предположим, ты сидишь в своей литфондовской келье у окна, слегка корчишься в творческих муках, а тем временем из глубины коридора доносится неумолчный стрекот пишущей машинки или могучий скрип пера твоего «катализатора» — Аристофана ли, Ахмадулиной ли, Чехова ли, Казакова ли, Битова, что ль. Собратья по хилым литфондовским обедам, по распитию шампанского в кипарисовых чащобах, по творческому «катализу» чувствуют, что чеховское присутствие их зовет — твори бойчее!
Как-то мы гуляли в ялтинском парке культуры и отдыха имени А.П.Чехова, где над каждой скамейкой подвешено священное изречение сталинской конституции: «Граждане СССР имеют право на отдых», в том смысле, что присаживайтесь, мол, не тушуйтесь, как вдруг увидели массивную статую в тяжелом пальто. Вполне можно было бы принять чугунок за Ленина, если бы не отсутствие лысины и присутствие пенсне, а эти качества, как вы понимаете, придают статуям сходство с Чеховым. Было чем озадачиться. Надпись на постаменте гласила «Чехову». То ли дательный падеж употребляется в том смысле, что, мол, данному лицу преподносится, но тогда, значит, фигура — не обязательно Чехов, а, возможно, все-таки именно Ленин, только в парике и пенсне, как во времена разливовских маскарадов, то ли просто высится здесь не особенно популярная личность, какой-нибудь, скажем, молдаванин Чеховэ, ну, предположим, матрос с броненосца «Потемкин»…
Бог ты мой, что же это за человек такой в «чугунном футляре»? Астральный контур нашего современника по либеральной эре, на угольках которой мы все еще тогда пытались приплясывать, столь милый нашим сердцам образ русского профессионального беллетриста и драматурга был в невообразимом космическом отдалении от расположенного среди организованной природы «чугунка», пребывая в то же время в поразительной, чуть ли не биологической, близости к кипарисам того древнего греческого мира, Камчаткой которого является наш любимый полуостров (бывший остров) Крым, к зарослям и даже к проходящему у нас над головами ялтинскому троллейбусу.
Поразительная современность Чехова особенно очевидна на театре. Режиссеры театра, несмотря на непрекращающиеся избиения, постоянно стараются дать «сегодняшнюю интерпретацию» его комедий с их вечно увядающими окончаниями. Мне кажется, что именно театр сделал Чехова нашим современником. В свой дотеатральный период, да и вообще в своей прозе Антон Павлович почтенно принадлежал к порядкам классической русской литературы. Художественный театр, и не в последнюю очередь его женщины, создал необходимую влажную среду для возникновения и существования писателя Двадцатого века, преотлично дошедшего в своем печально-головокружительном нарциссизме до создания знаменательного явления всего международного словотворчества, литературы о литераторах — как же еще иначе назовешь «Чайку»? Треплев и Тригорин — два чеховских лица, их отражения бликами играют по всей современной американской литературе.
Запад увидел только этого Чехова, модерниста и нарцисса, вполне и окончательно забывшего о таганрогских амбарах. Мы, хоть и нам ближе этот мифический писатель современности, не можем уйти и от «чугунка» Чеховэ, проходящего по инвентарному списку Института мировой литературы имени Горького. В нашу зажеванную культурную традицию вслед за «лучом света в темном царстве» входит и осколок бутылки в лунную ночь — всякий русский литератор при обозрении ночного пейзажа непроизвольно ищет этот осколок, — и странноватый императив относительно «лица, одежды и мыслей» — о, похмельные муки прозы, жестокость зеркал и прочих отражающих поверхностей! — и ружье, которое уж если повешено на стенку, обязательно выстрелит, — а если не заряжено, а если прикладом по заднице, и прочая философия, — и, уж разумеется, небо в алмазах — этого добра никому не отдадим! — и, уж разумеется, клич «в Москву, в Москву», который, как выяснилось, ведет в эмиграцию…
Все это относится к 120-летнему юбилею. К пролетающему моменту относится вечер в Ялте, запах самшитовых кустов, продолговатая печальная фигура у афиши, которая гласила…
САНДИНИСТЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Во время недавнего нью-йоркского конгресса Международного ПЕН-клуба на одной из шикарных литературных вечеринок в окрестностях Центрального парка мы обратили внимание на невысокую миловидную женщину, которая весьма очаровательно кокетничала одновременно со знаменитым голливудским актером, знаменитым манхэттенским писателем и журналистом из «Вилледж войс». Брызги очарования перепадали и стоящему неподалеку японцу с огромными глазами за стеклами сильно увеличивающих очков. Возраст дамы трудно было определить в литературных сумерках. Впрочем, она была, пожалуй, молода. Чем-то она отличалась от основного женского состава. Постоянно думая о равенстве или даже о преобладании, американские женщины освоили весьма прямую посадку. Дама, о которой идет речь, пожалуй, слегка изгибалась, движения ее были закругленными, кокетство простодушным и как бы даже слегка знойным. Словом, прелесть! «Знаете, кто это? — сказал нам знакомый профессор из Гарварда. — Никогда не догадаетесь. Это первая леди Никарагуа, сеньора Ортега собственной персоной».
Толкучка на этой вечеринке была изрядная, и вскоре мы потеряли из виду небольшую подругу большого революционера. Кто-то еще пустил в толпе шуточку, что очкастый команданте послал супругу в Нью-Йорк за новой партией дизайнерских очков с целью дальнейшего улучшения исторического видения, но шутки подобного рода на берегах Централ-парка не проходят. На следующий день, однако, на одном из заседаний конгресса мадам Ортега вновь выплыла на поверхность. С исключительной трогательностью и вновь очень по-женски, если можно так выразиться, когда говоришь в присутствии «феминизма», она обращалась к собранию мировых писателей с просьбой не бросать в беде хрупкое детище никарагуанской революции. Помогите нам, едва ли не молила она, помогите нам выстоять, помогите продержаться!
Призыв малого, слабого, стоящего перед угрозой большого и всесильного… разве может это не тронуть либеральное писательское сердце? Тут же стали ходить с листком, собирать подписи под письмом протеста против «рейгановской эскалации» в Никарагуа, а равно и во всей Центральной Америке. В самом деле, лучшего посланника на писательский форум, чем сеньора Ортега, не придумаешь; к тому же она и сама пописывает, да и в культурной жизни страны активно участвует, ну просто на правах культурной женщины.
Каково же было мое удивление, когда недели через две после описываемых событий я прочел в журнале «Нью рипаблик» статью одного из главных сандинистов, бывшего заместителя министра внутренних дел Никарагуа, недавно отколовшегося и порвавшего с соратниками по борьбе. Среди прочего этот человек описывал деятельность Единого фронта работников культуры (может быть, эта организация называется немножко иначе), которым «железной рукой руководит жена команданте Даниэля Ортеги». Вот так так, оказывается эта мягкая, женственная персона у себя дома беспрекословно отсекает от литературного и культурного процессов всех колеблющихся и диссидентов, а послушных, или, иначе, верных идеалам революции, вознаграждает поездками в Москву и Гавану, а также приглашениями на правительственные приемы. Вот вам и романтическая бэби в литературных сумерках Нью-Йорка!
Сандинисты в Нью-Йорке раскидывают чернухи, ей-ей, немало. Они приезжают сюда в мятых костюмчиках и стоптанных кроссовках, слоняются здесь по либеральным салонам, как бы рассеянные, как бы тоже от литературы и искусства, как бы члены того же самого западного леволиберального сообщества, как бы жертвы неумолимого «военно-промышленного комплекса»; и наше простодушное леволиберальное сообщество с наивностью, стоящей уже на грани имбециальности, так их и воспринимает, даже и не задумываясь о том, что у себя дома, где им принадлежит вся власть, эти моложавые «яппи» сами представляют один из самых свирепых в современном мире полицейско-идеологических комплексов.
Те из них, кто еще сохранил остатки идеалов сандинистской революции, стараются бежать из Манагуа и порвать с циничной хунтой. От них-то и исходит самая достоверная информация о масштабах этой «чернухи». Вот вам свидетельства еще одного беглеца, напечатанные в интеллектуальном американском журнале. На поверхности сандинисты стараются изо всех сил показать, что они вовсе не такие уж рьяные марксисты, во всяком случае отнюдь не безбожники, что принципы христианской нравственности и им не чужды. В правительственном аппарате у них есть даже несколько священников, правда, довольно сомнительных, включая преподобного Эрнесто Кардинале, графоманствующего провинциальными стишками и представляющего, стало быть, двойную ценность своей нацеленностью в двух направлениях: на религию и на поэзию. Беглец рассказывает о том, как его непосредственный начальник в Министерстве внутренних дел Никарагуа принимает зарубежные христианские делегации. Для этой цели у него оборудован специальный «христианский» кабинет, в котором на столах лежат Библия и религиозная периодика. Сидя под большим распятием и перебирая четки, товарищ команданте уверяет простодушное голубоглазие, скажем, Американского совета церквей в смиренности целей их революции, просит молиться за идеи всеобщего братства, воплощающиеся сейчас на никарагуанской земле, помогать им в борьбе с «военно-промышленным комплексом» и с коварством рейгановской администрации. Отправив же вытирающих голубые слезки христиан восвояси, команданте, хохоча, отправляется в свой настоящий кабинет, где «опиумом для народа» и не пахнет. Там уж мы увидим настоящий внутренний мир революционера: на столах публикации типа «Спутник агитатора», на полках полное собрание сочинений Кочетова, Софронова и Грибачева, на стенах портреты мессий классовой борьбы по мере убывания и дальнейшего нарастания волосистости — Карл, Фридрих, Владимир, Иосиф, Мао, Хо, Фидель…
Чем уж там занимается фиктивный христианин — вопросами ли поставки оружия братьям по классу в соседних странах, или внедрением самой передовой теории в сознание местного народа, или сочинением мемуаров о борьбе в горах с непременным учетом эротических интересов западного читателя, — доподлинно известно, должно быть, только одному товарищу, начальнику местного чека, человеку по имени Ленин Черна.
Вот такие удивительные истории рассказывают нам беглецы, однако леволиберальная общественность этих историй как бы и не слышит. С этим явлением нынче все чаще встречаешься здесь, на Западе. Информационное наводнение порождает тип человека, который слышит только то, что хочет слышать. Однажды мы говорили о сандинистах с одним известным американским поэтом. Он все хотел и меня пристегнуть к списку протестантов против «рейгановской эскалации». О'кей, говорю я, допустим, я понимаю благородную суть ваших намерений, однако, если вы хотите демонстрировать идеализм в чистом виде, почему вы не говорите о других аспектах конфликта, а именно о советско-кубинском вмешательстве, об огромных поставках оружия, о тренировочных базах для террористов, о репрессиях против индейцев, о запрещении всей независимой прессы, о тотальной марксистско-ленинской пропаганде?.. Позволь-позволь, сказал поэт. О чем ты говоришь? Откуда у тебя все эти сведения? Как откуда, удивился я, из газет, разумеется, все сведения о затоваренной бочкотаре получаю обычно из газет. А какие газеты ты читаешь, по-ленински прищурился поэт. Читаю свою «Вашингтон пост» и ваше «Нью-Йорк таймс». Странно, сказал поэт, я читаю те же газеты, но извлекаю из них совершенно противоположные сведения.
Дискуссия дальше принимает совсем уже диковатый оборот. Понимаешь ли, при таком одностороннем подходе ваш идеализм оборачивается просто поддержкой отвратительной хунты… Как ты можешь называть их отвратительными, их, таких приятных, порой даже довольно гибких? Чем они тебе отвратительны?.. Тем, что лжецы… Нет, ты не понимаешь! Согласен, может быть, они иногда и подвирают, но к этому их вынуждает рейгановская администрация, военно-промышленный комплекс выталкивает их из свободного мира в объятия тоталитаризма… Может быть, наоборот, чуть-чуть тормозит это объятие?
В кулуарах ПЕНовского конгресса этот поэт снова наскакивает на меня. Вот новый вариант петиции, тут уж соблюдена полная объективность! Текст петиции краток, что, как известно, роднит с талантом. «Мы, писатели, протестуем против американского вмешательства в дела независимого Никарагуа», и далее подписи. А где же тут объективность, мой друг? А вот она сверху, карандашом вписана — после слова «американского» вписано сверху «и советского». Неужели не видишь? Знаешь, мне кажется, что сначала лучше все-таки эту бумагу перепечатать, а потом давать на подпись.
На заключительном заседании конгресса петиция зачитывается вместе с подписями десятков писателей, которым не с руки выпадать из леволиберального истеблишмента. Иные подписи сопровождаются престраннейшими оговорками. Амос Оз, например, дает свое имя в поддержку сандинистам, однако, с деликатной оговоркой против тренировочных центров терроризма на территории Никарагуа. Объективность, на которую указывал мой приятель-поэт, при перепечатке пропала. Может быть, карандашная вставка оказалась не слишком разборчивой из-за чрезмерной деликатности руки, а может быть, среди идеалистов оказались и весьма практические люди.
«СТАРИК СОБАКИН»
Почти двадцать лет назад на даче номер 5 по улице Серафимовича «в городке писателей» Переделкино шла шумная вечеринка — отмечалось семидесятилетие Валентина Петровича Катаева. Съехались молодые гости, выкормыши «Юности», рекой лилось отменное вино, а подвыпивший хозяин все грозил: «Сейчас, старики, я вам выставлю такое вино, какого никто из вас, плебеев, никогда и не мечтал пить!» Не исключено, что ему мгновениями казалось, будто время отъехало назад и он снова в своей молодой компании двадцатых годов; все эти женьки, сережки, оськи, мишки, от которых и пошло на много литературных поколений вперед словечко «старики» и среди которых он был столь популярен под кличкой «Старик Собакин».
А впрочем, он был счастлив и в текущей хронологии, тогда в 67-м, возбужден присутствием своих учеников, предстоящей поездкой в Париж, успехом своей новой прозы. Новая проза в семьдесят лет — это ли не чудо? По Москве тогда только и говорили о «феномене Катаева». Семидесятилетие для него оказалось не унылым тупиком, а вершиной жизни. Сейчас, через девятнадцать лет, когда Катаев ушел из хронологии, почти ничего не осталось от той вечеринки, кроме фразы о каком-то чудесном вине. Из вашингтонского далека пытаюсь увидеть, как грусть обволакивает улицу Серафимовича, эту пресловутую Аллею классиков, где, несмотря ни на что, немало все-таки раздавалось хохота и дерзостных речей, пытаюсь пройти через кусты бузины к тому ручью, где побирушка мыл бутылки, чтобы началась проза «Святого колодца». Воздух той вечеринки, когда все наши тольки, васьки, андрюшки, белки, робки и булатки были беззаботно веселы, когда все болтали о только что выдуманном Катаевым полусерьезном «мовизме», очень быстро и безвозвратно испарился. Бытовое предательство социалистического реализма, это, так сказать, априорное «требование горба», мешало распрямиться и дружеским союзам. Трудно было считать учителем и вожаком человека, погрязшего в беспардонной лести по адресу властей предержащих.
Помню, как однажды, приехав с опозданием на «совещание творческого актива Москвы», я поднимался по лестнице Большого Кремлевского дворца в то время, как динамики разносили по всему огромному помещению речь Катаева, произносимую в данный момент с трибуны. Мне стало… нет, не стыдно, ничего другого нельзя было ожидать от Катаева на кремлевской трибуне, кроме совершенно беспардонного и даже какого-то неуклюжего в этой беспардонности славословия «нашему дорогому Леониду Ильичу»… Душа затуманилась грустью и досадой: ведь он мог бы уже и не влезать на эту трибуну в его тогдашнем положении признанного и почитаемого мастера, старейшины русской словесности. Говорят, что на такие и подобные акции побуждали его личные просьбы Михаила Андреевича Суслова. Если это действительно так, тогда это еще можно понять — ну как откажешь столь обаятельному господину, — можно, однако, и усомниться, подумав об инерции согнутости, об априорном присутствии «горба». После всех этих десятилетий иная позиция, очевидно, даже и не возникала в воображении, ведь не стыдится же человек в дождь надевать калоши и раскрывать зонт.
А потом в «Новом мире» появлялась какая-нибудь очередная «новая проза Старика Собакина», и, читая ее, я преисполнялся благодарностью и благодатью, кремлевская хмарь бесследно рассеивалась, образ придворного подпевалы стремительно улетучивался, уступая место второму — нет, все-таки первому «я» этого человека, мастера и волшебника нашего «жанра». Вспоминалось сразу все хорошее, какофония сменялась стройным звучанием струнных и меди, в прозрачных внехронологических пространствах соединялись две творческие толпы, обуреваемые одним блаженным хмелем прозы.
В шестидесятые годы мы носились со словом «проза». Никто бы не решился определить ее законы и пределы, однако всякий брался угадать ее присутствие или отсутствие. Классификация этого понятия казалась кощунством, «проза» в нашем понимании была сродни необъяснимому понятию «свинг» в игре джазиста. Ведь он же увидел «прозу» — нет, просто намек на прозу — в моих первых жалких рассказенциях… «темные воды канала, похожие на запыленную крышку рояля»… б-р-р-р… старики, поверьте, у этого мальца что-то есть… и позднее — торжественное при всем честном народе приближение со стаканом красного вина — старик, я пью за ваш роман. Никуда не убежишь от принадлежности к «катаевской школе», даже если и не очень следовал ее параметрам. Помнится, он мне говорил: «Вы пишете блестяще, старик, но слишком вы привязаны к сюжету…» Такова дуалистичность: писатель, опутанный по рукам и по ногам «сюжетом» своего секретарства, членства и лауреатства, в прозе пытался убежать от каких бы то ни было пут.
Так или иначе, он открыл нас, прозаиков «Юности»: Анатолия Кузнецова, который в конце концов попросил политического убежища в Англии; Анатолия Гладилина, который в конце концов, бросив открытый вызов соцреализму, эмигрировал во Францию; меня, которого в конце концов лишили советского гражданства за «систематическое причинение ущерба престижу СССР», что привело к переселению за океан. Несколько странные повороты сюжета, не так ли? Одними описаниями тут явно не обойдешься.
Последние два-три года мы с Катаевым не общались, даже вроде бы и не здоровались, встречаясь на переделкинских аллеях: грязная канава идеологии разливалась все шире. Иногда, впрочем, мы случайно сталкивались взглядами, чтобы тут же отвлечься к пролетающим птицам и самолетам, как бы показывая, что нам безразлично это приближающееся человеческое пятно на фоне неизменного российского сюжета, то есть пейзажа.
Подобно тому как знаменитую улыбку Михаила Булгакова называли «волчьей», катаевский взгляд нередко награждали тем же эпитетом: «волчий взгляд». Эта волчья зоркость, пронизывающая дерзновенность приводили его в творчестве иной раз на грань неслыханной и непредсказуемой дерзости. Так и в «Траве забвения» преследования зловещей метафизической козлищи открыли перед ним вид на памятник «узкобородому палачу в длинной шинели». Поступок этот сродни мандельштамовскому, когда поэт вырвал расстрельные списки из рук пьяного чекиста Блюмкина. Тайна преодоления сюжетных пут. Спохватываясь, автор начинал рассыпать оговорки, проситься на отогрев за пазуху к «доброй и сильной власти».
В официальном некрологе, подписанном в протокольном порядке всеми членами Политбюро и правительства, а также руководителями творческих союзов и организаций, как основные заслуги Катаева упоминаются романы «Время, вперед!» и «Сын полка», то есть те вещи, где меньше всего присутствует «проза» в том нашем романтическом понятии или «жанр» в понятии более зрелом. Вскользь называется «Белеет парус одинокий». Во главу угла ставится партийность Валентина Петровича — как формальное членство, так и внутренняя коммунистическая страстность и убежденность. В полном соответствии с логикой этого последнего в жизни Катаева хронологического документа в некрологе попросту не упомянуты его внехронологические вещи, его лучшая проза последних двух десятилетий, то, что относится к явлению, хмуро исключенному из обихода механической идеологии, то есть к чуду. Думая о Катаеве, не можешь снова и снова не задаваться вопросом: а какой образ этого человека был ближе к его сути — образ увенчанного всеми советскими наградами члена соцреалистического истеблишмента или образ волшебника русского языка, властителя стиля и заводилы художественного карнавала?
Однажды Валентин Петрович Катаев в составе делегации советских писателей посетил Соединенные Штаты Америки. На кампусе одного из крупных университетов в честь гостей был устроен ленч в профессорском клубе. Такие ленчи обычно проходят, что называется, в дружественной атмосфере, то есть чинно и скучно. Данный ленч не отличался от тысяч ему подобных, пока один из хозяев, седой и розовощекий американский профессор не обратился к Катаеву на чистом русском языке:
— Позвольте спросить, Валентин Петрович, не напоминает ли вам что-нибудь фраза «а мездра вся в дырках»?
Пораженный Катаев едва не расплескал свое «шабли» над чашечкой супа из бычьих хвостов. Фраза «а мездра вся в дырках» со страстью дебатировалась в Москве на заседании художественного совета Вахтанговского театра тому назад лет тридцать пять-сорок.
— Кто вы? — вопросил Катаев розовощекого профессора. Юрий Борисович Елагин (а это был именно он, наш вашингтонский писатель, автор широко известных книг «Темный гений» и «Укрощение искусства», который рассказал мне эту историю) представился.
В сезон 1933–1934 годов он, молодой музыкант, был концертмейстером и членом музыкальной секции Вахтанговского театра. В этом качестве он и участвовал в заседании худсовета, на котором Катаев читал свою пьесу «Дорога цветов». В пьесе фигурировал любовный треугольник, одним из углов которого была очаровательная Вера Газгольдер, поклонница МХАТа и дама весьма благородных качеств. Ее муж и ее любовник тоже были поклонниками МХАТа и джентльменами весьма благородных качеств. В определенный момент кризис разразился. Любовник сказал, что личная свобода дороже материального благополучия. Ты должна уйти со мной, сказал он подруге. Она встала. Муж молчал, понимая, что любовник прав — во всех традициях Художественного театра. Вера, оставь все! — сказал любовник. Благородный муж сказал, что это несправедливо и что половина имущества принадлежит Вере. Нет, она не возьмет ничего, возражает любовник. Диалог развивается как демонстрация все нарастающего взаимного благородства. Возьми хотя бы шубку! — настаивает несчастный муж. Хорошо, говорит любовник, я заплачу за шубку. Сколько? Муж, пожав плечами, называет сумму. Любовник впервые опешил. Позвольте, но отчего же так много? Муж снова пожимает плечами — да ведь шубка-то почти новая. Любовник растерянно крутит в руках шубку, а потом произносит ударную фразу: «А мездра вся в дырках!» Весь художественный совет корчится от смеха, но потом, отсмеявшись, член худсовета Борис Евгеньевич Захава (тому уже пятьдесят три года назад, милостивые государи!) предлагает эту фразу «вырубить», потому что она «звучит двусмысленно». Начинается бурная дискуссия вокруг мездры. Побледневший Катаев заявляет, что он скорее откажется от всей пьесы, чем от этой фразы. Не знаю, удалось ли ему отстоять эту «мездру» (скорее всего, нет), но сам по себе порыв говорит о многом.
Вкуснейшее слово «мездра», да еще которая «в дырках», была ему, конечно же, дороже всех принципов социалистического реализма, даже если он когда-нибудь всерьез оценивал эти принципы. В той же степени диалоги Пети, Гаврика и Моти, этих одесских Тома Сойера, Гекльберри Финна и Бекки Тетчер, равно как и описание морского дна или процесса распития бутылки прохладительного напитка «Фиалка» были ему в миллион раз дороже банального революционного фона, коим он уснащал свои черноморские повести для «проходимости». Между прочим, кто изобрел этот скабрезный термин — Олеша или сам Валентин Петрович? Позднее нам казалось, что этот термин появился в нашей литературе как бы специально для того, чтобы обозначить определенный тип писателя словечком «непроходимей». Толя, это правда, что вы стали настоящим «непроходимцем», спрашивал Катаев у своего любимого ученика Гладилина.
Когда наступил подходящий момент, он и сам с перехваченным от восторга дыханием переступил порог и вошел в свою новую прозу, свободную от всякой революционной банальности. Прозу эту, череду блестящих повестей, начиная от «Святого колодца» и кончая великолепным рассказом «Спящий», написанным на пороге девяностолетия, можно было бы назвать растянувшейся исповедью, если бы у фокусника и чудотворца жанра было бы желание исповедаться, в чем можно усомниться. Мне представляется этот поток как процесс длительного наслаждения словами сродни тому наслаждению, что испытывал Павлик при распитии прохладительного напитка «Фиалка» или сродни потряхиванию в ладонях щедрого захвата мокрой переливающейся гальки. Конечно, иногда приходилось идти навстречу любезным просьбам Михаила Андреевича, громоздиться на трибуны, восхвалять партию и ее людей или голосовать за исключение диссиденствующих коллег, но зато потом, отринув бесформенную, бессловесную муть быта, можно было безбоязненно — наконец-то! — погрузиться в трансцендентную внехронологическую стихию словесного творчества — продлить, продлить, продлить тот блаженный нырок Пети в начале «Паруса». Вот почему постоянным спутником на карнавале для Катаева был Мандельштам. Никто, очевидно, не был так близок к нему в роли неутомимого заклинателя слов, и когда он повторял мандельштамовское
Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным, за мельничным шумом… —он, наверное, удивлялся, почему это не он сам написал. А может быть, в эти минуты для него не имело значения, кто из них это написал.
По соседству, однако, то и дело выплывала реальность: боевая, советская «проходимость» в виде назойливого спутника, человека-дятла (в первом варианте он был осетром), шутника, подхалима, блатмейстера, доносчика и лизоблюда… Жить и путешествовать приходилось среди таких персонажей. Он вспоминает утверждение Моруа о том, что нельзя одновременно жить в двух мирах — действительном и воображаемом. Моруа ошибается, восклицает он. Я всегда жил в двух измерениях! Sic! — скажем мы. В одном измерении, которое считается реальностью, а на самом деле, может быть, является лишь гримасой, он был лауреатом, а в другом — истинным корифеем прозы, стоящим выше и Бабеля, и Олеши.
1986
ОТЛОВЛЕННЫЙ БЕГЛЕЦ
Без пяти столетие Осипа Мандельштама. Из всех своих «серебряновековцев» Мандельштам, возможно, был самым беглым; с самого начала вольный казак, или, как нынче говорят о людях, не признающих взаимокрепостничества, «внутренний эмигрант». Собственно говоря, вся их компания тринадцатого года культурно и эстетически была основательно отчуждена от российского общества, не говоря уже о российской государственности. В этом смысле интересно стихотворение «Царское Село», посвященное Георгию Иванову. Персоны власти предстают перед юношами будто экспонаты кунсткамеры.
…И, саблю волоча сердито, Выходит офицер, кичась: Не сомневаюсь — это князь… И возвращается домой, Конечно, в царство этикета, Внушая тайный страх, карета С мощами фрейлины седой, Что возвращается домой…Или в стихах, обращенных к Гумилеву:
…Чудовищна, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело.Впрочем, Россия тринадцатого года позволяла им от себя убегать, может быть, оттого, что и она сама от себя убегала в космополитизм. Море давно уже открыло Петербург, воздушные пути готовились к открытию Москвы. Молодые поэты были одержимы этим бегством, недаром их кафе называлось «Бродячей собакой». В стихах постоянно присутствовала Европа.
В таверне воровская шайка Всю ночь играла в домино. Пришла с яичницей хозяйка; Монахи выпили вино. Вздымалась готика Германии… …Разноголосица какая В трактирах буйных и церквах, А ты ликуешь, как Исайя, О рассудительнейший Бах!..Англия казалась близкой сестрой…
Когда, пронзительнее свиста, Я слышу английский язык, Я вижу Оливера Твиста Над кипами конторских книг.Даже и Америка уже мелькала в образе двадцатилетней туристки, что должна добраться до Египта…
…И в Лувре океана дочь Стоит, прекрасная, как тополь; Чтоб мрамор сахарный толочь, Влезает белкой на Акрополь.Любопытно отметить, что в предреволюционном Петербурге было много автомобилей; они пробегают через стихи Мандельштама, «сирень бензином пахнет»; карнавал продолжается всю ночь, «от легкой жизни мы сошли с ума»; двери всегда настежь, «в пожатьи рук мучительный обряд. / На улицах ночные поцелуи»… Впрочем, он убегал еще дальше товарищей, постоянно стремился к Средиземному морю, будто во снах ему нашептывалось направление.
Критики упрекали его в ложноклассичности, хотя эта тяга, разумеется, мало относилась к поискам стиля — скорее к онтологии. Все-таки и в поэтическом цеху Петрополя той поры он был слегка чужаком. Блок где-то заметил: «Зачем нам второсортный Рубанович, когда у нас есть первосортный Рубанович-Мандельштам?»… Злослов, конечно, может расширить шутку и сказать: «Зачем нам второсортный Шульц, когда у нас есть первосортный Блок», но все-таки и в самом деле юный Осип в стране русского стиха был беглецом, иудеем, средиземноморским человеком.
Стихия русского языка звучала в нем наподобие критских волн, он мечтал о бегстве из языка в музыку.
…Да обретут мои уста Первоначальную немоту, Как кристаллическую ноту, Что от рождения чиста! Останься пеной, Афродита, И слово в музыку вернись, И сердце сердца устыдись, С первоосновой жизни слито!Первооснова жизни для юного Мандельштама происходила из южного моря, оттуда шел «широкий ветер Орфея»; в современном Петербурге рядом с кинематографом, теннисом и автомобилями вполне естественно возникали образы Эллады, Иудеи и Рима.
Природа — тот же Рим и отразилась в нем. Мы видим образы его гражданской мощи В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, На форуме полей и в колоннаде рощи.Отчужденный от имперской мощи и приобщенный к новому космополитическому веку молодой поэт ощущал себя свободным в дольном мире русского стиха, он и сам простирал этот мир от Греции до Шотландии. Мировая война, вдруг налетевшая на этот материк, похожий, по Мандельштаму, на «средиземного краба», впервые омрачила столь прозрачные горизонты, и поэт обращается к своей матери с пока еще элегическим призывом: «О Европа, новая Эллада, охраняй Акрополь и Пирей!..» Ощущение древнего Средиземноморья в стихах Мандельштама настолько вещественно, выпукло и зримо, что нельзя не подумать о прежних инкарнациях этого бродячего духа и Божьего дара. Прислушайтесь или вчитайтесь.
…И ласточки, когда летели В Египет водяным путем Четыре дня они висели, Не зачерпнув воды крылом…Четыре дня! Беспосадочный подвиг! Мечта беглеца! Или
Обиженно уходят за холмы, Как Римом недовольные плебеи, Старухи овцы — черные халдеи, Исчадье ночи в капюшонах тьмы… На них кустарник двинулся стеной И побежали воинов палатки, Они идут в священном беспорядке. Висит руно тяжелою волной.Не важно, что здесь все перепутано, что здесь нет логического историзма, многоступенчатость метафоры воскрешает древний мир с гораздо большей мощью, чем костюмированные киносъемки. Что уж говорить о стократно нами всеми любимом «Бессонница. Гомер. Тугие паруса»! Магия точно расставленных слов — это и есть классика, а «сей длинный выводок, сей поезд журавлиный» превращает список кораблей в живую воинственную регату. Мандельштам для русского любителя поэзии идет в кильватере за Гомером, хотя сам никогда — в отличие от Гоголя — не помышлял об этом, а только лишь чувствовал метафизическую сопричастность.
Мне осень добрая волчицею была И — месяц цезарей — мне август улыбнулся.Вечно убегая от России, он не изменял ей, он только лишь чурался ее образа, как медвежьего угла, как свирепой глухомани, где сани ухают в черные ухабы, где переминаются у ворот в угрюмом томлении «худые мужики и злые бабы». Для него Россия — это срединное царство, открытое к югу, зона смешивания культур и животворящей истории.
…Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, Где реют голуби в горячей синеве, Что православные крюки поет черница: Успенье нежное — Флоренция в Москве…Революцию Мандельштам воспринял как угрозу любимому миру, как наступление льдов, как облаву. Плачь по Петрополю зимой восемнадцатого года — одна из его трагических вершин.
…Прозрачная звезда, блуждающий огонь, Твой брат, Петрополь, умирает… Чудовищный корабль на страшной высоте Несется, крылья расправляет — Зеленая звезда, в прекрасной нищете Твой брат, Петрополь, умирает…Образ космического движения противопоставлен образу плена, оцепления, агонии. Он плакал не по Петербургу брони и этикета, а по месту своей молодой свободы, бивуаку беглецов, привалу комедиантов.
Пытаясь спастись, Мандельштам бежал к югу. В быту это именовалось «на юг, подкормиться», по сути же он панически стремился к истокам своей жизни, ведь Россию с юга еще омывало греческое море, в каменистой Тавриде жила еще наука Эллады, на склонах Коктебеля виноград еще стоял, «как старинная битва, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке»… Здесь у него возникало ощущение возраста, беглец притворялся спасенным, убежавшим, вернувшимся.
…Золотое руно, где же ты, золотое руно? Всю дорогу шумели морские тяжелые волны, И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей возвратился, пространством и временем полный…Увы, ему еще предстояло большое путешествие, вернее — многолетнее мучительное бегство, петляние среди все сужающихся загонов, все дальше от прародины, все ближе к большевистской тьмутаракани, все холоднее, все мрачнее, когда, уже испробовав все лазейки и везде наткнувшись на конвой, в отчаянии, в начале тридцатых беглец хрипит: «…Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей…» В уподоблении себя, вольного певца, какой-то шапке — с Мандельштамом уж никак не вяжется понятие шапки, да еще и такой, что запихивается в рукав; средиземноморский странник видится либо с непокрытой головой, либо уж в пушкинском шапокляке — в уподоблении этом скрыт истинный кошмар. Он, всю жизнь бежавший всяческой клаустрофобии, алкавший пространства, в котором ласточки висят четыре дня по пути в Египет, нынче жаждет темного и душного угла, как бы предвидя уже себя зеком.
В тридцатые годы тоска по «колыбели человечества» как по чему-то безвозвратно утерянному все усиливается: «О, если б распахнуть, да как нельзя скорее, на Адриатику широкое окно». Невыносимость поднадзорного «московского злого жилья», нарастание клаустрофобии, наглость мучительных домовых коммунального быта, бесивших и Булгакова — «…а стены проклятые тонки, и некуда больше бежать»… Однако и Москва еще слишком широка, запихивают все глубже в рукав. Из Воронежа, где метался под арками, славящими героев льда — челюскинцев, он взывает к Риму, Тифлису, к Франции: «Я прошу, как жалости и милости, Франция, твоей земли и жимолости». Тоска по утраченному простору проходит уже по краю бреда: «…На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко»… Нет, уже не вырваться, всегда на часах «трое славных ребят из железных ворот ГПУ»… Доступны лишь киночары: Чаплин и Чапай, единственный советский герой, с которым Мандельштам чувствует родство:
…За бревенчатым тыном, на ленте простынной Умереть и вскочить на коня своего! —родство несостоявшегося бегства. Теперь уже поздно — отловили окончательно.
Стихи все-таки вырвались, ушли в полет, словно ласточки пятнадцатого года, висели много лет над водой и пересекли океан.
НАЗВАВШИЙ ОТТЕПЕЛЬ (к девяностопятилетию Ильи Эренбурга)
В январе 1986 года мы отмечаем два «без пяти столетия» — юбилеи Мандельштама и Эренбурга, людей очень разных и очень близких друг другу в некоторые периоды своей жизни, людей «одной толпы», если воспользоваться американским выражением, приятелей, если не сказать собутыльников. Совсем недавно где-то я читал, как Эренбург и Мандельштам шлялись в Тифлисе по пиросманиевским духанам, а потом Эренбург, назначенный вдруг каким-то культурным комиссаром, оформил «кореша» фиктивным секретарем, чтобы вдвоем в спецвагоне добраться до Москвы.
Тот период в истории нашей культуры вообще-то очень хорошо, до каких-то чрезвычайно живых деталей и мелочей нам известен, и не только известен, но и близок; мне иногда кажется, что я и сам из «той толпы». И все-таки два нынешних «юбиляра», столь близких друг другу, отстоят от нашей жизни в разных космических диспозициях. Мандельштам, сгинувший в конце тридцатых, — гораздо отдаленнее и классичней (разумеется, по разным параметрам), Эренбург, умерший в 1967-м, ближе хотя бы уж потому, что большая часть жизни прошла неподалеку. Редкий поэтический дар и то, что называется «бойким пером», конечно, несопоставимы, но я не собираюсь их сопоставлять, а говорю лишь о превратностях судьбы.
По сути дела, мы знали Эренбурга всегда. Для нас, детей военных лет, он был неизменным участником войны, автором грозных, или, как тогда говорили, «разящих», антигитлеровских (часто, увы, и просто антинемецких) статей в «Правде» и в «Известиях», а потом, в послевоенные отроческие годы, автором толстенных «романешти» вроде «Бури», которые при всей их советской аляповатости все-таки показывали нам какие-то картинки запретного западного быта и даже вносили в нашу жизнь некоторый европейский сентимент — например, любовь к Парижу. Позднее выяснилось, что Эренбург при всей своей живучести сохранился в неживые сталинские времена только частично.
Знакомство с другим, запрятанным Эренбургом, началось у меня раньше, чем у большинства моих сверстников благодаря моей матери Евгении Гинзбург. К шестнадцати годам я приехал в Магадан, где мать наслаждалась своим ссыльным расконвоированным положением после десяти лет каторги. В бесконечных наших литературных разговорах выяснилось, что Илья Эренбург был ее любимым писателем, едва ли не кумиром ее молодости. По памяти она читала мне огромные куски из «Хулио Хуренито», а также стихи Ильи, столь непохожие на его правдистские «разящие» строки:
…гости земли, мы пришли на один только вечер, мы любили, шутили, мы жили в наш смертный час, а над нами стояли звезды вечные, и под ними мы зачали вас…В годы маминого студенчества Эренбург был исключительно популярен среди идеалистической, троцкистски настроенной молодежи. Революция воспринималась ими в ее троцкистском варианте или в том, что под этим подразумевалось в противовес унылой жестокости сталинщины, как интеллектуальный, романтический и даже иронический процесс, в котором такие художественные фигуры, как Эренбург, были вполне уместны. В годы моей студенческой юности среди извлеченного «из-под глыб» были и эренбурговские сочинения.
Помню, прыгали до потолка, раздобыв разлохмаченную настоящую копию того же «Хулио» издания двадцатых годов. Начиналась вторая слава Эренбурга. Даже и выкопанная у букинистов полузапретная его повесть «День второй», написанная уже в «золотой век» коммунизма тридцатых годов и посвященная каким-то там тошнотворным индустриализациям, вызывала у нас огромный интерес, потому что от нее веяло авангардной стилистикой. Смутно мы, юнцы первых послесталинских лет, уже понимали, что этот человек соединяет нас с запретным Серебряным веком. В периодике стали появляться странные стихи советского парижанина.
…Мальчика игрушечный кораблик Уплывает в розовую ночь. Если паруса его ослабли, Может им дыхание помочь… Прости, что жил я в том лесу, Что все я пережил и выжил, Что до могилы донесу Большие сумерки Парижа.Потом Эренбург в необычной и весьма наступательной статье представил обществу нового поэта Бориса Слуцкого.
Роман «Оттепель» наделал шуму немалого. Можно сказать, всколыхнул советскую интеллигенцию, растревожил правящих идеологов. Недавно, готовясь к своему университетскому семинару, я перечитал его — довольно скромная штучка. Непонятно (с современной точки зрения), из-за чего ломались копья по всему пространству «родины чудесной». Если же вспомнить все-таки ту точку зрения начала 1956 года (у нас, увы, очень часто книги и события рассматриваются в отрыве от временных обстоятельств), то тогда станет понятно, что Эренбург проявил здесь свое совершенно исключительное журналистское чутье. Довольно уж и того, что главный конфликт развивается в сфере изобразительного искусства. Противостояние чистого художника и приспособленца отвечало самым горячим запросам публики. Почему-то именно вокруг живописи монолитное общественное мнение пошло вразнос. Редкие выставки прежде запретных импрессионистов вызывали неадекватное бурление страстей, едва ли не до драк. Ветеранам вохры и чеки полотна «ненаших» художников казались знаменами вражеской армии. Так или иначе, но не следует забывать, что именно название этой незатейливой книжки Эренбурга обозначило столь необычный и столь важный период советской истории, который, может быть, когда-нибудь в будущем с птичьего полета истории будет рассматриваться как репетиция к чему-то более серьезному.
В 1961 году вышла сенсационная первая книга мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь», началась завершающая пора его усилий по восстановлению испохабленной исторической и художественной памяти. За эти усилия ему можно простить многое. Он соединял цепь времен. Я познакомился с Ильей Григорьевичем в том же году в Доме культуры подмосковного города Жуковского на сенсационном (все, что было связано тогда с Эренбургом, сопровождалось сенсацией) вечере памяти Бабеля. Мы сидели рядом на сцене перед залом, битком набитым тогдашними так называемыми «физиками», то есть молодой научной и технической интеллигенцией, жадно поглощавшей все новое. Возвращались мы в Москву в одной машине. Я тоже старался времени не терять и вытаскивать из Эренбурга как можно больше «нового», то есть, по сути дела, очень «старого». Потом он сказал: «Я вижу, что вы, нынешние молодые писатели, стараетесь перепрыгнуть через отцов к нам, дедам». Это было верно. Так называемые отцы — лошади сталинского соцреализма — в лучшем случае вызывали у нас только насмешку; к «дедам» же, то есть к тем, кто еще остался от славных творческих лет, мы тянулись.
Однажды собрались четверо: Юрий Казаков (незабвенный наш друг и мастер прозы), Анатолий Гладилин (ныне представляющий парижское эмигрантское отребье), я (ныне представляющий вашингтонское эмигрантское отребье) и Эдуард Шим (ныне соавтор самого совписательского генсека Георгия Маркова, а в те времена снискавший популярность благодаря чьей-то рифмовке «как сказал товарищ Шим, в ресторанчик поспешим»). Поехали, ребята, в Новый Иерусалим к Эренбургу! Не прогонит же! И впрямь не прогнал. В метельную ночь на шимовской «победе» мы проехали сорок километров и ввалились в новоиерусалимскую дачу. Там было тепло, горел камин, мирно гуляла большая рыжая собака, кажется, колли.
Хозяин беспрерывно курил французские сигареты «голуаз», с удивлением поглядывал на четырех молодых парней, вдруг пожаловавших среди ночи. Что их привело? Оказывается, просто поговорить приехали о том, что не вошло в книгу «Люди, годы, жизнь», то есть о том же. Пожалуйте к столу. Любовь Михайловна сварила кофе. Мы просидели у них несколько часов, расспрашивая хозяина о Гумилеве и Мандельштаме, о «Бродячей собаке» и «Привале комедиантов», о Париже и Берлине двадцатых годов, об Испании и Хемингуэе, о Сталине и о Хрущеве.
Было общим местом считать, что Эренбурга связывали с «кремлевским горцем» какие-то особые личные отношения. Илья усмехнулся: «Я его никогда не видел. Все наши отношения свелись к нескольким моим письмам». Нам показалось, что его чуть покорежило при воспоминании об этих письмах. Кто-то из нас, не отягощая себя излишней щепетильностью, спросил: «А почему вас не посадили, Илья Григорьевич?» Вместо ответа он стал рассказывать, как однажды по возвращении из Испании и Франции они с женой весь день сидели в скверике, боясь зайти в свою квартиру в полной уверенности, что там их ждут «гости дорогие». Когда же решились и зашли, там никого не оказалось. В принципе, мы ждали их каждую ночь все эти годы…
Через год с небольшим после этой встречи мы с Эренбургом оказались в числе главных мишеней идеологической кампании, затеянной Хрущевым. В первый день сборища под лазурным сводом Свердловского зала Кремля Хрущев атаковал в основном Эренбурга. Вы, Эренбург, кричал он, ненавидели нашу революцию с самого начала! Для нас она была праздником, для вас — горем! Через несколько рядов кресел я видел Эренбурга. Нахохлившись, будто старый петух, он сердито отмахивал ладонью развязные выкрики вождя. Летом 63-го года мы встретились в ресторане «Крыша» ленинградской гостиницы «Европейская» на ужине с танцами для конгресса европейских писателей. Вокруг порхали итальянцы и французы. «Разрядка» под икру и шампанское шла неплохо. Зачем вы дали свою подпись под этой покаянной статьей в «Правде», укорил он меня. Мне объяснили, что только так можно спасти от разгона наш журнал, сказал я. Это была ошибка, сказал он, вы напрасно это сделали. Мы ушли в угол, долго там курили и выпивали вместе. Кто, как не я, понимает трудность бескомпромиссной позиции, говорил Эренбург, но сейчас как раз настало такое время, когда мы должны им дать понять, что в эти игры мы больше не играем. Он очень хорошо чувствовал время.
БЕГСТВО В ЧАРЛЬСТОН (Весна)
…Чтобы почувствовать себя по-настоящему свободным, решил отправиться на машине. Десять часов езды со средней скоростью шестьдесят миль в час, то есть со значительным нарушением закона об ограничении скорости. Вирджиния переходит в Северную Каролину, которая в свою очередь вполне безболезненно перекатывается в Каролину Южную. Казалось бы, монотонное скольжение мимо бесконечных мотелей, бензозаправочных станций, пиццерий и ресторанов «фаст фуд», однако, если запускать свой приемник на поиск мелких местных радиостанций, можно кое-что узнать о жизни пробегаемых пространств и даже иной раз почерпнуть из этих передач нечто новое.
Так однажды из эфира выплыла лекция почтенного негритянского проповедника. Он, очевидно, говорил перед собранием своих… как сказать?., соплеменников не скажешь, это будет полностью ненаучно… соратников?.. звучит как-то диковато… словом, он выступал в негритянской аудитории, потому что все время говорил «мы с вами». Мы с вами играем все большую роль в этой стране. Посмотрите вокруг — «они» уже одеваются, как мы, поют, как мы, танцуют, как мы! Но все-таки, дети мои, продолжал он, для того чтобы продвигаться к высоким позициям в этой жизни, вы должны уметь говорить, как они, и писать, как они. Мы наделены энергией Африки, говорил он, а Африка — это родина цивилизации. Африка дала множество гениальных людей. Великолепные стихи писал русский поэт-африканец Александр Пушкин. Французы зачитываются книгами Дюма, хотя и не спешат признать, что он был черный француз. Немцы гордятся музыкальным гением Бетховена, однако замалчивают тот факт, что и он был черным немцем… Вот тут мне захотелось свернуть с федерального шоссе 95 и разыскать ту церковь, где была записана эта программа: наверняка у них там есть еще кое-что в запасе.
Отправляясь в Чарльстон, я уже знал, что это один из самых старых приморских городов Америки, основанный еще в середине XVII века (то есть во времена царя Алексеев Михайловича) английскими моряками, иные из которых несколько грешили пиратством, а также беженцами-гугенотами из Франции. Туристские проспекты гласили, что в этом городе немало предметов с эпитетом «самый» — самый старый, самый первый: самая старая баптистская церковь Юга, самый старый католический собор, первая синагога, построенная на Юге, первая чугунная подводная лодка с ручным ходом, которую предприимчивые южане изобрели во время Гражданской войны с целью незаметного торпедирования северных парусно-паровых линкоров; кроме того, городской Колледж оф Чарльстон является старейшим муниципальным колледжем страны, а в районе порта сохранились строения старейшего завода с паровым двигателем по обработке риса, а также порохового хранилища.
Рис и порох — что еще нужно человеку, кроме, разумеется, бочонка рома? При слове «чарльстон», конечно же, вспоминается популярный танец с выбрасыванием ножек в стороны, коим буржуазный Запад отравлял пролетарское сознание еще в двадцатые годы. В принципе, если бы этот танец был изобретен здесь, город не упустил бы возможности этим похвастаться, как, скажем, скучный Кливленд гордится первым исполнением рок-н-ролла. Нигде, однако, мне не пришлось столкнуться с упоминанием этого танца, а нечто похожее я заметил только в движениях тонконогих птичек сэнд-пайперс на пляже острова Фолли во время отлива. Кстати о птицах: главенствующей разновидностью здесь является пеликан. Впервые здесь я наблюдал разностороннюю активность этих дивных прототипов морской авиации. Где-то неподалеку на косе острова Фолли размещалось их лежбище, однако они не прохлаждались там над своими яйцами и не базарили в бессмысленной жажде выговориться, а вели интенсивную разведку всех окрестностей. Передвигаются они эскадрильями по семь-девять единиц. Летят, выставив вперед свои выдающиеся носы, разглядывая море или дюны неглупыми глазами. Иногда такой отряд несется стремительной цепочкой прямо над гребнем прибойной волны, иногда барражирует над дюнами в клинообразном построении, и иногда вы можете отчетливо читать команды вожака — «делай как я!».
Фиксирую себе такой момент. Дощатая терраса над огромным океанским пляжем. Пустынно. Сильный ветер. Трещат ветки одинокой пальмы. Говорю по телефону с отдаленным существом. Неподалеку почти висит в потоке встречного ветра эскадрилья пеликанов. Не хотелось бы это забыть.
Чарльстон называют «святым городом» — в нем сто шестьдесят церквей. Я посетил только две, но, кажется, наиболее примечательные. В самом центре старого города находится епископальный собор Святого Филиппа, основанный в 1680 году. Колокольня его — самая высокая точка города. Неподалеку, на той же самой улице Черч, стоит, будто декорация к фильму о средневековой Франции, единственная в Америке гугенотская церковь. Помните Ла-Рошель, господа, при осаде которой так отличился великолепный д'Артаньян? Вот именно потомки защитников этой крепости побежали за океан после отмены Нантского эдикта Людовиком Четырнадцатым. Удивительно то, что здесь до сих пор служба иногда идет на французском языке. Блуждая по узким улочкам Чарльстона, столь напоминающим старую Европу, я вспомнил Таллин и Копенгаген. Иные улочки этого города, например улица Радужный ряд, с их жилыми домами североевропейского стиля, казалось, были перенесены сюда оттуда. Общий облик города, однако, имеет свои уникальные черты, которые придают ему сугубо южнокаролинские особняки с обширными верандами и белыми колоннами. Еще совсем недавно центр города или, как говорят американцы, «даунтаун» был в состоянии полного маразма. Теперь все старинное самым тщательным образом реставрируется. Особое внимание уделяется дверям с их узорными аппликациями и медными ручками. Всю ночь светятся витрины антикварных магазинов. Не верьте тем, кто говорит, что в Америке нет истории. Этот город на полстолетия старше Питера…
Я приехал сюда по приглашению, как выразился бы Виталий Коротич, «американской военщины», а именно департамента английской литературы учебного заведения «Цитадель» — военного колледжа штата Южная Каролина. Не менее трехсот кадетов, здоровенных парней с короткой стрижкой «крюкат», заполнили аудиторию на моей лекции. Не знаю уж, сами ли пришли или были приглашены в дисциплинарном порядке, однако на шутки реагировали живо и вопросы задавали вдумчивые. Между прочим, когда-то «Цитадель» готовила офицеров для войны против Вашингтона, то есть для армии южных конфедератов, противостоящих северным юнионистам.
В Чарльстоне память о Гражданской войне, самой кровопролитной войне в истории Америки (потеряно было с обеих сторон пятьсот тысяч человек, то есть в десять раз больше, чем во время вьетнамской экспедиции), чрезвычайно жива. Кроме упомянутой уже чугунной подводной лодки, выставленной на обозрение перед зданием городского музея (конечно, старейшего в стране), вы можете увидеть здесь очень впечатляющие орудия, стоящие вдоль набережной на чудесной Восточной Батарейной улице и нацеленные в глубину залива. То тут, то там видишь памятники геройским генералам южан. Вообразите себе памятники Корнилову или Деникину в Таганроге или Мариуполе. Надо сказать, что некоторое предубеждение на Юге против Севера еще имеет место и иногда принимает довольно курьезные формы. Один почтенный генерал в отставке рассказывал мне, что, когда он в юности решил пойти учиться в военную академию Уэст Пойнт, в семье поднялся переполох. Главную озабоченность семьи выразила бабушка. Старая леди (их обычно весьма почитают в американских семьях и даже иногда называют «наше национальное достояние») сказала юнцу: «Не в том даже беда, Чарльз, что ты поступишь в военную академию янки (то есть северян), а в том, что после окончания академии ты женишься на девушке янки». Все так и получилось, как старушка предвидела, и наш Чарльз внес значительный вклад в дело дальнейшего укрепления единства страны.
Иногда думаешь — а что бы получилось, если бы южанам удалось отбиться от северян? Вместо единых США мы бы имели теперь США и КША, то есть Конфедерацию Штатов Америки. Выиграло бы от этого дело построения коммунизма во всем мире или еще хуже бы проиграло — вот глубокомысленный вопрос «занимательной истории». В прошлом Чарльстона немало страниц, как мы видим, связано с морем и с войной, и среди его туристических объектов имеются соответствующие экспонаты, если можно так сказать, например, о «Саванне» — первом торговом корабле с ядерным двигателем, который сейчас стоит в порту на мертвом якоре и является объектом туристических экскурсий. Рядом с «Саванной» и в том же качестве располагаются две подводные лодки времен Второй мировой войны, а также самый внушительный экспонат всего Чарльстонского исторического заповедника — герой битвы на Тихом океане авианосец «Йорктаун». Тут, между прочим, возникает один курьезный зигзаг в переводе с английского на русский. Дело в том, что любой военный корабль, независимо от размеров и имени, в английском языке является дамой в том смысле, что о нем говорят «ши» — «она». Таким образом, говоря об авианосце «Йорктаун», мы могли бы без излишней дерзости сказать — авианосица «Йорктаун». Как тут не вспомнить Маяковского — «по морям, играя, носится с миноносцем миноносица…». Авианосица недурно проводит пенсионное время. Кроме обслуживания туристов, она еще несет в эфир «разумное, доброе, вечное», ибо на ней располагается явно одна из лучших в стране радиостанция образовательных программ. Музыкальная часть этих программ просто восхитительна. Возвращаясь из Чарльстона, я настроился на эту бывшую фабрику огня и стали, столь сильно попортившую нервы самураям, и на протяжении ста миль слушал классическую музыку.
В Чарльстоне, как и во всем мире, усиливается туризм. Здесь сейчас бум. Все гостиницы, даже непритязательные мотели, заполнены. Как и все старинные города мира, этот тоже научился извлекать доход из своего возраста. Говорят, что летом здесь испепеляющая жара и удушающая влажность. В апреле, во время моего мини-драпа, воздух был прозрачен, а бризы свежи. Ближе к вечеру я отправлялся в старый город и начинал свои блуждания с рыночной площади, где на каждом углу сидят негритянки, продающие плетеные корзины. Отсюда начинают свои туры конные экипажи, возницы которых жестами и тембром голосов напоминают университетскую публику. Лошади тоже не уступают им в элегантности, под хвостом у каждой приторочен мешок, дабы не загрязнять исторические мостовые. Вы наталкиваетесь на пьяного продавца шляп и понимаете, что вам от него не уйти. Ну, дружище, говорит он, выбирай — белую с синей лентой или синюю с белой лентой. Помахивая какой-то шляпой, вы продолжаете свой путь, заглядывая в окна кафе. Большинство девушек-официанток представляются вам гугенотского происхождения, может быть, потому, что вы чувствуете себя в такой вечер как миллионы подобных вам по всему миру, немножечко мушкетером. Чем ближе вы подходите к Восточной Батарейной (название поистине севастопольское, не правда ли?), тем явственнее вы слышите шлепки волн о парапет. В старинных узких и очень высоких окнах особняков видны спиральные лестницы, столики красного дерева и портреты плантаторов в рамах. В проломах амбарной стены вы вдруг замечаете группу молодежи в шутовских колпаках, в плащах и мантильях — там, оказывается, разыгрывается под ритм рок-н-ролла «Сон в летнюю ночь». Ваше приключенческое настроение еще больше увеличивается после ужина прямо у стойки приморского бара, куда вам сверху из кухни любезнейший потомок пиратов приносит миску крабьего супа и дюжину больших креветок. Постарайтесь пронести ваше приключенческое настроение до гостиницы и вместе с ним благополучно нырнуть под одеяло. Возле гостиницы в освещенном пятне бензоколонки человек заправляет «кадиллак». Ему восемьдесят, он в военном мундире с наградами и в шотландской юбке до колен. Мне нравится Америка тем, что в ней довольно много чудаков. Пожалуй, не меньше, чем в России.
ЮБИЛЕЙ ВЕЩАНИЯ И ГЛУШЕНИЯ
Все мы за истекшее десятилетие перекормлены юбилеями, а тут еще и суперюбилей приближается — семидесятилетие октябрьских событий в Петрограде; и все-таки, вот еще один юбилей — сорокалетие «Голоса Америки». Психологически солидное понятие юбилей, в котором как бы само собой разумеются внос тяжелого бархатного знамени и прикалывание к оному ордена Трудового Красного Знамени (так, очевидно, отмечает свой юбилей ведомство заглушек), плохо вяжется с извлекаемыми из эфира космически отдаленными голосами вашингтонцев, читающих сначала новости, а потом «новости в подробном изложении»; но тем не менее именно сорок лет назад начала работать эта радиостанция, сыгравшая чрезвычайно значительную роль в развитии современного мира. Пытаясь вспомнить, когда я первый раз услышал позывные «Голоса», я попадаю на заваленные снегом улицы Магадана 1948 года.
В те времена, когда я шестнадцатилетним мальчиком приехал туда к ссыльной матери, в Магадане оставалось еще много примет недавнего военного союза с Америкой. Улицы, например, расчищались от снега огромными машинами, каких «на материке», ни в Москве, ни в Казани, не видывали. Машина засасывала снег в большое жерло и выбрасывала его из устрашающей трубы в кузов самосвала, поднимая при этом тучи снежной пыли и оглашая мирные края ГУЛАГа свирепым американским воем. По основной колымской дороге, на север и обратно, двигались гигантские американские автопоезда «Даймонд». Скорость их не намного превышала скорость пешего этапа зеков, но зато они перевозили тяжелое оборудование для золотых и урановых рудников, чего зеки, при всем их горячем желании, сделать не могли. Это были гигантские остатки программы «ленд-лиза», на основе которого Соединенные Штаты снабдили Советский Союз немыслимым количеством техники, но в Магадане оставались еще и не столь объемистые, хотя гораздо более привлекательные заокеанские дары: в 1948 году тамошние магазины все еще торговали американским яичным порошком и свиной тушенкой «Спам». Словом, как ни странно, в этом городе, столице Колымского края, то есть центре пространной сети концлагерей, чувствовалась близость Америки, во всяком случае ее северной территории — Аляски. Кроме вохровцев, здесь было немало и мужественных людей, моряков и летчиков. Иные из них рассказывали, как они в военные годы летали на Аляску и, используя Магадан как основной перевалочный пункт, перегоняли в Советский Союз боевые самолеты, в частности знаменитые «аэрокобры», на одной из которых генерал Покрышкин заработал все свои три Золотые Звезды.
Старожилы Магадана шепотком рассказывали об одном уникальном эпизоде в советско-американских отношениях, который, насколько мне известно, не получил еще достаточного освещения в исторической литературе. Дело в том, что в самом разгаре войны, в 1943 году, вице-президент США Генри Эдгар Уоллес совершил путешествие через весь Советский Союз, с запада на восток, от Мурманска до Магадана. Несмотря на трудности военного времени, советские власти постарались продолжить и развить национальную традицию потемкинских деревень. В Казани, например, к приезду американцев — а вице-президента сопровождал большой отряд военных и журналистов — приказано было мыть мылом главную улицу. Вымытую дегтярным мылом Проломную (она же Бауманская) за ночь схватил мороз, и она превратилась в благоухающий дегтем каток. Поломано было немало ног, а вице-президента пришлось везти задами, через сугробы. Магадан поставил рекорд по раскидыванию чернухи. К приезду союзников там были спилены все сторожевые вышки и сняты лагерные заборы с колючей проволокой. Большинство зеков было отогнано в тайгу, но некоторых оставили в городе и приодели. Американцев приглашали заглянуть в общежития и посмотреть, как живут на Дальнем Севере советские люди, самоотверженные энтузиасты и землепроходцы. Одна женщина, известная в городе мастерица по вышиванию бисером, рассказывала нам с мамой, что и она, в то время настоящая зечка, была посажена изображать энтузиастку. Больше того — ей было поручено вышивание большого портрета Сталина. Ее работа была показана (или, может быть, даже подарена) мистеру Уоллесу, и тот восхитился — какое замечательное искусство и какое истинное доказательство любви к вождю! Уоллес был очень прогрессивным человеком, — а эта публика испокон веков начинает страдать при посещении Советского Союза резкими приступами миопии. Невероятно, однако, то, что ни один из сопровождавших вице-президента журналистов не заметил ничего особенного в маленьком городе на берегу Охотского моря.
Именно здесь, в этом чрезвычайно странном городе, в доме одноклассника, родители которого работали в геологическом тресте и казались мне настоящими богачами, я впервые услышал «Голос Америки». У них был приемник «Балтика» с большим, как совиный глаз, индикатором настройки. Шорох и треск этого аппарата, долетающие иногда звуки музыки и иностранная речь очень сильно действовали на мальчишеское воображение, как бы открывая в ночи необозримую даль Тихого океана едва ли не до Новой Зеландии. Однажды совершенно отчетливо донеслось по-русски: «Вы слушаете „Голос Америки“, вы слушаете свободное радио»…
Так называемая «холодная война» принесла нам иное, чем наше, понимание слова «свобода». Как-то раз во второй половине шестидесятых годов на собрании в Московском Доме литераторов один из секретарей писательского союза, о котором было известно, что он в своем сейфе держит погоны генерала КГБ, ругал с трибуны писателей за то, что они слушают иностранное радио. Время было непростое, писатели крамольничали, собирали подписи под письмом протеста против суда над Александром Гинзбургом и Юрием Галансковым. Парторганизация союза пыталась повлиять на заблудших и даже пригласила на встречу с ними прокурора, человека с неустойчивыми кровеносными сосудами лица, который при неподготовленных вопросах из зала почему-то густо краснел. Борясь с этой особенностью своих кожных покровов, прокурор все-таки рассказал собравшимся, как развивался подрывной замысел «спецслужб Запада» и как из Венесуэлы был послан агент, который привез в Москву шапирограф. Это слово в те дни часто мелькало на страницах острейшего орудия партии, однако никто из непосвященных не знал, что такое шапирограф. Некоторые писатели предполагали, что это от слова «шапиро», вспоминая друга Хрущева американского журналиста Генри Шапиро, а также заместителя директора Дома литераторов Михаила Минаевича Шапиро, ну и, конечно, шутку писателя Зиновия Паперного — «два мира, два Шапиро».
Позвольте, товарищ прокурор, поинтересовались крамольные писатели, какая-то неувязочка получается. Как же это спецслужбы Запада отправили венесуэльца с шапиро-графом к Гинзбургу и Галанскову, когда те уже несколько месяцев как были арестованы и в тюрьме сидели? Кожные покровы опять до последней степени подвели прокурора, со лба даже брызги полетели. Откуда вы знаете, товарищи, что они уже несколько месяцев сидели, кто же это вас информирует? Тут вот и вскочил секретарь-генерал. Это они из «Голоса Америки» получают информацию, воскликнул он. Как вам, товарищи, не стыдно слушать радиоклеветников?! Далее он сказал, что у руководства накопилось немало фактов о неприглядной деятельности некоторых членов союза, что черпают информацию из дурно пахнущих источников. А теперь, сказал он, я преподнесу вам эти факты «в подробном изложении». В зале начались, как гласят стенограммы, оживление и смех. Генерал попал в лексическую ловушку. Дело в том, что выражение «в подробном изложении» было, так сказать, торговой маркой как раз «Голоса Америки». Никаким другим образом генерал не мог подцепить этого оборота, как только лишь при слушании — и, очевидно, регулярном — «Голоса Америки». Бывает, бывает иногда, судари мои, провидение щелкает пальцем по железному лбу, и гулкий смех раздается с небес, и веселятся народы…
Советские писатели всегда были и, очевидно, и сейчас являются ревностными слушателями радиостанции, которая отмечает в этом году свой сорокалетний юбилей. В вечерний час, проходя по коридору Дома творчества, нельзя было не услышать едва ли не из-за каждой двери щебетание заокеанских ласточек. Завершив прослушивание, писатели выходили на свежий воздух для обмена новостями. Поскольку Запад по присущей ему капиталистической привычке предлагал довольно широкий выбор — тут вам не только «Голос», тут и «Немецкая волна» всегда на подхвате, тут и «Свобода», тут и Анатолий Максимович Гольдберг со своим Би-би-си — писатели порой становились довольно привередливыми. Что-то, знаете ли, товарищи, «Волна» стала какой-то беззубой, я решил переключиться на Би-би-си… Ну, кому как, а я, как всегда, держусь за «Голос»… Персонал домов творчества отлично был посвящен в эти вечерние прослушивания, уборщицы нередко называли транзисторные приемники Би-би-си или «Голос»… «Я ваш „Голос“, Элеонора Тимофеевна, поставила на шкапчик»…
Радиовещание из одной страны в другую — это грандиозное изобретение современного человечества. Оно создает в мире принципиально новую психологическую атмосферу. В принципе, если бы радиовещание на иностранных языках было бы развито на современном уровне к тридцатым годам, Сталину, возможно, не удалось бы провести своих кровавых чисток или, во всяком случае, не удалось бы их осуществить в таком масштабе. Неожиданно в стране, где все уже, казалось бы, доработано до совершенства энтропии, появляется альтернативный голос. Заокеанская страна, объект утренних омерзительных политических карикатур и хитро сплетенной дезинформации, вечером экспонирует свою концепцию свобод и мирового развития. Тоталитарная модель Вселенной поколеблена. Глушение не меняет картины, за ним предполагается еще более серьезное содержание. Для того чтобы глушение достигло своей цели, надо воспитывать такого человека, который будет воспринимать рев в эфире с той же естественностью, с какой воспринимается плеск воды или шум ветра, то есть его надо убедить в том, что эфир всегда ревет.
На самом деле, существование «Голоса Америки» все эти четыре десятилетия приносило большую пользу советскому народу. Во-первых, он всегда был надежным источником информации по событиям дня. Были времена, когда мы узнавали из «Голоса» даже о делах своих знакомых. «Послушай, старик, вчера о тебе передавали, не можешь ли ты теперь „в подробном изложении?..“» Во-вторых, «Голос» активно рисовал картину жизни в географически далекой, а идеологически почти недостижимой стране, а также и картину большого мира, что так или иначе все-таки препятствовало полному одичанию людей в идеологической зоне и таким образом хоть в некоторой степени будило дремлющие творческие импульсы. Могу ли я, скажем, переоценить «Час джаза», давший целому поколению моих сверстников определенную ноту? И наконец, в-третьих, существование «Голоса Америки» помогало не только людям, но в какой-то степени и руководству, ибо само по себе настойчивое и активное существование чего-то альтернативного поднимало дух в обществе перманентно плохого настроения.
Уже несколько лет я записываю здесь свою еженедельную 8-минутную программу. Я приезжаю на запись один или два раза в месяц и привожу тексты, которые мы здесь называем хоть и американским словом, но на русский манер — скрипты. Радиостанция располагается в сером массивном здании, построенном в тридцатые годы и отражающем определенные и не очень, прямо скажем, приятные черты архитектуры того периода. На фасаде, например, имеется рельеф, а в вестибюле панно, чем-то напоминающее зарю социализма. Зато часть города, где это здание стоит, восхитительна, наполнена воздухом и светом, с огромным небом над чередой музеев и культурных институтов с гигантским бульваром, так называемым Вашингтонским моллом, на пространных газонах которого то и дело воздвигаются разноцветные шатры для парадов, митингов и выставок; панорама завершается с востока Капитолийским холмом, с запада — монументом Вашингтону. Если мне удается запарковать свой «бэби-бенц» в сравнительной близости к музеям — увы, это удается отнюдь не всегда, — я перед записью или после оной захожу на четверть часа в какую-нибудь галерею и там стою в каком-нибудь одном зале, ну, предположим, у Рембрандта — «Девушка со щеткой», «Молодой человек в высокой шляпе», «Польский дворянин», «Старая дама, дремлющая над книгой», «Дама с веером из страусовых перьев» — или на мемориальную выставку Александра Архипенко, или к Джасперу Джонсу, который всегда по соседству с Раушенбергом. Приобщение к живописи действует не хуже чашки хорошего кофе. Рекомендую попробовать.
За последние годы процедура входа в «Голос Америки» основательно изменилась, в чем отразились изменения, происходящие в мире: в частности, нарастающая склонность прогрессивных режимов подбрасывать из-за угла бомбы в мусорные корзины. Еще когда мы приехали в Вашингтон, то есть около шести лет назад, никто не обращал на тебя при входе ни малейшего внимания, потом стали просить расписываться в какой-то книге, ну а когда прогрессивный товарищ Каддафи решил заслать сюда к нам своих мазуриков, ввели проверку сумок и детектор металлических предметов.
Русская речь начинает звучать в коридорах второго этажа, там же звучит грузинская и армянская — все это в гармоническом единстве с языком Шекспира. Здесь можно встретить людей, с именами которых росли целые поколения радиослушателей в Советском Союзе — Уиллиса Кановера, чей бархатный голос долетал до нас еще в сталинские времена из немыслимого Танжера и сопровождался эллингтоновским «Тэйк а трэйн», возвещая еженощную программу джаза; Виктора Французова, чьи политические комментарии снискали ему в России славу «американского Анатолия Максимовича»; Наталью Кларксон и Людмилу Чернову-Оболенскую, ставших нынче начальниками, однако не утративших ни чувства юмора, ни элегантности; ведущего религиозных передач отца Виктора Потапова… Естественно, что в советском отделе «Голоса» работают американцы русского происхождения, представители всех трех так называемых «волн». В последние годы прибавилось немало выпускников московских, ленинградских и прочих советских университетов. Вначале, когда я попадал в редакционный зал после месячного отсутствия, меня не оставляло ощущение, что я нахожусь в какой-нибудь большой московской редакции — тот же обмен шутками на бегу, те же перекуры в коридорах; детали вроде чернокожих секретарш вовсе не размывали впечатления — может, и в московских редакциях сейчас есть чернокожие секретарши?
Говоря о сотрудниках «Голоса Америки», невольно думаешь о странном парадоксе их жизни. Никому не известные в родном Вашингтоне, они являются суперзвездами современной России. Помню, как в середине семидесятых годов, в расцвете детанта, одна сотрудница «Голоса» совершила путешествие в Москву. Мы с ней обедали в Доме литераторов, и, когда я представлял ее братьям-писателям, у тех распахивались рты, как у американцев распахивались бы те же самые рты, буде им представлена Элизабет Тейлор. Да что писатели — шоферы такси отказывались от платы, когда узнавали случайно в путешественнице мифическую принцессу эфира. Эфир и миф — понятия близкие, не так ли, не только из-за присутствия одного и того же звука и крутобокой буквы. А вот вам сцена из совсем недавнего прошлого: будучи в Ленинграде, отец Виктор Потапов покупал себе на Невском сувенирную кружку. Вопросы, связанные с кружкой, показались продавщице какими-то странными, и она спросила в свою очередь: «А вы откуда, гражданин?» Отец Виктор ответил, что он гражданин Дистрикта Колумбия, что затерялся, как коробочка с жемчугом, между двумя миловидными штатами Мэрилендом и Вирджинией. «А почему же мне ваш голос знаком? — недоумевала продавщица. Отец Виктор предположил, что она слушает его по радио. — Да вы, кажется, религиозные передачи ведете! — ахнула продавщица. — Да вы, кажется, отец Виктор Потапов!»
Среди буйства диалектики многие явления временами переворачиваются вверх тормашками — то, что вчера казалось вредом, оказывается пользой, и не исключено, что сорокалетняя деятельность «Голоса Америки» будет оценена будущими советскими историками как грандиозный информационный безвозмездный ленд-лиз. Во всяком случае, уже сейчас можно сказать, что нынешняя кампания за гласность вызвана продолжающимися и все более проникающими в жизнь достижениями века коммуникаций.
2004
«Голос Америки» продолжает вещать на Россию и держать в Москве своего постоянного корреспондента, ну а «Свобода» просто открыла свой русский филиал в самом центре Москвы возле площади Пушкина.
Учитывая изобилие радиостанций и отсутствие цензуры в современной России, можно сказать, что ветераны свободного эфира играют сейчас скорее ностальгическую, чем практическую роль; впрочем, кто знает, что важнее в контексте истории?
Важно также помнить и о правительственных играх с телевидением; если и дальше пойдет такая политтехнология, может быть, снова практически понадобятся старые «рупора»?
ПЕРВАЯ ОСЕНЬ НОВОГО ВЕКА
Появившиеся в последние дни в программах американского телевидения сюжеты, посвященные тридцатилетию Венгерской революции, застали меня врасплох. Почему-то эта невероятная последняя неделя октября 1956 года, что потрясла европейскую молодежь моего поколения, совершенно как-то… ну, не забылась, а как-то выветрилась из прошлого, как бы просеялась через какое-то лукаво подставленное сито. То ли гуляшное счастье Яноша Кадара тому виной, то ли слишком уж длинна лязгающая гусеницами череда событий, прокатившаяся через эти три десятилетия. Даже и пространство времени как-то смутило: с одной стороны, неизбежное «как, уже тридцать лет?», а с другой стороны, какое-то странноватое «как, неужели всего тридцать лет?»… В последнем варианте простак даже может услышать какие-то оптимистические нотки, как ни нелепо это звучит. Я попытаюсь сейчас припомнить некоторые моменты той странной осени, которую я провел на самом крайнем пятачке советской предевропейской земли, а именно в общежитии карантинной станции Ленинградского морского торгового порта, что стояло одиноко на краю мыса Лесная Гребенка, перед самым выходом в Морской канал.
Мы все тогда ощущали, что начался новый век. Весной, за несколько месяцев до окончания мною курса наук в Первом ленинградском мединституте, произошло крушение Сталина. Помню замечательную сцену стаскивания огромного портрета корифея всех времен и народов с фасада гостиницы «Европейская». Дело было перед Первомаем, администрация отеля, очевидно, по инерции вздрючила любимое лицо на должную высоту, но потом получила приказ стащить вниз. Толпа вокруг наблюдала этот процесс в неопределенном молчании, пока один таксист не сказал: «Правильно, надоело терпеть это свинство». Тогда все бурно заговорили, кто-то завопил: «Я кровь за него проливал!», другой взял первого за грудки: «Ты за родину проливал, а не за Гуталина»… С удивлением обнаруживали, что у возлюбленного отца народов было много обидных прозвищ — Гуталин, Чугун, Таракан… Через несколько дней по главному коридору нашего института протащили продолговатое изображение в полный рост, в серой шинели, воспетой Анри Барбюсом, и в начищенных до блеска черных ботиночках, носки которых выглядывали из-под ниспадающих брюк, которые казались чем угодно, но только не брюками, то есть не одеждой для ног и зада. В процессе волочения первокурсники старались пробежаться по полотну — как недолговечна любовь к тиранам!
В принципе, Сталин сразу же стал вчерашним днем, о нем даже не так уж много и спорили в среде молодежи. Мы были озабочены и увлечены столь внезапно наставшим сегодняшним днем или — сейчас уже это очевидно — новым веком. Приметы нового века — вот это все расхватывалось жадно: романы «Оттепель» и «Не хлебом единым», билеты на выставку Пикассо, на американскую оперу «Порги и Бесс», на Ива Монтана; к новинкам относилось и старое, еще вчера запрещенное — сборники стихов, романы, даже петербургские журналы времен Серебряного века. Увлекала и собственная молодая активность — пошли какие-то эстетические диспуты, довольно острые капустники на институтских вечерах, стали смелее танцевать, приобщаться к джазу, открылись молодежные литературные клубы и театральные студии, словом, все внезапно проснулось, и город на Неве вновь показал, что в нем еще возможно возникновение каких-то странно радостных общественных настроений.
Отправляться после института в захолустье очень не хотелось, и поэтому мы с приятелем Мишей Карпенко так были рады назначению в морское пароходство, не столько даже шансу побывать за границей, сколько возможности зацепиться за Ленинград. Той осенью мы обосновались на Лесной Гребенке в трехэтажном пустом доме, впоследствии описанном в довольно известном романе «Коллеги». Описаны там были и корабли, проплывающие у нас под окнами, и морские сквозняки в коридорах, и случайные визитеры из плавсостава, и разные юношеские мечтания, одной только важной темы автор не коснулся — венгерского эха, прошедшего той осенью по тем коридорам. Тема эта к тому времени, когда он взялся за роман, то есть через три года, как-то с какой-то странной легкостью прошла мимо, редко возникала в разговорах, может быть, потому, что, несмотря на кровавую баню, учиненную в соседней стране, советская «оттепель» продолжалась и даже становилась все теплее. А между тем тогда, в тот октябрь, первые долетевшие из эфира сообщения о том, что в Венгрии что-то происходит, неслыханно взбудоражили молодое воображение.
У нас был старый ламповый приемник «Балтика» с большим зеленым глазом настройки. Нынешние транзисторы не дают такого сильного чувства соучастия в мировых событиях. Однажды ночью мы услышали, что в Будапеште начались грандиозные антисталинские демонстрации. Многотысячные толпы с национальными знаменами, но без коммунистической эмблемы, проходят по улицам, собираются на площадях. Ораторы выступают, с неслыханной дерзостью требуя отставки правительства сталинских ублюдков Ракоши и Гере, освобождения политических заключенных, выполнения параграфов конституции о гражданских свободах. Движением фактически охвачены все слои и группы населения, включая даже армию и исключая только лишь тайную полицию; но впереди, разумеется, молодежь, наши сверстники, венгерские студенты, наши братья. Они восторженно окружают выпущенных из тюрем коммунистов и социал-демократов, разбрасывают листовки с призывами своих союзов, распространяют тексты оппозиционного писательского Клуба Петефи. Словом, в Будапеште полным ходом идет неслыханная, захватывающая воображение и перехватывающая дыхание мирная революция.
Венгерские студенты не были для нас чужаками. Мы учились с ними с первого курса. В пятидесятые годы все большие советские институты и университеты были полны молодежи из Восточной Европы, из так называемых «народно-демократических стран» (авторам этого термина, видимо, не приходило в голову, что «народная демократия» — это «масло масляное») — поляки, чехи, венгры, румыны, болгары, албанцы, немцы, — всех их скопом наши ребята называли «демократами». Надо сказать, что их присутствие несколько оживляло тоскливый быт сталинщины. Вначале среди них еще попадались весьма странные, на наш взгляд, пламенные комсомольцы, эдакие восточноевропейские «Павки Корчагины». Однажды, кажется, на втором курсе, два чеха и венгр, учившиеся в нашей группе, потребовали созыва комсомольского собрания. На этом собрании они стали нас обличать как носителей буржуазных пережитков, как циников, стиляг, пьяниц и бездельников. Разве такой мы воображали советскую молодежь, когда готовились к поездке в первую страну победившего социализма, когда читали «Как закалялась сталь» и «Молодую гвардию»? Наша братия, включая даже примерных отличников, кисла от смеха на этом собрании, никто как-то не мог предположить, что «демократы» могут быть искренни в своем отчаянии. В конце концов один из чехов бурно разрыдался, и девушки бросились его утешать.
Конечно же, отчаяние этих юнцов было вызвано не только ситуацией в нашей группе, но вообще всей картиной реальной жизни в «стране победившего социализма». Нас же поражало другое — откуда могли взяться такие «идейные» в странах, где коммунистические режимы — мы знали это уже тогда — были навязаны нашими войсками? Идейность этих первых посланников, впрочем, закончилась вместе с теми истерическими слезами. Среди «демократов» все реже попадались наивные дурачки, а потом и вовсе исчезли. Восточноевропейцы, освоившись в России, стали как бы понимать, что власть одно, а народ другое; они стали своими среди нас, хотя несколько и отдалялись в то же время, поскольку коммунистическая идейность у них заменялась ощущением «западничества», то есть как бы некоторой первосортности.
Был у нас такой Геза Торт, любимец всего общежития у Гренадерского моста. Раз в месяц, когда он получал стипендию от своего «народного правительства» (их стипендии были по крайней мере в пять раз больше наших), он подъезжал к общежитию на такси и оставлял его ждать. Затем он начинал носиться по комнатам с шампанским в одной руке и с коньяком в другой, собирал компанию для похода в ресторан. За одну ночь от его стипендии не оставалось ни копейки. После этого он перебирался на кухню хирургической клиники, где какая-то милая повариха кормила его в обмен на любовь. По ночам Геза Торт ассистировал на неотложной хирургии и стал к окончанию института лучшим хирургом курса. Летом 1956 года, получив диплом, он отбыл в свою равнинную страну. Эх, Венгрия, вздыхал он обычно, скачешь, скачешь, конца нет…
«На нас идут танки, на нас идут танки… помогите нам, на нас движется море танков…» — эти слова донеслись до нас с Мишкой в нашем портовом убежище в ночь на 4 ноября. Вещала по-русски какая-то радиостанция повстанцев. Возможно, один из бывших советских студентов был у микрофона. Танк, быть может, самое омерзительное чудовище войны, потому что лучшие его успехи связаны с карательными акциями против беззащитных или плохо вооруженных. Вскоре после подавления восстания в ленинградском кинотеатре «Хроника», что на Невском проспекте, пошел документальный фильм на тему о том, как героически была раздавлена гидра контрреволюции. Мы с Мишей отправились его посмотреть, и были потрясены, увидев там в одном из самых первых эпизодов нашего кореша Гезу Торта.
Зловещий голос диктора вещал: «…На улицах столицы народной Венгрии появились банды вооруженных молодчиков, наемные отряды международной реакции…» Текст чертовски не соответствовал изображению. Мы видели море сияющих лиц, руки, размахивающие флагами, ораторов, выкрикивающих что-то с любого возвышения, будь то фонарный столб или бочка из-под пива. Через толпу медленно двигалось несколько грузовиков с откинутыми бортами; в кузовах стояли парни, разбрасывающие листовки, у некоторых из них на груди и в самом деле висели автоматы. Общий план, приближение очередного грузовика, средний план, отчетливо видны лица «молодчиков», и среди них Геза Торт! Сомнений нет, это он, его широкая физиономия, его кожаночка. Он взмахивает рукой, выпуская из кулака стайку листовок, на плече стволом вниз висит «калашников». Мы посмотрели подряд несколько сеансов, а на следующий день пошли снова. Сомнений не было — Геза Торт оказался в рядах восставшей молодежи, а ведь он нам не раз по пьянке признавался, что перед поступлением в медицинский институт служил в госбезопасности. Позднее от общих друзей мы узнали, что Геза был одним из самых активных, во главе отряда отбивал кинотеатр «Корвин», до самого конца дрался на баррикадах завода «Чепель», был взят в плен, послан в концлагерь и только спустя лет пять-шесть помилован Кадаром.
Надо сказать, что весь тот фильм производил ошеломляющее впечатление на молодых ленинградцев осени пятьдесят шестого года, вздувал тайфун противоречивых чувств, несмотря на стремление агитпропа вызвать лишь однозначное чувство возмущения «происками реакции». Прежде всего было очевидно, что в восстании участвует огромное число самых простых людей, множество молодежи, такой же, как мы, почти не отличающейся от питерских студентов; видно было также, что подавляющее большинство всего народа на стороне восставших. При гигантском стечении ликующей толпы тягачи стягивали с постамента статую Сталина (то же самое, надо сказать, только втихаря и по ночам производилось по всему Советскому Союзу через пять лет после Двадцать второго съезда), кувалдами сбивались с фасадов зданий символы диктатуры, пятиконечные звезды, серпы и молоты. Ошеломляющие сцены штурма здания госбезопасности, освобождения заключенных, жуткие эпизоды расправы над чекистами. Как и в любой революции, здесь бурно перемешивались чистый идеализм и жажда справедливости с бешеным неистовством и жаждой мести. Не зная другой информации, из фильма, конечно, трудно было понять, чем же все это кончилось, что произошло после того, как «рабоче-крестьянское» правительство Яноша Кадара обратилось за братской помощью к Советскому Союзу.
У нас, однако, была и другая информация, и мы знали, какой тысячекратной жестокостью было подавлено буйство народной революции. Однажды мы поехали в наше старое общежитие у Гренадерского моста и разыскали комнату, где жили наши приятели, венгерские студенты. Мы хотели что-то им сказать, но не знали что — не просить же в самом деле прощения за злодеяния наших танкистов. Когда мы вошли, они все — человек семь или восемь — сидели или лежали на своих койках. Света в комнате не было, мерцали огоньки сигарет да за окном светился фонарь на башне радиоглушилки. Никто нам не предложил сесть, вообще никто не сказал ни слова. Мы потоптались и вышли в коридор. Не всегда легко быть русским. Вдруг в коридоре нас окликнул один из тех венгров. Приблизившись, он сунул мне в карман толстый журнал и прошептал: «Покажи ребятам!»
Это был знаменитый выпуск «Пари-Матч», от корки до корки заполненный снимками роковых событий. Все снимки были сделаны одним человеком, его фотокамера оказывалась всегда в самой гуще — и на мирном митинге, и в заварухе самосуда, и среди колонны мрачных чудовищ-танков, и посреди свежих, в клубах дыма и пыли, развалин, но в основном на баррикадах и в узких переулках старого города, где будапештская молодежь пыталась дать отпор интервентам.
Особенно запомнилось одно фото: по улочке бредут, обнявшись, парень и девушка, обвешанные оружием. На их закопченных лицах измученные улыбки, однако видно, как они молоды и как любят друг друга. В глубине улицы виден скособоченный, с повисшей пушкой, только что подорванный ими танк. Надпись под фотографией гласила: «Иль сон фатигэ», то есть «Устали». Завершалась эта потрясающая коллекция снимком самого фотографа на госпитальной койке. Он был смертельно ранен во время своей работы, которую можно с полным правом отнести к одному из подвигов современного журнализма.
Конечно, я недаром послал героя своего романа «Остров Крым», молодого Андрея Лучникова, на баррикады Будапешта с отрядом русских «крымчан». Не из пустоты взялась и строфа из «Ожога», в которой герой играет на саксофоне тему «Переоценка ценностей» и признается, что он «переоценил-недооценил», среди прочих вещей, и «призрак баррикады, и юношей, ровесников, урок дававших танкам, въехавшим под утро в их город, в молодость и в память навсегда»… Такое настроение было тогда, такое чувство горечи и стыда, а иногда и ярости в адрес безликой силы, что корежила наши жизни столько лет до этого и тогда, осенью 1956-го.
Казалось, позови кто-нибудь строить баррикады на Невском, пошел бы, не задумываясь. Никто, конечно, не позвал, да и слава Богу. Говорю это сейчас не потому, что задним числом за себя боюсь, а потому, что яснее понимаю сейчас, что не в вооруженном восстании заключается суть нового века, начавшегося в 1956 году. И все-таки призрак тех героических баррикад всякий раз возникает при воспоминании о молодости; отвага, показанная там, парадоксально входит и в наше наследие, хотя мы были вроде бы с другой стороны. Миша Карпенко, мой друг той поры, давно уже погиб, так что уж ни с кем и не вспомнишь тех странных ночей над большой водой, когда мы провожали глазами огни какой-нибудь лайбы, увозящей пиломатериалы в Западную Германию и уходящей все дальше и дальше к Европе, к свободе — только без нас…
Будучи оторванными от города и от вчера еще нашей единственно мыслимой студенческой среды, мы не очень-то представляли, какие преобладают настроения. Однажды в пивном заведении «Красная Бавария» возле Технологического института демобилизованный солдатик вдруг залился в три ручья: «Венгры на нас кипяток из окон лили!» Кто-то из дыма шатнулся к нему: «А ты что на них лил, ублюдок-валенок?» Солдатик не отвечал, поскольку вырубился. Кто-то прошел, распахнул дверь и крикнул с мороза: «Мятеж пора поднимать, а вы тут бутерброды с кильками жрете!» И исчез, дверь захлопнулась. Позднее я узнал, что венгерские события вызвали довольно значительную на фоне привычной советской политической апатии реверберацию среди ленинградских студентов. В университете, в Техноложке, в нескольких других вузах на собраниях случались гневные выступления; во время ноябрьской демонстрации какие-то группы скандировали «Руки прочь от Венгрии!». Органы производили аресты. Еще позднее случалось мне встречать людей, отсидевших «за Венгрию».
2004
Лет 6–7 назад в ресторане «Тургенев» один из них пел с эстрады хит 50-х годов «Gonna take a sentimental journey, gonna set my heart at ease…». После концерта мы разговорились. Оказалось, что он отсидел срок «за Венгрию». Нас несколько сотен, сказал он, мы часто собираемся… В метро он ездит бесплатно, как «лицо, пострадавшее от политических репрессий». Перед тридцатилетним юбилеем американская пресса сообщала, что в самой Венгрии люди сейчас разделяются на тех, кто называет события 1956 года «революцией», и тех., кто называет их «контрреволюцией». Подразумевается как бы, что второе слово чем-то хуже первого; между тем оба они вместе с марксистскими догмами., вокруг которых развернулась трагедия, относятся к косматому прошлому. Если мы говорим о Венгерской революции как о событии нового века, то имеем в виду не восстание против марксизма, не классовую битву во всей ее тупости и даже не мятеж малого народа против большого поработителя, но восстание духа и плоти против бездушия и металла. Революция, а стало быть, и контрреволюция являются древним., жестоким и унылым делом… Новизну несет миру только попытка построить либеральное общество, Божий промысел… В этом смысле бывший предатель, ставший затем «отцом нации», показывает основательную мудрость, избегая запачканных слов и называя все это дело «национальной трагедией». Трагедия все-таки почти всегда дидактична и всегда предусматривает катарсис. Главный урок, который мои ровесники с этими странными именами преподали «танкам», то есть тем., кто берет на себя неизвестно с какой стати право распоряжаться судьбой, заключается, на мой взгляд, в самой идее возможности возмущения. Именно в этой точке возможен хоть маленький перевес в пользу нового века.
ГЛАСНОСТЬ С ДЕФЕКТОМ РЕЧИ
Каждое поколение склонно называть свое время безнравственным, циническим, предгибельным. В числе прочих факторов тут срабатывает и наивность, странная неспособность распространить понятие «нашего времени» за пределы нашего существования в биологическом цикле. А ведь не исключено, что когда-нибудь в будущем несколько тысячелетий истории будут называть коротко «веком колеса». Век информации тоже начался не сейчас, однако нынешнее его развитие позволяет иной раз подумать, что «колесный» период в этой сфере человеческой активности уже прошел. Происходят какие-то события, находящиеся за пределами не только понимания, но и воображения, явления почти, или уже, метафизического порядка, стоящие вне известных параметров и, уж во всяком случае, вне так называемой «научной» материалистической философии.
В принципе, вокруг нас происходят чудеса, о невозможности которых постоянно говорили большевики. Не успеваем мы привыкнуть к компьютерным чудесам, как появляются уже какие-то принципиально новые информационные структуры, позволяющие за одну секунду перебросить за океан весь текст Британской энциклопедии. Мы все устаем и отстаем от этой странной прыти. Чего же еще ждать от слабых человеков, в течение одной малой жизни которых происходит несколько смен коммуникационных эпох; однако мы живем среди этих чудес и уже не представляем себе без них своего существования, а наши дети уже не представляют себе, как можно отставать и уставать от таких элементарных явлений природы, как электронная информация. Может быть, и передача материи на расстояние когда-нибудь станет бытом?
Хуже, однако, когда от века информации устают и отстают не отдельные человеческие существа, а социально-политические системы, да еще из тех, что совсем недавно претендовали на роль самых передовых. Советский социализм представляет из себя разительный пример такого отставания. В соответствии с мудрым высказыванием своего основателя он стал бы пустейшей фразой без почты, телеграфа и машин; и он обзавелся всеми этими предметами, чтобы не стать пустейшей фразой, однако с компьютерами, видеокассетами, космическим телевидением, с рвущимся через границы потоком новостей этой непустейшей фразе становится так трудно, что она, похоже, начинает покрываться мхом и при жизни становится ископаемым. Трудно отказать себе в удовольствии еще раз поплясать на обломках марксистско-ленинских клише, то есть не задать напрашивающийся риторический вопрос: кто же сейчас старается повернуть вспять колесо истории?
Перед лицом все нарастающей угрозы со стороны «века информации» у советского социализма остается фактически только два варианта: либо, как говорили в ГУЛАГе, «уйти в глухую несознанку», то есть замкнуться в неслыханную еще по закрытости тоталитарную систему, что в равной степени и возможно, и катастрофично, либо предпринять попытку изменения, попытаться подтянуться до современного уровня. Однако возможно ли это без изменения самой сути обожаемого режима? К чести нового поколения властей предержащих в СССР следует все-таки сказать, что они (или, так скажем, иные из них), похоже, пытаются направить усилия во втором из указанных двух направлений. Призывы к новой «гласности» вызваны, конечно, не благими соображениями о нравственности подопечного народа, но паническим страхом перед все увеличивающимся отставанием от современности; однако хорошо уже то, что отставание связано именно с идеей гласности, а не с происками «жидов и велосипедистов».
Нынче в советских газетах иной раз встретишь чистый факт новости без его марксистско-ленинской интерпретации, иной раз наталкиваешься на рассуждение, а самое главное — даже не на рассуждение, а на интонацию, свойственную, скажем, диссидентским кругам середины шестидесятых. И в то же время мировая общественность свидетельствует столь чудовищные, столь вопиющие провалы принципа гласности, что она вправе задать себе вопрос: возможна ли там гласность вообще? Семь десятилетий зловредной лукавости ума и языка не могли не привести к дефекту речи, к карикатурному советскому косноязычию.
Помнится, как в 1956 году студенты наслаждались рассуждениями сатирика Леонида Лиходеева на тему «Может ли утонуть наш советский пароход»? Тогда нам казалось, что писатель смеется над прошлым, над сталинской глухоманью, однако советский пароход не мог утонуть еще долгое время, а если и тонул, то только лишь для того, чтобы дать повод для восхваления героизма советского человека, а не для факта трагической новости. Боже мой, сколько на нашей памяти примеров нелепейшей секретности и сокрытия фактов! Взять хотя бы тот же пресловутый «космос» — сколько лет они скрывали местоположение Байконура и имя Генерального конструктора; зачем, от кого? Неужели они хоть на одну минуту сомневались, что израильской разведке все это доподлинно известно? Скрывали, стало быть, от своих, потому что им знать «не положено». Самое печальное, что народ привык к этому многозначительному таинственному вздору.
Помню, как-то в час печальный я сидел с друзьями в чайной… мужики вокруг вдруг заговорили о смерти Хрущева, кто-то слышал сообщение иностранного радио. Скончался, оказывается, культоборец, еще третьего дня скончался, а в советских газетах об этом не было ни строчки. И правильно, что не было, сказал один вася-теркин. Зачем разглашать? Большинство присутствующих солидно согласились с этим умозаключением.
За семь десятилетий в обществе развились своего рода всеобщее заикание, шепелявость, неадекватное жестикулирование, странная артикуляция, все симптомы речевой недостаточности, свойственные болезни, которую можно было бы назвать «идеологическим косноязычием». С таким наследием как нам развивать политику «новой гласности», если она в самом деле имеет в виду гласность, а не новую фигуру косноязычия? Нынче мы видим иной раз в советских газетах приметы чего-то нового, но рядом с этим и в гораздо большем количестве мы получаем примеры вопиющего по неуклюжести и наглости старого стиля. Все это удесятеряется, когда выносится на так называемую «международную арену». Тут уж как бы можно не стесняться, все, мол, спишется — капиталистическое окружение, товарищи! В этом окружении надо не объективистскую правду высказывать, а настоящую историческую правду, то есть с идеологическим огурцом во рту. Иногда эти трюки, столь очевидные для бывших советских граждан и вызывающие оторопь стыда, оказывают свое действие на простодушную американскую аудиторию. Вот вам недавний пример одной из удачных акций отдела контрпропаганды агитпропа.
В каком-то американском городе происходит международная встреча детей. Очаровательные создания из обеих сверхдержав вместе поют и танцуют в какой-то миролюбивой рок-опере, вместе и развлекаются на какой-то «барбикью парти». Корреспондент подходит к десятилетней советской девочке и спрашивает, как ей нравится угощение. Милейший типчик отрывается от обгладывания кентуккийской ноги имени полковника Сандерса и говорит, что в Советском Союзе еда лучше, потому что там она натуральная, а в Америке сплошные химикалии. Дитя не вспоминает ни бабушкины пирожки, ни тетушкины пельмени, но ведет себя в полном соответствии с тем, как ее индоктринировали перед «ответственной поездкой в цитадель мирового капитализма». Увидев эту сцену в программе утренних новостей, я подумал о том, кто еще из миллионов американских телезрителей, кроме меня, вспомнит советскую колбасу, что синеет через пять минут после разрезания батона и зловеще с загибами чернеет к концу дня; кто вспомнит умопомрачительную массу, именуемую «комбижир», кто заметит отвратительную хитренькую улыбочку, промелькнувшую на милом детском лице? Большинство американских телезрителей подумает, что советский ребенок прав, что наши пищевые гиганты и впрямь слишком много всякого добавляют в продукт для пущей сохранности, и вот видите, даже ребенок из страны природных натуральных благ сразу это замечает. Пропагандистский эффект сразу же достигнут, находчивую крошку занесут в списки надежных выездных делегатов, однако подумает ли кто-нибудь из тех, кто промывал ей мозги, чего нам ждать от этой личности в системе новой гласности.
Говоря о тупиках «века информации», я вовсе не хочу сказать, что людям западного мира он приносит одно лишь благо. Безудержное коммерческое использование новых коммуникационных средств приводит к переизбытку, к навалу, неразборчивости, усталости, пресыщению, когда уже и основное право свободного мира — право выбора — может оказаться под угрозой. Трудно разобраться, что взять, когда слишком много всего. Барахтаясь, чтобы не свалиться в хаос, берешь то, о чем тебе чаще говорят — бери. Наиболее тревожная ситуация возникает в области информации высшего и не очень отчетливого порядка, то есть в области литературы — и искусства. Естественное для этой сферы — отсутствие четких границ облегчает задачу торговцев, когда они выдают дерьмо за настоящий товар, когда начинает преобладать не особенно прикрытая пошлость. С этим делом, с информацией высшего порядка, социалистическое общество уже пол столетия пребывает в полном тупике, куда оно само себя и заткнуло при помощи цензурной системы, именуемой методом социалистического реализма. Тут, однако, для социалистического общества — если, разумеется, принимать провозглашенную «новую гласность» за чистую монету — существуют и некоторые открытые возможности, ибо все-таки легче вышвырнуть за ненадобностью тряпку социалистического реализма, чем переплавить на мыло столь любезную сердцу секретность. В принципе, речь идет всего лишь об отказе от некоторых клише, установленных изначально даже не Горьким и Фадеевым, а еще передовиками-демократами Белинским и Чернышевским, снабдившими потомство своими столь устойчивыми банальностями в отношении литературы как «школы жизни».
Скажу несколько слов о жанре мне наиболее близком, о романе. Настоящий роман не может быть ни антисоветским, ни просоветским, потому что проблемы советской власти для него слишком малы. Грубо говоря, он «не по этому делу». Он может задирать установившуюся мораль, но только лишь попутно, в порядке построения своего словесного города. Если же он поставит своей целью ниспровержение или утверждение морали, тогда он не состоится и будет просто очередной книгой, но не романом. Эпатирующие моменты романа не относятся к проблемам власти, какой бы нахрапистой и навязчивой она ни была, но только лишь к построению словесных карнизов, к облицовке фасадов и к покрытию своих авеню. Роман отбирает строительный материал не из того, что власть разрешает или запрещает, а из того, что ему больше подходит. Роман не является общественным или антиобщественным явлением (что, в принципе, одно и то же), он является явлением философского пейзажа. У власти к роману может быть только два отношения: либо она его разрешает, либо она его не разрешает. Если власть всерьез говорит о гласности, ей следует разрешить роман, потому что именно с романом и начинается это странное и в то же время столь насущное для современной жизни явление.
Трудно, однако, поверить в серьезность этих намерений. Трудно представить, как сможет приспособиться одряхлевший марксизм-ленинизм к современности без кардинальных изменений своей или ее (современности) сути. С удовольствием опять используя давнее советское клише, скажу, что повернуть вспять колесо истории ему вряд ли удастся; это уже за пределами воображения. Легче все-таки представить изменение сути марксизма-ленинизма, хотя и это тоже относится к разряду фантастики. «Если факты против нас, то тем хуже для фактов», говаривал душка Иосиф Виссарионович. Признать незыблемость факта для марксизма-ленинизма означает признать правомочность критики в свой адрес (не в адрес отдельных начальников, а именно в адрес системы), ибо факт почти всегда входит в систему критики. Половинчатость принимаемых мер на наших глазах то и дело приводит к большому или малому хаосу, дурацким телодвижениям запутавшегося в противоречивых рефлексах гигантского организма, наносит системе урон катастрофического характера. Уместно тут будет вспомнить три наиболее разительных примера событий, происшедших на коротком пространстве последних трех лет. Они все имеют самое прямое отношение к обсуждаемой сегодня проблеме «гласности с дефектом речи».
Три года назад советский летчик уничтожил пассажирский самолет с двумя сотнями шестьюдесятью девятью людьми на борту. Это событие вызвало бурное и хаотическое столкновение двух стихий, столь же не похожих друг на друга, как не похожи, скажем, косматый мамонт и легковой «мерседес» — стихии советской цензуры, секретности, суперсекретности, идеологического фетишизма и стихии ультрасовременной, электронной, не ограниченной никакими лимитами журналистики. Советская сторона поставила в этом деле рекорды неуклюжести и растерянности — сначала не сообщали ничего, потом, когда мир уже знал все, сообщили кое-что; потом, не видя уже перед собой никакой другой возможности выбраться из позора, подняли оголтелый вой о «священных рубежах» и, наконец, стали валить с больной головы на здоровую — американцы-де самолет заслали. Трудно придумать более бездарный сценарий. Чернобыльская трагедия еще более показательна в этом отношении хотя бы потому, что она произошла на пике развернувшейся кампании за модернизацию, за «новую гласность». Молчали практически целую неделю (я получил письмо от друга из Москвы, датированное третьим днем мая; и из этого письма было ясно, что он и понятия не имеет о том, что уже несколько дней вызывало сущую свистопляску — запляшешь тут со свистом на грани цепной реакции — в западной прессе), а могли молчать еще несколько недель, если бы ветер подул не в сторону Скандинавии, а скажем, на Казахстан. Отечески, как не в чем ни бывало, улыбались демонстрантам с ленинской гробницы, а в Киеве устроили на улицах просто-напросто массовый гопак. Как же так затерялись свежие бризы «новой гласности» в смраде настоящей сталинской трясины? Постыдной была и реакция правителей на тревогу, забитую западной прессой, общественностью и правительственными кругами. Злорадствуют-де по поводу нашего несчастья. Читая это, только лишний раз раскрываешь, насколько провинциален, насколько не в курсе жизни современного мира, как глубоко индоктринирован замшелыми клише и как серьезно болен идеологическим косноязычием кремлевский аппарат. Между тем существуй в Советском Союзе гласность или хоть тенденция к «новой гласности», неужели не нашлись бы честные журналисты, которые, не дожидаясь, когда все это обрушится из-за рубежа, не дожидаясь решения все того же единственного на всю страну правомочного синклита, не сообщили бы о катастрофе вовремя, не связались бы с телеграфными агентствами и телевизионными станциями? Катастрофа может произойти в любой стране, но ни в одной стране сейчас не может быть такого позорного молчания, такого кризиса гласности; даже и в Китайской Народной Республике уже не может. Злорадство — это самое последнее, что приходило в головы людей даже самых консервативных убеждений; напротив, затруби Советский Союз первым тревогу, что с точки зрения нормальной логики он и должен был сделать в первую очередь, ничего, кроме сочувствия, он не встретил бы в современном мире. Горечь и злые насмешки вызвали проявления советской цензуры и смехотворной секретности. Либеральная «Вашингтон пост» в те дни напечатала карикатуру. Верхом на бронированной стене с надписью «СССР» сидит толстозадый пограничник. Над стеной в сторону Запада плывут радиоактивные облака. Пограничник ворчит: «А они еще говорят, что ничего не проникает из нашей страны на Запад».
Следует все-таки сказать, что последующая советская информация о Чернобыле всех удивила некоторой откровенностью и даже иными вспышками спонтанности. Стали поговаривать, что кто-то в СССР всерьез озабочен развитием гласности (я уверен, что на Западе живет мечта о возвращении России в семью цивилизованных народов), как вдруг разразилось новое кризисное дело — арест журналиста Николоса Данилова. Стараются нынче, как бы получше соврать, как бы поправдоподобнее доказать, что он шпион, а между тем зря стараются: свободные люди как дома, так и в мире над этими уликами смеются, а для советского мещанина и так ясно, что иностранный журналист — шпион. Для советского мещанина американский репортер — это существо полумифическое, сродни козлоногому фавну, эдакий домовой, черт запечный, шкодливый и верткий игрец, которого надо гнать или заклинать марксистскими заклинаниями. Ишь ты, чавой-то узнать про нас хотит! Сгинь, нечистая сила!
Вспоминается пролог к кинофильму Андрея Тарковского «Зеркало». У иных критиков он в те времена вызвал недоумение — к чему это, какая связь, какая авторская ассоциация, нет ли здесь чистого режиссерского кокетства, творческого своевольничания? А между тем этот пролог относился (а сейчас еще больше относится) ко всему обществу. Напомню вам, господа, что этот замечательный фильм открывается сценой в кабинете логопеда. Врач учит молодого человека произносить некую символическую в своей простоте фразу. Учимся ли мы говорить или безобразно сачкуем? Сможем ли мы преодолеть косноязычие? Хотим ли мы этого?
2004
Оказалось, что на вопрос «Как можно изменить марксизм?» в России существовал ответ: «Надо его выбросить!»
ТРАНСКРИПТ
Сейчас многие говорят о попавшем на Запад и опубликованном американскими газетами транскрипте выступления Генерального секретаря Горбачева перед группой писателей 19 июня сего года в ЦК КПСС. Трудно удержаться от соблазна и не придумать для всей этой штуки названия в стиле Джонатана Свифта, что-нибудь вроде «Разговор по душам, или Повествование о не вполне достоверной записи якобы имевшего место выступления во время встречи, реальность которой не подлежит сомнению». Трудно также не сказать ничего о некоторых фундаментальных противоречиях, что выпирают то тут, то там, отражая основательную шаткость иных горбачевских концепций. Вот, например, вопрос демократии или, скажем более скромно, демократизации. Гобачев постоянно употребляет это слово, причем в несколько ином контексте, чем прежде, когда вопрос о демократии сразу же исчерпывался утверждением, что советская демократия самая истинная, самая передовая, то есть самая демократичная в мире. Горбачев говорит: «…мы не просто разучились работать, а разучились работать в условиях демократии»… Он защищает недавний съезд кинематографистов, на котором впервые с начала шестидесятых годов произошла спонтанная, то есть не «спущенная с верхов», смена старого брежневского руководства. Чем была вызвана обеспокоенность кинематографистов, спрашивает он и тут же отвечает: отсутствием демократических методов разрешения споров.
Говорят, что старый любитель демократии первый секретарь Союза писателей РСФСР Сергей Владимирович Михалков выразил генсеку свое недовольство съездом кинематографистов. Какая же это демократия, если вашего родного сына Никиту не выбирают в правление? Горбачев возразил любимцу партии: «Съезд кинематографистов прошел демократически». О какой же демократии все-таки здесь идет речь, милостивые государи? В поисках ключа к этой проблеме Горбачев, как он признается писателям, не расстается с ленинскими томами, просматривает их, «ищет подходы… Советоваться с Лениным никогда не поздно…». Осмелимся тут предположить, что в отношении к Ленину Горбачев не так уж оригинален. Трудно как-то представить себе Леонида Ильича Брежнева без ленинского тома на ночном столике. Наверняка ведь и он, Ильич Второй, просматривал, «искал подходы», советовался с Лениным, пока не поздно, то есть пока не отходил ко сну.
Ленин и демократия, увы, не близнецы-братья. В чем угодно можно заподозрить человека, взявшего на мушку Учредительное собрание русского народа, да и внутри партии оскорблявшего не согласных с ним товарищей самыми последними словами, но только не в склонности к демократии. Вот в чем действительно проявляется некоторая новизна, так это в подходе к оппозиции, если только принять на веру обсуждаемый сейчас конспект и если иметь в виду, что речь идет о подходе не к проблеме оппозиции, а к понятию оппозиции. Он говорит: «У нас нет оппозиции. Каким же образом мы можем контролировать сами себя?» Потрясающе, господа! Вообразите лучшего «ворошиловского стрелка» Константина Устиновича Черненко, произносящего слово «оппозиция». Небось в дрожь бросало при одном только «оппо», а уж от «зиции» просто начинало колотить. Горбачев — человек современный и употребляет это слово в контексте размышления, что дает возможность предположить «оппозицию» как нормальную контролирующую силу современного общества. Если это так, то зачем держать в ссылке Сахарова, в тюрьмах и лагерях — Марченко, Корягина, Тимофеева; зачем бросать в психушки пацифистски настроенную молодежь, вышвыривать за границу правозащитников, критическая деятельность которых могла бы только принести отечеству пользу, особенно на современном этапе. Трудно вообразить себе оппозицию более умеренную, более снисходительную к режиму, чем правозащитное движение семидесятых годов, однако брежневским дуболомам присутствие маленькой группы инакомыслящих казалось концом света.
Ну что ж, если уж преодолевать инерцию и окостенение, то — в добрый час — преодолевать его надо и в этой сфере, но… вот тут-то и начинается основное противоречие, в концепции нового вождя появляется тупиковая логика. Цитирую из транскрипта: «…Каким же образом мы можем контролировать сами себя? (То есть без оппозиции. — В.А.) Только через критику и самокритику. Самое главное — через гласность. Не может быть общества без гласности. Мы и здесь учимся. Перестраиваем все: от генерального секретаря до рядового коммуниста (так в тексте транскрипта. — В.А.)… Демократизм без гласности не существует, но в то же время демократия без рамок — это анархия»… Что это значит — критика без оппозиции и демократия в рамках? Тех же щей, да пожиже влей? Я никогда не причислял себя к правозащитному движению, занят всегда был чисто литературными делами, но, насколько помнится, «гласность» была как раз основным, если не единственным требованием и сахаровского комитета, и хельсинкской группы, столь свирепо раздавленных к концу семидесятых. Как бы все-таки уточнить, чем гласность, за которую преследуют, отличается от гласности, за которую поощряют?
Самым туманным местом в опубликованном на Западе транскрипте является его концовка. «Наш враг нас разгадал. Их не пугает наша ядерная мощь… Их волнует одно: если у нас разовьется демократия… то мы выиграем…» Стоит ли строить демократию только с расчетом на победу во вражде? Если уж демонстрируется широта взглядов, почему бы не предположить, что с построением демократии вражда зачахнет? Горбачев обращается к писателям: «Вы не можете себе представить, насколько мы нуждаемся в поддержке такого отряда, как писатели»… Хочется все-таки думать, что, говоря о поддержке писателей, он не имеет в виду Грибачева, Маркова, Михалкова, Карпова, Кузнецова и иже с ними, само присутствие которых на столь важной встрече вносит в нее элемент двусмысленности. Говоря о коррозии аппарата, не следует забывать и писателей-аппаратчиков, ни на что, более лизоблюдства, не способных.
2004
Союз кинематографистов опять впереди: в забытый транскрипт вносятся новые поправки. Отряд писателей — в зоне анархии, но главный сочинитель родины снова на гребне. Несколько лет назад в романе «Новый сладостный стиль», пользуясь вольностями постмодернизма, я нафантазировал, как этот главный сочинитель в день разгрома ГКЧП начинает создавать новый текст государственного гимна:
Борцов демократии, сильных, свободных:, Сплотила навеки великая Русь! Да здравствует созданный волей народов Общественный строй, чьей свободой клянусь!Иные читатели тогда говорили, что это уж слишком, что слишком едкий:, даже какой-то неправдоподобный получается гротеск.
Прошло, однако, еще года три:, как новому президенту понадобился вроде бы новый, но в то же время существенно старый, ну тот, величественный-то гимн для объединения всех, кому родина дорога. Естественно, никого лучше не нашлось, чем главный, надежно увенчанный сочинитель… Вот и оказалось: гротеск в руку. «Демократия без рамок — это анархия». Гимн без Михалкова — это абсурд.
1987
ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ
Похоже на то, что «Жертвоприношение», последний фильм Андрея Тарковского, будет пользоваться в США успехом. Давно я уже не читал таких рецензий — не захваливающих и не снисходительных, а проникнутых серьезностью перед лицом серьезного. Недавно журнал «Тайм» привел этот фильм в списке десяти лучших картин года. Сегодня, то есть девятнадцатого января, стало известно, что Шведская Академия кино выдвинула «Жертвоприношение» на соискание «Оскара». Андрей относился к американскому кинорынку без всякого снобизма, который можно было бы предположить, учитывая сложность и даже некоторую герметичность его киноязыка. Как-то при мне ему рассказывали, какими непостижимыми путями идут в американской развлекательной индустрии к успеху. Можно было подумать, что он скажет что-нибудь вроде «плевать мне на этот успех», однако он только улыбнулся и сказал: «Да, это трудно».
Года три назад он гостил у нас в Вашингтоне, это было вскоре после того, как он дал понять советским представителям в Италии, что не собирается возвращаться домой. Зная на собственном опыте, что значит разрыв с родиной, я видел, что Андрей находится в состоянии сильнейшего стресса. Иногда казалось, что ему трудно говорить. Он сидел в кресле перед большим окном с видом на вашингтонские крыши и играл с нашей собакой Ушиком. «Ах, какой ты мальчик, какой чудный мальчик, — говорил он щенку, трепля его за холку. — Вот вам ангелочек, — продолжал он. — Ну, посмотрите, разве это не ангелочек!?» Он, конечно, имел в виду чистоту собачьих душ, какую-то безграничность этой чистоты. В фильме «Ностальгия» тема ангелов, сходящих на землю, основательно занимала Андрея, и он предлагал ей разные решения — то это крошка-девочка по имени Анжела, то опять же какая-то удивительная собака.
В последние годы своего творчества он почти подсознательно стремился обобщать человеческие проблемы до метафизического смысла, бежать от диссонансов, играть так, как Бах в своем соборе переливал священную воду. Он говорил мне, например, что ему очень нравится мой роман «Остров Крым» и что он с удовольствием поставил бы по нему фильм, но не сейчас — или раньше, или позже, но не сейчас. Сейчас, говорил он, я даже не представляю себе, как работать с таким материалом. Ему, очевидно, в том стрессовом состоянии, после разрыва с Москвой, хотелось только тишины. Шум и шухер «Острова Крыма» в тот момент лишь усилили бы стресс.
Когда я с ним познакомился? Пожалуй, больше двадцати пяти лет назад… да-да, как раз в шуме и шухере новогоднего бала в московском Доме литераторов, куда только что ввалилось наше послесталинское литературное поколение. Андрей тогда прогремел с «Ивановым детством», которое он снял, между прочим, на гроши, на остатки бюджета, после того как многомесячная работа его предшественника в этом проекте была забракована худсоветом. «Вся Москва» начала говорить о новом киногении, сыне поэта Арсения Тарковского. И вот мы рядом, болтаем, понимаем друг друга с полуслова, сразу видно, что свои. Тут джазище заиграл новомодный танец твист, все рванулись, и Андрей с женой пошли так выкаблучивать, что публика, изумленная, остановилась, образовав для них круг, в котором он уже один — жена отпала — так и выкаблучивал, как какой-нибудь запорожец после написания письма турецкому султану.
Современные запорожцы чуть было не подвели нас обоих под монастырь. Странным образом мы с ним стали объектами какой-то до сих пор непонятной для меня провокации. На банкете в честь открытия Кременчугской ГЭС украинский поэт Андрей Малышко вдруг стал жаловаться Хрущеву на проявления великорусского шовинизма и, в частности, на запись, якобы сделанную в киевском музее Шевченко молодыми москвичами — писателем Аксеновым и режиссером Тарковским. Запись примерно следующая: «Зачем надо было отдавать такое прекрасное здание под музей посредственного поэта, внесшего столь незначительный вклад в мировую культуру? Лучше бы устроили здесь больницу для рабочих». К тому моменту ни Андрей, ни я ни разу не бывали в Киеве, а к Шевченко относились с пиететом, которого эта выдающаяся фигура вполне заслуживает. Кто устроил эту чушь, если не сам этот Малышко, трудно сказать, однако нас тогда «тягали», а Андрею чуть не сорвали поездку на Венецианский фестиваль, где он первым и, кажется, до сих пор единственным из советских кинематографистов завоевал «Золотого льва».
Двадцать два года спустя, сидя во вьетнамском ресторане в Джорджтауне, мы вспоминали этот эпизод и так и не смогли прийти к заключению, зачем мы им тогда понадобились. Напрашивается банальное: «Думали ли мы двадцать два года назад, что будем сидеть во вьетнамском ресторане в каком-то Джорджтауне?» Думать не думали, но никто бы, вообразив такую сцену, в обморок не упал. Никто из артистического поколения шестидесятых не помышлял об эмиграции, но все были открыты миру, космополитическому творчеству — зона для нас была разрушена раз и навсегда.
Всплывает из памяти еще один вечер 1961 года. Мы сидим на квартире одного из тогдашних приятелей и впервые в жизни пьем горький «кампари». Геннадий Шпаликов играет на пианино и поет свою песенку, Андрей рассказывает о своем невероятном замысле — фильме о средневековом иконописце. Если бы только мне разрешили это сделать, говорит он, не было бы в советском кино человека счастливее меня. В разгаре вечеринки звонит один из тех, кто разрешает, отец хозяина квартиры, и начинает орать на сына, как тот смел сняться в «Заставе Ильича» вместе с какими-то подонками. Среди «подонков», надо сказать, были и Андрей, и Геннадий. Сын кричит в ответ: «Не смей так говорить о моих друзьях!» От того вечера до момента выхода на экраны «Андрея Рублева» прошло девять лет. Вот несколько обрывочных воспоминаний о недавно скончавшемся Тарковском. Скоро у нас в Вашингтоне выходит его последний фильм.
ИСЧАДИЕ СТАЛИНИЗМА
Иногда при воспоминаниях о первых шагах в советскую литературу во второй половине пятидесятых всплывают в памяти ее тогдашние герои и антигерои, и среди них — огромная фигура Анатолия Софронова. В те времена он казался нам, литературным юнцам, олицетворением социалистического реализма. Однажды во время Московского фестиваля молодежи и студентов удалось пробраться на писательскую дискуссию в Доме ученых. Софронов отбивал атаки молодых польских литераторов. Да вы, я вижу, вообще против социализма — в один момент взревел он всей мощью своих соответствующих органов. Зал замер, ожидая ответа, но после ответа замер еще сильнее, как бы ожидая разгона. Ответ был таков: «Если вы идентифицируете социализм со сталинизмом, то тогда мы против социализма».
Удивительно, что и сейчас, тридцать лет спустя, речь в Советском Союзе, по сути дела, идет все о том же — являются ли социализм и сталинизм синонимами? Гусеничными, бронированными аргументами был раздавлен чехословацкий оппонент в 1968-м, милицейскими дубинками был разогнан десятимиллионный польский спорщик в 1981-м, а воз и ныне там — спор между бегемотоподобным сталинистом и юношей-антисталинистом продолжается. Что, по сути дела, происходит сейчас в СССР в ходе столь широко разрекламированной кампании за реконструкцию и гласность? При всем нежелании или, вернее, нерешительности назвать вещи своими именами, это все-таки не что иное, как борьба со сталинизмом, попытка проветрить страну от его удушающего смрада. Горбачеву иногда кажется, что дело зашло слишком далеко, и он тогда делает осторожные оговорки, — дескать, мы хоть и против злоупотреблений прошлого, но все-таки гордимся «каждым днем, прожитым нашей страной» (так было сказано на недавней встрече с редакторами газет и журналов), однако мы можем поверить в искренность его намерений только при том условии, если не будем верить в искренность оговорок. Страна должна признать, что в ее истории были дни полного позора, должна открыто назвать борьбу со сталинизмом как практической, так и философской сутью нынешнего исторического момента. Похоже на то, что альтернативы вообще нет; только твердо обозначив эту цель, можно еще рассчитывать на положительные результаты. Если, говоря о современном кризисе, не исходить из принципа, что социалистическая система сама по себе изначально порочна и враждебна человеческой натуре, а считать, что сталинизм не является социализмом, доведенным до совершенства — там сейчас как раз и стараются держаться этой позиции, — тогда надо признать и назвать беду сталинизмом и объявить главной целью общества борьбу с последствиями этой чертовщины во всех сферах жизни.
Во всех сферах жизни произошли глубочайшие, фундаментальные извращения, но если мы все-таки еще надеемся на обратимость этих процессов, нужно назвать их своими именами. Политическая жизнь страны была извращена еще до сталинизма уже самим фактом внедрения однопартийной системы, однако именно сталинизм довел это извращение до тупика, уничтожив всякую возможность инакомыслия и дискуссии внутри партии. Свернув нэп, навязав коллективизацию, сталинизм удалил из российской экономики человеческий элемент, и именно с этой проблемой приходится сейчас иметь дело горбачевскому руководству. Внедрением террора, а также всеобъемлющей системы стукачества и доносительства сталинизм нанес удар и по самому человеческому элементу, лишив людей не только частной инициативы, но и частной гордости, чувства собственного достоинства, извратив массу эстетических понятий, удручив страну на многие десятилетия — надеюсь, все-таки не навсегда — режимом внутренней глухомани и антитворчества.
Завершив последнюю фразу, я подошел прямо к теме этой статьи — к последствиям сталинизма в области культуры, а еще более специфически — в области литературы, а еще точнее — к учреждению в 1934 году — золотое время всего российского мелкобесия! — любимого сталинского детища, Союза советских писателей. Этими днями, ей-ей, мы не можем гордиться, Михаил Сергеевич. Им предшествовали разгоны и закрытия творческих групп двадцатых годов, всех этих «лефов», «серапионовых братьев», «конструктивистов», отрицание как мелкобуржуазных всех течений могучего и самобытного российского авангарда. Двадцатые годы у нас до сих пор еще многими воспринимаются как времена расцвета только потому, что эти течения тогда все еще существовали. На самом деле это были времена сравнительной терпимости, когда художники еще могли себя называть футуристами, акмеистами, имажинистами, конструктивистами без страха оказаться за решеткой. Двадцатые годы были временем изживания Серебряного века, и завершились они хронологически и политически довольно точно. Великий перелом искалечил не только российского мужика, но и российского артиста. Организация Союза советских писателей явилась как бы триумфальным пиком консолидации идеологического сталинизма. Отныне и навсегда устанавливалась единая литература, основанная на изощреннейшей цензурной системе, именуемой «социалистическим реализмом», и на жлобской эстетике Сталина и прочих постленинских большевиков. Союз писателей — это подлинное и единокровное исчадие сталинизма, порождение мрачнейших времен отечественной истории, ассоциативно связанное с убийством Кирова и с началом кровавых чисток, установлением культа личности главного паханка, утверждением лжи как образа и стиля жизни, завершением коллективизации и искривления экономики в сторону ее нечеловеческой сути. Будущий историк мало найдет в анналах СП СССР не только «дней, которыми можно гордиться», но и просто примеров человеческой порядочности. Зато немало ему придется потрудиться, описывая истории многочисленных предательств, массового малодушия, полного подчинения предписанному лизоблюдству, не говоря уже о таких мелочах, как стукачество и трусость. Вывезенный из эмиграции и декретированный на должность вождя этой декретированной писательской организации А.М.Горький уже в самом начале продемонстрировал свой чрезвычайно низкий нравственный уровень, предав основные традиции поднявшей и воспитавшей его российской интеллигенции своими зловещими банальностями вроде «если враг не сдается, его уничтожают». Став членом сталинской кодлы, этот писатель, еще недавно столь преданный литературе, утвердил изначальную неуместность самобытного художника в ранжирах социалистического реализма.
Уместно будет вспомнить его ответ как председателя СП СССР Андрею Платонову по поводу рассказа «Мусорный ветер»: «…рассказ в таком виде напечатан быть не может!» Этой фразой очень много было сказано с самого начала, хотя позднее именно Горькому пришлось поплатиться жизнью за им самим сформулированную тоталитарную нетерпимость — возможно, сам Сталин сказал что-то вроде: «…председатель Союза писателей в таком виде (то есть все-таки еще с какими-то остатками черт российской интеллигенции) существовать не может!» В годы чисток члены сталинского союза не только молча принимали исчезновение своих коллег, но и скрепляли любые злодеяния своими историческими одобрениями. Вспомним заводного рифмача Виктора Гусева, который выкрикивал с трибуны в дни инсценированных процессов над «вредителями»:
Гнев страны в одном рокочет слове, Я произношу его — расстрел! Расстрелять предателей Отчизны, Порешивших родину сгубить! Расстрелять во имя нашей жизни! И во имя счастья — истребить!При входе в здание Союза писателей, что на бывшей Поварской, ныне Воровской, вы можете увидеть мраморную мемориальную доску с именами членов Союза писателей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, не менее сотни людей. Конечно, они являются героями или мучениками, или жертвами бессмысленного военного молоха, однако к Союзу-то писателей их геройство и мученичество не имеет никакого отношения. Война парадоксальным образом оказалась для миллионов советских людей возможностью проявить свои человеческие качества, задавленные сталинизмом. После войны уцелевшие героические «военные корреспонденты», вернувшись в лоно родного союза, в лучшем случае равнодушно, а в худшем — с верноподданическим улюлюканьем смотрели на глумление, учиненное Ждановым над Ахматовой и Зощенко, на избиение еврейской секции, на позорную кампанию антикосмополитизма. Союз писателей, как говорят в народе, «знал свое дело туго». В послесталинское время Союз писателей стали потрясать периодические кризисы, которые прежде всего характеризовались попытками выделиться в творческие группы по качественному, направленческому или нравственному признакам.
Первой такой попыткой было создание группы писателей вокруг альманаха «Москва», в которую вошли самые талантливые, самые профессиональные писатели, стремящиеся к нравственному и художественному возрождению. Свирепость реакции идеологического аппарата на альманах «Москва» определялась не только содержанием этой коллекции, но и — а возможно, в первую очередь — страхом перед этой попыткой выделиться из состава монолитного и по-прежнему внутренне вполне сталинистского союза. Триумф сталинизма привел к новому укреплению СП, к новому «сплочению рядов», выразившемся в травле Бориса Пастернака, в которой вчерашние реформаторы, либералы, художественные новаторы приняли почти стопроцентное участие.
И все-таки эти попытки продолжались с большей или меньшей мерой робости. В начале шестидесятых годов возникла группа «Тарусские страницы», к середине шестидесятых можно было уже говорить и о существовании внутри союза хоть и не отчетливо оформленной, но довольно вызывающей «новой волны» вокруг журнала «Юность», группы правдоискателей вокруг «Нового мира» и противостоящей ей группы новосталинистов вокруг кочетовского «Октября». Выделение этих групп противоречило самой сути сталинского монолита СП СССР, и поэтому партия постоянно призывала к так называемой «консолидации», что и было полностью достигнуто к началу глухого брежневского пятнадцатилетия.
В последние десятилетия Союз писателей постоянно и неуклонно боролся за свою сталинистскую сущность, изгоняя из своих порядков писателей с независимыми голосами — Солженицына, Максимова, Галича, Войновича, Владимова, Корнилова, Чуковскую. Трудно не сказать здесь несколько слов о самом недавнем случае массового позора — кампании против группы альманаха «Метрополь». Из полусотни членов правления Московского отделения союза нашелся только один (между прочим, бывший цэкист Ал. Михайлов), предложивший не быть очень уж поспешными в объявлении В.Аксенова шпионом, а всего дела — акцией иностранной разведки. Зато на последовавших за заседанием правления партсобраниях таких смельчаков не нашлось совсем, и на общем собрании организации было проявлено сталинистское единодушие в осуждении «Метрополя» как «порнографии духа».
Один за другим на трибуну поднимались писатели — среди них немало и либеральных умов — и осуждали, осуждали, осуждали: ни у кого не нашлось ни одного слова в защиту. Эти люди, прекрасно знающие и трезво оценивающие позорное прошлое, не могли не понимать, что принимают участие еще в одном акте глумления коллектива над группой личностей; они совершили предательство, сохраняя, однако, верность не только духу, но и букве своего сталинистского Союза писателей.
Мало кто из писателей, включая и автора этих строк, вступая в союз, внимательно вчитывался в его устав, а ведь в уставе как раз и предусмотрено отступление от человеческих норм в пользу предательства во имя верности или, грубо говоря, «общей повязки». Кроме этой всеобщей повязки со всеми вытекающими из нее сталинизмом, маккиавеллизмом и всепоглощающим говнизмом, у Союза писателей в его нынешнем виде нет вообще никакого смысла. Чем занимается это огромное учреждение, занявшее целый городской квартал, распространившее свои отделы и подотделы, комиссии, секторы, секции по старинным особнякам романтического района Москвы и по современным пристройкам и даже прокопавшее подземный переход из бывшего особняка графов Волконских в бывший особняк графов Олсуфьевых, чтобы — не дай Бог! — генсека не прихватил гриппок, буде вдруг желание проведать первосека или окинуть взглядом трапезную, где вверенные его опеке писательские массы осторожно — чтобы не нарушить консолидации — общаются за обедом? Главная забота Союза писателей СССР, похоже, состоит в повсеместном набивании воздуха ватой, то есть в непрерывном внедрении по всем возрастным и жанровым категориям советской литературы удушающей казенщины, бессмысленной, пронизанной сталинистскими штампами ложнопатриотической болтовни и скуки. В этом состоит его регулярная деятельность — все эти запланированные загодя, на пятилетку вперед, конференции, декады, «писательские десанты», шефские мероприятия и прочий набор абракадабры. Особенно губительно действует эта атмосфера на молодые писательские поколения. Союз писателей, безусловно, несет большую долю ответственности за приглушение молодого литературного поколения всех семидесятых и половины восьмидесятых годов. Когда «гласность» и «перестройка» внезапно открыли горизонты, казалось, можно было бы ожидать нового «штурм-унд-дранга» со стороны молодежи, однако на поверку оказалось, что горизонты пусты, что молодежи почти нет и что главными активистами гласности оказываются все те же постаревшие «нововолнисты» шестидесятых годов или уцелевшие кое-где «новомирцы», или «деревенщики», ставшие публицистами национал-большевистского направления.
В «Нью-Йорк таймс» недавно была статья о том, что американские издатели сейчас снова рассматривают вопрос о сотрудничестве с ВААПом на предмет издания советских авторов в больших издательских домах США. И снова в списках советских авторов, предложенных для американского книжного рынка, все те же имена, а из новых одна лишь Татьяна Толстая, больше как будто никто на поверхности и не появился. Славно поработал Союз писателей за истекшие два десятилетия. По все признакам и в соответствии с доходящими до нас московскими разговорами Союз писателей сейчас представляет собой самую мрачную из всех творческих организаций Советского Союза. В составе его руководства сидят все те же сталинистско-брежневские кадры, угрюмо и стойко противодействующие новым временам и даже исходящим сверху указаниям. Огрубевший Юрий Бондарев, видимо оттого, что мир до сих пор не признал его новым Толстым, зловеще призывает к какому-то новому «Сталинграду». Выхолощенная писательская масса не может даже, в отличие от кинематографистов, выдвинуть из своей среды новых людей для участия в руководстве. Проскурины и Карповы — вот все, на что этот «союз» способен.
А между тем жизнь на российских пространствах, похоже, снова начинает понемногу идти, а не стоит на месте в сталинском оцепенении. Боясь еще назвать вещи своими именами, страна все-таки пытается избавиться от заклятия сталинизмом. Появляются смелые статьи по экономике, подвергаются сомнению укоренившиеся в российскую почву централизация, административное планирование, возникают робкие попытки стимулировать частную инициативу, оживить прессу, вернуть народу украденные литературные имена, появляются даже признаки нового вдохновения. В свете этих обнадеживающих перемен исчадие сталинизма — Союз писателей СССР — должен прекратить свое существование. Боже упаси, я совсем не призываю к его декретированному упразднению или разгону каким-нибудь усталым караулом наподобие команды матроса Железняка. Он может даже остаться в составе своего большинства преданных «помощников партии» (сомнительно, однако, что партии на современном этапе нужны такие помощнички), однако меньшинству должно быть дано право выделяться в творческие группы по художественным, направленческим или мировоззренческим признакам. Для восстановления творческой атмосферы в стране должна произойти децентрализация советской литературы; иными словами, в процессе десталинизации нужно вернуться к досталинскому периоду.
Прежде всего с Союза писателей должны быть сняты функции идеологического надзора; достаточно в стране и без него соответствующих организаций — пусть они, если уж без этого нельзя обойтись, надзирают за писателями, но пусть не заставляют писателей самих надзирать за собой. Следует также разобраться с финансовой стороной вопроса. Писатели должны сами содержать свои организации и группы, а не получать бюджеты из закрытых фондов государства. Иными словами, писательские организации не должны быть государственными конторами — этого нет нигде, ни в одной стране «третьего мира», не говоря уже о странах Запада. Существование чудища литературного министерства делает советскую литературу посмешищем в цивилизованном мире.
Неизбежны ностальгические вздохи — ах, неужто прекратит существование эта миловидная совлитературная твердыня между Воровским и Герценом, что на задах Восстания с ее очаровательным круглым двором, со снующими мимо статуи Льва Николаевича озабоченными клерками и секретаршами, с ее столь уютным в эклектическом стиле рестораном, с набором буфетов и бильярдной? Тоталитарщина всегда приносит некоторое ощущение странного уюта и мнимой стабильности. Утрата этого писательского гнезда, впрочем, вовсе не обязательна в новых условиях десталинизации. Группы могут гнездиться в тех же помещениях, только обязаны будут сами платить за аренду, а ресторан откроет свои двери всем, кто сможет заплатить за ужин и не разбить посуду; иными словами, будет конкурировать и с другими литературными вечерними заведениями столицы. Почему бы им не быть не в единственном, а во множественном числе, включая, скажем, возрожденную «Бродячую собаку» или кафе в стиле «Парижской ноты» тридцатых годов?
Это, впрочем, посторонние и необязательные разговоры. Главное — избавиться от сталинского наследия, пережитка мрачных времен, само существование которого в виде единственного и единственно возможного писательского объединения подавляет творческую фантазию, вызывает целую цепь гадких, унизительных ассоциаций, всю эту державу «ворошиловских стрелков», как бы в едином строю ползущую под проволокой полосы препятствий БГТО. Если же по соображениям ностальгического характера — а идеология у нас все больше начинает соотноситься с сентиментами одряхлевшего сталинизма — от Союза писателей уж никак нельзя отказаться, то пусть он станет тем, чем его определяет «Советский энциклопедический словарь» — профессиональным объединением литераторов, то есть профсоюзом. И не «школой коммунизма», а защитником прав и арбитром споров. Даже уже сейчас членами одного и того же Союза советских писателей являются авторы и личности, не очень-то совместимые друг с другом. Вознесенский, к примеру, не очень-то совместим со Станиславом Куняевым, Белла Ахмадулина — с Феликсом Чуевым, Эдвард Радзинский — с упомянутым уже в начале этой статьи Анатолием Софроновым. Трудно представить заявленную недавно журналом «Юность» группу блестящих молодых поэтов вчерашнего литературного подполья членами одного творческого союза с почтенными обкомовскими русофилами. Между тем, образовав независимые литературные группы по творческим, направленческим и эстетическим интересам, писатели периода гласности могли бы оставаться членами одного профсоюза пишущих профессионалов. Совершенно убежден, что устранение с авансцены общественной жизни одного из самых прискорбных пережитков сталинизма, монолита Союза писателей СССР, приведет к большому творческому подъему, к появлению еще одной «новой волны», к возникновению новой и, возможно, самой интересной в мире литературной арены. Представляю, как могут там огрызнуться в адрес эмигранта, однако кому же, как не нам, называть вещи своими именами.
2004
Сталинизм загнулся. Монолит распался. Комнаты поделили. Далее произошло непредвиденное: в писательский ресторан въехала загадочная структура с чудовищными охотничьими трофеями… Театр абсурда продолжается, но с другим репертуаром. Год за годом поместья Волконских и Олсуфьевых превратились в какой-то слегка лунатический ресторанный парк. Гастрономические запахи теснят друг дружку вокруг скульптуры Л.Н. Толстого. Аксенова за маниловские бредни о «самой интересной в мире литературной арене» приказано не пускать.
ОЧЕРЕДНОЙ КРИЗИС ИДЕАЛИЗМА…
Есть некоторые моменты в истории, как бы озаренные светом чистого идеализма, не затронутые ни соблазном власти, ни корыстью, но демонстрирующие лишь отвагу и готовность к жертве ради идеала. Таких моментов не так много — страсти протопопа Аввакума, астрономические вдохновения Галилея и Джордано Бруно, «дело Дрейфуса» во Франции, «дело Бейлиса» в России… Просвещенные круги в такие моменты с удивлением обнаруживают, что в обществе все еще имеется почва для идеалистической солидарности. Эти моменты стоят выше воинских подвигов и в общем-то, именно они еще оправдывают человечество.
Мелкобесие, стойко процветающее в человеческой расе, обычно бывает раздражено проявлениями идеализма и старается во все тяжкие хоть чем-то да замарать, заставить усомниться, еще раз отбросить саму возможность существования чистого идеализма, высмеять как бредни прекраснодушную болтовню, прикрывающую низменные на самом деле мотивы. Ну, скажем: Аввакум прятал золотишко, дело Дрейфуса было инспирировано банкирами-сионистами, Галилей, предположим, был обжора, многоженец, ну и тому подобное. Мелкобесие не переносит присутствия чистого идеализма.
Для нашего поколения советской послесталинской интеллигенции одним из самых ярких примеров чистого идеализма был процесс Андрея Синявского и Юлия Даниэля в 1966 году. Вся эта история была графически четкой и окрашенной в недвусмысленно точные неразмытые тона. Мрак был представлен советской беззаконной юриспруденцией, продажными советскими литераторами, аппаратчиками вроде Аркадия Васильева, Зои Кедриной и Сергея Михалкова; свет — двумя сорокалетними писателями на скамье подсудимых, людьми, бросившими дерзкий и бескорыстный вызов наглой системе, а также теми людьми, кто в результате этого процесса стал смелее и идеалистичнее, ибо именно этот процесс сдвинул дремлющее сознание советской интеллигенции, подвигнул ее на самостоятельные и рискованные действия.
Власти тогда даже несколько растерялись, меньше всего ожидали такой формы протеста: массовое подписание писем, требующих отмены несправедливого приговора. Советская интеллигенция давно уже казалась аппаратчикам полностью прирученной и привыкшей к идее непогрешимости «руководящих органов». Процесс пробудил в людях массу таких однозначных чувств, как гнев, возмущение, протест. Я помню, что именно эти простые чувства обуревали меня, когда зимним вечером я возвращался из зала суда, где только что видел, как судья Смирнов и общественные обвинители Васильев и Кедрина глумились над двумя нашими собратьями, виновными лишь в том, что они писали и печатали за границей сатиры диких времен. Я возвращался в московский Центральный Дом литераторов, где меня ждали друзья и где в парах паршивого коньяка витала крамола. Мы собрались за одним большим столом — те, кто побывал на процессе, и те, кто там еще не был (у руководства была дурацкая идея нравоучительности, а посему писателям предлагались билетики в зал суда), и стали обсуждать ситуацию. Собственно говоря, никто и не думал пока еще, что идет обсуждение, пока что все выкрикивали.
Некоторые, впрочем, молчали. Помню, один писатель, когда к нему обращались «старик, ну, подтверди, ведь ты же там тоже был и все слышал», мямлил: «Я ничего не слышал, у меня ухо, старички, болит; у меня просто-напросто гниет то левое, то правое ухо»… Потом я предложил написать письмо протеста. Георгий Владимов и Анатолий Гладилин немедленно согласились с этой идеей.
Так в шуме и неразберихе писательского застолья (такие сумбурные трапезы с выпивками были типичными для того времени) родилось движение советской интеллигенции шестидесятых годов, известное как «подписантство». Письмо было написано в тот же вечер в пустом кабинете главного редактора «Юности» Бориса Полевого. Если бы знал верный рыцарь социалистического реализма, для чего было использовано его служебное помещение! Адресовано письмо было почему-то товарищу Луи Арагону. В этом адресе, возможно, сказалось подсознательное желание слегка перестраховаться: Арагон, редактор влиятельного парижского журнала, был хоть и западным человеком, но все-таки коммунистом; обратиться открыто к независимой западной прессе (то есть по советской терминологии «буржуазной прессе») мы тогда еще не решались. На следующий день письмо стало ходить по рукам, мы предлагали близким друзьям поставить свои подписи. Интересно, что одним из первых, не задавая никаких вопросов, письмо подписал Р. Рождественский. Евтушенко перед тем как подписать предложил переадресовать письмо в ЦК. Совершенно очевидно, что большинство подписавших это первое в истории послесталинской творческой интеллигенции письмо протеста руководствовалось сугубо идеалистическими соображениями. Последовавшее за этим пятилетие ознаменовалось именно вспышками массового идеализма, противостоящего мрачной работе идеологического аппарата.
После писем в защиту Гинзбурга, Галанскова, Лашковой и Добровольского последовали репрессии в творческих организациях и научных институтах. В начале 1969 года мне случилось быть в Новосибирском академгородке, этом гнезде крамолы и передовых идей, одном из наиболее прочных оплотов «шестидесятников». Там тогда царило уныние, атмосфера поражения, и все-таки, вспоминая сейчас те дни, я вижу лица настоящих идеалистов и думаю о том поразительном отсутствии скепсиса и цинизма; вот оно, советское донкихотство! Процесс же Синявского и Даниэля оставался для всех символом чистого огня.
Увы, мелкие бесы, подобно саламандрам, плясали и в этом огне, как выясняется сейчас. Отвлекаясь от эмоций, я вспоминаю, как мы были поражены тогда свирепостью приговора. Приговор этот не вполне соответствовал сравнительно мягким нравам первых трех послехрущевских лет. На аудиенции у одного очень высокопоставленного партийного чиновника я был удивлен, когда тот стал едва ли не извиняться за процесс — мы-де этого не хотели, Руденко (генеральный прокурор) поставил нас перед фактом и т. д. Отматывая временами ленту назад, я иногда думал, что в этом деле было что-то еще кроме того, что было произнесено и прочувствовано, какая-то загадка; как ни хотелось об этом думать, но что-то там было еще кроме идеализма.
Первая тень была брошена одним из главных участников драмы едва ли не двадцать лет спустя. В романе «Спокойной ночи» выдающийся писатель Андрей Донатович Синявский сам дал понять, что там было кое-что кроме. Туманным рассказом о какой-то совершенно немыслимой, хотя вроде бы и действительно имевшей место поездке в Вену в 1952 году, то есть еще при жизни Сталина, он намекнул на какие-то особые, доселе никому не известные отношения с вездесущей организацией. Выглядело это так, как будто он, то есть герой романа, в сопровождении гэбэшников был доставлен на военном самолете в Вену для того, чтобы там завербовать молодую французскую журналистку. Он, то есть герой романа, поставил все дело так, что гэбэшники остались с носом. Умудрившись предупредить француженку об опасности, он договорился с ней о переправке своих опасных произведений на Запад. Возникает предположение, не мстили ли ему четырнадцать лет спустя тем непомерно свирепым приговором за венский обман?
В современной прозе грань между фантастическим и реальным материалом всегда размыта, однако спустя некоторое время в израильском журнале «22» появилось письмо некоего Сергея Хмельницкого, которое, если даже предположить, что он попросту врет, никак нельзя отнести к «беллетристике». Без труда узнав себя в одном из персонажей «Спокойной ночи», а именно в стукаче Сереже, Хмельницкий наносит ответный удар старому другу Синявскому, говоря в том смысле, что, мол, нечего из себя свиристелочку строить, и сам, мол, ты был завербован еще в студенческие годы и стучал не хуже, а лучше, чем я, грешный. Отвлекаясь, как говорится, от личностей, оставив на минутку в стороне и Синявского, и Хмельницкого, и французскую журналистку, и даже гэбэшников, мы можем только с глубокой печалью подумать об еще одном кризисе идеализма и о торжестве мелкобесия.
С одной стороны, тень, брошенная на выдающегося писателя эмиграции, сродни разговорам о том, что Галилей был обжора, но, с другой стороны, какая горечь возникает от сознания того, что вот даже и такое чистейшее, едва ли не святое дело возродившейся интеллигенции, даже и «процесс Синявского и Даниэля» оказывается занюханным и запятнанным мелкобесием!
В эту занюханность недавно вложил лепту и Евтушенко. В своей статье, напечатанной журналом «Тайм», он поведал читателям умопомрачительную историю о том, как в 1966 году он посетил квартиру Роберта Кеннеди в Нью-Йорке и как сенатор Кеннеди завел его в ванную комнату, пустил все имеющиеся в наличии водопады, дабы перекрыть подслушивающие устройства, и признался Евгению, что Синявский и Даниэль, то есть Абрам Терц и Николай Аржак, были «выданы вашим агентам нашими агентами». Это откровение, по мысли Евтушенко, должно было стать лишним доводом в разработанном, очевидно, недавно тезисе, что во всех внутренних идеологических зажимах Советского Союза виноват Запад. Вот-вот, мол, свободы должны были расцвесть на просторах родины, да тут опять Запад коварный то с карибским кризисом лезет, то Западный Берлин нагло отстаивает, то выдает Синявского и Даниэля. С полным изумлением я увидел, что вслед за поэтическим трибуном этому же тезису следует и нью-йоркский корреспондент «Литгазеты» Симонов, на писаниях которого просто пробы негде ставить. Больше того, он нынче тоже осуждает «мрачный процесс 1966-го, который возмутил все честное и живое в стране», однако опять же для того, чтобы свалить его на Запад. Чушь, пожал плечами известный американский писатель, они явно льстят нашему ЦРУ. Сомневаюсь, что в те времена ЦРУ знало имя хоть одного писателя. Сколько досадного вздора, ухмыльчивых намеков, многозначительных полуоткровений собирается нынче вокруг любой идеалистической акции! Кажется, уж никогда никому не отмыться. И все-таки иногда кое-где, кое-что, все еще…
ПАРИЖАНИН ИЗ СТАЛИНГРАДА
Писать прощальные слова людям своего поколения становится уже привычным делом. И вот ушел Некрасов. Строго говоря, в свои семьдесят шесть он был намного старше того, что называется нашим поколением, но тем не менее для меня и для многих друзей его имя стоит — как ни горько это говорить — «естественно» в списке недавних поколенческих потерь. В художественной жизни границы поколения выглядят особенно условно, и если в центре горестного списка недавних месяцев стоит Андрей Тарковский, то здесь же мы увидим и совсем недавнюю, поразившую всех, внезапную, на сцене, во время исполнения любимой роли, кончину актера Андрея Миронова в возрасте 46 лет… Не могу взять в толк, что из трех двадцатилетних мальчиков, дебютировавших в 1961 году в фильме по моему «Звездному билету», двух — Олега Даля и Андрея Миронова — нет в живых… и вот теперь отстоящего от Миронова на тридцать лет Виктора Платоновича, «Вику» Некрасова.
Мы не очень часто встречались, пока жили в России, но зато нередко — в эмиграции, и поэтому для меня его сухощавая широкоплечая фигура связана не с Киевом или Москвой, но, разумеется, с Парижем. Он точно вписался в пейзаж этого города, где провел свои младенческие и свои закатные годы. Он покинул Советский Союз за пять лет до моего отъезда. В 1976 году мы с моей матерью Евгенией Гинзбург приехали на два месяца во Францию. В один из дней мы позвонили Некрасову и договорились встретиться возле церкви Святой Магдалены. На ступенях церкви сидело много международной молодежи, и среди них 65-летний Вика в джинсах и мальчишеской курточке, и ничего не было неестественного ни в его позе, ни в его одежде прежде всего потому, что сразу был виден артист, старый поэт, то есть всегда молодой человек.
Пикассо под старость, по свидетельству Жана Кокто, любил говорить: «Надо долго жить, чтобы стать молодым». Некрасов, казалось в тот момент, прошел большую жизнь, чтобы помолодеть в Париже. Так, во всяком случае, казалось мне. Прочитанные в юности, во внелитературной жизни «Окопы Сталинграда» рисовали передо мной образ умудренного писателя-фронтовика, человека серьезного, пожившего, усталого и, несмотря на необычность этой книги в ряду послевоенных романов, все-таки очень советского.
Дальнейшая его проза послесталинских лет, однако, ясно показала, что он не из «той обоймы», не из послушных, но из бунтующих — такова была и «Кира Георгиевна», и «По обе стороны океана», — а когда временщик Аджубей обозвал его в «Известиях» «туристом с тросточкой» и на него обрушился партийный гнев за искривление образа «Иван-Иваныча», то есть стукача при туристской группе, тут уж Вика был сразу вычислен ими как не свой, а нами — как наш, антидогматик, западник, либерал, член «новой волны», то есть писатель нового поколения.
Для него самого, очевидно, его новая твердая позиция была продолжением тех же «окопов», противостоянием идеологическому блуду, мужским долгом и мужской дружбой, к которой он всегда был привержен, простой человеческой порядочностью, которой далеко не все «окопные герои» советской литературы могут похвастаться. В мире двусмысленности и малоприличного лавирования такая стойкость не могла не привести к кризису — он нарушал все правила их игры. Так он оказался изгнанным — сначала из партии, потом из страны, вслед за чем последовало и формальное лишение советского гражданства. Страна, которую он защищал без страха и упрека, как всегда, оказалась щедра по части взаимности.
Место Некрасова в эмиграции было исключительным, хоть он и не занимал редакторских постов и не лез ни в менторы, ни в пророки. Его присутствие среди нас вносило значительную лепту в то понятие, которое можно было бы определить как оправдание эмиграции. В свои последние годы он хорошо работал, его прозу этого периода — в ее составе такие чудные вещи, как «Маленькая печальная повесть» и «Суперлипопет», — отличала прозрачность слога, улыбка и грусть сродни той, что витает в облачный день над аллеями парка Монсури, где когда-то, на исходе «прекрасной эпохи», молодая русская дама прогуливала маленького Вику. Теперь настал его час, и он ушел, и жизнь для нас, его старых товарищей, стала тусклее.
ГОЛОС СОСНОРЫ
Мичиганское издательство «Ардис» внесло еще один серьезный вклад в поддержание современного российского авангарда — только что вышел из печати сборник «Избранное» ленинградского поэта Виктора Сосноры. Триста двадцать четыре страницы безукоризненного по искренности творчества, неподкупного и ничем не отвлеченного вдохновения словом. Открывается сборник сочинением «Верховный час», стоящим полностью вне академических канонов даже по части определения его жанра. Там есть такие строки: «…Как бельгоголландец стою на мосту, где четыре жираф-жеребца (монстры Клодта). Нервами нежной спины ощущаю: Дружбу держав: гименей гуманизма — германец, мини-минетчица — франк, с кольтами заячья мафья илотов — итал, а пред лицом моим в линзах Ла-Манша сам англосакс!.. ходят с тростями туризма: эра у них Эрмитажа… Пан-монголизм! Ах с мухами смехом! Не проще ль пельменное племя? Адмиралтейская Игла — светла, как перст револьвера, уже указующий в Ад. Цапли-цыганки в волосьях Востока, сераль спекуляций, цены цветам у станций метро, Мерзли мозги магазинов: под стеклами сепаратизма кости кастратов (эх, эстетизм!) Там и туман… Двадцать девиц. Я, эмиссар эмансипации… Домы-дворцы забинтованы в красные медицины (нету ковров!), ибо заветное завтра — триумф Тамерлана».
Стихи это или проза — не важно, потому что одновременно вызывают чувство родства и к хлебниковской «Зангези», и к «Смехачам», и к мандельштамовской «Египетской марке», и к Андрею Белому, и к Обериутам, и это, упаси Боже, не подражание, но вот именно родство, племенное созвучие, неразрывность. Любопытно также, что у зрелого и уже, как мы все, немолодого Сосноры чувствуется созвучие с юным Маяковским, заколдованным нарождающимся урбанизмом. Заполучив этот сборник, я вспомнил общее с Соснорой прошлое, откатился назад на четверть века (вот именно, двадцать пять, почти как по часам), в город-барокко бывшей Австро-Венгерской империи, ныне могучий центр советской автобусной промышленности Львов, в туманную осень шестидесятых годов, когда через Карпаты беспрерывно ползли на нас тучи польского ревизионизма. Я приехал повидать мать, которая оказалась в этом городе после своей восемнадцатилетней колымской эпопеи, потому что ее муж Антон Яковлевич Вальтер был католик и рвался туда, где еще теплились огоньки в соборах.
Церковь во Львове, согласно законам социализма, хирела, но зато процветала канадско-польская толкучка с вещами из посылок, на которой я купил рыжий свитер крупной вязки из Виннипега, мечту тогдашнего экзистенциалиста, что позволило Сосноре напомнить мне стихи Семена Кирсанова: «…Рыжий буйвол Канады в свитере, туго свитом»… Соснора во Львове оказался по делам патриотическим — проходил трехмесячные офицерские сборы, будучи приписанным к газете местного военного округа. В связи с недавним крупнейшим в истории хрущевским односторонним разоружением — распустили немало лишнего народу, списали немало «максимов» и тачанок — в остатках армии воцарились довольно либеральные нравы, и Сосноре разрешили жить не в казарме, а в гостинице «Интурист», в номере за восемьдесят копеек в день.
В этой гостинице мы с ним не раз обедали и просили у официанта перцу, что всякий раз повергало хлопца в сущую панику, так как дефицитный перец всегда куда-то «ховала» коварная «та смена». Недалеко от «Интуриста», то есть в самом центре ненадежного города, в главном фотоателье был выставлен мой портрет в качестве образца матового глянца. Публике, разумеется, не сообщалось, кто это такой щекастый, однако поклонники «новой волны» — а их среди молодых львовян было немало — нередко подходили к ателье посмотреть «на Васю». Там, грешным делом, мы нередко знакомились с девушками, а однажды познакомились даже с тремя разными девушками — что поделаешь — затянувшаяся молодость «первой оттепели»!
Находясь под дурными литературными влияниями Ремарка и Хемингуэя, мы много пили всяческой львовской бузы, не гнушались, по выражению Сосноры, «сыграть и горниста» у крепостных стен. Запомнилось несколько вечеров скитаний по пристанищам молодых львовян, вовсю игравших в левобережный экзистенциализм, по каким-то полуподпольным выставкам живописи и фотографии и по старорежимным анфиладам-жилищам профессуры, где из-за щедро сервированных столов однажды всплыл экран телевизора, с которого московский поэт спокойно сказал: «Поэты в России рождаются с дантесовской пулей в груди!» Это был Цыбин. Ну а теперь вы нам, Виктор, почитайте, просила профессура. Говорят, что у вас своеобычный голос. Поэт читал только что написанную «Оду пьяницам». Там были такие строчки:
…Бросив мятый рупь на стойку, Из занюханных стаканов Пьют вишневую настойку Аджубей с Хачатуряном…А завершалась ода элегически:
…Лишь пропойцы пьют нарзаны С баклажаном сизо-синим…Странные, не очень-то отчетливые воспоминания молодых лет; одно только запечатлелось по отношению к маленькому, по-мандельштамовски щуплому Сосноре — стопроцентный поэт. После той осени я его, кажется, никогда и не встречал; даже не знаю, где он сейчас живет — в Ленинграде ли все еще или в Москве. Тем более приятной была эта неожиданность — встретиться с его «Избранным», такой увесистой, солидной книгой, вышедшей в мичиганском доме русской литературы.
В заключение несколько отрывков из Терции с подзаголовком «Памяти Лили Брик».
…Ушла к себе и все забыла. Москва не родила капель. Молва пилюль не золотила. Ложились люди в колыбель. Включая лампу, как ромашку… Оплакал я — не храм, не Кремль… Не собеседник на суде, Не жалобщица и не жертва, Без пантомимы о судьбе Без эпистол, без мемуара Она — одна! ушла к себе… Освистывает обыватель. Знак зависти — павлиний глаз. Второй ремаркой объявляю: Еврейства ересь… им далась. (Ах, я ль не лях, Аллаху — лакмус!) Нимб времени и лир — для вас. Так лягут лгать, включая лампу. Монгольский молот под кровать В электролягушачью лапку!.. Ах, щит Роланда, счет Гарольда! Вы — объясните обо мне. Последнем всаднике глагола. Я зван в язык, но не в народ. Я собственной не встал на горло. Не обращал: обрящет род. Не звал к звездам… я объясняю: Умрет язык — народ умрет.ЗАЛЯПАННОЕ СТЕКЛО
Этим летом в Копенгагене один писатель рассказывал мне о своей недавней поездке в Москву. Как и многие другие западные интеллектуалы, он был под впечатлением происходящих перемен, с энтузиазмом искал повсюду признаки этих перемен и нередко их находил. Так или иначе, но тот факт, что советские журналы печатают сейчас авторов, которые еще год назад состояли в каких-то, как бы вечных, «черных списках», уже говорит сам за себя. В Союзе писателей на улице Воровского писатель встретился с несколькими ответственными людьми. К сожалению, имен не запомнил, для скандинавского человека русские имена звучат труднее, чем исландские. Не могу даже точно сказать, кто это были — писатели или аппаратчики, ни по одежде, ни по манерам определить не смог, посетовал он. Может быть, и те и другие в одних лицах, предположил я, и мой собеседник на минуту замолчал, как бы переваривая этот сногсшибательный вариант.
В общем, я им сказал, продолжал он, это прекрасно, друзья мои, что вы сейчас печатаете Набокова и Замятина, а как насчет нынешних эмигрантов, есть ли планы напечатать кого-нибудь из них? Тут лица собеседников, что называется, посуровели. С нынешними эмигрантами дело обстоит сложнее, дорогой скандинавский друг. Это народ пестрый, среди них есть такие типы… Здесь мы снова на минутку прервались для того, чтобы выяснить, так ли именно было сказано — «типами» ли были названы нынешние эмигранты. Вот именно «типами» и были названы, подтвердил писатель, а дальше он не без юмора просалютовал мне своей рюмкой; дальше, сэр, было упомянуто ваше имя. Среди них, говорят они, есть такие типы, как, например, Аксенов, это, знаете ли, тип… Жил, понимаете ли, припеваючи, наслаждался всеми возможными привилегиями, печатал все, что писал, в наших издательствах, а потом решил на Запад отчалить, чтобы и там нахапать побольше. Хоть и неплохой писатель, но тщеславный, корыстный человек. Вот таких, как он, типов немало среди нынешних эмигрантов.
Мой собеседник смотрел на меня внимательно. Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? Могу, сказал я. Все, что вам там наговорили про меня, — это стопроцентная ложь и одна из многих акций дезинформации. Не знаю уж, кому больше поверил мой копенгагенский собеседник, но мне этот эпизод дал еще одну невеселую возможность подумать об извивах нашей пресловутой «гласности». С одной стороны, какой ни откроешь сейчас из московских толстых журналов, обязательно найдешь под рубрикой «литературное наследство» публикации вчерашних «заклятых врагов», «эмигрантского отребья», то есть великолепных, давно или даже недавно почивших писателей Русского Зарубежья; с другой стороны, то и дело сталкиваешься с клеветой в адрес нынешней литературной эмиграции — или на страницах органов печати не столь увесистых, как «толстые журналы», но зато миллионнотиражных, или в разговорах, подобных приведенному выше. Иногда кажется, что клевета в условиях «гласности» приобрела более товарный вид. Тогда спрашиваешь себя не без ужаса — а что, если это тоже входит в стратегию данной кампании? Не перестаю удивляться, каким заразительным оказалось это слово, каким колоссально летучим и одновременно зверски прилипчивым. Народы Скандинавских стран, похоже, уже поместили его в свое наследие рядом с рунами. Международная толпа легко произносит его вперемежку со «сток иксчендж» и «рок-н-роллом». Я уже как-то говорил о том, что перевод этого слова на английский не кажется мне особенно удачным. «Опеннесс» — это открытость, а «гласность» в своей корневой, да и в смысловой основе имеет отношение к «голосу», то есть к большей разговорчивости, но не обязательно к большей открытости. Своим успехом на Западе это слово обязано скорее созвучию с английским «глас», что означает «стекло». Вот вам один пример того, как преломляется это слово в сознании западного человека. Корреспондент журнала «Тайм», освещая последний кинофестиваль в Канне, обратил особое внимание на успех двух советских режиссеров — Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, которые, несмотря на разительное несходство фамилий, являются родными братьями, то есть Сергеевичами. Первый снимал свою картину в Италии и снискал своей главной звезде Марчелло Мастроянни премию за лучшую мужскую роль. Главная звезда второго — Мэри Херши (фильм снимался в Америке) — получила приз за главную женскую роль. Отмечая эти успехи советских деятелей, корреспондент восклицает, обыгрывая название известной пьесы Тенесси Уильямса: «Ну полюбуйтесь, какой в этом году в Каннах получился замечательный „Глас Мэнеджери“», то есть «Стеклянный зверинец»!
Циники, а их вокруг немало, могут предположить, что «глас» может преломляться не обязательно в «стекло», но и в «стакан», однако, учитывая наши алкогольные мероприятия, это будет звучать бестактно. Так или иначе, ясно одно: слово «гласность» ассоциируется у западного человека с понятием «прозрачности». Чудесные времена — «железный занавес» заменяется «стеклянным занавесом», за которым иногда можно даже что-то различить, хоть и двухмерное, но все-таки изображение, хоть иной раз и с сильно размытыми краями, но все-таки с намеком на жест, то есть с позывом к реальной сигнализации. Большой прогресс состоит в том, что, если раньше говорили только о степени непроницаемости, то сейчас уже речь идет о степени прозрачности, о качестве стекла, о его шероховатости, о его заляпанности масляными или грязевыми пятнами, о смываемости этих пятен.
Стекло издавна было мечтой россиян. Наш первый прогрессивный генсек Петр Алексеевич Романов во время юношеского заграничного путешествия был поражен окнами Амстердама и Копенгагена. Это хорошо описано у Алексея Толстого. Пока кортеж продвигался по улицам европейских городов (в составе свиты путешествующего инкогнито юноши было триста человек персонала), Петр шептал другу Алексашке: «Глянь-ка, какие окна-то светлые, будет ли у нас так когда-нибудь»… В те времена стекло практически было неизвестно на Руси. В крестьянских избах крохотные окошечки, если они были, затягивались бычьим пузырем, в боярских хоромах — еле прозрачной слюдою. Так что Петр не только прорубил окно в Европу, он еще и застеклил его довольно прозрачной и твердой субстанцией.
Любопытно, что и в современной советской литературе есть один весьма яркий пример символического использования стекла. Герой романа Андрея Битова «Пушкинский дом», Лева Одоевцев в финале пытается пересечь Неву по Дворцовому мосту. Дело это оказывается нелегким, во-первых, потому, что по городу гуляет всенародный праздник «Октябрьские», во-вторых, потому, что вдоль Невы гуляет ураганный ветер, а в-третьих, потому, что герой зажат между двумя огромными штуками оконного стекла, которые он тащит, чтобы восстановить разрушенный по пьянке им же самим и его другом Митишатьевым литературный музей. В середине его скорбного пути Лева был схвачен порывом балтийского ветра. Зажатый между стеклянными плоскостями, он бессильно прокручивается вокруг своей оси. Таким образом, еще пятнадцать лет назад в советской литературе невольно возникла символическая картина советского интеллигента, зажатого поверхностями гласности. Нынче приходится иногда смотреть не на то, что находится за стеклом, а на пятна, скрывающие происходящее либо ставящие под сомнение качество самого стекла. А пятен, увы, немало, и одним из самых сильных является отношение к так называемой «культурной эмиграции». При Брежневе и Черненко этой проблемы как бы вообще не существовало по той простой причине, что о ней запрещалось говорить. Вот вам преимущества пошехонского царства — все меньше проблем, все больше величавой горделивости.
Нынче время нервное, приказано говорить обо всем, однако приказано-то все теми же людьми, поэтому и разговоры об уехавших нередко сводятся к пайковому риторическому вопросу — «чего им не хватало?!». Информация, если и преподносится, то только в манере самой примитивнейшей «дезы». Особенной злобой в отношении литературной эмиграции пышет нынешний первый секретарь Союза писателей СССР «Герой Советского Союза» Владимир Карпов. Читая его высказывания по этому вопросу, сделанные в Италии, чувствуешь, как хорошо был этот человек в свое время натренирован рвать вражьи глотки, и не удивляешься тому, что еще недавно этот деятель гласности требовал применения к составителям альманаха «Метрополь» законов военного времени, то есть расстрела. Недалеко от него ушел и нынешний главный редактор либерального органа печати газеты «Советская культура» Альберт Беляев, всю брежневщину просидевший в кресле заместителя заведующего отделом культуры в ЦК КПСС, принимавший самое деятельное участие именно в создании литературной эмиграции, то есть в создании удушающих условий, от которых убежишь хоть в Гренландию, а также являвшийся и прямым разработчиком политических и административных акций брежневизма, этот человек печатает сейчас в своей газете идиотические сыскные заключения вроде: «Аксенов вовсю отрабатывает свою американскую визу» или «Любимов задешево продается», ну а у Владимова основная забота выхлопотать несколько сотен «натуральных марок»… Так действуют вчерашние брежневские задолизы, нынче примазавшиеся к «гласности», однако, увы, и люди иного толка, которые вполне искренне видят в гласности «свое время», не очень-то далеко ушли от первых в вопросе культурной эмиграции. Один старый товарищ, талантливый поэт, поднявшийся нынче до полномочных вершин, на беседе в «Вашингтон пост» небрежно бросает сентенцию о том, что эмигранты уехали вовсе не для того, чтобы издавать книги, а в поисках «сладкой жизни», а также брюк, которые Владимир Набоков в «Лолите», не зная еще о существовании русского слова «джинсы», назвал «голубыми техасскими панталонами». Вольно или невольно распространяется все та же дезинформация.
Казалось бы, деятели гласности без особого труда могли бы свести всю проблему «культурной эмиграции» к злоупотреблениям периода застоя, то есть к брежневизму. Не так уж дорого будет назвать вещи своими именами, хотя бы в том же ключе, в каком говорят о развале экономики и об общественной пассивности; сказать о том, что бюрократия нанесла оскорбление большой группе деятелей культуры, выпихнула ее за рубеж, создав обстановку вопиющей нетерпимости, однако почему-то этого не делается, и в антизастойной атмосфере возникает уже свой довольно густой застой. От такого деятеля, как главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев, который в начале полемики с так называемым «письмом десяти» сказал, что часы эмигрантов остановились и что они оценивают события с позиций вчерашнего дня, можно было бы ожидать более сложного и более созвучного времени выступления, чем то, с каким он выступил в начале лета перед московскими писателями. Передергивая присланные в «Московские новости» статьи Владимира Максимова, Эрнста Неизвестного и мою, сводя все дело к пустякам, а выдающегося режиссера Юрия Любимова называя — в безукоризненно прежних стереотипах — «отрезанным ломтем», Яковлев откручивает стрелки назад.
Нынешний разговор, увы, не ограничивается только беспринципными чиновниками и полномочными представителями «гласности», и тут мы подходим к самому огорчительному аспекту этого дела. К сожалению, не только те, кто говорит от имени «народа», «родины» или «общественности», но и те, кто говорит — или пытается говорить — от своего собственного имени, нередко встают перед вопросом культурной эмиграции в позу какой-то довольно блудливой двусмысленности. И мне, и другим эмигрантам в последние месяцы приходилось встречаться с прежними друзьями, с людьми, казалось бы, стопроцентно близкими и откровенными. То ли мы уже отвыкли от советских манер и удивляемся тому, чего раньше не замечали, потому что и сами были «из тех же манер», то ли и в самом деле что-то разительно переменилось за время нашего отсутствия, только нельзя не заметить неизвестно откуда взявшегося напряжения, постоянного ощущения какой-то затаенной ухмылки, другого или, лучше сказать, «еще одного» недоговариваемого смысла, присутствующего в разговорах. Возникает горькое чувство того, что если темные силы хотели посеять недоверие и отчуждение между теми, кто остался дома, и теми, кого вышвырнули за рубеж, то они этого добились.
Отстали эмигранты от московского времени или ушли вперед, покажет универсальное время; часы их, однако, и впрямь не совпадают с будильниками перестройки. Читая недавно в «Литературной газете» отклики читателей на роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», я подумал — признаться, не без некоторого ошеломления, — что общественное сознание Советского Союза благодаря этому сильному роману вернулось к временам тридцатиоднолетней давности и вновь, все с тем же пылом 1956 года, обсуждает немыслимой сложности вопрос — можно или нельзя критиковать Сталина? Цикличность почти уже геологического порядка. Я не говорю о сталинистской сволочи, которая предлагает передать материал на автора в КГБ, не их бредовина меня изумила, а высказывания честных людей. Крупный военный пишет, что он сорок лет ждал этого романа, то есть такого романа, и теперь он просвещен по части сталинских преступлений и может поставить вопрос — куда смотрел Ворошилов? В этом страннейшем — с эмигрантской точки зрения — вопросе отражается ошеломляющая в своей медлительности цикличность общественного сознания. Эмигранту, для которого Сталин — просто грязный пахан, а Ворошилов — член кодлы — и это истины столь же непреложные, сколь и история Третьего рейха, трудно вообразить себя участником такой дискуссии.
В пейзаже перестройки то и дело возникают знакомые алебастровые фигуры верноподданничества. Авторы писем в редакцию, очевидно, для того, чтобы подкрепить свои вполне прогрессивные, критические к сталинизму аргументы, не устают благодарить партию за предоставленную наконец возможность «говорить правду». «Стеклянный занавес» начинает рябить, словно зеркало в комнате смеха, однако никто не смеется, кроме эмигранта. Этот смех, очевидно, и делает его особенно чуждым элементом. Обратимся, однако, к тем кругам советской общественности, которые находятся на более серьезном уровне — к либеральным кружкам Москвы и Ленинграда. Здесь, казалось бы, можно будет найти признаки солидарности с изгнанными друзьями или хотя бы простое человеческое сочувствие. Вначале, в брежневские времена, такое отношение к эмиграции явно преобладало среди либералов хотя бы уже потому, что каждый как бы видел себя на месте тех, кому показали на дверь. Сейчас отношение переменилось; в кружках либеральной интеллигенции эмиграции предъявляется какой-то странный счет — вы-де от нас оторвались на своем комфортабельном Западе, не вам судить о нашей борьбе и страданиях, вы закомфортились там, обуржуазились (иными словами, вновь выплывает даже и из благородных уст вековечный советский жлобизм — зажрались!); вы там подписываете всякие безответственные письма, посягаете на нашу столь миловидную, такую хрупкую стеклянность; иными словами, в самом факте пребывания за границей так или иначе усматривается нравственный ущерб.
От этой нынешней позиции либералов, как ни странно, не так уж далеко до напечатанной 21 августа в «Правде» пещерносталинистской статьи Веры Ткаченко с ее мрачными заклинаниями «родиной» — родина, родина, какая бы она ни была (но все-таки обязательно советская), а те, кто оторвался, — гнилье и предатели.
Так называемое «письмо десяти», перепечатанное из «Фигаро» «Московскими новостями» и дружно, «всенародно» заклейменное как вражеское, подрывное, инспирированное спецслужбами или уж на худой конец как отсталое, продиктованное тщеславием, жалкими потугами самоутверждения, продолжает и по прошествии полугода интенсивно реверберировать в советской общественной жизни. Преувеличенная реакция на этот документ, в котором на самом деле нет ничего особенного, кроме факта публикации его в советской прессе, может вызвать в воображении старую деву, которую когда-то давно кто-то ущипнул за мягкое место, а она все еще ахает — ах, какая вопиющая невоспитанность! Самое, однако, печальное в этом деле то, что сочувствие советских либералов нередко оказывается на стороне растревоженных официозов, а не на стороне старых друзей. Официозы гласности оказываются им ближе, чем эмигранты догласности. Это реальность, кто-то от кого-то оторвался. Кого за это винить или благодарить — самих ли себя, сделавших свой собственный выбор, мифическую ли структуру партии, слепую ли судьбу? Не исключено, что кому-нибудь может прийти в голову даже и мысль о Божьем Провидении.
«Письмо десяти» при всех его несовершенствах отражает уже откристаллизовавшуюся сторону эмигрантской ментальности — называть вещи своими именами. Плохо это или хорошо для художества, но византийские эвфемизмы здесь отошли в прошлое. Если мы и раньше не врали, думает эмигрант, то чего же нам хитрить сейчас? Я надеюсь, что намечающаяся конфронтация не зайдет слишком далеко и не заставит никого в Зарубежье в одночасье назвать «стойкость» оставшихся нравственной хилостью, а «молчаливое сопротивление» состоянием перманентной межеумочности. Раздражение временами, однако, возникает, и немалое. Один мой друг из того числа, что и формально разделили мою судьбу лишенцев советского гражданства, недавно повстречался в Европе со своим старым московским приятелем, музыкантом. Принадлежащий к либеральным кругам музыкант в год не менее трех раз выезжает за пределы и, стало быть, имеет доступ ко всем возможным источникам информации. Как, разве тебя лишили гражданства, воскликнул он в разговоре с моим другом. Да за что же?! Да, сказал мой друг, восемь лет назад меня лишили гражданства декретом Президиума Верховного Совета СССР «за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и за нанесение ущерба престижу СССР»… Вот как, смутился музыкант, а я думал, что ты сам уехал…
За три дня в Копенгагене, где только что вышел в переводе на датский мой роман «Ожог», я дал по крайней мере дюжину интервью в газетах и на телевидении. Всякий раз к концу беседы журналисты спрашивали: «А вы не собираетесь сейчас вернуться?» Сейчас — означает, что что-то кардинально изменилось за последнее время. Так оно в общем-то и есть, что-то все-таки сдвинулось кое-где кое-как, но для культурной эмиграции стрелки не шелохнулись. Отчуждение же с каждым годом усиливается, и я не удивлюсь, если увижу какого-нибудь русского писателя среди американских туристов на осмотре Грановитой палаты. Одетый в клетчатые штаны, он будет с интересом прислушиваться к переводчику.
ВОСПОМИНАНИЯ ПОД ГИТАРУ
Родоначальник советской «гитарной поэзии» Булат Окуджава поет в библиотеке Смитсониевского замка в Вашингтоне. По вертикали эта комната в три раза длиннее, чем по горизонтали, высоченный сводчатый потолок, стрельчатые окна: «замок» был задуман как имитация британской готики, но теперь уже и сам стал готикой, ему не менее ста пятидесяти лет. За спиной у певца бюст Вудро Вильсона, выполненный в черном камне. Сомневаюсь, что певец знает, чей это бюст. Я и сам долго не знал чей, хотя провел в замке целый год за написанием романа «Бумажный пейзаж». Знал только, что это не-Ленина бюст. По стенам библиотеки толстенные фолианты в кожаных переплетах, сомневаюсь, что ими кто-нибудь когда-нибудь пользуется. Внимание обычно сосредоточивается на стендах периодики: журналы всех стран и направлений вплоть до румынской «Скынтейи».
Булата представляет аудитории профессор Джозефин Уолл, которую в вашингтонской общине русистов называют Джози, молодая женщина, прекрасно говорящая по-русски. Здесь же присутствует профессор из Оберлина, штат Огайо, Владимир Фрумкин, бывший ленинградец, именно тот самый, что выпустил в Штатах уже два двуязычных сборника песен Окуджавы с нотами. В одной из этих книг есть фотография 1969 года, снятая на борту теплохода «Грузия», стоявшего о ту пору в порту Ялты на фоне некогда шикарных витрин ялтинской набережной и невидных современных строений, карабкающихся в горы, и далее — на фоне самих вечно восхитительных Крымских гор. На верхней палубе сфотографировалась смешанная группа писателей и моряков — капитан Анатолий Гарагуля, старпом Анатолий Торский, поэт Константин Ваншенкин, его жена прозаик Инна Гофф, летчик-испытатель Марк Галлай, автор романа «Дети Арбата» Анатолий Рыбаков (роман уже в то время был написан и прочитан друзьями автора) и мы с Булатом; мне тридцать шесть, ему сорок четыре, стоим обнявшись, его лицо повернуто в профиль, во всем облике что-то лермонтовское.
Теплоход «Грузия» долгие годы был плавающим пристанищем литературы. С легкой руки своего флотского кореша, ренессансного Григория Поженяна, капитан Гарагуля стал чудным другом многих, как говорили тогда, «противоречивых» писателей. Немало на борту этого судна произошло веселых застолий, романтических встреч, немало, очевидно, и творческих замыслов было рождено. Всегда мы могли получить на «Грузии» каюту и пуститься в побег (пусть и фиктивный) от московских «кувшинных рыл». Как-то раз в очередном побеге, в начале романа, мы оказались с Майей зимой в Сочи. Был день фантастической прозрачности, заполненный средиземноморским бризом, пустынные улицы, открытые и пустые рестораны (что тоже было на грани фантастики) и даже доступные гостиницы, что уже находилось за гранью; иными словами, полное ощущение бегства из героической реалии. Весело спускаясь по сочинской улице, именуемой Горкой, мы говорили, что для полноты счастья не хватает только, чтобы в порту стояла «Грузия». Мы завернули за угол, вошли в платановую аллею и увидели ворота порта. За ними белой горой стояла «Грузия».
Обрывки этих и множества других воспоминаний, как светляки, кружились вокруг Окуджавы в готической библиотеке Международного центра Вудро Вильсона, когда он пел свою знаменитую «Песенку о Моцарте». Ведь это именно тогда, когда снята была фотография на борту «Грузии», восемнадцать лет назад, в мае 1969 года он первый раз публично исполнил эту песню. Произошло это на праздновании его собственного дня рождения, девятого мая, в ялтинском Доме творчества, псевдоампирном лит-фондовском хозяйстве, что развесило несколько своих террас над городом в парке с крутыми склонами, с ностальгически облупившимся фонтаном, в центре которого трогательно скособочился литературный амурчик, у которого были слегка повреждены как крылышко, так и пиписка, с кипарисовыми аллеями, где меж стволов, как было доподлинно известно, предыдущее поколение писателей закопало несколько бутылок первоклассного шампанского, и его можно легко обнаружить, разумеется, при наличии надежного шампаноискателя.
Там вокруг стола были как представители моря, так и литературы: ренессансный о ту пору Поженян и готический Горчаков, представители драматургических племен Киргизии, классический Арбузов со своей дочерью княгиней Волконской, главный поэт и муза всего Закавказья Белла, три грека-контрабандиста и молодой последователь Чехова и Эллиота Славомир Волкович, лиса Алиса и кот Базилио и дегустатор массандровских подвалов Авессалом Фрамбуазович Шарафутдинов. Как и сейчас, в Вильсоновской библиотеке, в том, не очень-то, как мы видим, едином по стилю обществе Окуджава встал, поставил ногу на табуретку, укрепил на колене гитару, зарокотал и запел:
Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечества не выбирает — Просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, Наша судьба — то гульба, то пальба… Не оставляйте стараний, маэстро, Не убирайте ладони со лба.Все обалдели. Все были тогда еще основательно молоды, даже Авессалом Фрамбуазович Шарафутдинов, не говоря уже о Белле и Славомире Волковиче. Булатовское пение, кружащееся над ночной Ялтой, присутствие Моцарта вызвало по всей южноевропейской сфере России колебание романтических струн, напомнило нечто из еще не написанной тогда классики: «…розовый хмель Мидеотеррано, подобный пене острова Крит, закручивал наши шаги по чутким коридорам Ореанды и мы низвергались с мраморных лестниц и совершали пируэты на кафельных полах с сотнями писсуаров, протянувшихся вдоль неподвижного моря, словно строй римских легионеров… хмель бешеным потоком заносил нас в подкову гавани Сплита на полированные булыжники Диок-летианова града в гости к нимфе Калипсо на ее древние и вечно желанные холмы в библейские долины и романские города под шелестящими лаврами… и мы метались на дне кипарисового колодца под чистым темно-зеленым небом между статуями корифеев средиземноморской цивилизации и захлебывались в эту нашу, быть может, последнюю юную ночь…»
Это, как говорится, так сказать, лирика, некий смутный набросок чувств, возникший на концерте Окуджавы через множество лет и за тридевять земель от родины. Кроме этих смутностей, были и реальные наблюдения. Он постарел, как полагается, но не более, чем полагается. Поседел, но остался тонок в талии. Сутуловат, как прежде, но не более того. Удивительно то, что за эти годы у него прибавилось вокала. Хочешь верь, хочешь не верь, сказал я ему, но мне кажется, что ты сейчас стал лучше петь, чем в молодости. Да-да, я знаю, ответил он, что-то странное произошло, в последние пару лет голос действительно почему-то улучшился. Значит; это все-таки не благодаря «гласности», ухмыльнулся я. Ради каламбура иной раз и Булата не пожалеешь. Впрочем, каламбуры в сторону — магия его пения вызывает не только воспоминания, но и желание кое-что забыть. Об этом, однако, поговорим позднее. В последнее время у нас сплошные визиты из прошлого. Одно из предсказаний догласновской поры полностью оправдалось. В американских кругах, помнится, все спорили, какие изменения принесет послебрежневское поколение руководителей. Многие говорили: существенных изменений режима и системы ждать не приходится, а вот что касается стиля, то здесь изменения возможны, и прежде всего художественной элите позволят больше путешествовать. Так и получилось: в этом сезоне в Америку приехали не только регулярные путешественники, которые едва ли не ежегодно (если не дважды в год) чуткими поэтическими хоботками проводят зондаж американского литературно-общественного мнения, но и те, кого здесь давно не видели или даже не видели вовсе.
Три месяца провела здесь и очаровала всех Белла Ахмадулина. Она без устали читала стихи и в скромных залах местных клубов, и в престижных аудиториях Института Кеннана и Американской академии искусств. Мэр города Балтимора вручил ей ключи от города и звание почетного гражданина, что дает ей, очевидно, право на почет и в городе-побратиме Балтимора — Одессе. В Принстоне поставил «Дядю Ваню» почтенный ленинградский мэтр Георгий Товстоногов. Большая делегация самых энергичных «перестройщиков», ведомая Климовым, посетила Голливуд. В этой связи несколько слов об одном коротком, но почти сюрреалистическом эпизоде. Как-то в марте, на ночь глядя, прилетел я в Лос-Анджелес. У меня там был заказан автомобиль. В ожидании автобуса-челнока, который бы подбросил меня в расположение компании «Эйвис», я стоял у подъезда компании «Континентал», мимо которой лилась бесконечная река машин всех мыслимых компаний. Подошел челнок, внутри играло радио, обычный рок-н-ролл. Вдруг музыка оборвалась, и челнок сказал по-русски голосом Ролана Быкова: «Все люди доброй воли должны сплотить усилия в борьбе за мир на планете!»
В апреле в Вашингтоне появилась делегация советских писателей в составе Андрея Битова и Олега Чухонцева, они приняли участие в писательской конференции, организованной каким-то небедным лордом и организацией, название которой можно перевести на русский язык как «Пшеничные края». Мне на заседаниях этой конференции побывать не пришлось, потому что она полностью совпадала с моими университетскими днями в Балтиморе, но по сведениям «Литературной газеты» советские участники выступили лучше эмигрантских участников, если вообще не лучше всех. Посетил недавно наши края самый популярный в Америке советский драматург Эдвард Радзинский. Сейчас по Америке ездит, по слухам, Михаил Рощин и артистка МХАТа Анастасия Вертинская. Ждут Искандера.
Как вожделенно жаждет век Нащупать брешь у нас в цепочке… Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Чтоб не пропасть поодиночке.Продолжается выступление поющего поэта Булата Шалвовича Окуджавы в библиотеке Международного центра Вудро Вильсона, что в Вашингтоне, дистрикт Колумбия. С этой песенкой, возникшей, если не ошибаюсь, в середине шестидесятых, связано воспоминание об одном московском вечере, когда на сцене клуба гуманитарных факультетов МГУ, что на Моховой, спонтанно собралась компания по нынешним временам совершенно немыслимая: Булат Окуджава, Иосиф Бродский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, художник Олег Целков и ваш покорный слуга. Из шести участников трое находятся в эмиграции и не очень-то, мягко говоря, ладят друг с другом, а трое оставшихся не очень-то любят появляться вместе. Группа, или, как в песне поется, цепочка, давно распалась, если когда-нибудь существовала. Брешь, которой так вожделенно жаждал век, была великолепно нащупана, если в ней вообще была когда-то нужда. Внутри развалившейся группы остались только личные человеческие связи или антисвязи — иные привязанности и даже дружеские чувства, иные враждебности и даже брезгливость. А в тот вечер, случайно собравшись, все не могли разойтись и обрастали все новыми друзьями из числа молодого искусства, цепочка все удлинялась, скатывалась в кольца застолий, рассыпалась вдруг звеньями «междусобойчиков», но потом, подчиняясь сильнейшим магнитным эффектам той поры, вновь соединялась, пока один из нас за какие-то экстравагантные эскапады не попал в милицию, откуда его скопом же, цепочкой, и выручили. Таких вечеров на памяти не счесть, гораздо меньше было дней сообща, когда что-то обсуждалось и что-то серьезное предпринималось; все тогда воспринималось в контексте какого-то странного и, во всяком случае, преждевременного карнавала.
И все-таки единство не всегда было иллюзорным, подчас эта пресловутая цепочка казалась даже на удивление прочной, что, вероятно, не могло не беспокоить ревнителей вековечной мудрости «разделяй и властвуй». Если бы какой-нибудь историк культуры вознамерился сравнить русскую художественную сцену шестидесятых годов с нынешним положением, его поразил бы масштаб развала этого единства, размеры нынешней разобщенности и даже враждебности. Литераторы всегда друг с другом собачились: Диккенс двадцать лет не разговаривал с Теккереем, Достоевский на дух не выносил Тургенева, хотя и ездил к нему одалживать талеры, чтобы отыграться в Рулетенбурге. Молодая эйфория послесталинских лет, конечно, не могла не выветриться, не могли не вступить в силу законы среднего возраста с его раздражительностью, брюзгливостью, ощущением невознагражденности, вольными или невольными попытками самоутвердиться за счет других, однако масштабы деструкции выходят за пределы даже этих параметров и даже вызывают ощущение, что кто-то со стороны со знанием дела и старанием занимался этой проблемой, сеял рознь, распускал сплетни, подготавливал подлые щипки или удары в спину. Ссорить писателей — работа нетрудная, особенно для профессионалов.
Возраст художественного поколения уже подходит к итоговому, и если попытаться хотя бы временно вымести из избы сор и развеять кружащиеся в воздухе в поисках щеки плевки, что испускателям всегда кажутся комариными, а реципиентам верблюжьими, то можно, не боясь преувеличений, сказать, что послесталинское поколение русских артистов, что начинало в такой удивительной сплоченности, а сейчас пребывает в такой озверительной разобщенности, все-таки основательно пропахало мировой художественный огород и принесло всходы едва ли не сродни тем мандельштамовским виноградникам, что «как старинная битва живет, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке». Даже и пресыщенный художествами свободный Запад не остался равнодушен к отзвукам этой «битвы», и в какой-то степени российское искусство было возвращено к его истокам.
Вот сейчас передо мной лежат два выпуска двух ведущих американских органов печати — вашингтонский «Пост» и нью-йоркский «Таймс». На этой неделе в них можно найти две большие статьи о творчестве двух крупных и полностью противоположных друг другу художниках нашего поколения — кинорежиссера Андрея Тарковского и поэта Евгения Евтушенко; в самом деле, трудно найти более несхожие личности, более отдаленные друг от друга концепции искусства и творческой судьбы. «Пост» пишет о последнем фильме Тарковского «Жертвоприношение» и называет свою статью весьма выразительно — «Тарковского медлительный ожог». «Фильм наполнен страстным и в то же время элегическим воздухом подведения итогов, он как бы является поэмой смертного ложа, написанной кровью и огнем, попыткой все объяснить и повернуть мир». «По всему фильму, — продолжает критик, — разбросаны приметы огромного мастерства, характерного для автора монументального фильма 1966 года „Страсти по Андрею“ об иконописце Андрее Рублеве. Страсть выражает себя здесь в интенсивной духовности скорее, чем в действии. Раздумчивый и безмятежный, почти монашеский ритм фильма напоминает ритм Грегорианских речитативов. Пульс действия столь медлителен, что иногда кажется, что его нет вообще». Как и многие другие герои Тарковского, главный герой «Жертвоприношения» — это своего рода юродивый Божий человек (в прямом переводе с английского это звучит как «святой дурак Господа Бога»). Он задается вопросом о природе существования и о смысле вещей. То, что он ценит больше всего, воплощено в средневековых иконах и в живописи Леонардо — чистота, мудрость, невинность, посвященность. Не обошлось тут и без некоторого иронического автопортрета. Слова, слова, цитирует он Гамлета, если бы только мы могли заткнуться и что-то сделать… Финальный эпизод картины — это шести с половиной минутный пожар, жертвенное сжигание дома, чудо выдержанной до самой последней секунды виртуозности. У некоторых зрителей манера Тарковского безусловно может вызвать негодование. Он требует от зрителя так многого, что мы нередко пребываем в оцепенении перед его мастерством.
Сопоставим с этим отзывом рецензию в «Тайм» на последнюю книгу переводов стихов и прозы Евтушенко, и нам покажется, что речь идет о существах с разных планет. Статья называется «Горячий стиль „Баракко“ (не „барокко“) со станции Зима». У Евтушенко опять золотая пора, пишет рецензент, на этот раз гласность, поскольку еще со времен поэтических сборищ на площади Маяковского в Москве этот «драматический сибиряк» был повсеместно известен как поэт оттепели. Впрочем, пишет рецензент, менее привилегированные советские писатели знают его как мастера лавировать по тонкому льду. Последняя книга красноречиво демонстрирует это искусство; в ней много театральных поз, но они не могут скрыть укрощенности поэта. Главными мишенями поэтического гнева по-прежнему являются старые монстры сталинизма и бюрократия, препятствующая «перестройке». Прежние его ударные и неожиданные по дерзости вирши вроде «Бабьего Яра» или «Наследников Сталина» сейчас подменены расплывчатой универсальностью. По мнению критика, стихи Евтушенко основательно выигрывают в чтении, особенно для аудитории, не знающей русского языка. В этом случае публика очаровывается не поэтическим призывом, а самим нашим языком с «его мягким жужжанием и гортанными вздохами». Последнее замечание, надо сказать, повергло меня в основательное недоумение: никогда не подозревал за ВМПСом имени Тургенева подобных качеств, свойственных, вроде бы братьям-грузинам но — вот сила печатного слова! — теперь и в самом деле кажется улавливаю «мягкое жужжание». Евтушенко, продолжает критик журнала «Тайм», очень гордится своей популярностью и бросает вызов критиканам. В обратном переводе с английского это звучит так: «То, что вам кажется лишь погоней за славой, когда-нибудь назовут героическими деяниями». Такая величавость, пишет критик, может, конечно, обидеть тех писателей, что под давлением советской системы испытывали духовные и физические страдания, в то время как Евтушенко процветал. Впрочем, добавляет мистер Шепард (между прочим, большая зануда), это уже относится к старой грустной истории зависти, недоразумений и компромиссов. Хуже то, что евтушенковские высокопарности очень «пережарены». Стихи такого рода даже в переводе ничего не потеряют… В пространстве горчайшего, хотя, возможно, и живительного отчуждения, от Тарковского до Евтушенко, стоит с гитарой пожилой Окуджава и поет: «…Каждый пишет, как он дышит…»
В склянке темного стекла Из-под импортного пива Роза красная цвела Гордо и неторопливо. Исторический роман Сочинял я понемногу…Я особенно ценю эту песенку 1977 года хотя бы потому, что она не потеряла своего посвящения, в отличие от многих других стихов, посвященных мне и другим друзьям, оказавшимся в силу поворотов судьбы по другую сторону пресловутых мерзопакостных баррикад. Те посвящения как корова языком слизнула. Одним из главных достоинств и особенностей окуджавского творчества является то, что он, в отличие от упомянутого выше трибуна, никогда не «пережаривает». С годами его сдержанность, отстраненность от текучки все усиливается и приносит — к счастью — все лучшие плоды. Мы видим это в таких шедеврах последнего времени, как «Я эмигрант с Арбата», как «Римская империя времен упадка» или та песенка, которую он в один из вашингтонских вечеров неподражаемо спел на три голоса с Фрумкиным и с его семилетней дочкой Майечкой: «…A молодой гусар, в Наталию влюбленный, он все стоит пред ней, коленопреклоненный»… Даже и новые его песни навеивают старые воспоминания.
«БУНТАРИ БЕЗ ПРИЧИНЫ» И НЕ БЕЗ ЭТОГО
Среди потока оскорблений, который Никита Сергеевич Хрущев обрушил на нашу братию зимой 1963 года, постоянно мелькало американское слово «битник». Не исключено, что это слово привлекло вождя своим русским звучанием. Трудно было бы представить главу прогрессивного человечества, оскорбляющего молодых писателей и художников, скажем, словом «экзистенциалист» (простому-то человеку трудно выговорить), а вот «битником», которого при некоторой вольности воображения можно представить себе как сокращение слов «битый чайник», он оперировал охотно. Цитирую самого себя из «Ожога» не из тщеславия и не из нахальства, а просто потому, что к случаю лучшей цитаты не подберешь…
«Приметы злого битника, „пидараса и абстрактиста“ были хорошо известны Главе по сообщениям референтов. Злой битник всегда был в свитере, очках и бородке, любил шумовую музыку „джаст“ и насмехался над сталинистами… эдак злой битник и до нашей культуры доберется, подточит ядовитыми насмешками ствол нашей культуры… вот он, возмутитель спокойствия, коварный словоблуд, вскрывающий сердца нашей молодежи декадентской отмычкой, представитель битнической орды, что тучей нависла над Родиной Социализма!.. Пока не поздно, по зубам им надо дать, подрубить корешки, а то уж в воздухе дымком стало потягивать, венгерской гарью…»
Так представлялись генсеку вожди несуществующей в СССР, но уже разбитой армии битников-ревизионистов. Откуда же приплыло это слово, кто такие были эти «битники»? К 1963 году мы, которых клеймили этим словом, не очень-то ясно это себе представляли. Не исключаю, что Хрущев лучше знал, кто такие «битники», ведь у него был целый штат референтов с доступом к западной литературе. Мы, как говорится, слышали звон, да не очень-то знали, где он. Сведения, почерпнутые из советских журналов, были отрывочными, хотя и собирались тщательно, как и все западное. В «Иностранке» кто-то что-то написал о Джеймсе Дине и о его фильме «Бунтарь без причины», о том, что он восстает против буржуазной морали. В конце пятидесятых годов в той же «Иностранке», а может быть, в журнале «В защиту мира» впервые было рассказано о каких-то подвальчиках в Сан-Франциско, где собирается молодежь, одетая в штаны из грубой парусины (даже слова «джинсы» тогда не существовало), слушает джаз и читает возмутительные стихи… Странным образом меня такие сообщения отвлекали не на Запад, в какой-то космически далекий Сан-Франциско, где «лиловый негр вам подает манто», а на Восток, в родной город, в недалекое прошлое.
В 1952 году в Казани у нас возникла юная коммуна. Не подозревая ни о каких битниках, мы приходили на комсомольские вечера в намеренно разорванных свитерах и, собираясь в берлогообразной квартире, слушали джаз и читали возмутительные стихи, подражая футуристам и «Пощечине общественному вкусу». Между прочим, впоследствии, лет через пятнадцать выяснилось, что мы, особенно я как заводила и сын известных «врагов народа», были на грани ареста. Казанская ГБ уже собирала материал, вызывала молодых людей из нашего окружения, и все бы мы загремели в подвалы, если бы не сдох папаша Светланы Иосифовны Аллилуевой.
К началу шестидесятых годов опять же из статей различных советских американистов и международников мы уже знали имена сан-францискских заводил, поэтов «бита»: Аллен Гинзберг, Лоуренс Ферлингетти, Джек Керуак, Грегори Корсо — имена эти для русского западнического уха звучали чистым серебром. С такими именами в Восточной Европе и сочинять-то по тем временам ничего не надо было. Помню, в Братиславе в 1965 году девочки просто зажмуривались и трясли высокими прическами, повторяя «Ах, Ферлингетти!», не подозревая даже, что Лоуренсу совсем не до девочек. Очень смешную точку зрения на «битников» (то есть на американских битников) предлагала советская идеология. С одной стороны, они были как бы хороши в роли сотрясателей устоев буржуазного общества, в том смысле, что нашему делу, мол, помогают, но с другой стороны, они все-таки и сами, оказывается, были выразителями только лишь мелкобуржуазного протеста, то есть недостаточно хорошо нашему делу помогали и даже отвлекали молодежь от социальной борьбы.
Все-таки хоть какие-то крупицы их творчества (говоря о крупицах, приходится оговариваться, что художественный урожай этого движения, увы, был не так уж щедр) стали появляться в советской печати времен «первой оттепели»: отрывки из знаменитой поэмы Аллена Гинзберга «Вопль» с предисловием раз в пять длинней самих отрывков, потом отрывки из прозаической книги Джека Керуака «На дороге». О Вильяме Берроузе мы тогда даже и не слышали, его советская критика почему-то обошла. До сих пор помню два маленьких рассказа из книги Керуака «Мексиканочка» и «Джаз разбитого поколения»… Кстати говоря, перевод названия этого джазового рассказа соответствовал именно советской трактовке слова «битник», хотя по-настоящему оно вовсе не обязательно предусматривает разбитость, а имеет гораздо большее отношение к Beat, то есть к джазовой пульсации. Так же в соответствии с советской традицией все отсчитывать от печки, то есть от Кремля, окончание «ник» производили от советского «спутник» — такое, дескать, ошеломляющее впечатление произвели достижения советской науки, и уж конечно никто не заикался об американо-еврейских словечках на «-ник», вроде замечательного «ноугудник», полностью соответствующего русскому «негоднику».
Вообще-то как мало остается от прочитанного — ни имен, ни сюжета, ни фраз не зацепилось ни от Керуака, ни от Гинзберга, ни от многих других, что и покруче. Остались только какие-то эмоциональные пунктиры сродни мимолетным запахам. Единственная запомнившаяся деталь — какой-то старый «кадиллак», который хевра битников била о стенку по дороге в джазовый подвал.
Когда год назад в английском переводе у меня вышел сборник рассказов, названный по имени повести «Затоваренная бочкотара», американский критик в еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью» писал: «Мы называем его „русским Керуаком“, а между тем у него в одном только сборнике рассказов собрано больше, чем во всем Керуаке». Я говорю об этом не для того, чтобы похвастаться или принизить Керуака; он был талантливым человеком, хотя писал мало и не очень профессионально; все дело, однако, в том, что писатель Джек Керуак имеет не такое уж прямое отношение к литературе. В значительной степени это относится ко всем битникам, за исключением, пожалуй, Вильяма Берроуза. Они создавали хеппенинг, а не литературу. Вот почему их литературное влияние на тех, кого иногда называют «русскими битниками», то есть на наше поколение, является минимальным, если не нулевым.
В принципе, это были люди старше нас на целое десятилетие, то есть они были ближе к тем советским писателям, которых называли «фронтовиками» — к Бондареву, Бакланову, Винокурову, Поженяну, однако, насколько мне известно, никто из них в войне не участвовал, а выдвинулись они именно в период создания послевоенной молодежной контркультуры. Поэтому, когда в 1964 году Гинзберг появился в Москве, он стал искать компании не с «фронтовиками», а с нашей бражкой. И он ее нашел. Мы охотно с ним якшались, потому что было интересно, кто таков человече. Рукав его куртки был намеренно порван так, как мы это делали в ранней юности в Казани; а поскольку для нас он еще не был (да так никогда и не стал) мировым непререкаемым апостолом греха и нонконформизма, это казалось нам проявлением какого-то странного для сорокалетнего дядьки инфантилизма.
Его откровения для нас (тоже довольно инфантильных, сумасбродных и вечно пьяных) казались еще более инфантильными, чем его манеры, особенно когда он начинал клеймить свое ЦРУ. Впрочем, он всем понравился, может быть, как раз своим инфантилизмом и болтовней о наркотиках, а также напеванием индийских мотивов. Сногсшибательного впечатления, однако, он ни на кого не произвел и был даже как бы всегда в тени, как бы в сопровождении тогдашнего «гиганта» Евтушенко. Поэтому мы были несколько ошеломлены, узнав о его невероятном успехе в Праге, где за ним таскались толпы молодежи и где на весеннем празднике Пражского университета Майалисе он был избран «королем».
Восточной Европе, как всегда, хотелось называться Центральной. Феномен «Бит Дженерейшн», разумеется, был раздут популярной западной прессой, для которой имиджи и расхожие символы гораздо важнее, чем художественные достижения. Мифотворчество в литературе началось одновременно с рождением популярных журналов. В дореволюционной России типичной фигурой литературного мифа был Максим Горький. Нынче не обязательно и быть босяком, чтобы превратиться в миф, можно лишь сыграть роль босяка и удачно вписаться в соответствующие обстоятельства. Можно, не написав и трех полновесных книг, стать великим литературным отшельником вроде Сэлинджера. Можно и вообще всех одурачить, прослыть утонченным и мудрым «Человеком письма» на одной лишь ухмыльчивой рифмовке туристических буклетов. И все-таки в битническом движении была одна серьезная ипостась — иконокластика, бунтарство, поза или суть протеста.
Недавно из статьи американского консерватора (прошу прощения — «нового консерватора») Нормана Подгореца я узнал, что на родине Джека Керуака в городке Лоуэл, штат Массачусетс, горсовет решил увековечить память этого писателя, умершего в возрасте сорока семи лет от пьянки. Это решение вызвало у неоконсерватора неприятное удивление. В Советском Союзе вот так же находятся люди, возмущающиеся культом Владимира Высоцкого. Разве он принес какое-нибудь добро своему городу, вопрошает Подгорец. Разве это не он издевался над образом жизни городков, подобных Лоуэлу, считая его даже и не образом жизни, а некоторой формой духовной смерти? По Керуаку, только тех можно было считать живыми в Америке, кто находился вне системы — бездельников, жуликов, проституток, мусорщиков и тех, кому посчастливилось родиться с темной кожей. В подтверждение своей мысли Подгорец приводит красноречивую цитату из «На дороге», воспевающую «тех безумцев, что достаточно безумны, чтобы жить, чтобы говорить, чтобы спасаться, чтобы жаждать всего сразу, тех, кто никогда не позевывает и не изрекает банальностей, а только лишь сгорает, сгорает, сгорает, подобно сказочным желтым римским свечкам, что взрываются паучками и летят к звездам».
По Подгорецу, главным достоинством Керуака является то, что он к концу жизни (она оборвалась в 1969 году) угомонился и свернул политически вправо. Увы, вздыхает он, запомнился он не этим. Подгорец не считает Керуака большим писателем, потому что тот не мог создавать достоверные образы или рассказывать захватывающие истории. Таков, оказывается, неоконсервативный взгляд на писательскую величину, и самое замечательное в этом то, что, если отсортировать литературу по стандарту Подгореца, «больших писателей» не убавится, а значительно прибавится. Керуак, по сути дела, продуцировал не литературные произведения, а сильно заряженные нарциссические монологи того типа, что Гинзберг как-то назвал «спонтанными просодами бопа»; они были бесформенными и бессвязными, и судить о них надо не с точки зрения их литературных достоинств, а с социальной стороны, как о признаке появления нового бунтарского поколения в противовес молчаливому поколению послевоенной молодежи. Так считает Подгорец, и в этом он, сдается мне, достаточно прав.
Далее Подгорец касается очень любопытного явления современной западной, а особенно американской, довольно истерической, пресыщенной и в то же время жадной, ультрамодной и в то же время колоссально провинциальной поп-культуры. В очень короткий срок те антиценности, которые выдвигали битники против истеблишмента средней Америки, были подхвачены, подняты и приняты, превратившись в своеобразные «ортодоксальные догмы» контркультуры. Таким образом, битник быстро превратился в часть истеблишмента и даже в коммерческую фигуру. Стало модно «выпадать в осадок», таскаться по дорогам, принимать наркотики, кузнечиком скакать по постелькам лиц разного пола, а то и соединять усилия обоих полов с одной лишь целью — избежать удушающих, смертоносных объятий «среднего класса», то есть подтвердить свое существование. Подгорец, впрочем, таких предметов, как «подтверждение существования», не касается, ибо это имеет некоторое отношение к столь чуждому ему художественному восприятию жизни. Он обращает внимание только на деструктивный характер битнического движения и с пафосом восклицает: вот чему городок Лоуэл собирается сейчас воздвигнуть монумент, вот чему нынче посвящаются хвалебные критические анализы и исторические очерки, изливающиеся из университетов!
В самом деле, с «подпольем» давно уже покончено. Тут следует добавить, что в Америке слово «подполье» не имеет почти никакого отношения к русскому понятию этого слова. Подпольные издательства здесь, вроде ферлингеттиевского «Сити Лайте» в Сан-Франциско, вовсе не прячутся от полиции, и им ничего не угрожает, кроме налогового управления. «Подполье» — это то, что вне истеблишмента, вне рынка, однако сейчас «битники» уже и на рынке, и в истеблишменте как вполне естественная часть американской истории. Подгорец все-таки еще с некоторым застарелым опасением, будто дохлую игуану, поднимает двумя пальцами недавно вышедший в большом издательстве том Гинзберга, где наряду с шедеврами прошлого вроде «Вопля» фигурируют и разные вещи, без которых можно было бы и обойтись, вроде факсимиле черновиков и пространных авторских объяснений и исторических материалов, свидетельствующих в первую очередь о нехватке сугубо литературного материала; конечно же, у битников было туговато со временем, чтобы больше писать.
Эта канонизация битнического наследия основательно беспокоит идеолога неоконсерватизма Нормана Подгореца прежде всего, разумеется, в связи с влиянием на подрастающее поколение. «Все-таки, — пишет он, — Керуак и Гинзберг когда-то сыграли большую роль в разрушении множества молодых жизней, повлияв на молодежь своим отвращением к норме и общим приличиям». Любопытно, что в этом месте, в главном пункте своей статьи, Подгорец начинает звучать почти в унисон с Хрущевым. Левый фронт Хрущева как бы перебрасывает мостик к правому фронту Подгореца. Думали ли когда-нибудь битники, что станут «золотой серединой»?
Статья Нормана Подгореца вызвала немалый резонанс. Вот, например, чем ответил ему некий Марк Романофф. (Замечу в скобках, что эта фамилия не редкость в Америке, хотя те, кто ее носит, весьма редко соединяют себя с самыми знаменитыми носителями, да и вообще с Россией.) «Подгорец, очевидно, забыл, что значит быть молодым и живым, — восклицает однофамилец нашего императора, — что значит идти по гребню самопознания и бескрайнего приключения! Наследие Керуака живет, несмотря на всякое старичье вроде Нормана Подгореца, и будет жить, пока пятнадцатилетние мальчишки будут запихивать потрепанные томики „На дороге“ в свои мешки, снаряжаясь в путешествие через Америку!» Странная риторика у этого американца с двумя крутобокими буквами на конце фамилии, каким-то от нее попахивает комсомольским порывом: «Тихонов, Сельвинский, Пастернак»…
Джек Перди возражает Подгорецу с более основательных позиций. «Не следует забывать, — пишет он, — что Керуак с его новым стилем экспрессии заложил основу того стиля, который мы сейчас называем „новым журнализмом“. Этим только он уже завоевал себе постоянное место в американской литературе». Что касается обвинений в покушении на юношество (Сократа в свое время обвиняли в том же), Джек Перди высказывает предположение, что контркультура возникла от более основательных причин, чем шалости отдельных сочинителей, а именно от убийства президента Джона Кеннеди и от расширяющейся войны во Вьетнаме. В этом аргументе слышится что-то знакомое, так же примерно отбивались и мы в шестидесятых годах — Сталина-де вините в возникновении нигилизма, а не «Звездный билет».
Несмотря на некоторый элемент демагогии, я все-таки склонен и сейчас присоединиться к этому аргументу. Смешно, скажем, обвинять литературу в распространении жаргона, если она использует уже сложившийся жаргон.
Среди голосов, возражающих Подгорецу, слышится и настырное жужжание стереотипного американского лефтизма; было бы странно, если бы его не было слышно. Так, некий Роналд Бедри ставит в заслугу Керуаку то, что он восстал против системы, породившей «холодную войну», притеснение артистических свобод и маккартизм. Когда эта публика обрушивается на «холодную войну», она почему-то никогда не оценивает тогдашней ситуации, агрессивного сталинизма, хотя, впрочем, никогда и не заявляет, что предпочла бы «холодной войне» теплую капитуляцию. Что касается артистических свобод, то следует все-таки вспомнить, что послевоенные годы были временем расцвета американского театра, активного творчества таких писателей, как Хемингуэй и Фолкнер, и бурного процветания абстрактного экспрессионизма в живописи. О маккартизме же нам, выходцам из СССР, слушать всегда как-то неловко и скучно, хотя само собой разумеется, что в свободной стране даже такая слабая доза кагэбизма неприемлема. Самое же главное возражение левакам состоит в том, что страна, которую они рисуют в виде пред-битнической Америки, никогда бы не позволила возникновения такого беспредельного анархизма, испепелила бы его в самом начале.
Писатель Алан Коэн защищает от Подгореца решение городка Лоуэл соорудить памятник своему блудному сыну. «В отличие от Подгореца, — пишет он, — Керуак никогда не был политическим писателем. Его творчество не представляет опасности для детишек, — продолжает он, — прежде всего потому, что детишки в общем-то не читают Керуака, его читают в основном студенты колледжей, которые уже сами могут во многом разобраться». Следовало бы лучше подумать о том, как влияет на детишек наше телевидение, говорит Коэн, и в этом я с ним согласен, хотя меня и не оставляет ощущение, что телевидение сильнее влияет на взрослых, адресуясь к ним будто к недорослям.
Никто из участников дискуссии почему-то не сказал о главном достижении литераторов-битников, об обогащении ими (именно ими самими, их внешним контуром больше, чем их творчеством) художественного горизонта Америки.
Есть много хронологических совпадений между западным битничеством и советской «новой волной». Датские исследователи Ингер Лоридсен и Пер Дальгорд в своей обстоятельной книге, посвященной сопоставлению двух этих явлений, как раз и начинают с хронологии. Пятидесятые годы, пишут они, на Западе считались скучными, материалистическими и компромиссными; все это началось в шестидесятые — разные формы протеста, освободительное движение черных, женщин, студентов, гомосексуалистов, борьба за охрану окружающей среды, против войны во Вьетнаме, хиппозная психоделия и обжигающий рок, дух Кеннеди и прочее. Похожая картина часто рисуется и в отношении Советского Союза. С этим предположением датчан в общем-то можно согласиться, если не принимать во внимание таких событий, как Венгерская контрреволюция (народное восстание) и бунт в Новочеркасске, то есть если не считать, что к началу веселого десятилетия с освободительным движением в советском блоке было уже покончено.
В принципе, мы говорим о разных типах свободы. Лоридсен и Дальгорд поясняют: в шестидесятые годы в СССР произошло улучшение жизненного стандарта, телевизоры и телефоны стали доступны массам, растущий средний класс стал наслаждаться маленькими «Ладами» (то есть «жигулятами»), свободней стал доступ к классикам и к западной литературе, свободней стало с поездками по стране и даже в соцстраны… Впрочем, тут же добавляют датские исследователи, эта картина верна только частично. В принципе, продолжают они, пятидесятые годы вовсе не были такими уж безмятежными, именно «субкультура» пятидесятых создала фон для взрыва могущественной «контркультуры» шестидесятых. И то же самое, говорят они, происходило и в России, хотя это и не было заметно просвещенному человечеству. Воспользовавшись либеральной атмосферой «оттепели», молодежная субкультура больших городов нашла возможность выразить себя в поэзии, прозе, музыке, визуальном искусстве, и это все получило наименование «новая волна». Почти как взаимоотражающие, Лоридсен и Дальгорд называют две группы американских и русских людей в следующем порядке: 1) Джек Керуак, Ален Гинзберг, Грегори Корсо, Уильям Берроуз, Лоуренс Ферлингетти, Гэри Снайдер, Майкл Маклюр, многие другие и 2) Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Булат Окуджава, Андрей Битов, Владимир Высоцкий, Эрнст Неизвестный, Андрей Тарковский. Забавно, но тот, кого я по этому порядку отражаю, Лоуренс Ферлингетти, совершенно мне незнаком, я не читал ни одной его строчки и не знаю, как он выглядит.
Это, конечно, шутка, никто тут никого не отражает, какой бы порядок расположения имен ни выбрать; трудно представить две группы творчески более несхожих, и тем не менее, как мы видим, по каким-то другим — не творческим, но контркультурным понятиям — сопоставимых. Вот каковы эти параметры в представлении ученых из очаровательной европейской страны. Обе группы были выразителями поколений, испытавших ужас войны и «холодной войны», ясно ощущающих возможность всеобщего ядерного разрушения, поколений, которым осточертели манипуляции однозначных капиталистических-коммунистических обществ, которые жаждали романтического и анархического бунта против своих обществ, которые в своей «переоценке ценностей» отвергали понятие первостепенной важности государства и общественных институтов, выдвигая вместо этого в виде первостепенной важности понятия внутренней свободы, которые настаивали на важности своего собственного пути в жизни, каким бы он ни был: пьянство, бродяжничество, курение, слушание джаза, одержимость любовью, разговорами о Будде или Иисусе; настойчивое же желание прокричать обо всем этом делало их, и здесь и там, чертовски уязвимыми, мальчиками для битья, учиняемого истеблишментом.
В этом перечислении есть несколько моментов, которые вызывают у меня как у члена одной из сравниваемых групп немедленный протест. Во-первых, какие это ужасы войны испытали американские битники, если никто из них не служил в армии и, стало быть, не участвовал в военных действиях против Германии и Японии. Большинство из перечисленных в нашей группе — за исключением Окуджавы и Неизвестного — тоже не участвовали в военных действиях, но мы испытали бомбежки, эвакуацию, голод. Сомневаюсь, что в местностях, где жили битники, случались перебои в снабжении кока-колой. Есть еще один более существенный момент, связанный с войной. Несмотря на все ее ужасы, война была для русских большой вдохновляющей силой; она впервые принесла советскому народу ощущение духовной общности, дала понять, что можно быть связанным с другими не только общим страхом, но и борьбой за достоинство страны. Действительный и бесконтрольный ужас, доставшийся в наследство нашему поколению, связан не с войной, а с кровавым сталинизмом. У всех перечисленных здесь либо родители, либо близкие родственники прошли через пыточные камеры, тюрьмы и лагеря. Преодоление этого ужаса и распрямление — это, пожалуй, то, что самым коренным образом отличает нас от наших американских товарищей. Им этого, к счастью, не довелось испытать, а тем, кто по этому поводу может вспомнить комиссию сенатора Маккарти, не лишним будет напомнить, что за все годы своей деятельности эта комиссия не натворила и сотой доли того, что наши славные «органы» делают за один день.
К так называемой «холодной войне» у наших групп тоже был, можно сказать, разный в психологическом отношении подход. Западным бунтарям казалось, что их злокозненные правительства устраивают всякие там НАТО из милитаристских побуждений и для отравления чувств доверия между народами, тогда как большинству из нашей группы (а может быть, и всем в глубине души) было очевидно, что речь идет о противодействии тотальному вероломству или, если угодно, «классовому подходу». «Холодная война» не только остановила «горячую», но волей-неволей сформулировала концепцию демократии. Менее всего капиталистическое и коммунистическое общества казались нам однозначными, и мы, конечно, были гораздо менее анархичными, чем наши западные непомерно волосатые, бородатые, нередко облаченные в хитоны собратья. Мы больше пили, они больше курили, а к «голубой дивизии» из перечисленных русских не примкнул никто. Что касается пресловутых «джинсов», то они стали носить их в знак отвержения западного общества, а мы-то как раз наоборот — для демонстрации близости к западному обществу. Мы вместе с тем были меньше подвержены моде и разговоры о Христе вместе с вдруг открывшимися для нас книгами русских философов-эмигрантов воспринимали всерьез. Ну и, наконец, мера битья со стороны истеблишмента несоизмерима. Человеку, изгнанному из своей страны, на эту тему распространяться не приходится.
Лоридсен и Дальгорд справедливо отмечают одну странную особенность: возникнув в пятидесятые годы в разных концах мира, советская «новая волна» и американские «битники» не имели ни малейшего понятия о существовании друг друга. Это верно, у нас в молодые годы были другие примеры для подражания. Я уже упоминал о существовании вакханальной студенческой коммуны в Казани еще в сталинские годы. Через наследие различных имажинистов и футуристов первых двух десятилетий века мы выходили на европейскую художественную анархию. Странным образом мы за железным занавесом были ближе к Европе, чем жители Сан-Франциско. В шестидесятые годы произошло сближение в основном на почве личных контактов. Гинзберг приезжал в Москву, за ним и другие молодые американские поэты. Один такой по имени Март, помню, месяца три гужевался в нашей компании — и визу просрочил, и штаны потерял, а также очень покачнулся в своем леволиберальном настроении. Ездили в Америку Евтушенко и Вознесенский, путешествовал и я по капитализму, хотя до Америки добрался только в 1975-м, когда битников уже показывали как музейные экспонаты.
Разумеется, мы чувствовали некоторую близость к этим людям, посылающим подальше свой истеблишмент, потому что и мы хотели послать свой подальше, но так же как их истеблишмент отличался от нашего, так и наше «подальше» было другого калибра. Датские исследователи в предисловии к своей книге «Американские битники и советская „новая волна“», которая вскоре выйдет в издательстве «Ардис», делают остроумное замечание: «Разница между двумя сверхдержавами очевидна, так очевидна, что нет никакой необходимости объяснять, почему эта книга публикуется в Америке, а не в России». Книга эта состоит из интервью, данных авторам участниками двух движений. Авторы подчеркивают в предисловии, что все участники с симпатией отнеслись к идее существования между ними какой-то связывающей силы поверх политики, культуры и традиции. Все уже стали немолодыми, и движения давно рассеялись. Кто-то из классиков марксизма однажды сказал: «Для того чтобы объединяться, нужно разъединяться», и в этой связи я вижу еще одно существенное различие между русской и американской группами. Мы-то вообще не были «движением», а просто сами по себе. Впрочем, и битники не очень-то настаивают на существовании какого-то оформленного движения. В интервью Дальгорду Гинзберг отказывается считать себя основателем «движения». Была просто группа друзей, говорит он, как можно основать группу друзей? А почему, собственно говоря, нельзя основать группу друзей? Любопытно, что Гинзберг относит к высшим достижениям своей «группы друзей», иначе говоря, «поколения битников», как раз то, что меньше всего заботило наблюдателей и последователей извне — производство замечательных (он называет их «грэйт») текстов, спонтанность письма, разрыв со старыми формами поэзии и прозы, то есть сугубо литературные дела. Дальгорд спрашивает его, каковы же были последствия этих достижений, и Ален тут же переходит к делам сугубо нелитературным, называя различные формы освобождения: черное освобождение, «джанки» освобождение (в смысле наркотиков), женское освобождение, педское освобождение и общее духовное освобождение. Признаюсь, это пристрастие к таким всеобщим освобождениям мне не очень-то по душе, но далее старый поэт говорит несколько замечательных фраз об ощущении новой планеты и электрификации почвы (то, чего не смог заметить Норман Подгорец) и приводит замечательную цитату из Платона: «Когда меняется мода на музыку, дрожат городские стены»…
Вообще-то я вовсе не склонен занимать некую снобистскую позицию и утверждать, скажем, что эксперименты с растительностью на голове не имеют никакого отношения к искусству. Ален Гинзберг говорит, что то, чем они были больше всего увлечены в литературной части своей жизни, то есть поиски «новой формы», в России имело место сорок лет назад, то есть во времена футуристов и «Пощечины общественному вкусу». Я не знаю, добавляет он, были ли наши сверстники из советской «новой волны» так же, как мы, озабочены тем, что Берроуз назвал «мерой строки», и тем, что я называю «новой открытой формой». Может быть, Вознесенский, добавляет он неуверенно. Мне кажется, что при проведении этой параллели мы сталкиваемся среди прочих различий с тем, что можно было бы назвать несовпадением хронологии развития культуры. Работу, проделанную битниками в Америке в пятидесятые годы, провели молодые русские гении Серебряного века в десятые годы. Поиск этой самой «новой открытой формы» для американцев был только движением вперед, тогда как для нас он во многом состоял в движении назад, к придушенному, но все-таки не уничтоженному российскому авангарду. В конце пятидесятых и в начале даже шестидесятых мы все еще открывали заколоченные сталинской сволочью хранилища, из футуризма извлекали Хлебникова, из акмеизма — Мандельштама, из авангардной прозы — Андрея Белого, потом пошли Платонов, Обернуты… сокровищам недавнего прошлого не было конца. Влияние своего вновь открытого авангарда, этой потрясающей художественной истории вчерашнего дня (а иногда эти люди казались нам просто старшими братьями) было гораздо сильнее, чем какие бы то ни было западные мотивы, включая даже и Хемингуэя.
В принципе, два вполне противоположных посыла: битники, вставая в революционную позицию, стремились порвать определенную связь; наша «волна» разрыв с социалистическим реализмом очень быстро и разрывом-то считать перестала, слишком уж был чужд и презираем, но, напротив, главным внутренним пафосом «движения» полагала восстановление связей, попытку соединить порванную цепь авангардной художественной традиции.
Любопытно было бы также проследить разницу между битниками и советской «новой волной» в их отношении к политике, ко всем этим левым и правым, догматикам и ревизионистам. В этой связи мне вспоминается приезд в Москву в начале семидесятых годов германского поэта и певца Вольфа Бирмана, который в течение многих лет, живя в Восточном Берлине, умудрился соединять в себе качества немецкого Высоцкого и Сахарова. Он был очень талантливым парнем, этот Вольф (он, впрочем, и сейчас таковым остается, этот Вольф, хотя и живет теперь уже не за стеной, а в свободном Гамбурге). Приехав в Москву, он пожелал встретиться с поэтами и писателями своего возраста и близкого мировоззрения. Мы собрались в тесной квартире «Мишки» Славутской на Профсоюзной улице, и Вольф сразу ударил по струнам. Из всех его песен, которые я знал (мы встречались до этого в ГДР), мне больше всего нравилась «Волчьи цветы», хоть в ней и не было никаких разоблачений коррумпированного режима. Увы, в тот период Вольф был увлечен именно разоблачениями своей гэдээровской мафии и вывалил на нас кучу обжигающих сатир, в которых все время мелькали словечки типа «бюрократизмус», «марксизмус», «сталинизмус», — а речь шла о том, какие люди подобрались на верхушке власти, как они глупы, жадны и не имеют никакого отношения к идеалам. Конечно, Вольф ожидал от нас симпатии и привета — ведь он выступал перед единомышленниками, перед писателями протеста и «бита» Восточной Европы, теми, кого югославский исследователь Флакср объединил под рубрикой «Литература в джинсах», и он этот привет получил, но в несколько странной форме. За всех высказалась Белла Ахмадулина. Вольф, сказала она, вы такой талантливый человек, неужели вам не противно так часто употреблять столь пошлые слова, как «марксизм», «сталинизм» и «бюрократизм»?
Отвечая на вопросы Лоридсена и Дальгорда, Ахмадулина говорит о том, к чему пришло литературное движение шестидесятых. Буря прошла, говорит она, сейчас все вокруг стало тише, но мне кажется, наши читатели стали более разборчивыми, пришли к большей утонченности. Надеюсь, что и я иду с ними вровень. Речь здесь идет об интересном явлении намеренного сужения круга читателей. С этим я и сам сталкивался, когда почувствовал, что литература «оттепели» и поэтической лихорадки стала давать холостые обороты. Мне почему-то захотелось уйти из шумных залов, где молодежь обсуждала мои повести на молодежные темы, все эти «Звездные билеты» и «Апельсины из Марокко», и поработать над малой формой, то есть озаботиться, как сказал вышеупомянутый Берроуз, «мерой строки». Сужение круга проходило как в выборе темы и героев, так и в колебаниях стиля. У меня, скажем, молодого героя с хемингуэевскими очертаниями заменили деревенский изобретатель перпетуум мобиле и дикий фантом Стальной Птицы. Белла ушла от своих пятнадцати мальчиков и мотороллера розового цвета к трагикомедии «Сказки о Дожде». Вознесенский от довольно простых, хотя и захватывающих парабол перескочил в перевернутый мир «Озы»… Поэты и писатели советской новой волны явно не поддерживали коммерцию, может быть, потому, что в силу своего дурацкого воспитания они и не знали, что это такое. Намеренный уход от политически острых тем — это то, что отличает наше развитие от битнического.
Нечего и говорить, что все западные типы «либерейшн» казались нам просто блажью; мы, однако, чурались и своего демократического движения, что дало возможность некоторым говорить о нашем конформизме. Только позднее, когда репрессии усилились, произошел раскол — часть советских «нововолнистов» сблизилась с отечественным правозащитным движением, а другая часть храбро пошла на поддержку западного, то есть за мир во всем мире и против нейтронной бомбы. «Мне кажется, что поэт не может быть политиком в прямом смысле слова, — говорит Белла Ингер Лоридсен и Перу Дальгорду. — Только инстинктивно, поскольку поэт живет не в вакууме, события могут вас озаботить и вы можете стать их частью. Какой-то иногда подходит момент, когда вы должны сказать „да“ или „нет“. Иногда это бывает так трудно. Надо прислушиваться к своей душе, которая в какой-то момент может сказать: „Так продолжаться не может, если я не хочу лишиться Божьей милости“. Талант, то есть Божья милость, увы, связан и с милостью внешних обстоятельств. Очень часто поэты, одаренные Богом, бывают лишены милости внешних обстоятельств. Чем больше я живу, тем лучше я понимаю, что я была ведома в каком-то моем собственном направлении, что я уходила от группы. Сейчас я просто рада, что мы, кто был когда-то группой, существуем по отдельности, каждый идет по своему пути. Дай Бог успеха каждому…»
Сейчас все уже постарели, а стало быть, о групповых движениях довольно трудно говорить без юмора. Иных уж нет, а те далече… из списка, приведенного датчанами. Трое отошли в иные измерения — Керуак, оставив по себе памятник в родном городишке Лоуэл, Массачусетс, что так покоробило соцреалиста наизнанку Нормана Подгореца; Высоцкий, оставив по себе неслыханный в российской поэзии культ, что приводит в бешенство национал-большевика Куняева; ушел и Тарковский, оставив за собой пронзительную ноту артистического совершенства. Из русского списка трое оказались в эмиграции: тот же Тарковский не вернулся из командировки, Гладилин оседлал волну еврейской эмиграции и высадился в Париже, мне дали пинок в зад и лишили гражданства. Издательство «Сити Лайте», ведомое Ферлингетти (недавно, проезжая по Сан-Франциско, я видел его окна), продолжает процветать, Евтушенко и Вознесенский являются главными проводниками горбачевской «гласности»… Господи, просвети, где разместимся с друзьями в сонме далеких душ? Все эти комбинации, именуемые поколениями, правда, не случайны?..
И НЕ СТАРАЙСЯ! (Радиозаметки о прозаических высокопарностях и журнальных пошлостях)
Приходится сразу признаться в эгоистическом побуждении к этим заметкам. Не коснись Виктор Конецкий в своем «повествовании в письмах» под тугодумным заголовком «Опять название не придумывается», помещенном в № 4 журнала «Нева», меня лично, я, может быть и даже скорее всего, просто бы пожал плечами, прочитав его сомнительные воспоминания о Юрии Казакове. Однако коснулся бывший товарищ, прилежно выполнил социальный заказ, обдерьмил «отщепенца». Эгоистические чувства досады, презрения и глубокой грусти толкают меня сейчас к перу. Не исключаю, что после этих заметок похвалят храброго «маримана» и писателя Конецкого в каком-нибудь отделе Ленинградского обкома партии, что в Смольном институте, — в морском ли отделе, в литературном ли, в другом ли отделе. Так держать партийное перо, товарищ Конецкий! Задело отщепенца за живое! И правда — задело за живое, как еще назовешь осквернение товарищества, искривление молодости, унылый вздор вместо описания забавной одесской фиесты 1964 года; живое обдерьмил!
Однако прежде чем говорить о совершенном в отношении меня литературном предательстве, следует остановиться на всем произведении в целом, а еще прежде сказать несколько слов о самом Викторе Конецком, напомнить широкой публике, кто таков человече. Мы в общем-то считались принадлежащими к одному поколению так называемых советских «шестидесятников», хотя он начал одновременно с Казаковым на несколько лет раньше меня, то есть во второй половине пятидесятых годов. К тому моменту, когда я познакомился с ним на киностудии «Ленфильм» в начале 1961 года, он был уже автором двух нашумевших морских повестей — «Завтрашние заботы» и «Если позовет товарищ», однако я, только что вскарабкавшийся на эту сцену молодой врач, еще никого не знал и не понимал, отчего так куражится в студийном кабинете небольшой мужичок в мичманке и отчего вся редактура так вокруг него приплясывает.
Помню, он все хвалился огромными деньгами, отягощавшими его карман. Ты, Аксенов, небось никогда не видел таких денег, говорил он мне. Наверное, даже и не воображал, что у человека могут быть такие деньги. Это мне понравилось — все-таки обычно люди деньги прячут, прибедняются, а этот бахвалится, тащит из карманов какие-то смятые пачки сотенных, такой грассирующий морской гусар, да еще, оказывается, и модный писатель.
В те времена, чтобы заработать имя в литературе, надо было слегка попирать каноны социалистического реализма, и Конецкий их слегка попирал. Его герои, морские суперменчики (увы, не могу обойтись без уменьшительной формы), все-таки больше походили на ремарковских персонажей, чем на «положительных» носителей самых передовых идей. Вообще, он писал неплохо и с каждым годом все прибавлял; он и сейчас неплохо пишет, вот только название у него что-то не придумывается… Раньше все-таки лучше придумывались у него названия. Помню вот, был «Соленый лед», не такое уж сильно хватающее, но достаточно емкое, сдержанное такое название. Подхожу к книжной полке, на которой стоят книги, подаренные друзьями-шестидесятниками, вынимаю сборник Конецкого «Луна днем». Тоже все-таки название. Не «Из пушки на Луну», конечно, и не «На полпути к Луне», но все-таки — луна в названии — это уже полдела. Конецкий никогда выдумщиком не был, такой просто добротный реалистический писатель. Странно, что даже какое-нибудь простое название сейчас у него не придумывается, а вот пошлое вранье о старых товарищах придумывается, и не без определенного ража. Открываю сборник «Луна днем», читаю дарственную надпись: «Василию Аксенову, человеку, с которым легче вдыхать и выдыхать на этом свете. Будь счастлив. Твой В.Конецкий. 4 ноября 1963 год».
К тому времени уже окончательно сформировалась наша литературная среда. Ощущая себя участниками какого-то, хоть и смутного, движения, мы очень любили друг друга и, кажется, вполне искренне желали друг другу успеха. «Старик, ты гений» — такова была самая популярная фраза в застольях. Писатели, художники, киношники, молодые актрисы смотрели друг на друга в некотором ошеломлении — до чего, мол, мы все хороши! Страшно много пили — в этом, очевидно, сказывалось желание преодолеть скованность сталинского детдома, ощутить порывы свободы. Порывы свободы ощущались временами с такой силой, что всю компанию начинало трясти в дикой лихорадке. Вика Конецкий был одним из фаворитов, народ любил говорить о нем что-то вроде «вчера с Викой в „Красной стреле“ так шарахнули, что…» или «Конецкий на своей „Волге“ с двумя девушками в озеро заехал», и так далее.
Иногда под дурным градусом в нем просыпался злобный ерник, скандальный мужичонка, но потом дурь проходила, и он, милейший и теплейший, дарил книги — «человеку, с которым легче вдыхать»… и так далее. Еще большим авторитетом был ныне покойный и незабвенный Юра Казаков, замечательный мастер прозы. Он был похож на огромного ребенка с круглой головой, на которой волосы то ли все уже вылезли, то ли еще не начали расти. К нему все относились отчасти как к ребенку: хвастливому, немного жадному, удивительно наивному и в то же время гениальному. Ужасно было слушать его, когда он начинал рассказывать свои творческие замыслы. Он нес такую чушь, что невозможно было себе представить, как эта чушь в конце концов преображается в очередной мастерски отделанный, светящийся и умный рассказ. Какая химия переваривалась в этом сосуде?
Однажды, шатаясь безобразной толпой, остановились помочиться в темном дворе. Совершив этот суворовский подвиг, компания двинулась дальше и вдруг обнаружила, что Казакова забыли. Вернулись и увидели, что он сидит во мраке на каком-то приступочке и смотрит на поленницу дров. Кисть его руки прошлась в волнообразном движении. Смотрите! Видите? Там была березовая кора на тех дровах, и она светилась в грязной дыре.
Казаков с Конецким были очень дружны и вот, как оказалось, даже состояли в продолжительной переписке, что, разумеется, дает нашему автору если не бесспорное, то все-таки право составить о покойном друге «повествование в письмах». Трудно не испытать волнение, когда читаешь письмо, которым открывается эта повесть, последнее письмо Казакова Конецкому, писанное в каком-то Центральном краснознаменном военном госпитале в Красногорском районе Московской области. Он чувствует приближение конца и «на всякий случай» в совершенно безукоризненном по мужеству духе прощается с другом; по отношению же к тому, что составляло весь смысл его жизни, он одной или двумя фразами как бы пересматривает всю тщету текущей литературы и своих молодых, нередко весьма курьезных амбиций. «Давно уж я не питаю никаких иллюзий насчет воздействия слов на братьев наших, и хочется заниматься литературой, ни к чему не обязывающей… счастье, которого нам осталось с гулькин нос; оно, может быть, и есть ощущение, что ты пишешь хорошо…»
Трудно сказать, под каким углом и до какого предела проходил отбор писем для этой публикации (Конецкий доводит до сведения, что большая часть писем не использована и хранится в Ленинграде, в Пушкинском Доме), но и приведенная здесь подборка впечатляет. Сквозь массу всякой шелухи, иногда очень прекрасной, особенно для посвященных, различается образ человека ангельского творческого духа, не особенно даже и испорченного за пять десятков лет чертовщинного быта. Он это и сам в себе ощущал, как ощущал и муку своего таланта. «…Я это знаю, поскольку сам испытал несколько раз в жизни приливы божественности, приливы тоски и мрака, слез по уходящему и много прочего…» Мы видим перед собой человека определенно религиозного, если и не церковного, чрезвычайно русского, но не в новом национал-большевистском духе, а в постоянном. «Святая Россия, Святая! Всю ночь будешь сниться мне ты…» — эту строчку приводит он в письме еще 1958 года. «Великий писатель земли Русской» или «Велик Бог земли Русской!», или «Возродим жанр русского рассказа, покажем Европе, что Русь жива!» — такие восклицания, иногда в контексте легкой самоиронии, но в общем-то серьезно, разбросаны в этих текстах.
Я как-то уже писал, вспоминая о Казакове, как он спонтанно, подсознательно отталкивал от себя окружающую «прекрасную действительность» и как тянулся к остаткам российского прошлого. Герои его рассказов — лесничий А., механик Е., учитель В. — могли бы прекрасно фигурировать на страницах «Нивы» и в том случае, если бы революции не случилось, а Россия продолжала бы свое нормальное существование, включающее издание этого журнала. Карта его излюбленных путешествий говорит сама за себя: Белозерск, Кириллов, Вытегра, Кижи, Повенец… Сентиментальные странствия по местам, максимально отдаленным от СССР, даже названиями взывающим к русскому прошлому. Говоря о падчерице Паустовского Гале, в которую он был, кажется, немного влюблен, Юра всегда называл ее княгиней Волконской, а ее мужа, композитора Волконского, «князем Андреем», несмотря на то что нахальная актерская братия в нашей среде нередко обращалась к этому аристократу белее чем запанибрата. — «князища-козлища», и так далее в этом духе.
Словом, напечатанное в журнале «Нева» «Повествование в письмах» не вызвало бы в душе ничего, кроме волнения от встречи с этой уникальной, странной и очаровательной личностью, если бы оно только письмами Казакова и ограничилось. Увы, подзаголовок неточен, повествование письмами не ограничивается; и в том, что находится за их пределами, перед нами предстает личность совсем иного плана — Виктор Конецкий. В советско-писательском смысле это личность чрезвычайно ординарная и, несмотря на все оговорки, чуткой ноздрей повернутая в сторону ветерков-шептунов, исходящих из организации, обосновавшейся в бывшем Институте благородных девиц. Вполне очевидно, что ординарность эта им осознается и он старается во все тяжкие, чтобы создать противоположное впечатление. Как часто это бывает у такого рода людей, Конецкий чрезвычайно щедр на цитаты: тут и Толстой, и Бунин, и Шкловский, и Хемингуэй, и Спенсер, и особенно Чехов. Чехова Конецкий вообще как бы считает своим, хотя и удивляется с неосторожной наивностью, отчего у Чехова так мало цитат.
«В Бога не верил», — успокоительно заявляет он, выигрывая этим себе у цензора несколько очков вперед. Вот уже и в душеприказчики Антону Павловичу записался, очевидно, на том основании, что написал о нем вялый, надуманный рассказ да посидел с похмелья в его ялтинском садике. Повествование о Казакове и о его окружении Конецкий открывает могучим, страстным призывом сродни «Не могу молчать!». Этот призыв следует здесь привести целиком. «Русские мужики, все мои читатели! Если вам дорога Россия, если вы понимаете, что без России не будет мира и самое Земли, соберите остатки воли. Водка — это смердящее рабство, это вечный страх перед любым начальником, включая какую-нибудь стерву-проводницу. Я знаю, что говорю. Кто еще любит Россию, должен бросить водку и растить наших мальчишек в гордой трезвости. Вино убивает талант совести, талант гордости и талант любви». Так, открыто и прямо признается Конецкий, повелела ему сказать его писательская совесть. Смелый человек. Сказать такое в тот момент, когда партия выкатила бочки с бузой на улицы городов — пей не хочу! Когда опубликовано постановление ЦК о дальнейшем увеличении производства спиртных напитков и улучшении снабжения ими населения! Ну что ж, пусть витийствует все в том же плане, только вот противно, что он и смерть своего друга, замечательного писателя, рассматривает как бы в контексте одной лишь водки, как будто не было и других, не биохимических причин, не было скуки, разочарования, тоски по несостоявшейся российской цивилизации.
Можно предположить, что я всю эту совписательскую ординарность Конецкого вытаскиваю на поверхность из-за обиды. Признаюсь, так оно и есть, и не будь его выпада против меня, совершенного в манере злобной шавки, кусающей сзади (избитость метафоры станет извинительной ниже, когда речь как раз и пойдет о гнусной собачонке), банальность Конецкого, проявившаяся в «Опять название не придумывается», осталась бы невознагражденной. Благодеяния эгоизма. Нужно же все-таки когда-нибудь говорить об этих короленках советского типа.
С большим удивлением я вдруг увидел, что Конецкий подходит в своем повествовании к нашей общей одесской киноэпопее 1964 года. Неужели будет он об этом рассказывать, подумал я, а если да, то как он избежит упоминания обо мне? Не разрешается же там меня упоминать советским писателям, давно уж все поэты, когда-то посвящавшие мне по-дружески стихи, сняли из всех публикаций свои посвящения. И вдруг смотрю — упоминает Виктор, или почти упоминает. Он начинает свой рассказ о том, как зимой 1964 года собралась «могучая кучка» из пяти молодых гениев, трех прозаиков, одного сценариста и одного кинорежиссера. «Кучка» решает одним духом написать великолепный комедийный сценарий из морской жизни. Первый прозаик, пишет Конецкий, это я (то есть Виктор Конецкий). Третий прозаик — Юрий Павлович Казаков. Профессиональный сценарист — Валентин Ежов, получивший Ленинскую премию за «Балладу о солдате». Режиссер — это Георгий Николаевич Данелия. А где же я, Вася Аксенов? А вот и я, судари мои! «Второй прозаик в те времена был популярным автором журнала „Юность“ и жадно впитывал гены „мовизма“, но с космополитическим уклоном». Ошибиться нельзя, это я, это я, хотя бы уж потому, что никого там, кроме меня, пятого, не было. Хоть и не найдя там имени своего, я все-таки едва ли не растрогался. Дерзнул все-таки Виктор. Послал привет товарищу! Поначалу я не придал никакого значения «космополитическому уклону», может быть, потому, что мне и в самом деле всегда это слово нравилось, а может быть, потому, что за годы жизни на Западе я как-то совсем потерял его советский зловещий смысл. Здесь-то космополитизм всегда употребляется с позитивным звучанием. Постепенно, однако, становится все более ясно, что советский писатель имеет в виду и к чему он клонит со своим «космополитическим уклоном».
Прежде, однако, следует сказать несколько слов о самой кинокомедийной истории и о том, как она отражена в «повествовании» Конецкого, к которому он никак не мог придумать названия. Забавнейшие, надо сказать, и забубеннейшие были дни, и мы все друг другу тогда очень нравились. Собирались у Данелия на Чистых прудах (московско-грузинская эта семья славилась не только талантами, но и хинкали) и в вакханалии острот придумывали заявку на сценарий, который должен был забить почему-то в первую голову «итальяшек». Конецкому припоминаются многие забавные детали той истории, и он вроде бы старается не врать там, где это не касается «писателя с космополитическим уклоном», однако почему-то масса смешного и яркого ускользает из-под его пера (не отнести ли это к тому же состоянию, когда «название не придумывается»?), и временами фиеста под его пером оборачивается довольно унылым вздором. Осенью того года вся пятерка собралась в Одессе, чтобы поближе к большой воде сочинить не очень-то водянистый сценарий. Несмотря на наши довольно известные уже имена и на лауреатскую карточку Ежова, нас все время выгоняли из гостиниц. Потом вселяли опять, пока штаб-квартира экспедиции окончательно не укоренилась в гостинице «Лондонская», которую советская власть, согласно правилам социалистического реализма и борьбы против «космополитического уклона», переименовала в «Приморскую». Трудно сказать, почему Конецкий не вспоминает о множестве забавных эпизодов, сопровождавших этот творческий процесс, сравнимый только лишь со знаменитой крыловской басней, о том, как Юра Казаков доводил нашего режиссера, рассказывая ему о различных запахах, которые он собирался описать в своей части сценария (запахов в кино нет, стеклянным глазом впивался в него Данелия; врешь, старичок, есть запахи в кино, усмехался Юра), о том, как по ковру номера люкс вдруг стали расползаться из ванной комнаты принесенные кем-то для вечернего пира раки, о том, как феерически закружился вокруг нас кордебалет мюзик-холла «Минутка» и как вместе с ним вдруг стали прокручиваться через нашу штаб-квартиру китобои с только что вернувшейся флотилии «Слава», о том, как пела у нас Нани Брегвадзе и как появлялся страннейший одесский парень в форме кубинского майора и говорил, что он послан сюда Фиделем Кастро для спасения «золота Одессы», — да мало ли еще чего. Не в состоянии сдвинуть с мертвой точки свой дурацкий сценарий, мы не понимали, что каждый одесский день нашей бражки — это материал для куда более забавного предприятия. Кончались деньги. Развал творческой группы начался с того момента, когда из гостиной вышел Юрий Павлович в своей эстонской фуражке с лакированным козырьком, с сидором личного имущества в левой руке и с орудием производства, то есть пишущей машинкой, — в правой. Ну вас на три буквы, ребята, сказал он нам, ожидавшим его у подъезда. Вы мне надоели, я поехал в Казахстан. Он стал удаляться от нас по бульвару, а Конецкий все бежал за ним и кричал: «Юрка, куда ты?!» Таким этот эпизод вспоминается и Данелия, и Ежову, однако у Конецкого память другая. Вот что он пишет: «…первым удрал из Одессы Прозаик № 2. Он удрал действительно по-английски, как крысы с корабля: не простившись и даже не оставив записки…» Память Конецкого услужливо подрабатывает методу социалистического реализма и его социальному заказу — ему надо показать меня предателем. Память вещь вычурная. Не грех будет лишний раз вспомнить, что говорил Осип Мандельштам о так называемой «ложной памяти». Как-то в раннем детстве он придумал в полусне смешную историю о том, как он вошел в пустой зал филармонии и одним движением зажег там главный свет. С того времени на много лет он уверовал, что это на самом деле с ним было. Память пьющего человека прихотлива и капризна. Все весьма условно — было или не было, или было в другой раз и не в том месте? Был ли, например, такой момент в наших блужданиях, когда, прогуливая свой мосфильмовский аванс, словно банда золотоискателей, мы шатались из салуна в салун, то бишь из одного творческого клуба в другой, и в одном из них увидели оставленный музыкантом в углу контрабас? Было это или не было — большущий толстый Казаков с сигарой в зубах, похожий на карикатурное изображение капиталиста двадцатых годов, скакнул к контрабасу и вдруг заиграл на нем с удивительным профессионализмом и мягким свингом? Сколько юмора было тогда в его подмигивании и попыхивании «гаваной»; или этого не было? Был ли в тех же блужданиях еще один момент, когда в добродушно покачивающейся очереди на такси Конецкий вдруг поднял истерический скандал, напал с кулаками на какую-то компанию и тут же убежал, предоставив нам отдуваться? И что было контрапунктом всей этой эпопеи — Казаков с сигарой или Конецкий с кулаками? Только писатель, верный методу социалистического реализма, сможет извлечь пользу из подобных историй.
Не исключаю, что, говоря о моем мнимом «бегстве по-английски», Конецкий имеет в виду не только отъезд из Одессы, но и эмиграцию шестнадцать лет спустя. Вскоре мы увидим, что у меня есть основания для этого предположения. Если это так, то он врет совсем уж беспардонно. Наш дом в Переделкино был всегда открыт, и все, кто хотел и был достаточно смел попрощаться (таких, к счастью, было немало), шли к нам без приглашений в течение двух месяцев. Никто, конечно, не сомневался, под каким строгим наблюдением этот дом находится. Струсили как раз несколько персон, считавшихся у нас самыми храбрейшими, эдакие моряки, десантники, супермены, в их числе Конецкий. Вместо него пришла только милая Ирина, да и то не решилась войти в дом, а попрощалась за двоих у ворот. Теперь мы приближаемся к основной гнусности «повествования», на которую Конецкий израсходовал все запасы своей фантазии, так что на название уже не хватило.
Довольно неожиданно он переносит место действия в усадьбу своего близкого друга, Евгения Александровича Евтушенко. Речь идет в данном случае о переделкинской усадьбе. Главным действующим лицом последующей главы становится, однако, не сам хозяин усадьбы (очевидно, где-то в отъезде по делам мировой революции), а его собака Бим, завещанная ему пролетарским поэтом Ярославом Смеляковым, умудрившимся и после трех отсидок в лагерях сохранить исключительную верность социалистическим идеалам. Собаки, наши спутники в этой жизни (Бердяев называл их «малые души»), вполне заслужили серьезного к себе отношения и разговора о них как о личностях. Этот пресловутый Бим был темной подмосковной личностью, молчаливо-ухмыльчатой и постоянно ждущей удобного момента, чтобы куснуть сзади. Он очень нравился Конецкому в те дни, когда Евгений Александрович пускал его к себе жить. Однажды Бим и меня укусил сзади в лодыжку (по Конецкому, в ляжку — оно ведь в традициях русской сатиры обиднее). Эпизоду этому, хоть и противному, я придал так мало значения, что даже и не запомнил, кто при нем присутствовал. Жаль только было вельветовых штанов, хоть и старых, но весьма в семье многоуважаемых.
Оказалось, Конецкий при сем присутствовал, радовался и запоминал. Главу, которая почему-то является центральной в невском «повествовании» и которой даже предпослан эпиграфом стих того же Евтушенко, посвященный Казакову, автор озаглавил «Некоторое отступление, без которого я легко обойдусь». Если ты, Виктор Викторович, мог обойтись без этого отступления, то кто же тогда не мог без него обойтись? Расколись, помполит! И вот он живописует, напрягая все свое воображение и демонстрируя шедевры комиссионного вкуса. Популярный прозаик журнала «Юность», тот, что с «космополитическим уклоном», то есть Прозаик Номер Два (Прозаик Номер Один — это сам Конецкий), курит только американские сигареты с очень длинным фильтром. Он только что закончил многотомный роман, который «необходимо и обязательно должен был принести бессмертие», и потому настроен добродушно-снисходительно ко всему окружающему. Он прогуливается по Переделкину в дохе из леопарда и шапке из соболя, а «под всем этим мехом у него был костюм из итальянской ткани „павлиний глаз“…» Сначала я не понимал, откуда все эти роскошества взялись у Конецкого. Может быть, отражение каких-то фрейдовских глубин или сугубо морского опыта — ведь приемщики в комиссионках обычно так и записывают «костюм итальянский, „павлиний глаз“…» Потом догадался: проинспектировал гардероб своего гостеприимного патрона Евгения Александровича во время «недельного молчаливого сожительства» с его собакой Бимом. Кто по Москве не помнит триумфальных променад национального сокровища, облаченного вот именно точно в соответствии с набором Конецкого. Однако он рассказывает не о нем, а обо мне. Ему надо создать емкий образ гнусного и тщеславного космополита. Ну, что еще? Ах да… «после прогулки он собирался отбыть на обед во французское посольство». Кажется, все? Да нет, чего-то еще не хватает. Вот для завершения — финальный мазок мастера прозы. Леопардовую шубу сопровождает француженка — «молоденькая, обаятельная куртизаночка по имени Люси, от одного имени с ума сойдешь!». Он как-то вот запамятовал малость, Виктор Викторович Конецкий, во что была одета француженка, но это, возможно, от того, что «прелестных француженок, если не очень холодно, можно и ни во что не одевать». Каков наш маринист?! А вот еще врут враги, что нет галантных мужчин в ленинградской парторганизации. Затем Прозаик № 2 желает добить «очаровательную куртизаночку» знакомством с Евтушенко и заводит всю компанию в его усадьбу, где живет, по Конецкому, в виде Бима дух Ярослава Смелякова. Согласно этой версии, модерниста с космополитическим уклоном не просто мерзкая шавка тяпнула, а все пролетарское родное искусство. Далее описывается, как среди евтушенковских сугробов собачонка вежливо пропускает самого товарища Конецкого и прелестную француженку Люси, а потом героически атакует сзади классового врага. Жаль, что Конецкий не запел в этот момент «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед!». Меня всегда поражало, с какой неуклюжестью описываются в советской литературе комические ситуации. Конецкий не сделал исключения. Тут у него и какой-то пятиметровый мореный дрын, который Прозаик № 2 выдернул откуда-то «с такой же решительностью и беспощадностью, как Пророк у Пушкина вырывает свой грешный и лукавый язык», тут у него и водосточная труба гаража Евтушенко, которую сокрушил этот дрын, тут у него и ноздреватый снег, в который он вминает «юную француженку», ибо опасается за состояние франко-советских культурных связей, и какая-то яблоня, старая, кривобокая и растопыренная, которую Прозаик № 2 тоже пытается вырвать, и француженкина «очаровательная ножка в алом сапожке» (вот уж соплей-то по этой француженке размазал!), и все это привлекается для создания атмосферы легкого, небрежного издевательства над незадачливым космополитом, увы… вместо этого мы видим одну лишь косолапость и размазню, легкости не получается.
И не получится, не старайся, литературной игры не построишь на дурных замыслах. Завершает Виктор Конецкий свое отступление, «без которого бы он мог легко обойтись», да кто-то другой обойтись не может, следующим пассажем: «…Ныне фамилию Прозаика Номер Два упоминать не принято (не принято, судари мои, и все, а Виктор Конецкий знаток этикета. — В. А.), ибо он давно уже свалился за русский горизонт. Туда ему — скажу от всей души — и дорога».
Дождливым, мрачнейшим днем июля 1980 года, за пару недель до выезда из СССР, я последний раз в жизни встретил Юрия Казакова. Он вышел из переделкинского сельпо в своем излюбленном эстонском картузе с лакированным козырьком — не исключено, что в том самом, в каком отчаливал из Одессы шестнадцать лет назад. Бывают вещи, поражающие своей живучестью. Английский твидовый пиджак Петра Ильича Чайковского, висящий в его музее в Клину, хоть сейчас носи. Юра, конечно, искал водку. В сельпо ее не оказалось, и он попросил меня подвезти его до другого магазина на станции. По дороге он начал рассказывать какой-то очередной несусветный творческий замысел: «…один чувак по лесу идет, — понял, старик, — такой глухой, на фиг, лес, ни конца, бля, ни краю, и вдруг видит домик на опушке, — ты понял, старик? — заходит, а там прекраснейшая девка его встречает, высшего класса такая особа, и множество напитков, на фиг, самого высшего качества»… Зная, во что подобная ахинея под его пером превращается, я только поддакивал. Вдруг он прервал «творческий замысел» и сказал: «В Доме творчества народ говорит, Васька, что тебя либо посадят, либо за границу отправят. По мне, так лучше бы тебя посадили, все-таки хоть и в тюрьме, но с нами останешься, дома…» До сих пор при воспоминании об этом разговоре меня берет оторопь, но не за себя, а за него: кроме любви к себе, я услышал в словах Юры ноту капитуляции, безнадеги, ухода из «прекрасного яростного мира»:… все-таки… в тюрьме… с нами… дома…
Конецкий с высокомерием Партком Парткомыча отправляет меня за русский горизонт. Человек, плававший во всех морях мира, очевидно, не понимает природы горизонта. Чем он там занимается в своих плаваниях? Умеет ли определяться по секстанту? В начале моей литературной жизни одна девушка в переполненном писательском клубе спросила меня: «Кто здесь твои враги?» Я огляделся — вокруг были одни друзья, враги были столь ничтожны, что о них не стоило и говорить. Предательство друзей — это литературная банальность, думал я, не зная, что по прошествии времени и после того, как они устами Ф.Кузнецова объявят меня «врагом», я столкнусь с ошеломляющей чередой этих банальностей. К счастью, есть еще в нашем мире уникальные человеческие качества, есть верные друзья, которые не продадут; Конецкий к числу этих оригиналов не относится, он — общее место. И все его попытки создать на фоне Казакова свой образ, равный его покойному другу и корреспонденту, образ писателя Земли Русской, рыцаря пера без страха и упрека, рушатся в бытовой соцреалистической банальности. Ничего не получается, не только название не придумывается — не получается никак подняться над стадом, и как видно, уже не получится. Не старайся!
ЧУВСТВО РОССИИ
Как-то заговорили в компании «новых американцев» о России, вернее, о том сложном комплексе, который можно было бы назвать «чувством России». Стаж внероссийской жизни у всех был уже немалый, мои «почти семь» были в этой группе самыми молодыми, хотя я и был самым старым. Слабеет ли в нас это чувство по мере дальнейшего углубления в американское пространство жизни, да и вообще — живо ли оно еще? Как всегда бывает в интеллигентских сборищах, где каждый старается поскорее «захватить площадку» и не очень-то слушает соседа, тема эта вскоре была перебита чем-то то ли более злободневным, то ли более философским; выпрыгнув на мгновение из кучи идей, она тут же нырнула обратно.
Возвращаясь с вечеринки, привычно разгоняя машину вдоль многоводного — на грани выхода из берегов — весеннего Потомака, тормозя на красный свет у подсвеченных колоннад памятника Линкольну и возле золотых крылатых коней, подаренных Итальянской республикой Соединенным Штатам Америки, поворачивая вдоль излучины реки, за которой сразу появлялись огоньки изящных строений Джорджтауна и высоких домов правого берега, я стал думать на эту тему в одиночестве. Помню ли я свою родину? Задавая себе такой вопрос, конечно, думаешь не о топографии: уж как-нибудь не заблудишься ни в Москве, ни в Казани, ни в Питере, ни в Магадане. Помню ли я цвета России? «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь» — так писал Есенин. Мне не удается окрасить все в один столь идиллический тон, а перетряхивание разноцветных осколков создает впечатление бездонного калейдоскопа. Реальная ли даль, фальшивая ли близость? Помню ли я запахи России? В прежние времена, когда иностранцы говорили, что им докучают в России какие-то специфические запахи, я чувствовал себя даже в чем-то задетым. Какие еще, к чертям, специфические запахи? Типичная для русских подозрительность в отношении иностранцев вступала в силу: это они все нарочно, чтобы нас унизить. Поселившись в Америке, мы тоже, однако, сначала ощущали какие-то специфические запахи, которые вошли потом в «наш букет».
Вернись я сейчас в Россию, буду ли чувствовать этот «запах отчуждения»? Помню ли я ноту России? Ту, что не восполнишь кассетами с Брайтон-Бич? Иными словами, «торчу» ли я еще на России, еще более иными словами — вдохновляюсь ли еще Россией? Грубо говоря, русский ли я?
Мой дом стоит на крохотной улочке, названной в честь генерала Лингана, участника Войны за независимость, который в ходе следующей антибританской войны 1812 года почему-то стал выпускать пробританскую газету в Филадельфии. Улочка эта является ответвлением бульвара Макартура, победителя Японии. Под нашим холмом проходит старинный канал, соединяющий залив Часапик и реку Огайо; когда-то по нему мулы тянули баржи, из них осталась только одна — для туристов в Джорджтауне. За каналом сквозь неразбериху ветвей блестит Потомак, он же предок всей этой зоны. Наш горизонт в основном состоит из куп огромных деревьев, над которыми каждые несколько минут появляются курсом на аэропорт «Нэшнл» самолеты из глубин Америки. Порядочная среда, не правда ли? Она является родиной нашего соседа «англо» (так здесь называют американцев английского и шотландского происхождения), который отказывается продавать свой сад для строительства богатых кондоминиумов, а напротив, все время стрижет в нем газоны, сажает цветы и кормит ночующих на его пруду перелетных уток. По всей вероятности, у него нет проблем с понятием «родина».
У других моих соседей эта проблема, очевидно, в той или иной степени существует. Среди жильцов нашего квадрата «таунхаусов», то есть трехэтажных квартир с отдельными входами и крошечными двориками, есть и итальянцы, и аргентинцы, и арабы, и иранцы. Прибавьте сюда вашего покорного слугу, прибавьте также нескольких «англос», и вы получите вполне типичную среду вашингтонской, да и вообще американской жилой структуры. Чтобы еще более усилить фундамент, на котором я хочу построить свою мысль, я сейчас познакомлю вас, господа, с нашей группой молодых писателей, которая приходит на мой семинар по современной русской литературе в университете Джона Хопкинса. Алан Паркер (англо), Джон Ким (кореец), Хитер Холей (англо), Роберт Ли (англо), Дэвид Херцог (еврей), Пол Сафалу (настаивает, чтобы его считали сицилийцем, а не просто итальянцем), Джо Александр Джуниер (черный с Карибских островов), Нэнси Джонсон (англо), Берни Керби (ирландец), Айно Эттингер (эстонка), Анита Банка (итальянка), Дениз Таньял (француженка), Цветан Бачваров (болгарин), Норма Мендоза-Дентон (мексиканка), Джанг Чанг (китаец), Дэвид Чарльз (англо), Брайан Го (китаец), Джонг-су Парк (кореец)… Все эти молодые люди — американские студенты, иные из них — американские граждане, иные просто жители этой страны, именуемые страшным для советского уха словом «резидент», а все вместе они представляют типичную среду не только студенческого кампуса, но и страны в целом.
Вот, что дает мне здесь ощущение подлинного дома, то есть роднит меня с Америкой, — ее многонациональность и многоэтничность. В английском языке кроме слов «фазерлэнд» (отечество) и «мазерлэнд» (родина) есть еще слово «хоумлэнд», то есть страна твоего дома. Привыкнув к многоцветности нашей среды, мы уже будем чувствовать себя не очень-то уютно в более гомогенных странах, скажем в Японии. В Соединенных Штатах возникает ощущение «дома землян». С другой стороны, это чувство «американского дома» постоянно ставит перед тобой вопрос национальной идентификации. Понятно, что, находясь в многоэтнической среде, я не кажусь никому из моих соседей или моих студентов чем-то из ряда вон выходящим, какой-то «белой вороной», какой я был бы, скажем, в Японии, Кении или в Норвегии, или даже в провинциальной Франции. Стало быть, я все больше и больше вхожу в типичную американскую жизнь и становлюсь все меньше русским?
Казалось бы, логично, к большой радости для догматиков Агитпропа, что вопят об обрубленных корнях и предательстве родины. Все, однако, не так-то просто, как им хотелось бы. Находясь в этом этническом хороводе, ты становишься волей-неволей представителем твоей корневой культуры; ты представляешь здесь свою Россию не только для окружающих, но и для самого себя, так что иногда ты даже спрашиваешь себя — не стал ли я здесь больше русским, чем был там? Утрачиваю ли я связи с Россией или становлюсь еще более русским после «почти семи» лет изгнания? — вот те мысли, с которыми я осмелился выйти к вам прошлый раз. Прошу вас, не примите это за навязывание моих личных проблем в трансконтинентальном порядке; эти мысли достаточно характерны для многих, особенно для так называемых «деятелей кулыуры», и хотя у каждого, наверное, найдется свой ответ, мой ответ все-таки является частью чего-то общего.
С годами мне становится все понятнее и ближе жизнь старой русской эмиграции, ее литературная русско-космополитическая среда. Вдруг начинаешь понимать полную естественность ее существования. Особенно это почему-то чувствуется у Набокова: и в «Даре», и в «Весне в Фиалте», и в сборнике рассказов берлинского периода, который я совсем недавно прочел в английском переводе. Естественность, правомочность и некоторая гордая, хоть и ненавязчивая, стойкость российской интеллигентной среды позволяла думать о существовании страны или какой-то части страны, далеко не самой худшей, за пределами географических и политических границ. Никаких всхлипываний по березкам в атмосфере не наблюдалось, они переезжали из Варшавы в Марокко, как будто из Киева в Краснодар, поэты кучковались в Париже, чтоб создать свою «парижскую ноту», потом устремились за океан и рассыпались по университетским кампусам; являлись новенькие из Харбина и Шанхая, смельчаки бросались на штурм Голливуда, и кое-кому даже удавалось одолеть его дикие орды, а между тем возникали волшебные балеты, расцвечивались холсты, зрели философские школы, а также проходили свадьбы, разводы, переезды, любовные истории, покупки недвижимости…
Дело не в том, много или мало они создали; может быть, на родине они создали бы больше, дело в том, что их жизнь была русской и естественно русской, хотя она все более и более не походила на жизнь оставленной родины. Раньше они даже при всем огромном внимании к ним и уважении казались мне какими-то реликтами, отжившей расой, отсталым племенем; теперь, когда я и сам уже все больше и больше приближаюсь к их позиции в мире, я начинаю видеть это по-другому; и мне даже иногда кажется, что их «чувство России» было шире, чем наше, несмотря на то что вокруг нас как бы кипела реальная русская жизнь со всеми ее гулагами, блатами, стукачеством, калымами и т. п.
Вместе с тем советская жизнь уходит от меня очень быстро на самое дно калейдоскопа; вот от этого, если угодно, сегодняшнего дня я и в самом деле становлюсь все дальше. Порой мне кажется, что не «почти семь», а «почти семнадцать» лет уже прошло, — такой далекой и застывшей кажется сейчас вся параферналия советской жизни. Даже вот нынешняя кампания в печати против десяти авторов письма о противоречиях гласности, постыдно развязанная на фоне уханья о демократизации и перестройке. Лежит у меня на столе ворох статей, в которых направо и налево склоняется мое имя с безобразно пристегнутыми эпитетами, в сочетании с обыкновенной стукаческой ложью; казалось бы, я должен возмущаться, клокотать, но не клокочется и не клекочится — все это оттуда, из неимоверного далека, из советской жизни. Да, к сожалению, из сегодняшнего дня, но день этот длится, увы, столько уж десятилетий без всяких изменений, и потому, наверное, он так же далек, как барщина.
Как-то заехал визитер оттуда, бывший товарищ; сидим, разговариваем, и вдруг он замечает с нехорошей улыбкой: «Ах, вот ты как о нас стал говорить, „советскими“ называешь…» Я вдруг поймал себя на мысли, что слово «советские», которое я употребил автоматически, даже к нему и не относилось, потому что он все-таки сидел передо мной во плоти, вытянув ноги в добротных штанах и туфлях, а те были каким-то как бы застарелым мифом, столь же недостоверным, сколь учебник истории партии, по которому в незапамятные годы держали экзамен. Приблизительно так же дело обстоит с понятием «родина», в пренебрежении которой меня сейчас обвиняют советские журналисты. Я подумал о том, что, если хоть на миг я приму их концепцию этого понятия, я вынужден буду сказать, что моя родина груба, коварна, лжива, что я от нее не видел ничего, кроме унижений, оскорблений и угроз.
А между тем к родине, к какой-то другой, то ли умозрительной, то ли единственно реальной родине, остались еще, и, видно, всегда пребудут, чувства нежные и живые. Чаще всего о них и не помнишь в своем новом доме, но вдруг они приходят, всегда неожиданно, когда на концерте в Центре Кеннеди Митя Шостакович под взмахом палочки отца Максима тронет клавиши и снимет с них первые аккорды фортепианного концерта деда или когда вдруг на университетском семинаре разбежишься по книге Мандельштама и споткнешься на стансе:
…И я вхожу в стеклянный лес вокзала, Скрипичный строй в смятеньи и слезах. Ночного хора дикое начало И запах роз в гниющих парниках, Где под стеклянным небом ночевала Родная тень в кочующих толпах…Именно в качестве представителя этой России профессорствую в американских университетах, и оттого образ ее нетронутой свободы становится мне все ближе. Таковы превратности судьбы. Оказалось, что мне надо было уехать, чтобы перечитать, а потом разобрать на семинаре с мэрилендскими студентами всего Гоголя и всего Достоевского или всю гениальную кучу поэтов Серебряного века. Именно в Америке у меня возникло незнакомое прежде ощущение близости к российскому девятнадцатому веку. Гоня после семинаров из Балтимора в Вашингтон в потоке машин мимо международного аэропорта, мимо ипподрома Лорел и Форта Миид, мимо космического центра Годар, я думаю о Пушкине и Мандельштаме, о Набокове и Гоголе, о Чернышевском и Достоевском, об Ахмадулиной, Битове, Искандере, Катаеве, Трифонове, Соколове… Все это представляется мне теперь одним куском «нашего времени», куском современной российской жизни в двухвековом масштабе, в принципе очень непродолжительном еще куском, несмотря на то что столько было изобретено за это время и столько всякого случилось, вплоть до переноса части России в непостижимые заокеанские края. Я почти не сомневаюсь, что Россия существует и в Америке, и это относится не только к физической бытности нашей этнической группы. Эта «американская Россия», разумеется, не совпадает с советской версией, но не исключено, что она ближе к астральному телу родины.
2004
В 1989-м, когда после девяти с половиной лет отсутствия я вернулся в Москву, в воздухе густо стоял «запах отчуждения», напоминающий запах дерьма. Теперь я перестал его ощущать: то ли ноздри постарели, то ли санитарные условия улучшились.
БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Приближается сороковой день со времени ухода из жизни Виктора Платоновича Некрасова, и по православной традиции мы к этому дню поминаем его, то есть сосредоточиваемся на мыслях о нем и на ощущении невозвратимой утраты. Вика был в течение многих лет поистине «светлой легендой» нашей литературы. Есть люди, от которых хула отскакивает, а есть такие, в чью сторону она даже не летит.
К последним, очень редким, принадлежал Некрасов. О нем, насколько мне помнится, даже сплетен дурных не гуляло в нашей среде, столь до сплетен охочей. Даже дезинформаторам и их прихвостням, тщеславным и мелочным лизоблюдам, личность «старого мушкетера» не давала пищи для злословия — за исключением, может быть, некоторой склонности к гульбе, к лихой мушкетерской пьянке, к не вполне салонным выражениям. Ни к чему другому не придерешься. Ни ухмыльнуться, ни подмигнуть, ни присвистнуть, ни уклончиво промолчать. Напротив, говоря о Некрасове, трудно было удержаться от употребления стопроцентных категорий типа «бессребреник», «правдолюбец», «верный друг», «честный писатель».
Мушкетерская метафора по отношению к Вике возникла неспроста. Во-первых, он всегда был похож на мушкетера с его узким лицом и сухощавой фигурой, постепенно с возрастом превращаясь из д'Артаньяна в де Тревиля; во-вторых, его образ всегда соединялся с Францией, где прошли его младенческие и поздние годы; в-третьих, к этой метафоре имеет, разумеется, отношение его солдатское прошлое, с которым он пришел в литературу. Военная тема в Советском Союзе заезжена, кажется, уже до предела. Хотя составить по ней впечатление о войне трудно. Поставьте рядом фактическую историю Второй мировой войны и гипотетическую историю, написанную по материалам советских военных беллетристов, и вы не найдете между двумя этими фигурами ничего общего. Даже у лучших из тех беллетристов, скажем у Эммануила Казакевича, вы обнаружите сейчас (подчеркиваю это «сейчас», потому что прежде, чего греха таить, не очень-то обнаруживали) неимоверное количество слащавости, приукрашивания, немыслимой, но априорной советской однобокости, дикой по современным параметрам оценки событий и человеческих отношений. Великий советский роман о Второй мировой войне так и не был написан, однако если вы сейчас (даже сейчас!) возьмете в руки некрасовскую «В окопах Сталинграда», вы, может быть, не найдете там ошеломляющих откровений или грандиозного сюрреализма в описании самой низкой и в то же время величественной формы человеческой деятельности, но вы также не найдете там и грана фальши.
В самом факте изъятия этого грана, в легком небрежном выковыривании приторного цуката из реального теста состоит художественное достижение Виктора Некрасова. Он дал запал послесталинской, то есть основательно запоздалой, волне литературы, так называемой литературе «траншейной правды». Литературными юнцами в конце пятидесятых годов мы с уважением внимали своим старшим братьям, вдруг разразившимся залпами искренности. «…Мы под Скопино скопом стоим, артиллерия бьет по своим…» — межировское.
…Коль дергаешь ты за кольцо запасное И не раскрывается парашют, А там, под тобою, безбрежье земное И ясно уже, что тебя не спасут, И некуда больше уже обратиться И некого встретить уже на пути, Раскинь свои руки свободно, как птица, И, обхвативши пространство, пари!.. —винокуровское. Бондаревская повесть «Батальоны просят огня», баклановский роман «Июль 41-го», поженяновский фильм «Жажда»… Все это творчество, по идее, ожидалось гораздо раньше, но пришло только пятнадцать лет спустя. Говорили о ремарковских и хемингуэевских влияниях; разумеется, они присутствовали, благо только что были изданы и переизданы полузапретные еще недавно «На Западном фронте без перемен» и «Прощай, оружие», но были также и свои, чудом возникшие в сталинскую пору эталоны — некоторые мотивы в книгах Василия Гроссмана и, разумеется, «В окопах Сталинграда».
В советском литературоведении всегда замечалась склонность к военизированной терминологии, будь это «передний край нашей литературы» или понятие «литературной обоймы». Первая метафора мне кажется пошлым вздором, но во второй звучит некоторая правдивая просаленность и сумрачная емкость. К возникшей в те годы и в значительной степени сотворенной его руками обойме литературы «окопной правды» Виктор Платонович Некрасов не примкнул, потому что к тому времени он уже успел сделать неожиданный и мощный рывок из окопов вперед, в результате чего догнал и оседлал новую волну — литературу послесталинского ренессанса. Считается, что журнал «Новый мир» в период своей знаменитой конфронтации с органом сталинистов журналом «Октябрь» руководился единолично Александром Трифоновичем Твардовским. Это отчасти верно, потому что при всей его антикультовости создатель Васи Теркина был психологически довольно культовой фигурой (не в том смысле, в каком это выражение употребляется сейчас. — В. А.), но верно только отчасти: вокруг «Нового мира» существовал круг творческих личностей, которые олицетворяли настроения большого пласта советской интеллигенции, и этот круг, естественно, влиял на Твардовского.
Виктор Некрасов был из тех, кто влиял и очень сильно, хотя он сам никогда, как я уже писал в «Русской мысли», не лез ни в менторы, ни в пророки. Его писательский авторитет и аура его романтической ремарковско-хемингуэевской личности были очень сильны. Я помню, как однажды в доме творчества «Дубулты» распространился слух, что приезжает Некрасов. Среди писателей возникло возбуждение. Автор нашумевшего романа «До свидания, мальчики!» Борис Балтер готовился к встрече с Викой как к важному событию в своей жизни. Прошедший сам все фронты Великой Отечественной, он говорил: «Я ни разу его еще не встречал, а ведь он для меня как ближайший однополчанин». Много друзей у Некрасова было среди молодых киношников ранней «оттепели». Марлен Хуциев, когда снимал свою столь возмутившую Хрущева «Заставу Ильича», только и говорил о Вике, советовался с ним по каждому поводу, показывал отснятый материал. Первая рецензия на этот фильм была написана Некрасовым. Ядовитые его замечания по поводу традиционных всемудрейших старых пролетариев, наставников молодежи, которых, слава Богу, нет в этом фильме, вызвали сущую ярость тогдашнего аппарата и дали Ильичевым повод для плевания.
Особенно Вика любил среди молодых друзей бурнокипящего в те времена сценариста Гену Шпаликова, песню которого распевала тогда вся творческая Москва: «…Эх, утону я в Северной Двине, / Или погибну как-нибудь иначе. / Страна не пожалеет обо мне, / Но обо мне товарищи поплачут…» Мы все плакали о нем, когда он погиб от тоски и от бузы. Незадолго до отъезда из СССР я был на вечере памяти Геннадия Шпаликова, который проводили его друзья-кинематографисты. Виктор Платонович к тому времени уже несколько лет был в эмиграции, и его имя, разумеется, было запрещено произносить. И тем не менее почти все выступавшие друзья Шпаликова находили мужество, говоря о покойном, упоминать, хоть и не называя имени, «того человека, что был и является нашим верным другом, который хоть и далеко, хоть и в Париже, но в этот день вместе с нами»…
Нас познакомил с Викой, конечно же, Григорий Поженян. В какой-то далекий вечер мы разместились по обе стороны его широченных плеч. С тех пор встречались хоть случайно, но нередко. Запомнился коридор в поезде «Красная стрела», где как-то полночи простояли в клубах табачного дыма и в коньячных парах. Все эти встречи, разумеется, были окрашены замечательным некрасовским юмором. Он очень чувствовал мягкую комичность жизни.
В Ялте на террасах литфондовского дома он появлялся куртуазнейшим спутником своей очаровательной старой мамы, рассказывал немыслимые истории о том, например, как он с киевского пляжа позвонил депутату Верховного Совета СССР Корнейчуку и потребовал, чтобы тот в кратчайший срок привез на пляж все свои драгоценности для передачи в Фонд Мира, и как Корнейчук хмуро явился на пляж во всех регалиях и с черным чемоданом, в котором лежали — «чтоб я так жил!» — все его драгоценности. Однажды мы потеряли его во время прогулки по ялтинской набережной. Наверх, в Дом творчества, Вика был доставлен в милицейском мотоцикле. Два бравых офицера вытянулись перед ним: «Личный состав ялтинской милиции готов к выполнению приказов Виктора Некрасова!» Вика взял под козырек, то есть под свою легендарную челку. «Обо всех несправедливостях сообщайте мне или Генеральному секретарю ООН У Тану!» — «Есть сообщать вам или товарищу У Тану!»
Кончина Некрасова породила одно из чудес гласности — некролог о нем, напечатанный в либеральных «Московских новостях» и подписанный пятью писателями. И хоть написан этот некролог был с основательной долей лицемерия — из него вроде бы следовало, что Некрасов как бы сам по своей воле бросил родину, а не был выпихнут из нее наглым нахрапом бюрократии, ну и за границей, мол, волей-неволей совершенно творчески захирел, тогда как на самом деле он провел во Франции годы полные плодотворного труда, давшие прекрасные художественные результаты, — все-таки это и в самом деле было чудо, некролог о вчерашнем «отщепенце» и «предателе» в советской прессе! Тут же, впрочем, стало известно, что дерзость не осталась невознагражденной: Лигачев устроил выволочку редактору Егору Яковлеву — как посмели оплакивать идейного врага?! В эти игры мы, к счастью, давно уже не играем, и потому без всякой связи с какими бы то ни было советскими кампаниями оплакиваем ушедшего старого друга, замечательного русского писателя, рыцаря без страха и упрека, столь много сделавшего для нашей словесности и для нравственного статута неблагодарной родины, если об этом еще можно хоть что-нибудь сказать.
СЛОВО-ЛАСТОЧКА
Проходя на днях через оживленный район Вашингтона Дюпон-Серкл, я не менее трех раз слышал произнесенное в толпе слово «гласность». Вот уж поистине: вылетело — не воротишь! Удивляет, с какой отчетливостью американцы, в общем-то, не склонные к иностранизмам, выговаривают эту новинку, даже мягкий знак в конце вполне можно различить. «Спутнику», скажем, не так везло, он, в общем-то, превратился в «спатник». По различимости с «гласностью» могут соперничать только немногие другие жемчужины нашего языка, среди которых, конечно, ярко сияет «ГУЛАГ».
Век коммуникаций, помимо прочих трюков, демонстрирует склонность к семантическим ловушкам. Птички-слова, пролетающие из одной культуры в другую, порой оказываются не совсем тем, что они есть на самом деле. «Гласность» теперь как бы уже не нуждается в переводе, а еще совсем недавно, то есть всего лишь несколько недель назад, ее переводили английским словом «опеннес», которое — прошу прощения за невольный сарказм — впрямую переводится на русский словом «открытость».
Однако «открытость» и «гласность» — не совсем ведь одно и то же, господа, не так ли? Будучи открытым, ты становишься в значительной степени честным, в то время как становясь «гласным», ты просто становишься меньшим букой, меньше замыкаешься, больше говоришь на разные темы, но это вовсе не означает, что ты обязательно говоришь честно. С определенного угла зрения можно предположить, что «гласность» ближе стоит к «разговорчивости», чем к «открытости». Для того чтобы проиллюстрировать этот отнюдь не стопроцентный тезис, мне, к сожалению, далеко ходить не надо. Первый пример из тех, что приходит в голову, относится, увы, ко мне самому. В период безгласности брежневизма мое имя никогда не называлось в советской прессе, как будто я никогда и не существовал в советской литературе. Курс был взят на полное отсечение, на тот процесс, что в советском кинематографе характеризовался словами «смыть пленку». Наиболее ретивым соцреалистам, которым очень уж хотелось лягнуть, разрешалось намекнуть, но — Боже упаси — не назвать. Как-то мне попался в руки журнал «Литературная мастерская». Там какое-то его секретарское благородие поучало пишущую молодежь: «Не пишите всяких там затоваренных бочкотар, а то они вас далеко за океан закатят». Где-то еще мелькали подобные иносказания, впрямую же не говорилось никогда — пленка смыта.
Теперь другое дело. В последние две недели «гласность» несет на меня и на моих товарищей потоки клеветы и оскорблений — разговорились. Мое имя теперь то и дело мелькает на страницах советских газет, давая лишний шанс убедиться в правоте тезиса: «Гласность — это просто склонность к разговорчивости, но отнюдь не к честности». Вот передо мной три статьи: «Паника в стане бывших» В.Корионова в газете «Правда», «Поборники свободы требуют репрессий» В.Орлова в газете «Советская культура» и «Была без радости любовь» Валентина Алексеева в журнале «Огонек». Замечательно то, что эти три статьи последовательно демонстрируют три стиля советского журнализма: биологический сталинизм В.Корионова (живы еще «ворошиловские стрелки», не затупилось «острейшее оружие партии»!), физиологический брежневизм В.Орлова, когда даже достоверность фамилии автора не является обязательной, и эсхатологический коротичизм Валентина Алексеева (последний «загласничался» до упоминаний Страшного суда). Стили разные, суть одна: нечестность. Все-таки следует познакомить читателя и с некоторыми перлами стиля: нынче ведь известно, что этика то и дело перетекает в эстетику и наоборот.
Как упоминает меня Корионов? Вместе с моими друзьями, подписавшими письмо о противоречиях «гласности», он называет меня только во множественном числе, а именно: «псевдомучениками, переметнувшимися на Запад… отщепенцами, торгующими собственной совестью… провокаторами, лжецами и клеветниками… которые рассчитывали получить на Западе большой кусок хлеба с маслом… Эти „господа“ (слово „господа“ правдисты до сих пор упоминают саркастически) в душе, по-видимому, все же понимают, как они жалки и одиноки, какое презрение они вызывают у советских людей…» Такова терминология «гласности». Обратимся теперь к орлам физиологического брежневизма из газеты «Советская культура», которую нынче, по слухам, возглавляет небезызвестный в Москве и за ее пределами ААБ, то есть Альберт Андреевич Беляев, пару лет назад еще руководивший с исключительными успехами всей советской литературой из своего кабинета на Старой площади. Сталинисту Корионову одной риторики достаточно, а вот брежневисту Орлову этого мало: он должен риторику подкрепить цитатками и фактиками. В этом случае автор «Советской культуры» демонстрирует удивительный доступ к эмигрантской прессе, да и не только к ней — к личной переписке писателя Георгия Владимова, взятой при обыске. Значит, получается, что и обыск как творческий метод характерен для нынешнего периода демократизации и гласности.
В целом статья В.Орлова «Поборники свободы требуют репрессий» представляется мне тошнотворным танцем коммунальной бабы Степаниды Власьевны со всеми присущими ей ужимками и экивоками. На какие только трюки не идет, чтобы плюнуть соседу в кастрюлю! Перевернут наизнанку наш разговор с Юрием Любимовым, диалог о судьбе современного артиста, вынужденного отстаивать право на творческую свободу между чудищами Идеологии и Рынка: оказывается, для нас это только повод, а главное — «как поязвительнее и позабористее расквитаться с родиной, как повыгоднее продать свои „откровения“ тем, кто знает, за что он платит и что он покупает». Тут же, столбцом ниже, перевернуты высказанные мной в разные годы и в разных местах (бдительно парит В.Орлов, стальная птица, над эмигрантской прессой) соображения о творчестве Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Элема Климова. Задается, дескать, Аксенов, подчеркивает собственную значительность, унижает старых товарищей. Еще чуть ниже идет период, достойный цитирования в полном составе. «…Круглые сутки нон-стоп он (то есть Аксенов, автор книги очерков „Круглые сутки нон-стоп“, не угодно ли оценить мощь орловско-беляевского сарказма) отрабатывает свою американскую визу, гарантированную „Метрополем“, то есть задуманным им сборником, изначально рассчитанным на скандал, с помощью которого он, Аксенов, надеялся приобрести капитал в глазах весьма определенных служб Запада…»
Итак, даже и эта бессмысленная ложь старых брежневских стукачей входит в арсенал перестройки и гласности. От призраков сталинизма и брежневизма, которые, как мы видим, вполне актуально пужают людей и среди бела дня гласности, да к тому же и распинаются на всех углах о демократизации и реконструкции, как в свое время распинались о коллективизации и «зрелом социализме», обратимся теперь к изощренностям сегодняшнего дня, а именно к «эсхатологическому коротичизму», представленному на страницах «Огонька» очерком Валентина Алексеева «Была без радости любовь». Корень шутливого термина, как легко догадается читатель, состоит из имени нынешнего главного редактора «Огонька» Виталия Коротича, этого, по словам Андрея Вознесенского, «отважнейшего и самоотверженнейшего издателя нашего времени». Если кто-нибудь спросит про нового домашнего Герцена, тот ли это самый Коротич, что написал клеветнический роман о США «Лицо ненависти» и получил за него «государыню», ответим: да ведь это было вчера, а не сегодня, и чего же вспоминать «догласные дни».
Валентин Алексеев начинает свою статью с комсомольского афоризма: «„Нынче время великой четкости и точного зрения“. С этим согласится всякий, кто не считает, что нынче время великой заляпанности и большого косоглазия. Автор спросил у людей, причастных к разрешениям на эмиграцию и иммиграцию: правда ли, что вы активно разыскиваете за рубежом видных деятелей культуры, уехавших из СССР, уговариваете их возвращаться, сулите златые горы? Ложь, ответили ему, мечтательная заграничная брехня…» Мы можем только гадать, кто эти люди — причастные, и почему Валентин с позиций великой четкости и точного зрения не указал их имен и должностей. Почему он не поинтересовался у каких-нибудь еще более «причастных», где родилась «деза» о возвращениях, от которой деятели культуры отмахивались чуть ли не целый год, а она тем не менее все распространялась и распространялась?
Обо мне Алексеев пишет, что я, который когда-то был неплохим прозаиком, начал на Западе с откровенно слабых произведений (речь идет о романах «Ожог», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж» и «Скажи изюм», о вещах и в самом деле слабых по части воплощения социалистического реализма), а потом «скатился до черного дна, до радио „Свобода“». Вот беда, не дает радиостанция с таким развязным бестактным названием покоя советским пропагандистам, а ведь можно было бы спокойно избавиться от нее, открыв радиостанцию с альтернативным голосом у себя дома. Такие времена вряд ли нам увидать, пока что «прежними временами» пугают. Аксенов, оказывается, выбалтывает на бумаге и по радио то, что помнил из разговоров с бывшими приятелями, так что, будь на дворе прежние времена, «многих бы передергали по его наветам…». Понять, что имеет тут в виду господин Валентин Алексеев, мне не дано, слышен только какой-то судорожный всхлип; ностальгия, что ли?
Самое все-таки противное во всех трех названных выше статьях состоит в том, что их авторы все время говорят от имени родины и народа. Валентин Алексеев даже приписывает народу склонность к выбору, родине — склонность к непрестанному суду. Побойтесь, сударь, упомянутого вами всуе Страшного суда — ведь к народу вы имеете отношение только масштабами обмана, а над родиной не только глушилки воют, но и иные нежные души еще парят. Ей-ей, никогда бы не взялся отвечать регулярным сочинителям идеологической охранки (правильно отмечает В.Орлов из «Совкультуры»: не хочу ни их жизни, ни их перестройки, ни их самих), однако существуют все-таки две причины, по которым приходится вступать в докучливое словоборство. Во-первых, нынешнее советское время, несмотря на приведенные выше примеры вполне привычной и прокисшей идеологической нетерпимости и нечестности, претендует на некоторую нерегулярность, а во-вторых, существует еще одна статья, которая хотя бы по стилю, по сдержанности и интеллигентности выгодно отличается от корионовско-орловско-беляевско-алексеевского состава: с ней все-таки можно полемизировать.
Я говорю о статье «Доказательство от обратного», написанной главным редактором «Московских новостей» Егором Яковлевым. Господин Яковлев начинает свою статью таким образом: «Василий Аксенов — бродим с ним по Москве осенним днем и до самого вечера. Говорим, мечтаем». О чем? Прежде всего, я весьма далек от обвинений времени, нынешнее время не из худших, в нем даже есть некоторые неясные надежды, и я об этом говорил в большой статье, напечатанной в апрельском номере журнала «Харпере». Письмо десяти оппозиционеров, по которому бьет Яковлев, тоже направлено не против времени, а против того, что Высоцкий называл в своей «Баньке» наследием старых времен. Наступило ли время, о котором мы с Егором мечтали осенним днем 1968 года? Если это то самое время, в котором меня на страницах центральной печати называют «псевдомучеником, переметнувшимся на Запад, отщепенцем, торгующим собственной совестью, провокатором, лжецом и клеветником, который рассчитывал получить на Западе бесплатно большой кусок хлеба с маслом», а также человеком, что «надеялся приобрести капитал в глазах весьма определенных служб на Западе», то позвольте мне предположить, Егор, что мы мечтали, очевидно, о разном.
Вы пишете: «Те десять, коим ничто не угрожало, были свободны решать. Они выбрали ту сторону баррикад». Прежде чем обратиться к осточертевшим баррикадам, я хочу остановиться на свободе выбора и на том, угрожало ли что-нибудь «тем десяти». Эта тенденция просматривается во всех советских выступлениях по поводу культурной эмиграции: сами уехали, никто их не гнал, за сладкой жизнью погнались, за джинсами, за красивыми домами. Последние мордоворотные вульгарности принадлежат, как ни странно, утонченному поэту. Вот Вы и сами пишете: «…они оставили его (свой народ. — В.А.) не в лучшие времена…» Позвольте напомнить Вам, что одного из десяти, молодого борца за гласность, вывезли из Советского Союза просто в наручниках, трех других узников совести обменяли на шпионов, четверых «деятелей культуры», в том числе вашего покорного слугу, лишили гражданства указом Верховного Совета СССР за подписью Брежнева, двум другим создали такие условия жизни и работы, что другого выбора не было.
Опираясь на тот смысл слова «гласность», что установился в стране, которая дала мне убежище, я рискну «назвать лопату лопатой» и сказать несколько слов о том периоде в моей жизни, который привел меня к погоне за джинсами и красивыми домами. В 1977 году ко мне пришли два сотрудника КГБ, предупредили против публикации романа «Ожог». И чего это им так уж далось это «откровенно слабое произведение», ума не приложу. С этого момента не проходило и месяца, чтобы я не ощущал над собой пристального пригляда. Моя почта контролировалась, а иностранная корреспонденция блокировалась. В 1979 году во время клеветнической кампании против альманаха «Метрополь» первый секретарь Московской писательской организации Феликс Кузнецов и секретарь Иван Стаднюк объявили меня агентом ЦРУ, а нынешний первый секретарь Союза писателей СССР Владимир Карпов предложил применить ко мне законы военного времени, то есть поставить к стенке. Спустя некоторое время начались странные происшествия с моей машиной — каждое утро я находил шины спущенными, а однажды мастер, который основательно поправил свой бюджет, починяя мне камеры, обнаружил в одной из них двадцатисантиметровое лезвие ножа. Странные происшествия стали случаться со мной на дорогах и улицах Москвы. Нашу дачу в наше отсутствие стали навещать неведомые гости на черных автомобилях. На шоссе возле Владимира на мою машину попер КрАЗ, а вторую полосу заблокировали мотоциклисты. И тэдэ, сударь, и тэпэ. Незамысловатые, но противные эти делишки прекратились, когда я сказал ответственному лицу, что уеду, а он, просияв, ответил: «Это устроит всех». Впрочем, спустя еще пару месяцев другое ответственное лицо сказало мне, что я уезжаю «слишком медленно» и что мне нужно быть поосторожней за рулем. Через четыре месяца после отъезда из СССР я был официально лишен советского гражданства.
Не кажется ли Вам, что это лишает меня возможности воспользоваться вашим советом и при «первой же возможности» вернуться? Говоря о пресловутых баррикадах и о свободе выбора той или иной стороны, могу ли я предположить, что Вы на своей стороне баррикад стоите плечом к плечу с Ф.Кузнецовым, И.Стаднюком, В.Карповым? Чтобы облегчить Вам ответ, хочу лишь сказать, что этих идиотских классовых и революционных баррикад давно уже не существует для многих людей как внутри страны, так и за ее пределами. Если Вы считаете себя человеком сегодняшнего дня, а десятерых подписантов — людьми, застрявшими в прошлом, можете ли Вы допустить, хотя бы в воображении, что в современном мире, а следовательно, и в СССР Ваш тезис «больше демократии — значит больше социализма» может отвергаться как сущий вздор? Являясь профессионалом только в своей области сочинения романов и не являясь, как Вы правильно заметили, профессионалом в области политики, я все-таки за пятьдесят четыре года своей жизни пришел к выводу, что внедрение социализма почти автоматически ведет к унижению и ограничению демократии. Недаром ведь «демократическая перестройка», которая нынче на повестке дня в СССР, подразумевает хотя бы крошечное, хотя бы скромнейшее, но ограничение социализма. Меньше социализма — значит больше демократии.
Полезно ли бить по башкам людей, что придерживаются этого тезиса? Скажут, для социализма, конечно, полезно. Но ведь демократии-то битье по башкам вредно. Не кажется ли Вам, что Небеса порой смеются над седобородой немецкой премудростью? Заядлые материалисты, марксисты-ленинцы оказываются под гипнозом каких-то мистических тотемов. Обязательно предполагается священный трепет при произнесении слов «социализм» или «революция». А что, если имеются нынче в российском контексте люди, для которых Октябрьская революция не является каким-то священным, предначертанным какими-то надмирными мудрецами событиями, а просто финальным результатом военного и экономического развала одной империи? Орать на них, брызгать яростной слюною или выслушать?
Вы говорите, что оппозиция, «скрывая за ширмой частных предложений свои глобальные намерения, хочет лишить советское общество исторической перспективы, взять под сомнение его конечные цели и основополагающие принципы». Ясны ли Вам самому эти конечные цели? С моей точки зрения, если «основополагающие принципы», а вместе с ними вся эта словесная шелуха не будут взяты хотя бы под ограниченное сомнение, никакой гласности не получится, и это еще раз подтверждается наглыми сталинско-брежневистскими статьями в печати. Иные скажут, что оппозиция (применяю этот термин для простоты, хотя сам себя к оппозиции причислить не могу, хотя бы из-за недостатка времени) отвергает весь послеоктябрьский опыт России, отрицает всякий советский вклад в современную цивилизацию.
Это неверно. В российском народе за последние семь десятилетий накопился огромный нравственный опыт; он показал как бездонность падений, так и чудеса выживания. Отрицательный опыт для цивилизации иногда может стать важнее положительного, а что может быть более весомым для отвержения нахрапистого лжепророчества, чем трагическая судьба? Вы считаете, Егор (простите, что я обращаюсь к Вам как бы запанибрата, но что делать, если не у кого в Вашингтоне узнать Ваше отчество), что десятка подписантов исповедует тезу старых эсдеков и эсеров «чем хуже, тем лучше» и что мы будем потирать руки, если перестройка рухнет. Не надо передергивать, сударь. Все участники письма на собственной шкуре знают, что «чем хуже, тем хуже». Увы, в мире, который, по мнению огоньковского писателя, отличается четкостью зрения, с понятием «хуже» дело обстоит еще хуже, и так же, как в области мечтания, в области слов мы оказываемся в разных измерениях. Мои последние социалистические мечты девятнадцать лет назад утекли в пражскую канализацию. Ваши нынче порхают ласточками над Москвой, и я вполне признаю за Вами право на эту стайку. Больше того: я, может быть, буду не меньше Вас рад, если вдруг явится чудо и из газовой завесы вдруг проглянет тот мифический человеческий лик. Последние хамские статьи в советской прессе, однако, вполне уверенно отбрасывают прекраснодушные мечты. Слова-ласточки пущены в них подобно шлюхам — на приманку.
РЕПЛИКА БИТОВУ: ПОСЛУШАЙ, АНДРЕЙ…
Прошлой весной в Америке побывал писатель Андрей Битов. Событие, лишь внешне кажущееся бытовым, на самом деле знаменует серьезные изменения к лучшему в советской литературной и общественной жизни. Во-первых, после странного случая, происшедшего с родным братом прозаика, заведующим отделом «Литературной газеты» Олегом Битовым, который два года назад в Италии (по советской версии) был схвачен злокозненными и многоопытными агентами британской секретной службы, опоен изощреннейшими дурманами, принужден писать клевету, потом бежал на родину; (по версии западной печати) попросил политического убежища, жил год в туманном Альбионе, потом исчез и вынырнул в Москве, после этого случая по старой советской моде всем близким и дальним родственникам следовало бы навсегда забыть о заграничных путешествиях. Во-вторых, Битов прибыл в США для участия в литературной конференции, на которую также были приглашены эмигранты Эткинд, Венцлова и Бродский; а ведь еще полтора года назад Союз писателей СССР ответил грубым отказом на приглашение участвовать в нью-йоркском международном конгрессе ПЭН-клуба именно под предлогом того, что на конгрессе будут эмигранты, в том числе автор этих строк.
И наконец, в-третьих, в составе советской делегации на конференции, устроенной нефтяниками Уитланд Корпорейшн, кроме Андрея Битова был только поэт Олег Чухонцев. Два хороших писателя без сопровождающего плохого писателя — это уже и в самом деле проявление новой и явно более приятной моды. Мне не удалось поговорить со старыми товарищами — то ли у них было слишком много дел, то ли у меня, — но это вроде бы относится просто к современной суете, а не к старой советской моде. Как раз сейчас я читаю одну из последних книг Битова — «Грузинский альбом», которая представляет собой сборник эссе на литературные и философские темы. Должен признаться, что эссеистика его мне нравится несколько меньше, чем беллетристика, однако и здесь нельзя не отдать должное зрелости его мастерства, точности глаза и верности российской интеллигентской традиции.
Странно, однако, что в Советском Союзе, где уже издают Гумилева и Набокова, до сих пор целиком в виде книги не издан основной труд Битова — роман «Пушкинский дом». Разговор о Битове я затеял сегодня, однако, не для того, чтобы его лишний раз похвалить (мне и так часто приходится делать это на семинарах в классе «творческого письма» университета Джона Хопкинса), а для того, чтобы по одному моменту поспорить. Недавно приятель прислал мне копию интервью Битова, данного им по возвращении из Америки корреспонденту газеты «Московские новости». Основная идея этого интервью «самим писать правду о себе», то есть не отдавать этого удовольствия врагам, вполне похвальна, ведь враг, за ненадобностью переставший говорить нежелательную правду, может в одночасье перестать быть врагом — не так ли? Битов выражает в интервью удовлетворение поездкой в Америку, хотя и добавляет, что не привез оттуда никакого писательского багажа. Сперли, что ли, может подумать читатель. Впрочем, говорит он, я и не собирался привозить оттуда никакого писательского багажа. Последняя оговорка все-таки снимает чувство пропажи. Если ты не хотел ничего привезти и не привез — это не так обидно, как если бы вдруг твой писательский багаж был бы похищен.
Пункт, по которому мне хочется возразить Битову, касается эмиграции. На вопрос корреспондента «Московских новостей», что он может сказать об эмиграции, Битов высказался в том духе, что он не увидел в эмигрантской среде ничего интересного. «Эмиграция — это летаргия», — сказал он. Речь, разумеется, идет о литературной эмиграции. Я с этой оценкой не согласен ни как член эмиграции, ни как наблюдатель нравов.
Слов нет — в самом факте выброса литературных сил за пределы родных почв и родного языкового хора есть много прискорбного, однако этот прискорбный факт не только не способствует летаргическому оцепенению, а напротив — придает литературной эмиграции дополнительный драматизм. В эмиграции многого лишаешься, но много и приобретаешь. Ослабевают твои связи с родным языком, однако усиливаются твои связи с другими языками, что в наше время космополитического национализма может сослужить хорошую службу твоему личному стилистическому эксперименту. Кроме того — знаю это по собственному опыту, — в эмиграции исключительно обостряется ощущение родного языка, ты начинаешь им дорожить вдвойне, и это именно эмиграция толкнула меня, например, пропеть эпиталаму извивам русского сослагательного наклонения в недавнем романе «Скажи изюм». «А посмотрите на наше сослагательное наклонение — не всякая птица долетит до середины!»…
Естественно, слабеет связь с сегодняшним днем России, слабеет ощущение жеста, стоящего, как известно, за каждой фразой; утрачивается «советскость» — недаром говорят, что долговременные эмигранты и двигаются-то немного не так, как жители СССР, однако наряду с этой утратой у тебя вдруг появляется — и здесь я опять же опираюсь на собственный опыт — удивительное чувство российской истории не как книги, а как жизни. То ли это оторванность от родины вызывает повышенную остроту восприятия истории, то ли эмигрант волей-неволей сам ощущает себя участником истории — ведь эмиграция, пусть даже самая жалкая, это историческое событие — во всяком случае, пара последних столетий ощущается как единый кусок «нашего времени», без выделения советского периода в отдельную эпоху.
Меньше всего можно обвинять эмиграцию в недостатках тем и сюжетов. В поисках возбуждающей творчество «пограничной ситуации» далеко ходить не приходится. Если каждый человек — это сюжет для романа, то каждый эмигрант — это роман с пружиной. Число читателей — вот главный козырь метрополии. Против этого не возразишь, однако и в этом можно увидеть неожиданный смысл. Уменьшение числа читателей не уменьшает ли градус конъюнктурщины? Возможность называть вещи своими именами вместо принятия жеманных поз недоговоренности — тоже не последнее дело для литератора. Русская литература в эмиграции живет активной творческой жизнью. Издается много журналов и журнальчиков. Любой может основать свое издательство и носить портфель этого издательства в своем портфеле. Чаще всего это эфемерные предприятия, но иногда они издают неэфемерные книги. Именно в эмиграции возникла группа талантливых романистов более молодого, чем наше с Битовым, поколения. Метрополия, к сожалению, пока этим похвастаться не может.
Литературная среда как бы отсутствует и присутствует: она распылена по странам и материкам, по американским, французским и германским университетам, в одном Израиле 150 человек профессионально пишут по-русски, часть нашей среды, безусловно, находится в Москве. Конечно, много вокруг всякого вздора и тщеславия, но спячки не видно. Кроме всего прочего, вокруг Запад — здесь и захочешь впасть в летаргию, не получится: шумно, бойко вокруг — постоянная перестройка, вопиющая гласность.
ЮРИЙ ЕЛАГИН. ВАХТАНГОВЕЦ ИЗ ТЕХАСА
В прошлом месяце в Вашингтоне скончался Юрий Борисович Елагин, писатель, музыкант и редактор журнала «Диалог», фигура заметная и многими любимая в русском зарубежье и в Соединенных Штатах, стране, ставшей его вторым домом и упокоившей его в своей земле. Я помню, как зимой 1969 года в Ялте, в литфондовском Доме творчества появилась первая книга Юрия Елагина «Темный гений» — о жизни, творчестве и трагическом конце гения русского театра Всеволода Мейерхольда. К тому времени партия уже великодушно реабилитировала убиенного режиссера, о нем разрешалось уже чуть-чуть вполшепотка говорить, избегая, однако, бестактностей в отношении великодушной. Книга Елагина была написана «за бугром» человеком равно и свободным, и талантливым, она благотворно влияла на читателей в Советском Союзе, куда попадала по «воздушным путям» свободы, своей раскованностью и художественной точностью.
Юрий Борисович не только собрал для этой книги уникальный архивный материал — он знал, о чем пишет, изнутри, потому что и сам был плоть от плоти московского театра, принадлежал в молодости к «вахтанговцам», был юным концертмейстером театра на Арбате, вдохновенным и влюбленным во все театральное человеком. После большого успеха «Темного гения» он написал вторую, может быть, еще более интересную книгу «Укрощение искусства», в которой суммировал свои воспоминания и размышления о тех временах, когда сталинские колбасники завершали выработку единого и неделимого на все времена творческого метода социалистического реализма.
В начале войны Юрий Елагин оказался на территории оккупированного немцами Северного Кавказа, а затем ему пришлось разделить судьбу миллионов других россиян и отправиться в многолетние скитания по затемненной, забитой войсками и осыпаемой бомбами Европе. Скрипка спасала его, но она навлекала и беду. Как-то он рассказывал нам: меня много раз во время войны собирались либо отправить в лагерь смерти, либо расстрелять. Задержит какой-нибудь патруль, ну и думает: раз со скрипкой, значит, еврей, ну а потом, когда выясняется, что русский, — раз русский, значит; шпион.
Юрий Борисович не был ни шпионом, ни партизаном, ни карателем, он просто был скромным молодым человеком со скрипкой, выброшенным из привычной театральной околоарбатской среды в дикий мир войны. Гибель и насилие ходили за ним по пятам, в привокзальных ресторанчиках он играл «Розамунду». После войны он уехал в Америку и добрался до самого ее сердца, до штата Техас. Там он стал не просто американским патриотом, но техасским патриотом, то есть одним из тех людей, что полагают этот огромный штат атлантовым горбом мира. Как-то раз он мне сказал с полной убежденностью: «Поверьте, Василий Павлович, что бы ни случилось, пока стоит Техас, все будет в полном порядке».
В Техасе он, конечно, не укрощал мустангов, но зато в течение многих лет играл в первом ряду скрипок Хьюстонского симфонического оркестра под управлением Леопольда Стоковского. Этот выдающийся музыкант и своеобразная человеческая личность должен был стать героем еще одной книги Юрия Борисовича, которую он планировал незадолго до начала болезни.
Мы познакомились с Юрием Борисовичем Елагиным и его дочерью Каролиной вскоре после приезда в Вашингтон. Как разнообразна все-таки эмиграция, каких только людей не встретишь в ее немногочисленных общинах! Среди потомков «первой волны», среди «второволнистов», к которым и он сам хронологически относился, и среди вновь прибывших Юрий Борисович представлял собой уникальную фигуру — при всем своем американском патриотизме он являл москвича, пожилого арбатского театрала, человека художественного письма и искусства, немного гурмана — он был большим знатоком всевозможных крепких напитков, различных водок (считал почему-то, что лучшая водка приплывает к нам из непьющей Турции), настоек, бренди, но никогда не пил допьяна; ему, кажется, больше нравилось не пить, а священнодействовать вокруг стола, окружать графинчики и бутылочки ратью не очень-то техасских закусочек в лице соленых грибков, помидорчиков, огурчиков, икорки и т. д., вести за столом неторопливую беседу с друзьями или вдруг, вдохновившись и захватив площадку, показывать сущие образцы арбатского краснобайства.
Мы бывали у него часто и встречали там других елагинских друзей, которые чаще всего оказывались и нашими друзьями или становились ими после вечеров в елагинской квартире в огромном доме под названием «Элизабет» на границе дистрикта Колумбии и штата Мэриленд. Юрий Борисович часто говорил, что он не может жить в дистрикте, потому что ему, техасцу, не по душе местный закон, запрещающий держать дома огнестрельное оружие в неразобранном виде, а у него тем временем имеется не менее пяти, да-да, Василий Павлович, не менее полудюжины неразобранных пистолетов. Пистолетов этих, впрочем, никто никогда не видел. Все, что касалось искусства, увлекало его неслыханно. Он мог позвонить на ночь глядя и сказать, что потрясен новым юным талантом — австрийской скрипачкой Анной Марией Муттер и что мы завтра же должны приехать к нему слушать ее новый компакт-диск. Он мог серьезно обострить отношения со своим самым лучшим другом Славой Ростроповичем, если ему казалось, что тот играет симфонию Малера слишком или недостаточно быстро. Часами он мог обсуждать с Юрием Петровичем Любимовым различные сценические воплощения Достоевского.
С Любимовым они, между прочим, встретились после почти полувековой разлуки. Я присутствовал при их встрече в вашингтонском аэропорту «Даллас». Оба жутко волновались, узнают ли они друг друга в международной толпе. Узнали мгновенно и закричали, будто те же самые юноши-вахтанговцы: Юра! Юра!
В книге «Укрощение искусства», изданной в Нью-Йорке в 1950 году, то есть сразу после ждановских мероприятий, Юрий Борисович Елагин писал: «Советская власть получила в наследство от старой России большую культуру и великолепное искусство, одно из самых блестящих из новейших искусств мира. Это русское искусство обладало всеми признаками зрелости: 1) высоким формальным и техническим мастерством; 2) большим разнообразием художественных стилей, направлений и школ; 3) оно было в значительной степени космополитично — в нем отсутствовала национальная ограниченность… И вот это, еще недавно первоклассное искусство, находится сейчас у себя на родине на краю гибели. Все, что создается сейчас в Советском Союзе, в том числе и музыка (после 10 февраля 1948 года), носит характер глубоко провинциальный, формально примитивный, на всем лежит печать второстепенности… Вместе с требованием обязательной „социалистичности“ в искусство введен элемент лжи…» Тридцать три года спустя, преподнося нам копию «Укрощения», он написал на титульном листе: «Давным-давно написал я эту книгу, а они все укрощают и укрощают…» Значит, все-таки не укрощается.
ПОД ШУМ ВОДОПАДА
Престраннейшая статья поэта Евгения Евтушенко, напечатанная, кажется, еще в марте в журнале «Тайм», продолжает вызывать реверберацию в прессе. В этой статье Евгений Александрович выдвигает и развивает, мягко говоря, несколько странный тезис. Согласно этому тезису, во всех идеологических зажимах, имевших место внутри Советского Союза, виноват… Запад или, точнее, — «реакционные круги Запада». Оказывается, не будь Запад столь зловещ и провокационен в своих реакциях на события типа сооружения Берлинской стены, или кубинского ракетного кризиса, или вторжения в Чехословакию, не было бы в Советском Союзе ни атак на послесталинское поколение писателей, ни глумления над художниками-нонконформистами, ни судов над инакомыслящими. Из этого тезиса может проистечь далеко идущий вывод в том смысле, что если бы Запад не реагировал столь провокационно, то есть не сопротивлялся бы и не осуждал, то есть если бы прекратилось вообще существование Запада, а воцарился бы повсюду один всеобъемлющий «Незапад», то вместе с этим воцарилась бы гармония, артистическая благодать и восхитительная «гласность».
Вполне допускаю, что поэт, может быть, и не хотел таких выводов, но они неизбежно возникают. Однако самым странным моментом евтушенковской статьи оказались его откровения, связанные с позорным процессом 1966 года над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Для тех, кто запамятовал или вообще не в курсе дела, напоминаю эти откровения. Евтушенко пишет, что вскоре после процесса случилось ему быть в Нью-Йорке, и там покойный сенатор Роберт Кеннеди пригласил его на вечеринку в свою манхэттенскую квартиру. В разгаре вечеринки Кеннеди позвал Евтушенко еще глубже, а именно в ванную комнату. Там он пустил на полную мощность все краны и душ, чтобы перекрыть какие бы то ни было подслушивающие устройства (как тут не подумать, что лучшим местом для проведения тайных бесед является Ниагарский водопад), и стал шептать поэту в ухо некоторые вещи, весьма пригодные для ныне сформулированного тезиса об ответственности Запада за культурный климат Востока.
Знаешь, старик, шептал Кеннеди, очевидно, по-русски, потому что в те времена поэт не был так силен в английском, как в русском и испанском, — хошь верь, хошь не верь, но ваших писателей заложили вашим органам наши органы. Я хочу, чтоб ты передал это своему правительству, а то оно, кажись, пребывает в благородном неведении…
Эта страннейшая история, рассказанная Евтушенко на страницах журнала «Тайм» с его гигантским тиражом, породила немало разговоров в американских литературных, журналистских и политических кругах, немало ухмылок искривило рты консерваторов, немало новых морщин легло на вдумчивые лбы левизны. Немудрено поэтому, что независимый вашингтонский еженедельник «Нью рипаблик» решил в одном из недавних номеров опубликовать статью человека, который по всем признакам должен был бы иметь самое прямое отношение к рассказанной поэтом истории.
Человек этот по имени Доналд Джемисон во времена драматической встречи среди бушующих потоков как раз и принадлежал к американским «органам», а еще точнее — он-то как раз и занимался в ЦРУ наблюдением за литературными процессами в Советском Союзе. Если я чего-нибудь не знал, пишет мистер Джемисон, то значит, никто в Америке этого не знал, а я до ареста Синявского и Даниэля никаким образом не отождествлял их с Терцем и Аржаком. Конечно, продолжает отставной специалист, или, по советской терминологии, «боец невидимого фронта», многие могут не поверить словам, исходящим из секретного агентства, но в те времена нами была принята по отношению к диссидентским явлениям в советской литературе политика полного невмешательства. Любая попытка оказать кому-нибудь из неофициальных писателей помощь могла бы привести к страшнейшей и непоправимой их дискредитации, поэтому было решено не делать ровным счетом ничего, а только наблюдать.
Автор статьи в журнале «Нью рипаблик» приводит несколько логических построений, довольно ловко опровергающих достоверность евтушенковской истории. Одно из этих построений касается самого покойного сенатора Роберта Кеннеди. Неужели он был так наивен, что мог думать, будто советские «органы» могли утаить от своего правительства свои отношения с американскими «органами», и решил воспользоваться услугами поэта (а ведь поэт живет более в области мифологии, чем реальности), для того чтобы преодолеть этот заговор? Да и вообще, на кой черт это ему было нужно, других забот, что ли, не было?
Народ продолжает рассуждать об этой столь же загадочной, сколь и несообразной истории. Зачем Евтушенко понадобилось рассказывать ее двадцать один год спустя после событий? Одни говорят, чтобы посеять у советской интеллигенции недоверие к Западу — дескать, продаст и не чихнет; другие полагают, что главной целью было избороздить новыми морщинами глубокомысленный лоб западного левого либерала, а мне-то кажется, что эта история имеет некоторое отношение к поветрию мифотворчества, имевшему место в поэтическом цеху шестидесятых годов. Слово «враль» тогда было легко и элегантно заменено словом «мифоман». Для тогдашнего поэта мифотворчество казалось продолжением письма, а иногда и наоборот.
Вспоминается история, как один поэт столь красноречиво уверял некую даму в своем полном сиротстве, что случайно подслушавший это его отец разрыдался от сочувствия. Другой поэт, вернувшись из путешествия по «горячим точкам планеты», рассказывал в ресторане Центрального Дома литераторов, что у американского летчика, сбитого во Вьетнаме, была найдена карта с пометками «здесь не бомбить — трасса советского поэта». Третий поэт, приехавший из Парижа, всерьез и даже правдоподобно повествовал душераздирающую историю о том, как в него влюбилась Брижит Бардо, все время звонила в гостиницу, но он не мог ей ответить взаимностью, потому что как раз в то время отдал свое сердце «простой учительнице». Четвертый поэт в Мексико-Сити садился в лимузин со звездой «фламенко», когда выскочил реакционный террорист и открыл по нему огонь из автомата. Храбрая девушка закрыла его своим телом. Не всегда, но чаще всего это так называемое «мифотворчество» было связано с заграницей, то ли потому, что проверить было трудно, то ли потому, что заграница вообще казалась царством вранья. Поди теперь разберись.
1988
ЗЕМЛЯ ТРЕВОГИ НАШЕЙ
В эти дни, когда приближается празднование Рождества Христова, наши мысли не могут не обращаться к страдальцам-армянам. Американское телевидение старается изо всех сил обеспечить наиболее актуальное освещение спитакского землетрясения. Ведущий программы вечерних новостей NBC Том Брокоу сегодня вел репортаж прямо из Спитака и Ленинакана. Смотреть эти кадры невозможно без спазм в горле. В ответ на ужасные новости американский народ проявляет массовое желание чем угодно помочь далеким кавказским братьям. Включаю телевизор и пытаюсь вызвать в памяти живые картины Армении, какой я ее видел во время двух своих туда приездов.
Первый раз я прилетел на самолете, заполненном писателями. Это было ранним сентябрем 1969 года. Шли международные торжества, посвященные столетию со дня рождения Ованеса Туманяна. Велеречивые заседания следовали одно за другим, чередуясь с пышнейшими банкетами. Жаркое, только чуть-чуть начинающее увядать лето в Ереване как бы истекало соком, словно потрескавшийся гранат. Официальные празднества караванами автобусов в сопровождении милицейского эскорта перекатывались из Еревана в Дилижан и к берегам Севана. На всем пути в деревнях и городках вдоль дорог были расставлены столы с угощениями. Гостей закармливали, запаивали, оглушали речами, и уже трудно было отличить естественное радушие этих невысоких и чаще всего весьма широких людей от цэковской показухи, спонтанное веселье от отрепетированных загодя спектаклей с участием государственных ансамблей песни и пляски. Только редкие моменты бегства из этого хоровода давали возможность бросить мимолетный взгляд на истинное лицо страны: то это была душная ночь в Ереване, свисание тяжелой листвы, когда шли на подпольный просмотр запрещенной картины Параджанова «Цвет граната», то вдруг под утро, сквозь только еще нарастающее розовое сияние — сарьяновская розоватость разлита здесь повсюду — вдруг выделялся, будто символ мировой допотопной гармонии, страж Армении Арарат — страж, который сам столько лет находится в безнадежном узилище, то вдруг из автобуса на перевале взгляд ловил странное выражение застывшей каменной страны, застывший хаос.
Второй раз я отправился туда зимой через пять лет, как будто специально для того, чтобы убедиться, что именно свирепая малоснежная зима, а не перенасыщенное липкое лето является истинной армянской нотой. В тот раз я ехал на поезде почти три дня в одном купе со случайным попутчиком, который оказался генералом армянского КГБ. Звали его, кажется, Акоп Вартанович. В том месте пути, где поезд долго шел мимо турецкой границы — столбы с колючей проволокой были метрах в пятидесяти от рельс — генерал, не отрываясь, смотрел на безжизненные белые холмы «той стороны». Раз он сказал мне: «Это ведь наша земля там, Василий Павлович, это истинная Армения». Его лицо на мгновение исказилось, что-то прорвалось из-под вечной маски всезнающего спокойствия. «Мать-старуха говорит мне — не могу умереть, не увидев родных мест на озере Ван. Ни один армянин, Василий Павлович, кем бы он ни был, не в состоянии забыть 1915 год, когда за четыре дня было убито два миллиона наших людей. Нет, этого мы не можем забыть». Помолчав немного, он произнес совсем уже невероятную в его устах вещь: «Вот почему мы всегда с симпатией следим за борьбой Израиля. И они, и мы пережили страшный геноцид, неравные схватки с фанатиками…»
Потом я, не помню уж каким образом, на попутной ли машине или на такси, добрался из Еревана до Цахкадзора, где меня ждали. Дорога, петляя, уходила все выше в горы; снег, перемешанный с пылью, закручивал свистящие спирали на пологих склонах, мрачные каменные истуканы отвесно вздымались за поворотами, создавая едва ли не мифические картины постоянной застывшей угрозы, некий первобытный бессмысленный трепет; несколько раз открывался темный, свинцовый и опять же какой-то первобытный Севан. Этот Кавказ совсем не похож был на грузинский Кавказ с его отдаленными цепями белоснежных гор и зелеными привольными долинами. Там все было как бы проникнуто гармонией, здесь гармония стояла впритык с хаосом, горы выглядели как застывшая мертвая зыбь, и только иногда, в редчайшие метеорологические моменты той зимы, вдруг открывалась синева, проходили солнечные лучи, и совсем вблизи, словно чудо, возникал причал последних беженцев — Арарат. Его присутствие сразу проливало смысл на бедные поселения и заброшенные древние христианские очаги; проходило, однако, несколько минут, и он скрывался, и снова в этом пути вспоминалась странная поэма Мандельштама, когда-то скитавшегося по этим местам. Поэма о каком-то жутком фаэтонщике, что «под кожевенною маской скрыв ужасные черты», гонит коляску над кручами и бессмысленно вопит…
Так в Нагорном Карабахе, В хищном городе Шуше, Я изведал эти страхи, Соприродные душе. Сорок тысяч мертвых окон Там глядят со всех сторон, И труда бездушный кокон На горе похоронен. И бесстыдно розовеют Обнаженные дома, А над ними неба мреет Темно-синяя чума.Уж не предвидение ли это сегодняшней катастрофы? Эта же нота рока слышится в другом армянском стихе Мандельштама, написанном за год до предыдущего, в 1930-м.
Колючая речь араратской долины — Дикая кошка — армянская речь, Хищный язык городов глинобитных, Речь голодающих кирпичей!Армянский народ одним из первых принял христианство и еще в пятом веке утвердил как государственную религию.
С тех пор вся его история — это борьба с хаосом фанатизма и нетерпимости. Не раз он оказывался на грани полного уничтожения, однако спасался. Российская политика при всем ее колониализме все-таки была защитой единоверцев. Так случилось и в страшном 1915 году. Уцелели практически только те, что были к северу от турецкой границы. Уходящий год со всеми его взлетами и трагедиями, конечно, нельзя не видеть в символической для армян окраске. Подъем национального и религиозного самосознания, новое ощущение достоинства, раскованности, то есть праздник гармонического начала, чередовался с хаотическими катаклизмами наподобие Сумгаитского погрома и завершился кромешным ужасом Спитака, Ленинакана и Кировакана. Мир откликнулся на эти страшные события колоссальной вспышкой сострадания и желанием помочь, и в этом опять же проявилась тяга человеческих существ к гармоничному единству: это не утешение, но нравственный выигрыш от кавказской трагедии. Смысл и вздор, вера и ненависть, гармония и хаос — разлом проходит по очень точной границе; нюансы в такие моменты истории, смешанной с геологией, увы, не воспринимаются.
1989
ЛУЧИСТОГЛАЗИЕ АРЖАКА
Недавно скончался один из героев русской литературы — писатель Юлий Даниэль, печатавшийся на Западе под псевдонимом Николай Аржак. Слово «герой», вроде бы мало применимое к литературной жизни, в данном случае вполне уместно: с чем иным, как не с траншейными боями, не с партизанским подпольем можно сравнить борьбу русской словесности за выживание в эпоху тоталитаризма. Существование равняется сопротивлению, сопротивление равняется существованию.
Пытаюсь вспомнить, когда я впервые увидел Даниэля. Из памяти, естественно, выплывает позорное судилище на Красной Пресне, но тут вспоминается, что я видел его и раньше, только не знал, кто он. В начале шестидесятых в писательском клубе взгляд не раз задерживался на входящем или проходящем молодом человеке с легко откинутой назад головой и с удивительно искрящимися глазами. Нечто необычное чудилось мне в этой фигуре, облаченной в униформу либерального интеллигента тех лет, свитер грубой вязки; в глазах его как бы присутствовал какой-то постоянный восторг, очарование жизнью. Как-то я даже спросил кого-то из друзей — что это за человек? Детский писатель Юлий Даниэль, был ответ. Ничего, дескать, особенного. Любопытные тут у нас ходят детские писатели, подумал я тогда: не исключено, что и для взрослых что-нибудь пишет этот, с глазами.
Я знал уже тогда несколько людей — Генриха Сапгира, например, или Евгения Рейна, которые тоже считались детскими писателями в официальных ранжирах советской литературы, но на самом-то деле писали и для взрослых. В то время уже ходили приглушенные разговорчики про появившегося на Западе «антисоветского» писателя Абрама Терца. Было очевидно, что на него идет охота, в Союзе к людям подходили завзятые стукачи, выспрашивали, вынюхивали. Однажды я записался в международную писательскую туристскую группу для поездки на пароходе по Дунаю. Хоть я был беспартийным, но меня в связи с этим почему-то пригласили в партком, а там сидел соответствующий товарищ в сером, полковник, забыл-его-фамилию. Хорошо бы вам, Василий, в этой поездке поспрашивать поляков про такого Абрама Терца, предложил полковник. Простите, сказал я, вы, кажется, ошиблись адресом. Ну, нет так нет, сказал полковник, забудем этот разговор. Пароход ушел по Дунаю без меня. Про Аржака же даже и шепотков никаких не было, тем большей неожиданностью было для меня услышать это имя впервые на римском конгрессе Европейского сообщества писателей.
Секретарь конгресса Джанкарло Вигорелли в последний день сообщил участникам дурные новости из Москвы — арестованы два писателя, Абрам Терц и Николай Аржак. Только уже в Москве я узнал, что Терц — это Синявский, а Николай Аржак — это и есть тот лучистоглазый детский писатель Юлий Даниэль. Через несколько месяцев в Москве начался позорный суд. Писателям на процесс выдавали одноразовые билетики. Однажды и я сподобился посетить послеполуденное заседание, на котором втроем глумились над подсудимыми три кошмарные личности — председатель суда Лев Смирнов и два народных обвинителя от Союза писателей, то есть наши коллеги, критик Зоя Кедрина и секретарь парткома, бывший генерал КГБ Аркадий Васильев. Последний дотошно выяснял, сколько пар резиновых сапог и какие рубашки привозила из Франции Синявскому Елена Плетье-Замойская, пересчитывал, стало быть, на сребреники, разражался громовыми раскатами партийного гнева.
Я смотрел на подсудимых. Совершенно спокойный, непроницаемый Синявский и все тот же Даниэль с ярко, может быть, даже более ярко, чем обычно, искрящимися глазами. Вдруг меня посетила мысль: почему же меня-то нет рядом с ними? Мое место в этом обществе на одной скамье с этими двумя, но уж никак не в зале, не среди наблюдателей, не на той же стороне, что и судьи-свиньи. В тот вечер после сессии смирновского суда мы втроем с Георгием Владимовым и Анатолием Гладилиным составили текст первого писательского письма-протеста.
Я абсолютно убежден сейчас, что тот процесс оказался для меня поворотным пунктом в определении своего места в литературе. Почти немедленно после суда и расправы по Москве стали ходить тексты Синявского и Даниэля. Прочитав повести «Человек из Минапо» и «Говорит Москва», я подумал, что в письме своем Даниэль был близок к нам; пожалуй, он был ближе к нашей возрастной группе прозаиков, чем к фронтовому поколению, самым смелым представителем которого он являлся в Союзе писателей. В российской жизни той поры его герой являл собой тип, получивший на Западе определение «сердитого молодого человека». О «сердитых» в конце пятидесятых и в начале шестидесятых много говорили. Английские писатели, создатели этого типа, становились литературными звездами и богачами, наши «сердитые», как видим мы, тоже получили вознаграждение, вполне достойное своего общества.
Думаю, не ошибусь, сказав, что тема вездесущего предательства являлась основным содержанием сердитости российского интеллигента той поры, и эта тема болезненно сквозит сквозь строчки Даниэля, включая его повесть «Искупление», недавно перепечатанную журналом «Юность».
Я познакомился с Юлием вскоре после его выхода из лагерей. Моя мать Евгения Гинзбург устроила на своей квартире у метро «Аэропорт» ужин в его честь. Народу в крохотной комнатке набилось изрядно, в основном мамины друзья-солагерники и другие сидельцы ГУЛАГа. Перед каждым лежала осьмушка черного хлеба, проткнутая спичкой, напоминание о «пайке», в середине стола была водружена детская игрушка — резиновая фигурка человека в черной кожаной куртке, подпоясанной ремнем с пистолетной кобурой и со звездой на фуражке. С идиотическим блаженством фигурка взирала на весело обменивающуюся опытом свою клиентуру, старых и новых зеков. Поразительно, как все они умудрились сохранить одно из главных защитных устройств человека, чувство юмора. Во главе стола рядом с Ларисой Богораз сидел Юлий Даниэль. Он постарел и огрубел лицом, но глаза не изменились, искрились по-прежнему. Глубокую грусть и горечь испытываешь, когда думаешь о том, что вот ушел и Даниэль, а стало быть, и весь этот наш кусок жизни еще дальше сдвинулся от ежедневности к полям истории. По соседству, однако, звучит и мотив светлого торжества. Мелкобесие изуродовало жизнь этого писателя, однако Милостью Божей он стал подлинным героем русской литературы.
ТЯНЬАНЬМЫНЬ
В течение последних недель, глядя на лица молодых китайцев, захвативших величественное коммунистическое пространство площади Тяньаньмынь, я вспоминал разговор десятилетней давности. Моим собеседником был тогда один известнейший и совсем не плохой писатель, только что вернувшийся из поездки с делегацией по Китаю. Китайцы, знаете ли, говорил он, удивительный народ, они как инопланетяне, на нас мало похожи. Такие монотонные, без всяких посторонних эмоций, только бы им работать и начальство слушаться. А нищета-то какая — и ничего, они всем довольны, за все начальство свое благодарят. Ему, китайцу, знаете ли, ничего не надо и из еды, только лишь на самой грани выживания, вот дай ему горсточку риса, и он будет доволен и будет начальство свое хвалить, больше ему ничего не надо. Послушание массовое и беспрекословное, никому и в голову не приходит возражать начальству. Прикажи китайцу начальство убить соседа, он и минуты раздумывать не будет, тут же убьет. И все, понимаете ли, в одинаковых синих тужурках, рои такие движутся пешком или на велосипедах.
Такими впечатлениями поделился советский путешественник 1979 года. Русский с китайцем никогда особенно не дружили, несмотря на знаменитую песню начала пятидесятых годов и салат «Дружба» в московском ресторане «Пекин». Коммунизм в Китай пришел через Россию, но русские почему-то всегда считали, что китайцы к нему больше приспособлены, просто как бы рождены для тоталитарного общества. С этими стереотипами нам нелегко было расстаться. Я и сам был им подвержен, особенно после кошмарной так называемой культурной революции, организованной китайской гэбэ, когда на Западе стали называть Китай не иначе как «адом синих муравьев». В 1979 году, однако, выслушав рассказ именитого коллеги, я все-таки ему возразил. Странно, сказал я, ведь есть же и другие китайцы, которые и поесть хорошо любят, гордятся своей самой изысканной в мире кухней и одеваются по-разному, и в машинах собственных ездят, и начальство далеко не всегда так уж безоговорочно слушаются. Где же это, удивился писатель. Да вот по соседству, сказал я, ну вот, скажем, в Гонконге, Сингапуре, на Тайване, не говоря уже о Сан-Франциско. Хм, любопытно, сказал писатель, и далее благоразумно промолчал.
Вспомнились также студенческие годы, когда вместе с нами училось много парней и девушек из Китая. Они-то как раз все, как на подбор, подходили под стереотип. Все они носили значки с портретами кругломордого вождя, постоянно и бессмысленно улыбались, никогда не ходили ни на танцы, ни на стадион и были немыслимыми, совершенно катастрофическими зубрилами. Один такой у нас был, скажем, Панг: никогда головы от учебников не поднимал, всюду занимался науками, даже в трамвае. Однажды мне случилось ехать с ним в одном вагоне вдоль речки Карповки на Петроградской стороне. Панг все читал учебники, а когда подошла кондукторша, попросил у нее два билета. Да почему же два, удивилась девица, вы же один. Вчера забыл взять билет, объяснил Панг, зачитался основами марксизма-ленинизма. Девушка рассмеялась — да вчера небось кондукторша другая была. Кондукторша может быть другой, но карман тот же — карман социалистического государства, нравоучительно сказал Панг. Девушка содрогнулась.
Постоянные улыбки и хохот этих, видимо, тщательным образом отобранных студентов должны были, очевидно, демонстрировать нерушимый оптимизм коммунистической партии. Что же касается юмора, то за все годы обучения с китайской стороны он проявился только один раз, когда студент, скажем, Джоу вдруг расхохотался при словах лектора «Советское государство — это государство нового типа». Дело в том, что слово «типа» оказалось китайским эквивалентом русского популярного слова из трех букв.
Все, в общем-то, шло в полном соответствии с установившимися противокитайскими стереотипами. В шестидесятые годы разыгралась немыслимая по свирепости так называемая «культурная революция». Ей предшествовали и за ней следовали какие-то вопиюще абсурдные массовые кампании «великих скачков», «двенадцати принципов», борьба с воробьями, ограничения рождаемости. В Советском Союзе тем временем понемногу вызревал либерализм. Анатолий Аграновский, помнится, пел под гитару: «Китайские фанатики, загадочный Восток, порезали канатики, заклеили „проток“». Все хохотали. Вот, мол, до чего дошли!
Правосознание и правозащитное движение в России, конечно, невероятно опережали китайские дела. Опережали, впрочем, неточное слово. Там просто и не было никакого правозащитного движения. В соответствии со стереотипами мы думали, что в Китае и невозможно никакое диссидентство. Как писатель-то тот сказал — им главное начальству подчиняться. И вдруг после Мао что-то там стало очень быстро сдвигаться. В партии даже, в этом мао-цзэдуновском монолите, появились неортодоксальные голоса, ожила интеллигенция, выдвинув вперед китайского Сахарова — астрофизика Фанг Лижи. Китай стал открываться на Запад, в быстрые сроки была решена продовольственная проблема, китайская молодежь тысячами отправилась в университеты Америки и Западной Европы.
За годы жизни в Америке я, надо сказать, полностью избавился от этого «китайского стереотипа». Китайцев здесь миллионы, они очень активны, чистоплотны, трудолюбивы и элегантны. Они полностью доминируют в гастрономии и ресторанном деле — американцы иногда шутят, что именно китайцы разбудили их вкусовые железы, — однако преуспели и в других делах: в коммерции, в музыке, в архитектуре. Среди них есть собственные американские китайцы — Сан-Франциско уже стал более чем наполовину китайским городом — есть приезжие из Тайваня, Гонконга и Сингапура, есть и беженцы из Китайской Народной Республики. Вот этому Америка действительно учит благодаря своей многоэтничности — этнические стереотипы здесь не стоят ни копейки.
И все-таки, когда начались студенческие демонстрации, которые ежедневно и подробно показывались на нашем телевидении, я был поражен. Боже мой, эта толпа была больше похожа на кампус нашего университета, чем на обитателей и, потребителей марксизма. Раскованные и веселые — да, это было не что иное, как движение нового удивительного поколения. Две недели мир был в состоянии полного умиления, следя за событиями на площади Тяньаньмынь. Бушевало флагами и улыбками многотысячное, а в какой-то момент и миллионное народное движение. Единственное, чем щетинились эти толпы, были бесконечные рогульки из двух пальцев, так славно пущенные в ход сэром Уинстоном Черчиллем в период борьбы с гитлеризмом. «V — фор виктори», знак победы. Странным образом одновременно повсюду распевался Интернационал, гимн свирепых революций, и звучали громовые призывы к демократии, воздвигалась женская фигура, весьма напоминающая американскую статую Свободы.
Члены Политбюро посещали держащих голодовку студентов и с трогательной дрожью в голосе говорили, что они понимают их заботы и чаяния, их патриотические устремления. Войска вошли в город, но не только не прибегли к насилию, но даже как бы вовлеклись в этот ошеломляющий карнавал, начались сцены братания. Не без горечи мы вспоминали избиение в Тбилиси. Посмотрите, что происходит в Китае, и вспомните Тбилиси — где больше любят свободу, где отвергают насилие? События развивались по совершенно уникальной, опровергающей все стереотипы формуле: студенты — народ, народ — армия. Скептики говорили: подождите, неизвестно еще, чем все это кончится. Армия в таких ситуациях обычно становится предателем народа. Трудно себе представить, чтобы китайские коммунисты поступились хотя бы долей своей власти. Увидите — в конечном счете подавят или в лучшем случае обманут и задушат. Эти прогнозы трудно было просто отбросить, помня о стереотипных методах решения подобных проблем в коммунистических государствах. И все-таки, возражал в нас еле тлевший еще недавно, а за последние годы вдруг опять затрещавший огонек идеализма, и все-таки хотя бы вот эти восхитительные моменты чистого вдохновения, порыва огромных человеческих масс, полное отсутствие насилия и полное нежелание выполнять приказы тупоголовых правителей, — разве не говорит это о том, что в Китае происходит нечто невероятное, то, что предсказывал Лев Толстой, когда возникнет вдруг череда вдохновенного неповиновения, и все вспыхнет вокруг с той же легкостью, с какой вспыхивает стог сена; и не найдется ни одного карателя, и произойдет то, что представлялось всегда лишь идеалом художественной фантазии, — духовная революция: вот она теперь развивается перед нами, торжество идеализма, опровергающее стереотипы насилия и угнетения. Этот идеализм, увы, просуществовал недолго. Мы все опять попались на удочку собственной наивности. Тридцать восьмая армия стояла только потому, что ей не дали приказа двигаться, поскольку миниатюрный диктатор все еще колебался, все еще думал: кем войти в историю — великим реформатором или «пекинским живодером»? Колебания этого крошечного тельца передались тысячам здоровенных солдат. Тридцать восьмую армию отвели и вместо нее ввели двадцать седьмую, которой немедленно был отдан приказ двигаться и уничтожать, что они в лучшем виде и сделали, уничтожив неизвестно сколько сотен, а может быть, и тысяч лучшей китайской молодежи, мальчиков и девочек, и вписав еще одну кровавую страницу в книгу недавних исторических злодеяний распадающейся доктрины: Будапешт, Тибет, Новочеркасск, Прага, Гданьск, Афганистан, Тбилиси, теперь — Пекин.
Сразу же вступило в действие второе острейшее оружие — ложь. Согласно сообщениям агентства Синьхуа на площади Тяньаньмынь не погибло ни одного человека, согласно же сообщениям китайского телевидения не армия напала на мирную демонстрацию, а наоборот — контрреволюционные хулиганы напали на миловидную народную армию и убили триста солдат.
Теперь палач молодежи Ли Панг поздравляет офицеров и солдат с прекрасным выполнением их воинского долга. Вожакам студентов, укрывшимся на кампусе Пекинского университета, предлагается немедленно прийти с повинной, они будут взяты в любом случае. Иными словами, готовится еще один героический штурм, на этот раз университетского городка. Словом, духовная революция, о необходимости которой никогда не говорили большевики, едва лишь возникнув, была немедленно уничтожена пущенными снова в ход мрачнейшими стереотипами этого общества, именно теми стереотипами, от которых и само это общество идет вразнос.
«Нового мышления» в китайском Политбюро не оказалось и на копейку. И все-таки оно было, это поднявшееся вдруг из застывших глубин неслыханное движение. Ден Сяопин, Ли Панг и двадцать седьмая армия внесли основательный вклад в звериную историю человечества, студенты — в поэтическую. Эти две недели не пройдут бесследно и, как говорят тут у нас все время на телевидении, Китай никогда уже не будет таким, как прежде. Если стереотипы временно победили, один из них все-таки был окончательно разрушен — стереотип о безоговорочном послушании китайского народа своим правителям. После избиения молодежи на площади Тяньаньмынь один местный русский профессор все-таки не удержался и произнес стереотипную фразу: «Ну что вы хотите от китайцев, они никогда не понимали ценности человеческой жизни». Уж кому-кому, но нам, русским, и даже самым лучшим из нас, после столь многочисленных примеров недавней истории следовало бы воздержаться от предъявления кому бы то ни было подобных обвинений или сухих констатаций. Тем более сейчас, после двухнедельной китайской весны, подавленной с такой жестокостью. Аппаратчикам КПК, охраняющим их главное сокровище — неограниченную власть, — действительно недороги человеческие жизни. Китайцы же, как и все современные люди, ценят жизнь и любят свободу.
ПАМЯТИ РАИ ОРЛОВОЙ
Три года назад, в июне 86-го, мы встретились в Кельне — Рая, Лев, Жора Владимов, Наташа, я — и поехали поклониться могиле нашего общего друга Генриха Бёлля. От этой встречи у меня осталась пара очень невзрачных черно-белых снимков. Деревенское кладбище. Могилка Генриха без памятника, с маленьким крестом, возле которого какой-то музыкант оставил свою трубу. Мы стоим в головах могилы, за крестом. Среди всеобщей грусти как-то выделяется Раина глубокая и мрачная задумчивость, в общем-то ей не свойственная. Сейчас, после ее кончины, она вспоминается всегда очень оживленной, быстрой, со смеющимися глазами, вечной энтузиасткой, эдакой, как ни странно, девушкой предвоенной поры, вот именно — неувядаемой ифлийкой.
Я познакомился с ней и со Львом в самом начале шестидесятых в литфондовском Доме творчества Переделкино. Я жил тогда в одном из коттеджей, и вот среди ночи прибежали за мной из основного корпуса. Кто-то вспомнил о моем медицинском образовании. Скорей, скорей, жене Копелева плохо. Ничего особенно плохого с Раей тогда не происходило, что дало мне возможность не опозориться как врачу. Я увидел молодую привлекательную женщину и ее совсем еще не старого забавного мужа, который называл ее «дочь». Вскоре мы уже шутили, как это было принято и, несмотря на все посадки, сохранено в их поколении, а также по прямому, от старших братьев, наследству и в нашем. С тех пор мы стали добрыми знакомыми, а вскоре и хорошими друзьями.
Германист Лев и американистка Рая поражали познаниями и подкупали всепоглощающей любовью к нашей истерзанной крошке, русской литературе. Смотреть на них, гуляющих по аллеям того же Переделкина, было одно удовольствие. Редко они гуляли одни, всегда сопутствовал какой-нибудь интересный творец или несколько симпатичных иноземцев. Их дом был среди первых адресов в Москве, по которым шли приезжающие западные литераторы. От Раи и Льва расходились новые книги и новые идеи. Именно за это на них постоянно точили зубы соответствующие товарищи из соответствующих организаций. Именно в их доме я познакомился с Бёллем, там же впервые услышал, что в далеком Мичигане молодая чета профессоров русской литературы основала издательство «Ардис», начав тем самым уникальный «ардисовский» период нашей словесности; там же они и появились сами, мичиганцы Карл, Эллендея, трое их маленьких сыновей, две сестры, брат и бабушка.
Когда моя мать Евгения Гинзбург после невеселой жизни во Львове (первом ее вольном городе после магаданской ссылки) перебралась в Москву и поселилась в писательском кооперативе у метро «Аэропорт», Рая и Лев стали ее ближайшими друзьями. Не проходило и дня, чтобы не забегала Рая и не вплывал величественно Лев. Вот странность — она всегда вбегала, он всегда вплывал, но они всегда были вместе. Мама в духе старой интеллигенции очень любила отдыхать на волжских пароходах. Рая и Лев нередко отправлялись вместе с ней. Брались соседние каюты, уйма книг, которых все-таки не хватало до конца путешествия, транзисторные приемники, чтобы за милую душу «бибисовать», как они шутили, на волжских просторах. Главное же наслаждение состояло в беседах, в остротах, в долгих рассказах, в спорах, в общей грусти. Читали друг другу только что написанное. У Раи было неиссякаемое любопытство ко всему написанному. Мама и Копелевы нередко жарко спорили на политические и философские темы.
Они все-таки, особенно в шестидесятые годы, были «левыми». В принципе, они представляли в Москве типичную западноевропейскую либеральную левую, несущую как бы еще от довоенных времен свойственный тогдашней западной интеллигенции коммунистический идеализм. Этот идеализм из них старательно год за годом вышибали соответствующие органы. Причем вышибали буквально — кирпичами. Когда в середине семидесятых после очередного фельетона в «Советской России» Льва и Раю исключили из Союза писателей, дня не проходило, чтобы в их квартиру на первом этаже не влетал кирпич с привязанной запиской «Убирайтесь в Израиль!».
Однажды, узнав об одном очередном веском аргументе, разбившем их стекло, я спустился выразить им свое сочувствие (мы жили тогда в одном подъезде) и застал великолепную сцену: супруги стояли в комнате под разбитым окном и хохотали, вырывая друг у друга только что поступивший по вольным путям альманах «Рашен литерачюр трикуотерли».
Мы прошли вместе большой кусок жизни, делили и веселые минуты, которых, несмотря ни на что, было немало, и дни тяжкой тоски — в дни умирания моей матери я ощущал Раю как близкую родственницу — и моменты опасности, особенно в период антиметропольской свистопляски. На Западе мы встречались не так уж редко — и в Америке, и в Париже, в Германии, последний раз в Копенгагене. Западная интеллигенция встретила Раю и Льва очень тепло, меньше всего они могли пожаловаться на заброшенность, напротив — они всегда были в фокусе; по сути дела, они просто были западногерманскими знаменитостями, но для Раи всегда все основное оставалось там, откуда их нагло вышибли, вся главная жизнь шла там, на жестокой родине. Всякая встреча с ней будоражила память о том, что казалось навсегда уже утраченным, о мире российской интеллигенции советских десятилетий. Она писала так же талантливо, как и жила, во всех своих книгах выражая свою суть, чувство артистичности и огромную толерантность. Нередко теперь я буду открывать книгу ее мемуаров, чтобы вспомнить этого чистого, веселого, не замороченного исконным советским страхом человека — истинного писателя, знатока литературы и идеалиста во все времена.
КАПИТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (Выступление в Спасо-хаус, ноябрь 1989)
«В „Корова-молоко-бар“ сидел одди-нокки мэн…»
(Из Энтони Берджеса)Еще до приезда в Америку я знал, что там много писателей, но не знал, что их так много. Я, например, состою членом авторской лиги, в которую входит 60 тысяч авторов, то есть шесть ССП. Есть еще и другие авторские лиги. Когда бастуют сценаристы Голливуда и мы видим их по телевидению, кажется, что это заводы Форда на стачке — такие идут потоки сценаристов, возмущенных низкими гонорарами. В 81-м году мы приехали в Вашингтон, еще не зная, что там осядем, и сняли квартиру в многоквартирном доме на юго-западе, который очень напоминает юго-запад Москвы, такой же безликий, я бы сказал. Проходя по коридору, я всякий раз слышал стук пишущей машинки. Я думал: вот, наверно, коллега какой-то там сидит. Однажды мы встретились в лифте с этим человеком, сравнительно молодым. Он спросил: «Вы только что приехали? Чем зарабатываете на хлеб насущный? Кто вы такой?» Я говорю: я писатель. Он говорит — я тоже писатель. Ну вот, очень приятно. Здравствуйте, давайте будем общаться. И так иногда мы встречались в лифте или коридоре, раскланивались. Он — писатель, я — писатель. Иногда я ему в лифте показывал литературные публикации. Вот видели ли в «Нью-Йорк таймс бук ревью» недавнюю статью Вильяма Гасса, или там стихотворение Апдайка, или что-то еще. Он смотрел на это равнодушно, потом даже как-то сказал, что это вообще не по его части. Но вы же писатель, говорю. Да, но я пишу совсем другие вещи, вынул из портфеля и показал мне рекламы пылесосов, микроволновых печей, посудомоечных машин и тому подобного оборудования. В принципе, он действительно писатель, сочинитель, ищет торговые метафоры, расставляет слова в правильном порядке, старается захватить внимание читателя. Если учесть количество таких писателей, то мы можем представить, что в этой двухсотмиллионной стране один или, скажем, полпроцента населения являются писателями, то есть писателей может быть миллион.
Появление на этой арене двухсот русских писателей никаким образом не меняет картины. Оказавшись в Америке, русский писатель кардинально меняет среду. В СССР мы привыкли жить в сугубо литературном окружении. Мои друзья-писатели, присутствующие здесь, знают, что мы живем все вместе в одних кооперативных домах, ездим в одни Дома творчества, шьем меховые шапки, как описал Владимир Войнович, в одном ателье… Для нас Союз писателей был чем-то вроде то ли сиротского дома, то ли кенгуровой сумки. Народ привыкал к бильярдной, к ресторации, к Дому литераторов, к ежедневным общениям между собой, к банкетам по поводу книг, к распеканию на бюро и т. п. Это был сугубо свой, замкнутый мир, и недаром тов. Сталин всегда призывал писателей крепить связи с трудящимися массами и отправляться поближе к производству. Он был в какой-то степени прав.
В Америке русский писатель сразу почти автоматически становится членом другой среды, среды русистов-славистов, вообще — членом американской академической общины. В изгнании мы должны благодарить небеса за то, что эта среда существует как таковая, особенно на первых порах, иначе мы оказались бы в полном отчуждении. Во-первых, эта среда дает нам на первых порах заработок. Во-вторых, общение. Очень важно общение с интеллигентными и приятными людьми, добрая часть которых говорит по-русски, таким образом соединяя нас с огромной иноязычной страной. В-третьих — что я ценю очень высоко, — это общение с молодой Америкой в атмосфере университетского кампуса.
Я никогда раньше не думал, что буду преподавать. В России даже и до революции не было этой традиции — писатель при университете. Сейчас ее тоже нет. В Америке писатель в огромном большинстве случаев член университетской среды. Я всегда, когда прихожу на кампус, как бы получаю электрический заряд от этих молодых лиц, от их бодрости и оптимизма. Весьма приятная, совершенно не ехидная публика. Студенты прощают тебе твой акцент, и ты волей-неволей начинаешь напоминать набоковского Пнина. Постоянно читаешь «не те» лекции, но даже и это воспринимается неплохо, ибо ты сам по себе являешься не только преподавателем, но и учебным пособием. В-четвертых, я бы сказал, что работа в университете для русского писателя является своеобразным преодолением собственного невежества, которое от многолетнего общения в сугубо писательской среде стало принимать несколько воинствующий характер.
Мы знаем, что русская литература даже в ее западнических вариантах является как бы «нутряным» делом. Мы в 60-е годы даже кичились малообразованностью. Этого, мол, чукча не читал: он писатель, а не читатель. Такая тенденция имелась. Здесь поневоле тебе приходится читать для того, чтобы не заикаться перед своей аудиторией. Пятое достоинство этой среды — это то, что ты постоянно преодолеваешь языковой барьер, все больше и больше улучшаешь по мере работы свой английский. И в-шестых, наконец, путешествия с лекциями. Я в первые годы постоянно путешествовал с лекциями о русской литературе, о ситуации, о моей собственной жизни по многочисленным кампусам Америки. Я объездил почти все широты Америки, бывал в огромных городах, как Чикаго или Сан-Франциско, и в крошечных, как американцы говорят in the middle of nowhere, захолустных местечках, где существуют маленькие кампусы. И все это колоссально расширило мое понимание этой страны.
Останавливаясь то в многоэтажных отелях, то в простецких мотелях, находясь на бензозаправках, в аэропортах, в скоростных закусочных, постоянно общаясь с людьми, ты становишься этаким американским озабоченным командировочным с портфельчиком, ходишь среди сотен и тысяч подобных тебе.
Второй средой, в которую русский писатель может при желании попасть и стать своим человеком, это среда международной журналистики. Существует своего рода братство бывших московских «корров». Сейчас, конечно, не та ситуация, но в годы так называемого застоя или в еще более крутые годы американскому или любому другому западному журналисту здесь приходилось туго. Это была работа своего рода «городского партизана», приходилось метаться по городу в поисках новостей, ибо главная забота американского или любого другого западного журналиста — это не пропаганда и агитация и даже не организация масс, а именно поиск новостей. Газетчик ищет любые новости, которые годятся в печать, и поэтому ему приходилось крутиться. Частенько он находил свои шины проколотыми какими-то странными хулиганами. Работа в Москве остается в памяти на всю жизнь, существует своего рода братство этих людей. Кроме того, они знают, кто ты, ты для них — фигура известная, в отличие от 99 % твоих новых сограждан. Это хотя бы на момент устраняет то, что именуется «identity crisis», кризис вашего реноме. Они знают тебя; кроме того, ты для них любопытный объект, ты для них — это story, а самое важное — ты для них друг, и это самое удивительное.
Остатки русской литературной среды, то есть эмигрантская литературная среда, являют собой любопытное зрелище. Из довольно тесного пространства буфетной залы ЦДЛ эта среда расширяется на несколько материков и становится какими-то крапинками на поверхности планеты. Наиболее густое средоточие русскоязычных писателей существует в Израиле. Там есть Союз русских писателей, кажется, 150 человек. Подобного нигде больше нет. В Германии рассыпано определенное число писателей. Скажем, в Берлине все эти годы живет Фридрих Горенштейн, в Мюнхене — Войнович, Зиновьев, во Франкфурте — Владимов, в Кельне — Копелев, там жила и недавно скончавшаяся Рая Орлова. Париж, который был, как известно, в 20-30-е годы русской литературной столицей, в современных условиях русской литературной столицей не стал; но все-таки в нем есть какие-то элементы русской литературной жизни, несколько журналов и даже две враждующие группы. Последнее явление представляется мне положительным, ибо русская литература без вражды засыхает. У нас в Америке писатели рассеялись. Разобщенность, я бы сказал, все усиливается по мере испарения первоначальной эйфории. Когда мы приехали в 1980-м, эта эйфория была в расцвете, возникали новые журналы, например журнал «Новый американец», почти уже мумифицированная газета «Новое русское слово» (старейшая русская газета мира, между прочим) вдруг невероятно расцвела, стала выгодным предприятием. Повсюду раздавались жизнерадостные призывы: давайте объединяться, кучковаться, Союз писателей организуем и все такое. Сейчас все это испаряется, каждый варится в собственном соку, эйфория уходит, печатные полемики теряют накал.
В этой среде оказалось много подспудных недобрых чувств. Для меня было большим сюрпризом узнать, как много я сам вызываю недобрых чувств — не просто недобрых, а каких-то неадекватно острых недобрых чувств в этой среде. Сейчас, однако, даже эти недобрые чувства улавливаются с огромным опозданием. Где-то выходит статья о тебе, какая-то гадость, а ты о ней узнаешь только через полгода, а раз напечатана полгода назад, то стоит ли этому придавать значение. Кто-то плюнет кому-то в лицо, а плевок плывет несколько месяцев, как свет далекой звезды, и пока достигнет щеки, то и ярость-то у плевавшего уже испаряется, может, в нем и злости уже никакой нет, и уже жалеет, что послал.
Тем не менее эта литературная жизнь все-таки существует. Мы встречаемся чаще всего на конференциях славистов. Славистика в Америке — колоссальное поле. Насчет глубины не вполне уверен, но по ширине это огромное поле, и съезды славистов бывают похожи на нечто вроде кинофестивалей, и тогда происходят многочисленные братания и встречи. Происходят и случайные встречи писателей. Вот сейчас Войнович приехал на год в Вашингтон работать, писать роман в Кеннэнском институте. И началась литературная жизнь Войнович — Аксенов, мы ходим друг к другу в гости, литературная жизнь Вашингтона.
Колоссальную роль играет междугородний и интернациональный телефон. Это один из основных видов расходов для русских литераторов, тратятся огромные деньги на выяснения отношений или на сплетни, без которых жить, конечно, нельзя. Все мы любим эти сплетни. Покойный Виктор Платонович Некрасов любил попеть по телефону. Рассказывают такую историю: откуда-то из Швейцарии из гостей он позвонил Юлию Киму и сказал: «Ты знаешь, я уже так давно не слышал твоих песен, спой их мне». Тот в Москве взял гитару и начал петь одну за другой; Вика наслаждался, а хозяева в это время падали в обмороки.
Что касается американской литературной среды, то для большинства русских писателей происходит лишь соприкосновение с этой средой, но не вхождение в нее. Иногда русский писатель даже задается вопросом, а существует ли она вообще? Американский писатель нередко не может ответить на этот вопрос. В русском понимании этой среды вообще нет как таковой, и даже во французском, парижском смысле ее нет. В Париже все знают, что есть такое кафе на Сен-Жермен — «Де Маго». Там сидят писатели, перемывают друг другу кости.
В Нью-Йорке есть старый отель «Алгонкин», где останавливаются приезжающие писатели, но это все-таки не то место, где к одиннадцати часам вечера берут друг друга за грудки, чтобы выяснить, кто на самом деле первый поэт Америки. Те американские писатели, которых мы знали по их приездам в Москву, относятся по большей части к корпусу знаменитостей. Это люди симпатичные, но усталые, иногда даже вялые. Возможно, это своего рода спасительная вялость, которую знаменитость у себя вырабатывает. Эти люди привыкли к обхаживанию, им надо навязываться, с ними нельзя завязать контакт на равноправной основе. Известный писатель в своей стране увиливает от новых контактов, что понятно и вполне объяснимо, а ты здесь новичок, то есть как бы под старость лет снова становишься молодым писателем, и поэтому должен навязываться. Таких побуждений у русского писателя после того, что он пережил дома, не возникает. Вообще, находить новых друзей в нашем возрасте весьма затруднительно, в литературной жизни — тем более. И встречи со знаменитыми писателями, которых я знал еще до приезда в Америку, у меня в Основном происходили на основе полной случайности: просто случайно пересекались дорожки, в основном на конференциях.
Например, в Токио на конгрессе Пен-клуба мы встретились со Стайроном и Воннегутом и несколько вечеров ходили вместе по ресторанчикам. Кончилась конференция, и мы не встречались несколько лет. Потом был конгресс Пен-клуба в Нью-Йорке — довольно бурное, кстати сказать, мероприятие, и там было много встреч с разными писателями. Короче говоря, личных отношений у меня не возникло почти ни с кем из американских писателей, за исключением Уилли Уорнера, с которым мы дружим. Добрых приятелей, впрочем, немало.
Текущая литературная жизнь в Америке связана с рестораном, с культурой «ланча». Когда приезжаешь по издательским делам в Нью-Йорк, неизменно отправляешься «на ланч» с издателем или агентом. Все основные издательства сосредоточены в районе 50-х улиц Манхеттена. Существует шутка, впрочем довольно устаревшая, что, если в районе 50-х улиц сбросить даже не атомную, а обычную бомбу, с американской литературой будет сразу покончено. Все издательства и редакторы ходят приблизительно в одни и те же рестораны на ланч. Все основные дела решаются на ланче. Как-то я перевел известную поговорку. Звучит так: «Пойдешь на ланч, там денежку поклянчь».
Изложенные выше обстоятельства неизбежно поднимут вопрос об одиночестве — насколько оно мучительно, в смысле насколько оно ощущается чужаком, писателем в изгнании. Я бы сказал, что тому, кто работает в университете да еще на радио, пишет романы, статьи для журналов, читает периодику и даже иногда книги, периодически обзванивает знакомых, отвечает на звонки, нередко путешествует, дает интервью, выступает с лекциями, одиночество кажется недоступной роскошью. Тот же, кто пестует свое одиночество, необходимое или якобы необходимое для творчества, получает его сполна. В такой стране, как Америка, надо создавать себе свое одиночество и охранять его. В каком-то смысле этот тип одиночества просто соотносится с элементарным понятием свободного времени. Другой тип одиночества, метафизический, разумеется, не зависит от эмиграции, от занятости, от семейных связей и от развлечений. Это уже более серьезная тема, и она возникает сама по себе. То, что на первых порах воспринимается эмигрантом, чужаком как одиночество, на самом деле имеет большее отношение все к тому же Identity crisis. Грубо это можно перевести как кризис жизненного статута. Об этом я хочу написать мой следующий роман. Он называется «Get up, Stan»— «Вставай, Стан!». Его герой — эмигрант, режиссер, театральный режиссер, ну, масштаба Тарковского в кино или Любимова в театре. Он оказывается в Америке, где его никто не знает. И он не хочет навязываться, не хочет говорить о себе, а это, надо сказать, в Америке совершенно нормальное, обычное дело — прийти и рассказать о себе, кто ты таков, вынуть из кармана так называемое «си-ви», где можешь наврать с три короба, сколько у тебя университетских дипломов в Советском Союзе было и сколько ты получил Государственных премий. Никто не проверит. В Москве мой герой был знаменитостью. Ему казалось, что его знает весь мир. К нему на спектакли ходили все: итальянцы, французы, американцы… И все кричали: «Вы — гений! гений! гений!» И вот произошла эмиграция, произошел развал семьи, он оказался один, никому, очевидно, не нужен и никому не хочет навязываться — очень гордый, ну и, конечно, алкоголик. Вместо того чтобы пытаться пробиться в театр, он становится работником паркинга, то есть расставляет автомобили где-то в маленьком городишке недалеко от калифорнийского берега. Вокруг него живут в основном бичи, и он становится сам полубичом. Он зарабатывает себе на жизнь, и когда выпивает в баре со своей компанией — а это тоже бродяги со всего света, среди них мексиканцы, персы, поляки и разные другие люди, — он им начинает рассказывать про систему Станиславского. Поэтому его зовут Стан. Утром, скажем, кто-нибудь приходит и говорит: «Давай, Стан, вставай, чего лежишь, простудишься!» Потом его опознает какая-то группа голливудских киношников, которая заправляет там машины. И вдруг, Боже мой, увидели великого режиссера работником этого паркинга! И начинает раскручиваться совершенно иная история — история его американского успеха, которая кончается не очень вообще-то замечательно. Ну, так или иначе, такая история. Таков синопсис романа, посвященного вот именно этому явлению — Identity crisis.
В принципе, лучшее, на что может рассчитывать русский писатель в Америке, это признание профессиональной среды. Популярности в русском смысле слова у писателя в США даже теоретически быть не может. Там нельзя стать знаменитым, как Вознесенский, скажем, или Ахмадулина, которых знает любой милиционер в Москве. Я помню момент — меня остановил милиционер на метромосту за превышение скорости. Взял мои права, посмотрел и говорит мне: «Что же это получается, Василий Павлович? Мы ждем от вас новых книг, а вы рискуете своей жизнью». Такого не скажут в Америке даже Стивену Кингу, понимаете, не говоря уже про Сола Беллоу. Там писатель, хоть и знаменитый, все-таки не кинозвезда, на улице его не узнают, он всегда все-таки в стороне от парада звезд.
Главной заботой русского писателя в Америке, конечно, становится язык. Нельзя сказать, что русского нет совсем. В немыслимой каше языков в Америке, среди которых первым после английского, конечно, является испанский, русский тоже занимает свое место. Но это язык групповой, нечто вроде закрытого жаргона, эмигранты привыкли говорить на улице громко по-русски, комментировать окружающих, зная, что их никто не поймет, и нередко попадают в неловкое положение, особенно во время поездок в Союз. Мы живем в двух средах, в двух языковых средах. Подобно амфибии, мы пользуемся жабрами в дополнение к легким. Вот я сижу, сочиняю свой русский роман, я весь ухожу в язык, но в ходе работы несколько раз звонит телефон — водопроводчик спрашивает, когда прийти, звонят из университета, от литагента, и я поневоле ныряю в другую среду, включая свои жабры. Мы привыкли переключаться. Я выхожу в другую «воздушную» среду и начинаю говорить по-русски. Мы садимся с Майей в машину, закрываем двери, и это наша русская среда. Тут работают легкие. Подъезжаем к бензоколонке, открываем дверь, и тут уже включаются жабры, так как это другая среда. Или — вот завал газет: здесь у тебя русские, здесь американские, постоянное перескакивание. В эмигрантской среде английский вытесняет русский, часто слышишь прямые переводы английских идиом, порой звучащие почти по-идиотски. Скажем, недавно человек, сидевший у нас за ужином, сказал: «Извините, я выбежал из сигарет», то есть у него кончились сигареты. Сначала я подумал, что он бравирует: дескать, он уже больше англичанин, чем русский, а оказалось, просто так слетело с языка. Эмигранты из разных стран, в свою очередь, активно уродуют английский. Русские тоже вносят свою лепту в дальнейшее обезображивание языка Шекспира. Писателю этот процесс может дать толчок к языковому эксперименту, к какой-то игре между двумя языками. Можно идти и другим путем: скажем, выделить русский в некую неприкосновенную, священную зону. Стараться никогда не говорить, например, «я вышел на двадцать седьмом „экзите“». Но этому очень трудно сопротивляться. Волей-неволей язык эмигрантов невероятно засорен англицизмами, и это неизбежно.
Пробовать ли свои силы в английском письме? Это серьезный вопрос. Особенно если у тебя в детстве не было англичанки-гувернантки. Ты прибываешь в страну со своим типично русским оскольчатым английским, собранным в основном из джазовых песенок. В принципе, у тебя никогда не может быть настоящего английского, однако язык неизбежно улучшается по мере жизни в США. У тебя просто нет выбора, особенно если ты преподаешь в университете. Насколько я знаю, даже Наум Коржавин стал говорить по-английски. В то же время остаются полностью закрытые зоны. Я, например, до сих пор не могу понять мелодики английского стиха, не улавливаю его внутренней рифмы, мне трудно отличить хороший стих от плохого. Сразу же по прибытии я решил, что когда-нибудь произведу какой-то эксперимент между двумя языками. Я еще не знал, какого рода эксперимент. Сначала я решил опереться на эмигрантский американизированный русский. На второй год жизни в США я написал роман «Бумажный пейзаж», последняя глава там целиком построена как русская версия «Заводного апельсина». Однажды совершенно случайно по экспериментальной тропе я выехал к своему англоязычному роману, который вот сейчас кончаю, он называется «Yolk of the Egg», или «Желток яйца». Как это произошло: у меня и в мыслях не было становиться вторым Набоковым или там 93-м Ежи Козинским. Мне просто надо было улучшать свой английский, и я начал иногда в блокноте делать заметки по-английски, какие-то записывать эпизоды, какие-то пейзажи, выражения, словечки, наблюдения. Потом вдруг я обнаружил, что сквозь эти хаотические записи какая-то история начинает просвечивать. Кажется, можно написать роман на эту тему, решил я, и начал писать роман. Естественно, я перехожу к своему привычному Великому-Могучему-Прадивому-Свободному-имени-Тургенева-ордена-Ленина-русскому-языку, но вдруг замечаю, что дело идет туго, что герои не очень-то подчиняются авторскому акту, и все больше и больше понимаю, что они не хотят входить в эту как бы неадекватную для них структуру. Они предпочитают оставаться в английском. И тогда я начал записывать по-английски все более продолжительные эпизоды, которые в результате стали выстраиваться в главы, и вдруг расписался, что называется.
Вдохновению одному доверять было сложно, я обложился словарями, работал на компьютере, в который был заложен запас эпитетов. Компьютер бибикал каждый раз, когда я делал грамматическую ошибку. В результате я посвятил эту вещь в первую очередь русско-английскому и англо-русскому словарям, затем — IBM, персональному компьютеру, и уже в третью очередь — всем моим котам, включая мою собаку. Когда я показал предварительный вариант издателю, он даже и не увидел ничего особенного в этом: ну, написал роман по-английски, вот и все, что там особенного такого, не ты первый, не ты последний. Вот как мы его продадим — это другое дело. Я несколько раз читал отрывки в своем англоязычном университете, в писательском обществе, в Библиотеке Конгресса на большом вечере, и народ тоже воспринимал его как бы естественно, смеялись там, где надо. Так что я все-таки произвел этот эксперимент. Я не собираюсь, разумеется, переходить на английский, но время от времени почему бы не пошалить. Сейчас я даже начал переводить главы романа на русский и передаю их по «Голосу Америки» в своих еженедельных восьмиминутках.
В эмиграции появляется колоссально обостренное внимание к языку. Ты не просто проговариваешь какую-то фразу, не просто прочитываешь предложение, у тебя появляется ощущение исключительной осязаемости слов, ты становишься фанатиком слов. Для тебя слова теперь гораздо важнее, чем были ранее, когда ты употреблял бездну русских слов всуе. В эмиграции употребление русских слов в письме становится каким-то актом нравственного вызова.
Вторая пугающая реальность эмиграции — это уход привычного материала. О чем я буду писать, если нет вокруг московского троллейбуса или очередей в винные магазины, моих любимых бичей? Я, например, страдал первое время от отсутствия бичей, которых я знал. «Бумажный пейзаж» — это книга о бичах, по сути дела. Я пытался вспомнить любимые лица, сидя в Америке, и вспомнить язык московских улиц. Вскоре, однако, ты понимаешь, что это должно тебя беспокоить в последнюю очередь. Прежде всего ты сам являешься носителем того, что необходимо для литературы: пограничной ситуации. Эмиграция сама по себе дает бесконечное количество тем и характеров. Американская жизнь, в которой постоянно все меняется, неисчерпаема в смысле сюжетов, в смысле литературного материала, особенно для человека со стороны, который видит не только сегмент этой жизни, но все время пытается развернуть панораму.
Русскому писателю в Америке надо постоянно себя одергивать и удерживаться от обобщений, а не от детализации. Тем не менее он неизбежно обобщает. Число типов и их довольно четкая классификация в американском обществе будоражит писателя и тянет его к находке нового типа. Бичей оказалось в Америке множество и это уж не менее красочная публика, чем дома. Например, совсем близко от нас, под мостом через Потомак, день-деньской сидит компания здоровенных ребят, длинноволосых, то есть уже не очень молодых. Играют на гитарах весь день, иногда разводят костер, иногда отряжают кого-нибудь к перекрестку. Посол стоит с бумажным стаканчиком у светофора и просит монетки на пиво, и очень многие бросают ему монетки, хотя он здоровенный парень и мог бы прекрасно работать.
Однажды такой красавец обратился ко мне: «Извините, сэр, могу ли я вам задать очень личный вопрос?» — «Извините, спешу», — сказал я, и он вслед мне отчаянно крикнул: «Всего лишь пятьдесят семь центов». Другой раз я был потрясен совершенно русской сценой, когда ко мне подошел молодой человек, сказал, что он только что выписался из инфекционной больницы, и попросил доллар. Конечно, я ему дал доллар. По вечерам среди гулянья в Джорджтауне ходит нервный господин с желтой канистрой и говорит: «Знаете, ехал в Ричмонд, и бензин вдруг кончился, понимаете, ну что мне делать, дайте пару долларов». Ему все дают пару долларов, он там и сям мелькает с этой канистрой. Что-то слышится родное во всех этих призывах. Общество классифицирует свой состав, писатель ищет новый тип. Мне кажется, что сквозь сетку американской уже разработанной классификации я смог в «Желтке» найти некоторую модификацию определенного американского типа.
В Америке ты все время чувствуешь чередование мажорной и минорной ноты. Тебя вдруг может охватить неожиданное, уже почти ностальгическое ощущение. Однажды в центре Вашингтона я вдруг почувствовал сильный эмоциональный подъем, как будто уловил некую мажорную ноту. Я так и не понял, что произошло, и это меня обрадовало, потому что такое случалось раньше только на родине. Пространство быта, плотное и вроде непроницаемое, на самом деле вдруг обнаруживает какие-то тоннели, откуда дует другой ветер, то гиблый, то феерический, начинается постижение американской ностальгии. Недавно было десятилетие взятия заложников в Тегеране, и на телевидении показали монтаж из кадров того времени: захват, издевательства, беснующаяся толпа и потом возврат этих людей, их возвращение, аэропорт, к ним бегут, и оркестр играет «Yellow Ribbon». Когда оркестр заиграл, я понял, что я уже являюсь частью этого общества.
Теперь мы переходим к еще одной очень важной потере — потере читателя. Постоянно создавая в воображении облик своего читателя, как это делали и я, и Максимов, и Казаков, и Владимов, Войнович, Гладилин и многие присутствующие здесь, тот же Андрей Битов, — русский писатель в Америке может оказаться в замешательстве. Есть ли этот гипотетический тип в новой среде? Я не говорю об эмигрантах, среди них всегда найдется аудитория, напоминающая тебе читателей 60-70-х годов. В эмиграции много замечательно интеллигентных людей. Скажем, в Сан-Франциско я выступал два раза и всякий раз это был а аудитория по 500 человек, как в каком-нибудь большом институте в Москве. Есть еще аудитории славистов, руссистов, дипломатов, работавших в Москве, корреспондентов, словом, людей советской темы, так сказать. Однако есть ли у тебя широкий американский читатель? Тебе кажется, что ты видишь лицо этого гипотетического читателя на улицах, но вскоре ты понимаешь, что пробиться к этому читателю довольно трудно: Россия очень далека от американского сознания. В какой-то степени Китай ближе, чем Россия. Но тем не менее ты постепенно все-таки что-то нащупываешь. Любой писатель, даже самый элитарный (или, по крайней мере, агент этого писателя), стремится к массовому читателю. Искусство принадлежит народу, как мы знаем. Это принцип американского общества, где искусство действительно принадлежит народу в отличие от Советского Союза, где этот лозунг провозглашался, но где искусство принадлежало не народу, а руководящей группе народа. В Америке необходимость продать как можно больше книг создает стремление к массовой литературе, стремление превратить книгу в хорошо продающуюся вещь. Большие деньги в кассу приносит народ, а не высоколобые эстеты. Эта ситуация рождает тревогу среди интеллигенции: не пора ли спохватиться и подумать, что происходит?
Вкусы усредняются, образуется порочный круг: издатели говорят, что они дают народу то, что он хочет, а у народа вырабатывается вкус от того, что ему дают. Законы книжного рынка нам, грешным детям соцреализма, поначалу неведомы.
Недавно я, кстати, столкнулся с этим проявлением нашей общей ментальности. Аня Пугач из «Юности» приехала в Вашингтон, мы там встретились и зашли в книжный магазин. Она потом написала, что у Аксенова в этом книжном магазине стояла на полке книга «Ожог», все остальные были распроданы. Такого быть не может в Америке. Если продаются, они всегда стоят на полке. Распроданности быть не может. Значит, просто не возобновляют заказа. Думают, что не продадут. «Ожог» пользуется большим спросом в этом магазине, поэтому его и заказывают. Впрочем, постепенно маленькие тайны этого рынка становятся понятными, их не так сложно постичь. Ну, например, очень важно, где помещена рецензия на твою книгу, в каком месте. Помнится, звонит мне мой друг, издатель из Нью-Йорка, и в ажиотаже говорит: «Слушай, там сногсшибательная рецензия на тебя появилась в „Паблишере уикли“, я тебе высылаю ее экспрессом, утром получишь». Получаю эту копию, смотрю, ничего особенного, рецензия как рецензия, более или менее положительная; перезваниваю ему, спрашиваю, что особенного он нашел в этой «сногсшибательной» рецензии. Он говорит: «Как же ты не понимаешь, она расположена в левом верхнем углу страницы, и, кроме того, там тебя сравнили с Томом Вульфом». А я, по невежеству, не прочел ни одной книги Тома Вульфа, поэтому и спрашиваю, действительно ли мы похожи. Да дело не в этом, досадует издатель, похоже-не-похоже, вот если бы ты когда-нибудь продал хоть одну четверть того, что продает Том Вульф!
Интересно следить за рецензиями в американской прессе. В принципе, в американской периодике вы редко или почти никогда не встретите зубодробительной отрицательной рецензии. Рецензию заказывают или издатель, или агент; они постараются, чтобы автор статьи относился благоприятно к автору книги. Рецензия будет в худшем случае кисло-сладкая, нормально — это среднехорошая рецензия, в самом блестящем случае это будет блестящая рецензия. Эмигранты иногда вносят разнобой. Я, например, получил на недавний перевод романа «Скажи изюм» необычный для американской литературы спектр рецензий — от восторженных до одной злобной: написал ее наш писатель Зиновий Зинник. Американский приятель удивился: «Что это он на тебя так неадекватно окрысился? А, он из ваших! Тогда понятно».
Важно, как расположена книга в магазине. Когда вышел «Скажи изюм», я вдруг увидел, что книга выставлена в витринах нескольких магазинов. Ага, значит, надеются продать! Увы, роман не очень долго красовался на витрине, он пошел внутрь, но осталось утешение, что он стоит обложкой вперед. Если стоит обложкой вперед, у тебя еще есть какие-то шансы, если же засунули уже корешком — привет, можешь отправляться писать новую книгу. Мечта каждого писателя — попасть в бестселлер-лист и стать богатым и независимым. Возможность мечтать о богатстве и независимости — пожалуй, наиболее привлекательная сторона нашей профессии. Среди всех этих треволнений вдруг подходит момент, когда вдруг ты понимаешь, что у тебя появился твой американский читатель. Ты приходишь на встречу в какой-то книжный магазин, а там сидят кучки людей, очень похожих на твоих читателей в Советском Союзе. Ты видишь дружелюбные и любопытные глаза. Значит, ты уже участвуешь в американском литературном процессе.
И наконец, последняя тема моего сообщения: Россия. Уходит ли от тебя Россия, остаешься ли ты россиянином или становишься «русским американцем», членом этнического меньшинства? Понятие «родина» с годами становится для меня все более дорогим, но все более интимным. Оно связано не с ощущением мощи, титанического пространства огромного государства, а пожалуй, наоборот: с ощущением вечного прозябания, с ликами моих бедных людей, дорогих мне родственников, родителей, бабушек, тетушек. Это ощущение мне гораздо дороже, чем так называемые «достижения» или исторические катаклизмы. Редкие минуты возникновения нежности к родине связаны с бегством от «бездны унижений», с языком, верой, с моментами религиозных, очень интимных излияний, какими-то волнами тепла, порой исходящими от церкви. Реальная бурная жизнь страны действительно отдаляется и превращается в лучшем случае в литературу, в худшем — в газету. Вместе с тем приближается историко-литературный образ страны как единого целого. Расширяется понятие «нашего времени». В него входят по крайней мере два века. Я постоянно существую внутри русской литературы хотя бы по характеру своей работы. Я веду семинары в университете и назначаю сам темы своих семинаров. В этом году у меня два семинара. Один семинар — по Серебряному веку, это для первокурсников, своего рода ликбез. Второй семинар — для старших студентов, для молодых писателей — Гоголиана. Лозунг этого семинара: «Давайте гоголизироваться!» Свою задачу я вижу даже не в том, чтобы дать молодым американцам новые познания, а в том, чтобы зажечь их, сделать так, чтобы они увлеклись, чтобы они поняли, какова эта культура. Короче говоря, я плачу долг той единственной родине, которой я что-то должен, — русской литературе.
1990
НЕ ВПОЛНЕ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Подлетая к Москве поздним ноябрьским вечером 1989 года (после девяти с половиной лет отсутствия), я наказывал себе зафиксировать самые первые впечатления. Отматывая сейчас назад, я вижу три лица, последовательно явившиеся мне в Шереметьевском аэропорту. Сразу за дверью самолета «Люфтганзы», в коридорчике, стояла «тетка». Видоизменяемость русских слов в зависимости от окончаний немыслима для англоязычного человека. В данном случае прибавление окончания «-ка» к понятию the aunt говорит об отдельном социальном слое России, для постижения которого не хватит и докторской диссертации. Грубо говоря, речь идет о неряшливых, плохо одетых женщинах неопределенного возраста. Со времени моего отъезда из России девять с половиной лет назад мне такие тетки не встречались: унылое, равнодушное лицо, свалявшийся шерстяной платок на голове, косое коротковатое пальтишко, разбитые боты; так вот без изменений с тридцатых годов, дорогая товарищ женщина, а сейчас вы кажетесь мне, отщепенцу, экзотикой… Следом за этой «теткой» — что она там делала на самом передовом рубеже Страны Советов, может быть, была приписана к передвижному коридорчику? — стоял офицер-пограничник в чине майора. Мне показалось, что он внимательно посмотрел мне, вслед. Впрочем, может быть, только показалось. Освещение было тусклое, хотя трудно себе представить, что Шереметьевский международный аэропорт экономит такую чепуху, как электричество. Казалось бы, надо было залить все светом, чтобы поразить иностранцев. Позднее, впрочем, я убедился, что время «потемкинских деревень» совсем прошло. С толпой европейских пассажиров мы вошли в здание. Здесь вдоль стены стояло еще несколько официальных персон, пограничников и штатских. Среди них одно лицо поразило меня своей бледностью. Это был молодой человек лет тридцати, — казалось, он напудрился. В застывшей этой маске можно было уловить (при желании, конечно) много всякого: от мучительного комплекса неполноценности до отчаянной гордыни. Ну что ж, подумал я, «человек из подполья», мог бы сейчас работать в московской таможне. Итак, несчастная советская тетка и персонаж Достоевского, между ними нейтральный, как Урал, страж границы.
Из этого аэропорта мы уезжали июльским утром 1980-го. Он был только что построен к Олимпийским играм, все сверкало. Пассажиры аэробуса «Эр Франс» уже погрузились, а над нами все еще мудрила таможня. Не менее восьми сотрудников — ни одного «человека из подполья» в тот раз — обыскивали наш жалкий багаж. Последняя забота родины — как бы чего лишнего с собой не увез нехороший писатель. Взяли толстую папку с записями, письмами, газетными вырезками. «Архив провозу не подлежит». — «Если архив, как вы выражаетесь, провозу не подлежит, тогда я и сам никуда не поеду», — сказал я. Воцарилось молчание. Старшой кивком головы послал одного из сотрудников куда-то. «Архив» одиноко лежал на таможенном столе как будто в ожидании вивисекции. Сотрудник в конце концов прибежал, зашептал старшому на ухо. Стало понятно, что верха дали добро на провоз «архива», лишь бы архивариус поскорее убрался. Три месяца спустя после этой сцены указом Президиума Верховного Совета, подписанным Л.Брежневым, я был лишен советского гражданства за «систематический ущерб престижу Советского Союза», за действия, «порочащие высокое звание Гражданина СССР». Тогда казалось, что больше уже никогда не увижу родины. Указ о лишении гражданства до сих пор не отменен, но вот девять с половиной лет спустя «лишенец» по приглашению американского посла Джека Мэтлока прибывает в «столицу всех надежд».
«Здравствуйте, Василий Павлович! Приветствуем вас в Москве!» Слепящая лампа телевизионного оператора направлена на меня. Мелькают молодые лица. Телевизионная советская жизнь началась еще до подхода к пограничному контролю, то есть вне пределов Советского Союза. Для программы «Взгляд», как оказалось, «святой рубеж» — не проблема. Первый вопрос: «Почему вы приехали по приглашению американского посла?» Вдруг налетел какой-то поджарый, сыскного типа субъект, в руке здоровый «уоки-токи», вполне пригодный для того, чтобы и оглушить кого-нибудь при надобности. Отшвырнул осветителя, залепил пятерней камеру. «Что тут происходит?! Кто разрешил снимать в зоне?» Итак, слово «зона» оказалось восемнадцатым по счету словом из тех, что я услышал по приезде в Москву. В самом деле, одно из самых популярных слов нашего языка: «лагерная зона», «запретная зона», «лимитная зона», «зона отдыха», «зона дружбы»… Далее произошло невероятное для человека, который почти десять лет не был в «зоне СССР». Телевизионщики отнюдь не обескуражились грозной атакой, а, напротив, пришли в радостное возбуждение. «Снимай его!» — кричал оператору ведущий (это был Влад Листьев), показывая на чекиста. Если перевести этот момент на английский, сценка получится слишком символической для высланного беллетриста. Символизм между тем явно присутствовал: столкнулись две полярные силы общества — те, что еще хотят «тащить и не пущать» в зону, и те, кто намерен «посещать и распушать» зону. Через пять минут прибежало начальство: «Василий Павлович, батенька, простите великодушно, перестарался наш услужающий!» Интервью возобновилось, и в тот же вечер, вернее, ночью в программе, из-за которой половина населения Советского Союза отходит ко сну не ранее двух часов, все было показано, включая и вопли «в зону, в зону!».
«Итак, почему вы, русский писатель, приехали на родину по приглашению американского посла?» — «Во-первых, потому, что мы с Джеком соседи по Джорджтауну, а во-вторых, потому, что до него меня на родину никто и не приглашал. Кроме того, московскую квартиру моей жены в этом году захватила комендатура, нам и остановиться-то негде кроме как в Спасо-хаусе».
Шаг за шагом мы подходим все ближе к пограничному контролю. За ним я вижу плотную стенку встречающих. Уже различаются знакомые лица. И вот, наконец, мы среди них, переходим из рук в руки, вернее — мы во власти всех рук, вернее — позволяем себя обнимать, трепать и лобзать всякому, кто может дотянуться, и сами обнимаем и лобзаем всех, кто под рукой. Кажется, даже и тех, кого не полагается лобзать. Журналистов, например, не обязательно лобзать. Уже не поймешь, кто вокруг — друзья или журналисты? Журналисты — молоды, мои друзья — стары. Надо лобзать старых, ни в коем случае не оскандалиться, не лобзать молодых. Однако вот и молодые женщины бросаются с объятиями, кричат: «Вася, Вася, узнаешь?» Кажется, узнаю, но не очень: многие «красотки прежних лет» сделали подтяжку. Еле добираюсь до своего сына и сестры. Снова включаются лампы телевизионщиков, уже несколько групп снимают одновременно, через головы протягиваются микрофончики и магнитофончики. За время жизни на Западе я уже забыл, что я суперстар.
Наконец выходим на «просторы родины чудесной». Летит снег, настоящая пурга. «Это прямо к вашему приезду Россия решила выступить в своем репертуаре. До вчерашнего дня была чудная европейская погода». В суматохе возникает краткий миг, когда мы с ней остаемся одни. «Здравствуй, говорю я ей, наконец-то мы одни. Спасибо за метель».
По прошествии девяти лет на чужбине я вдруг заметил, что Россия для меня начинает превращаться в литературу о России. Не следует путать это понятие с русской литературой. Последняя, частью которой я себя полагал и потому вполне небрежно относился к ее «текстам», тоже как-то изменилась, прибавила весу, начала превращаться, вот именно, в «тексты». Словом, из живой страны, из родины, «где я страдал, где я любил», из «немытой России», из родины-жены, по выражению Блока, из родины-суки, по выражению Синявского, моя страна стала превращаться для меня в источник информации. Весьма значительный источник, надо сказать. И актуальной, и академической информации вполне хватало, чтобы не скучать. Одну минуточку, говорил я себе, а не становишься ли ты и сам тем, что в американских кругах называется an old hand on Russia (знатоком России)? Смогу ли я восстановить живое ощущение страны, спрашивал я себя и понимал, что в этом, очевидно, и заключается основной смысл моей десятидневной поездки.
Проснувшись на следующее утро в роскошном Спасо-хаусе (построенный незадолго до революции особняк принадлежал одному из знаменитых московских миллионеров) и позавтракав с гостеприимными Мэтлоками, мы пошли с Майей пешком в журнал «Юность». Садовое кольцо мало изменилось. По-прежнему по нему несутся в обе стороны пустые грузовики. Воздух, ах, должен признать, воздух хуже, чем в Лос-Анджелесе. Соцлозунги пропали, зато рядом с Политической академией Советской Армии афиша маленького видеоклуба предлагает фильмы с участием любимого артиста советской молодежи Арнольда Шварценеггера. Мы уже наслушались рассказов о Москве от наших друзей-эмигрантов, побывавших там до нас. Общее впечатление: серость, развал, упадок, уныние. Странно только то, думал я, что рассказчики прибывают из Москвы в каком-то приподнятом, возбужденном состоянии. Москва и раньше не отличалась ярким спектром, хоть было время в нашей жизни, когда мы сделали ее для себя площадкой карнавала. Сейчас еще больше потускнела. В самом деле, фасады домов не могут похвастаться свежестью. Архитектурных шедевров на Садовом не появилось, да и вообще, кажется, ничего нового не построено. Почему-то бросились в глаза двери. Они обшарпаны, облуплены, ручки висят косо, часто на некогда импозантных дверях можно увидеть наспех приколоченную ручку от какого-нибудь склада или милицейского вытрезвителя. Сильные ухудшения в мире московских дверей — или я раньше не замечал их убожества, пока не столкнулся с роскошеством дверей Запада? Несколько продовольственных магазинов и один обувной попались нам по пути, все они были здесь и раньше, я их прекрасно помнил. Ассортимент их, начиная с конца 60-х годов, неизменно ухудшался, однако в конце 70-х в молочной на углу Садового кольца и Калининского проспекта еще можно было увидеть несколько сортов масла, несколько сортов сыра, разные кефиры и прочее. Сейчас от ассортимента осталось процентов десять, разносортицы вообще не наблюдается. «Вам что?» — спросила нас продавщица, скучающая за одним из пустых прилавков. «Нет-нет, нам ничего, мы просто так», — забормотали мы. «Ну и нечего тут ходить, — сказала она. — Ходят тут, как в музей». Пристыженные, мы выкатились из молочной. «Видишь, Майя, нас опознали как чужих, как созерцателей». Все-таки зашли во «Фрукты-овощи». Там ничего вопиющего не было, если не считать зеленых бананов и маленьких помятых грейпфрутов. Такие, впрочем, можно увидеть на прилавках и в Мексике. Удручают кондитерские. При нас там всегда наблюдалась довольно щедрая россыпь конфет, печенья, пряников, шоколада. Сейчас среди пустых прилавков лежали только дешевые леденцы единственного сорта.
Особый разговор об обуви. При всем моем желании замечать хорошее, должен сказать, что советская обувная продукция не улучшилась, а ухудшилась: в ней мало нынче кожи, больше кошмарного советского пластика. Нет, пожалуй, в мире второй страны, ни в Африке, ни в Азии, которая производила бы такую обувь. Производство ее, надо сказать, вещь совершенно бессмысленная: население ее не покупает. Миллионы московских ног демонстрируют вполне приличные «копыта». Откуда они берутся, если их не продают в магазинах, — одна из общих московских тайн.
При всей тусклости и серости остатков советской цивилизации, я не заметил, вопреки рассказам эмигрантов, уныния и подавленности. Лица стали явно светлее. Гнусность правящего аппарата неизменно отражается мраком на лицах населения, особенно в идеологической стране, где правящий аппарат — это многомиллионная масса. Пусть это прозвучит слишком «в лоб», но мне показалось, что в лицах москвичей стало меньше тоталитарщины. Город полон жизни и энергии. Непонятно только, какого рода энергия преобладает. Население все время на быстром ходу: спешит, бросается, вываливается. Поневоле приходится поворачиваться, чтобы проследить по огромному мегаполису случайные выбросы продуктов и товаров, быть в курсе партизанских операций черного рынка. При мне на Арбате какие-то румынки торговали прямо из сумок зимними сапожками. Кто-то набежал, взял — счастлив! Другой кричит: «Обман! Сапожки разного цвета!» В принципе, любой день в Москве — это охота, поиск или многочасовое томительное ожидание в очередях, где как раз и зреют гроздья гнева. Медленно, по-российски, но зреют: сколько же можно?
Политической активности в те дни на улицах не наблюдалось (она, хоть и спонтанная, но предпочитает хорошую погоду), если не считать вечно бурлящей Пушки с ее клубом говорунов и продавцами газет разных политических партий. В общем-то даже ради этого стоило приехать. В центре Москвы при полном отсутствии милиции люди обсуждают вслух какие угодно проблемы! Масса вздора, пары паршивой бузы, знакомый саркастический хохот московского резонера, который раньше только о футболе осмеливался на улицах-то, а теперь вот — о коррупции правящих кругов («эта мафия своего не уступит!»), о фальшивых торговых связях с Западом («они к нам ездят, чтоб наших девок, а наша мафия к ним за компьютерами!»), то есть опять же о коррупции: коррупция — его главная тема. Много теток со значками Ельцина на пальто. Грузины и армяне со своими страшными кавказскими проблемами. Московские друзья прибалтийской демократии распространяют газету «Атмода». Проходит вьюноша с пачкой печатного материала: «Газета группы „Гражданское достоинство“!» Девица потрясает своим товаром: «„Газета анархистов-радикалов!“» У подземного перехода бессмысленно, как в Лондоне, стоит группа панков. Для старомодного «советчика», каковым является ваш покорный слуга, это может показаться киносъемкой на западную тему. Политическая активность не тревожит москвичей (за исключением неонацистов и радикалов «Памяти»), о ней не так уж много и говорят, а если и говорят, то не без момента некоторой гордости — вот, мол, раскачиваемся понемногу. Гораздо больше в обиходе говорят о преступности, рассеянной и организованной, об утечке оружия из армии в массы. В вечерних новостях на TV рассказывают, что в багажнике автомобиля найдено противотанковое ружье. На TV, где при нас сообщалось только о «достижениях тружеников полей» и о награждениях орденами предприятий и областей, показывают криминальную хронику! Таксист кивает на обгоревший фасад большого ресторана: «Третьего дня подъехали ребята на мотоциклах, забросали заведение коктейлями Молотова!» Дальше он уже входит во вкус: «Вон видите, гастроном круглосуточный. Вчера эвакуировали всех по бомбовой тревоге! Москва во власти рэкета!» — заключает он со смаком. Об этих преступных делах тоже говорят не без некоторой странной гордости: у нас, мол, тоже как у людей, хоть здесь не отстаем от Запада. В Казани, моем родном городе, который стал скандально популярен своими уличными бандами подростков, говорят: «У нас тут прямо как в Лос-Анджелесе». Должен сказать, что на этом сходство и кончается.
Журнал «Юность», куда мы наконец дошли после всех этих наблюдений и рассуждений, основан в 1955 году Валентином Катаевым, который при всем своем советском конформизме всегда был великолепным писателем. Можно сказать, что именно в этом журнале началась литературная жизнь моего поколения. Сейчас, почти тридцать лет спустя после моего дебюта, «Юность» (тираж 3,5 миллиона экземпляров) начинает печатать мой роман «Остров Крым», за чтение которого при Брежневе давали тюремный срок и который всего лишь полгода назад был в списке совершенно запрещенного товара на московской таможне. Тут следует сказать, что еще в 1988-м и сам сочинитель этого романа на страницах советской печати в лучших традициях, устами «трудящихся», объявлялся предателем родины и агентом империализма. Так быстро изменилась литературная ситуация.
Пока мы были в «Юности», там произошел любопытный эпизод: из своего кабинета вышла молодая сотрудница и сказала: «Вообразите, мне сейчас угрожали из корейского посольства!» Оказалось, что она ездила освещать так называемый «Всемирный фестиваль молодежи и студентов» в Пхеньяне. По возвращении напечатала свои впечатления от страны, управляемой мудрым кормчим Ким Ир Сеном. Теперь оказалось, что посольство социалистической Кореи обиделось. Звонят и, не мудрствуя лукаво, говорят: «Мы найдем патриотов, которые вас накажут за клевету!»
Через день посол Мэтлок устроил в Спасо-хаус «семинар с буфетом», на котором я выступил на тему «Русский писатель в Америке». Джек Мэтлок — его, надо сказать, знает все население СССР благодаря частым выступлениям на TV и великолепному русскому языку — приглашения на этот прием разослал дипломатически: и западники приглашались, и славянофилы. Собралось примерно 250 человек, среди которых немало «флагманов перестройки», то есть вождей либералов.
Из «русопятов» не явился никто. Больше того, один из них, писатель Василий Белов, даже публично отмежевался от «мероприятия в Спасо-хаус» и укорил американского посла за то, что тот пригласил в гости Аксенова. Подтекст этого заявления был ясен: вместо того чтобы приглашать к себе какого-то жалкого эмигранта, писателя-сквернослова, послу великой державы следовало пригласить истинно русского писателя с незапятнанной репутацией. Однако с какой же стати приглашать Василия Белова, если ему, секретарю Правления Союза писателей СССР, лауреату Государственной премии, члену бюро обкома коммунистической партии, народному депутату, и без посла Мэтлока найдется место, где остановиться в Москве?
Публичное осуждение моего приезда Василий Белов сделал на собрании единомышленников-писателей, на котором уже даже не призывали изгонять евреев из российской культуры, даже уже не выявляли полуевреев, а просто требовали выяснить, у кого жены — еврейки и полуеврейки; эти-де самые опасные. Даже привычная к антисемитским заявлениям Москва разволновалась по поводу этого собрания: каковы, мол, оказались наши русские писатели! Если меня спросят, что я назвал бы самым отвратительным в современном СССР, отвечу без промедления: писательский нацизм и антисемитизм. В сравнении с оголтелыми «деревенщиками» даже вождь пресловутой «Памяти» Васильев выглядит респектабельно. Сейчас он выступает просто как представитель монархистов. Сидит под портретом последнего императора (я видел его в ночной программе «Взгляд», той самой, что столь дерзко прорвалась в «зону»), рассуждает о будущем России. Западный вариант развития ему не нравится. У России есть свой опыт, связанный с богоизбранничеством. «Вы что же, за ограниченную монархию?» — спрашивает его ведущий «Взгляда». «Почему же ограниченную? — солидно возражает он. — Мы за абсолютную. Дурных чувств к еврейскому народу мы не питаем, — продолжает он. — Пусть едут к себе подобру-поздорову. Нацизмом нас, почтеннейший, не пугайте. Всегда говорят „нацизм, нацизм“, но почему-то забывают вторую составную часть этого понятия — социализм, национал-социализм»…
Об этом человеке хотя бы можно сказать, что он раньше не клялся «социализмом», не возносил хвалу Ленину. Он появился лишь тогда, когда смог высказывать свои взгляды. В отличие от Васильева писатели-нацисты почти без исключения члены КПСС, народ чрезвычайно обласканный в самые мрачные годы так называемого брежневского «застоя». Когда арестовывали диссидентов и выпихивали за границу нежелательных, «деревенщики» получали свои Государственные премии и заседали в президиумах. Они шли полностью по курсу партии и только иной раз чуть-чуть, как бы шаловливо, отклонялись, употребляя эвфемизмы в адрес евреев. Теперь, когда на писательских собраниях прямо по головам подсчитывают количество евреев, эвфемизмы не нужны — жми, дави, деревня близко! Теперь уже слово «еврей» становится эвфимизмом, обозначая всякого, кого ненавидим: либерала, западника, модерниста, в общем — «не нашего». Движение обзавелось уже и теоретиками, больше того — появился «главный теоретик». К ужасу интеллигентов-семидесятников, им оказался друг А.И.Солженицына математик Игорь Шафаревич. Не желая простить Альберту Эйнштейну его теорию относительности, этот ученый разработал для писателей-нацистов теорию «малого народа». Этот «малый народ» живет на шее «великого народа» и постоянно старается его поработить, развратить, выхолостить его национальную душу. Теория дает хорошую базу для жульнических спекуляций о «евреях» и «интеллигентах», позволяя, когда надо, их смешивать, когда надо — разъединять. Пока не поздно, говорит Шафаревич, «великий народ» должен сплотиться и дать бой «малому народу»!
В либеральных кругах Москвы обсуждается вопрос, примет ли русский «великий народ» идеологию нового нацизма. Вспоминается в этой связи, конечно, Германия. Следует все-таки учесть, я думаю, исключительную гомогенность немецкого «великого народа», русского же и в самом деле, как тот же немец сказал, любого поскребешь и найдешь татарина. И не только татарина — и грека, и скандинава, и поляка, и француза, и, уж конечно, еврея и немца. В отличие от Германии, которая исторически была открыта только к северу, Россия извечно была открыта и на юг, и на север — «из варяг в греки». Почти весь состав «исконно русских» имен пришел из Греции, оставшиеся — из Скандинавии. Происхождение у всех у нас весьма сомнительно в смысле расовой чистоты. Главные русопяты — и те под вопросом. У Куняева фамилия сугубо татарская, у Распутина внешность тунгуса, даже и у самого «теоретика» при скандинавском имени фамилия звучит весьма по-еврейски. Шафаревич, как ни странно, стоит близко к ненавистному для него Шапиро. Исключительная космополитичность российского населения как-то затрудняет постановку вопроса о расовой исключительности. Впрочем, и без расовой исключительности можно натворить немало свинства.
Большой зал Дома архитекторов. Десять лет назад здесь было мое последнее публичное выступление перед высылкой. Сейчас мне кажется, что аудитория не изменилась, те же прекрасные лица моих читателей, московского «малого народа» без разбора национальностей; только молодежи вроде стало побольше. Они приветствуют меня как своего писателя, и я едва удерживаюсь от того, чтобы не расхлюпаться. Вообще, в течение всей поездки мне не без труда удавалось держаться в образе «мало сентиментального человека в сентиментальном путешествии»: прошлое возникло не в мирном течении буколических картинок, но бурлило, закручивалось, прорывалось через камни и разбитые шлюзы.
В театре Олега Табакова молодая труппа играет мой хит 1968 года «Затоваренную бочкотару». Артистам было от трех до семи лет, когда «З.Б.» была напечатана к восторгу публики и к ярости партийно-комсомольской печати. Бочкотару на сцене символизирует огромный мешок, в котором и идет вся игра. Вызванный на поклон автор, 57-летний профессор университета Джордж Мэйсон, охваченный эйфорией, ныряет в мешок, подсознательно повторяя движения вашингтонских «Redskins». Артисты начинают подбрасывать профессора в воздух. Где это я? Летаю, летаю! В театре «Современник», начиная с весны, при полных аншлагах идет спектакль по книге моей матери Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Сорок артисток играют женщин-заключенных политической тюрьмы НКВД 1937 года. Двенадцать мужчин играют следователей и конвоиров. Весь спектакль по сцене бродит среди профессиональных актрис старенькая тетя Павочка, мамина настоящая сокамерница, она участвует в каждом спектакле, хотя не произносит ни слова. Марина Неелова, очень похожая на мою мать в молодости, кричит на допросе: «Где мои дети?!» Мой сын, двадцатидевятилетний художник, сидит рядом со мной. Все зрители уже знают, что я в зале. Когда Галина Волчек вызывает меня на сцену, я не нахожу ничего лучшего, чем поднять над головой V — for victory. Это действительно победа для тех, кто в 60-е годы тайно распространял мамину книгу, перепечатанную в тысячах копий на папиросной бумаге, и эта победа для мамы, на чьей могиле в Москве всегда лежат цветы. Словом, не очень-то сентиментальное путешествие.
Казань лежит на левом берегу Волги всего лишь в 800 км к востоку от Москвы, но для меня, быть может, не было более отдаленной точки в мире. Я ехал увидеть своего старого отца, но, кроме того, я ехал к самым истокам своей жизни, к сиротскому детству отпрыска «врагов народа», к юдоли нашего быта. Все это было так же далеко для меня теперь, как Америка была далека для юношей пятидесятых: просто два конца путешествия. Отец мой Павел Васильевич Аксенов до 1937 года был здесь председателем горсовета. Потом он отсидел 18 лет в сталинских лагерях, а вернувшись, получил от Хрущева квартиру, пенсию и орден Ленина. Сейчас ему 91 год, он один из самых старых членов большевистской партии. До нашего отъезда, то есть в возрасте 82-х, он очень активно прочитывал газеты, слушал иностранное радио, боевито выступал в дискуссиях и пользовался политической терминологией. Сейчас ухудшились слух и зрение. «Я очень старый, — говорит он. — Извините, память иногда подводит меня». Интересно, что руководителей СССР он оценивает теперь не с классовых позиций, а лишь с точки зрения общечеловеческих ценностей. «Ленин был хороший человек. Сталин очень плохой. Брежнев — дрянь. Горбачев — молодец». Американский storm-coat на гусином пуху, который мы ему привезли, приводит его в восторг. «Сколько же тебе сейчас лет, сынок?» — спрашивает он меня. «Как всегда, отец», — отвечаю я. Он смеется: «А мне уже больше, чем „как всегда“».
Пресса и телевидение и здесь не обижают равнодушием. Две московские группы едут с нами вместе. Одна казанская впрыгивает в поезд за час до прибытия. На перроне вокзала сразу начинают снимать и уже не прекращают до отъезда. Раскрепощение средств массовой информации — это, пожалуй, самый разительный и благой признак перемен. В двадцатые годы, то есть в самый мягкий нэповский период советской власти, печати не дозволялось и десятой доли того, что она выдает сейчас. В телевизионной программе о вооруженных силах «Служу Советскому Союзу», где раньше только барабаны били да гремела песня «Несокрушимая и легендарная», группа офицеров обсуждает дела в армии. Один из них говорит: «Армия — это часть общества, не так ли?» Другой продолжает: «У нас больное общество, значит, и армия больна». Телевизионщики в Казани привозят меня к зданию местного КГБ, так называемому «Черному озеру», семьдесят лет наводившему ужас на население. Начинается съемка. Подходит милиционер: «Что вы тут снимаете?» — «Не ваше дело», — отвечают телевизионщики.
Я прогуливаюсь вдоль «Черного озера», рассказываю, как в 1937-м здесь исчезли мои родители, как я и сам здесь побывал четырехлетним мальчиком на свидании с отцом. Телевизионщики кричат мне: «Больше трагизма!» На пресс-конференции в редакции газеты «Вечерняя Казань» один из журналистов представляется с татарским акцентом: «Русская служба ВВС». В каком смысле, ошарашенный, спрашиваю я, British Broadcasting Corporation? Действительно? Да, это местный стрингер для ВВС, объясняют мне. Он раньше работал в подполье, а теперь легализовался.
Конечно, иной раз аукается старое, недомолвки, эвфемизмы, многие привычные наборы советской журналистики еще в ходу, но я с этим почти не сталкивался. Все мои интервью печатались без искажений, только однажды московский еженедельник применил один трюк, впрочем довольно невинный. В разговоре с их корреспондентом я сказал, что никогда не был ни антисоветчиком, ни советчиком. Статья вышла под заголовком: «Я никогда не был антисоветчиком». Конечно, печатью все еще руководят, но руководство, в общем-то, идет в направлении ослабления руководства. Я это понял еще в прошлом году. Небольшая перетряска в руководящих органах немедленно вызвала прекращение клеветы и перемену отношения к моей скромной персоне.
Столкновение студентов с властями в Праге советское радио освещало с симпатией к студентам. По Москве в это время ходили слухи, что главного идеолога из Праги вызвали в Кремль и сказали: «Ну что вы там упорствуете? Неужели непонятно, что все кончено?»
Большой провинциальный город, полный истории и почти лишенный гастрономии, несмотря на скудость своего нынешнего существования, тоже не производит впечатления вялости и апатии. Пресловутые «молодежные банды», группы юнцов в спортивных штанах и пилотских куртках, заняты своими делами и позволяют населению спокойно прогуливаться. Единственная очередь, которую мы видели в центре, стояла за книгами: давали Жюля Верна. За всем остальным очередиться нет смысла: одежда в магазинах гнуснейшая, продукты питания давно уже распределяются по талонам.
Местный драматический театр готовит премьеру «Крутого маршрута». Мои одноклассники профессорствуют в тех институтах, где учились. Петропавловский собор, где в течение всех советских лет был планетарий, вернули верующим. Там, в одном из притворов, за выгородками и строительными лесами, уже идет служба. Татарская интеллигенция отмечает тысячелетие принятия ислама. Колоннада университета, из которого когда-то выгнали вьюношу Ульянова, все так же прекрасно светится в вечерних сумерках. Сквозь хаос застройки еще можно увидеть крышу гимназии, где учился великий поэт-футурист Велимир Хлебников.
Через два дня все в том же телевизионном окружении мы начинаем наш обратный путь на Запад: Казань — Джорджтаун. Из соседнего купе в наше заходит энергичный средних лет человек, напоминающий волевых начальников в фильмах социалистического реализма, — в руке портфель. «Все в порядке, ребята! — подмигивает он. — У меня все есть!» А что именно? Раскрывается портфель, там три бутылки коньяку и копченая кура. Вот это уже сугубо советское, ностальгическое — теплая компания в купе поезда. Наш собеседник, оказывается, и в самом деле большой начальник. Ездил из Москвы в Казань вручать предприятию переходящее Красное знамя.
«Воображаете, — подмигивает он, — стою на сцене, как идиот, с этим знаменем. Эх, Вася Аксенов, Вася Аксенов, да мы ж тебя в МЭИ наизусть знали. Поколение „Звездного билета“! А меня не помнишь?» — Он сделал боксерское движение плечами — чемпион Москвы в среднем весе! «Скажи, Гриша, — спрашиваем мы его, — есть еще у коммунизма какие-нибудь шансы?» — «Шансов нет никаких, — четко отвечает он. — Давайте выпьем!» Еще десять лет назад коммунизм казался незыблемым, а между тем его век уже подходил к концу. Брежневизм — последняя фаза динозавра, говорили мы, но сами не верили себе. Теперь он рушится на глазах, но странное дело — ни триумфа, ни злорадства я не испытываю, а только лишь вопрошаю: что стоит за всей этой чередой трагикомедий?
1991
МЯТЕЖ КОНЧАЕТСЯ УДАЧЕЙ
Красные заговорщики в Москве уповали на два основных чувства: страх и голод. Для первого они приготовили избыток танков, для второго — небольшое количество колбасы. Циничные дебилы в полном соответствии со своей «материалистической философией» смотрели на людей как на «павловских собак», имея, очевидно, в виду не столько ученого, сколько своего премьер-министра. Они не сомневались, что москвичи, потрясенные грохотом танков, будут тут же умиротворены спецдоставкой в магазины, и таким образом гармония между народом и его новыми (читай, старыми) владыками будет немедленно установлена. Логично, не правда ли? Уж если кому-нибудь предлагают выбор между смертельной опасностью и доброй жвачкой, всякий, мол, выберет последнее. О более высоких этажах человеческого естества заговорщики явно не имели ни малейшего понятия. Им не пришло в голову, что у народа Москвы может появиться другой выбор: между достоинством и раболепием, между унижением и свободой. И уж меньше всего они предполагали, что внутри танков тоже находятся человеческие существа с их собственными альтернативами.
Какой триумф, какая радость, какое откровение, гордость, благодарность! Люди моего поколения не могут не вспомнить Прагу 1968 года. Почему ублюдки снова выбрали третью неделю августа? Чтобы мы лучше испытали силу исторических параллелей? Если так, то они достигли желаемого. Двадцать три года назад в конце третьей недели августа нас сжигали ненависть и отчаяние, мы не смели даже мечтать, что чешские либералы будут сопротивляться, а советские танкисты не откроют огня. На этот раз в конце третьей недели августа осуществилась самая несусветная, самая несбыточная мечта нашего поколения. Чудо произошло. Духовная революция, предвиденная Толстым, осуществилась. Коммунизм рухнул.
Один американский комментатор писал о перевороте, что сначала это был Достоевский, а потом комики, братья Маркс, в том смысле, что борьба сумеречного сознания (подразумевался тут все-таки некоторый элемент величия) обернулась фарсом. Что касается меня, то мне здесь слышалось музыкальное развитие: безымянная и безликая додекафония в начале, ну а потом Бетховен, Моцарт, Россини, вылившийся в апофеоз: «Весна священная».
Некоторым образом россияне должны быть благодарны подонкам за то, что те помогли им обрести чувство новой национальной принадлежности. «Россияне, неужели мы их опять испугаемся?!» — этот клич молодежи перевернул всеобщее, свалявшееся за семь десятилетий, сознание. Три августовских дня и три ночи опровергли циничную болтовню о том, что русским не нужно ничего, кроме «порядка», этого вшивого старого иносказания для жестокой псевдопатриотической силы. Без всяких оговорок русские доказали, что они хотят стать частью цивилизованного мира.
Удивительно, как просчитались шовинистические писатели, славянофильствующие интеллектуалы. Нет никаких сомнений в том, что они мостили дорогу путчистам. Русские на тысячу процентов, уж они-то знали лучше всех стопроцентно русских, чего те хотят. Иные из этих писателей даже принимали участие в последних приготовлениях. Достаточно вспомнить напечатанное за три недели до путча «Слово к русскому народу», где среди подписавших любителей «порядка» мы видим главных стилистов, национал-большевистских литераторов Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Александра Проханова. Стилистика «Слова» отчетливо прослеживается и в самом коммюнике хунты. По всей вероятности, и оно было написано не солдатами, а «инженерами человеческих душ» на службе у великого отечества. Чего стоит одна «гидра порнографии», распространение которой на святой земле оказалось одной из главных причин для ареста президента и оккупации Москвы.
Истерические вопли ура-патриотов слышались уже давно, однако никто не принимал их всерьез. Либеральным писателям не хотелось впустую тратить время, никто особенно не беспокоился, хотя тесные связи между «славянофилами» с одной стороны, КГБ и партийным аппаратом с другой — были очевидны. Единственным серьезным ответом на «Слово», как ни странно, оказалось выступление другого славянофила, на этот раз без кавычек, Виктора Астафьева. «Не верьте им! — призывал старый романист телевизионную аудиторию. — Они хотят вас снова затащить в коммунистическое рабство, они — черносотенцы!»
В первую неделю августа я ехал на машине мимо горбачевского курорта в Форосе и заметил возле берега два военных корабля, охраняющих президента с моря. В тот же вечер на телевизоре появился полковник Алкснис со своей волнистой шевелюрой. Я, помнится, был поражен тем, что он говорил уже как представитель какого-то нового драконовского режима. «Ждать осталось недолго», — ухмылялся он. Уверен, что не только меня тревожили заявления Алксниса, и все-таки никто не верил, что он не шутит. В этом что-то было сродни настроению жителей Помпеи: все знали, что Везувий взорвется, но не завтра же, в самом деле.
В те начальные августовские дни русский воздух был наполнен двусмысленностью, надеждами и страхами, похотью и усталостью. Юные менестрели на улицах пели песни о белогвардейских «рыцарях без страха и упрека». Над ними высились все те же тяжелые старые статуи Ленина, простирались все те же лозунги. «Идеи Ленина бессмертны, потому что они верны!» И вдруг призраки прошлого материализовались в виде дюжины высокопоставленных подонков и тысячи танков.
То, что произошло потом, можно без преувеличения назвать величайшей и славнейшей страницей в истории России. Бросая вызов тому, что заговорщики, очевидно, называли «здравым смыслом», высокий, широкоплечий человек, сам в прошлом аппаратчик, шаг за шагом повторил то, что совершил коммунистический идол 74 года назад. С одной только существенной разницей. Ленин вскарабкался на броневик, чтобы объявить о приходе коммунизма; Ельцин сделал то же самое, чтобы закрыть коммунизм.
Похоже было на то, что в сердцах миллионов происходит некое чудо. «Хватит! — кричали все. — Никогда больше!» Старухи и уличные панки, афганцы и работяги, милиционеры и рокеры (эти мотоциклисты были особенно полезны как посыльные сопротивления), журналисты, музыканты, интеллектуалы, каменщики — все стояли рука об руку на площади, которая легко могла оказаться русским Тяньаньмынем. И защити нас, Дева Мария! Опьянение солидарностью может сделать человека бесстрашным.
К счастью, то же самое опьянение охватило и танкистов, и все другие войска, уже подготовленные для массового избиения. Неповиновение солдат сыграло окончательные аккорды в симфонии Российской духовной революции. Божья искра осветила сердца толпы, включая и сердца под военной формой. Массовое и величественное проявление индивидуализма, именуемое вдохновением. И был еще один знак: из трех молодых героев, что потеряли свои жизни в противоборстве мятежу, двое оказались русскими и один евреем. Что вы об этом думаете, товарищ Распутин?
Это были самые счастливые дни в жизни нашего поколения. Что бы еще судьба ни держала в запасе, все-таки мы можем теперь сказать, что все пережитое, начиная с самых первых шагов сопротивления, стоило прожить. Если и было чувство горечи в моей душе, то от того лишь только, что я улетел из Москвы в Париж мирным воскресным утром 18 августа, то есть просто за несколько часов до начала событий. В то время, пока мой сын стоял на баррикадах, а моя жена была в толпе, окружавшей Белый дом в ожидании атаки, я сидел с кипой газет на Монпарнасе, и Париж со всем своим блеском тускнел перед революционной Москвой.
2004
ЭПИЛОГ
До сих пор чувствую паршивую неуклюжесть той одноминутной встречи. Позор всеобщего подчинения был так густ, что мазал и одиночное противостояние. В конце «десятилетия клеветы» в Вашингтон приехала большая делегация советских писателей. На приеме в Библиотеке Конгресса несколько ее членов бросились ко мне с распростертыми. «Вася, это ты?! Дружище!» Это были вот именно дружищи, талантливые ребята, с которыми вместе прошумела литературная молодость. Еще недавно такая встреча могла только присниться, а сейчас мы обнимались и лобзались наяву. Вокруг, умиленные, стояли американские писатели. Они переглядывались: вот они, новые времена!
Вдруг послышался голос: «Дайте уж и мне пожать ему руку!» Все расступились. Передо мной с протянутой рукой стоял глава советской делегации в синем костюме с депутатским значком, с медвежьей маской лицемерия, похожий на К.Е.Ворошилова. Это был не какой-нибудь подневольный «партийный журналист», а настоящий гад крупного гадского калибра. Именно он на партсобрании в Союзе писателей требовал применения ко мне «законов военного времени».
Я забрал руки за спину. Все вокруг молчали, глядя на мерзейшую сцену. «Почему, почему? — бормотал гад, но руки своей не убирал. Она дрожала в пустоте. — Вы знаете почему», — сказал я. «Это неправда!» — вскричал он, ей-ей, с удивительной пронзительностью. Должен сказать, что и тогда, и несколько дней спустя (да и сейчас, когда пишу 15 лет спустя), я тоже чувствовал себя несладко. Какого черта, почему я должен отказывать в рукопожатии беспардонному гаду? Я никогда этого не делал ни с кем, и почему я должен это сделать сейчас и с ним? Неловкость поз была обоюдной, боюсь, что и фальшь получилась не односторонней.
Совсем недавно в Санкт-Петербурге, незадолго до смерти Виктора Конецкого, мне сказали, что он хочет встретиться со мной. Я уклонился и до сих пор не знаю, правильно ли сделал. Пусть он глумился надо мной в своей бездарной статье, и все-таки ведь это был он, Витька, кореш молодых лет, мастер рассказа (никогда не забуду его описания кораблекрушение советского судна в Индийском океане); что толкнуло его на тот пасквиль — «социальный заказ» или какой-нибудь затаившийся комплексочек?
Мы, высланное и оболганное меньшинство, полагали себя «униженными и оскорбленными», а между тем «униженными и оскорбленными» было гигантское большинство невысланных и необолганных, и вот почему прежде всего не может идти речи ни о каком сведении счетов. И все-таки мы должны писать о том времени, вспоминать умерших и ободрять живущих, «называть вещи своими именами», хотя никто не знает истинного названия вещей, пусть только для того, чтобы те, кто пришел нам на смену, не строили по нашему поводу пустых догадок.
Примечания
1
Говорят, что британцы никогда не паникуют, и мы не паниковали. (с англ.).
(обратно)2
2004
Чтобы не подумали, что Окуджаву поют политэмигранты. — В.А.
(обратно)


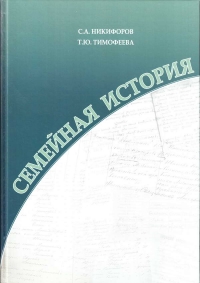


Комментарии к книге «Десятилетие клеветы: Радиодневник писателя», Василий Павлович Аксенов
Всего 0 комментариев