Историческая драма, события которой разворачивались в Тифлисе на рубеже 19-го и 20-го веков.
100-летию со дня смерти великого художника посвящается…
«…Я заблудился, как овца потерянная:
взыщи раба Твоего,
ибо я заповедей Твоих не забыл…»
Пс.118:176.
От автора
Жизнь Нико Пиросмани заключена между двумя вопросительными знаками: когда родился? когда умер? А между ними – длинная вереница других вопросов. Кто сможет рассказать правду о нём? У кого спросить: у земли? у неба? Даже современники вспоминали Никалу как сон. Он так и остался загадкой для поколений. Одна достоверность – он жил. Одна очевидность – жив и поныне. Ведь каждому художнику отпущено две жизни. Одна – его собственная. Другая – жизнь его искусства, которая, бывает, надолго переживает самого мастера.
Понять этого удивительного человека можно, наверное, лишь прожив жизнь так, как прожил её он. Нам же, почитателям его таланта, дано только прикоснуться к тайникам его души, внимательно изучая его творческое наследие, в которое он вложил неизмеримую любовь к людям.
Книга, которую Вы держите в руках, – не учебник истории, не научная монография или диссертация. Это – исторический роман, который даёт возможность совершить путешествие в прошлое, в старый и неповторимый Тифлис конца 19-го – начала 20-го столетий, шумный, пёстрый, трудолюбивый. Как и в любом другом художественном произведении, основой для его создания явился авторский вымысел, переплетённый с достоверностью, а некоторые интерпретации изложенных здесь фактов являются спорными ввиду противоречивости исторических сведений.
Приятного Вам чтения!
С уважением,
Валериан Маркаров.
Тбилиси. Грузия.
17 августа 2018 года.
Глава 1. Сказка о юном мечтателе
В некотором царстве, в некотором государстве… а точнее, в стране, называемой Грузией, что в 19 веке, в качестве губернии, входила в состав Российской империи, жил гордый и свободолюбивый народ, очень мудрый для такой очень маленькой страны. Каждый край её не похож на соседний, а её жители – грузины – отличаются друг от друга не только своим бытом и традициями, порой они даже говорят на разных языках и наречиях. Те, что живут на западе: имеретинцы, мегрелы, гурийцы, сваны, аджарцы и другие – те более бойкие, восточные же – карталинцы и кахетинцы – трудолюбивее.
На востоке этой гостеприимной страны – в Кахетии – этом благословенном Господом саду Кавказа с его янтарными виноградниками, в селе Мирзаани жила-была семья Пиросманашвили. Дом Аслана, главы семейства, и его жены Текле, стоял на самом краю села, рядом со старым тутовым деревом, а неподалёку находился виноградник семьи. А ещё дальше, на заросшем лесном склоне, расположился участок земли, которым благодарное село наделило Аслана за отличие в бою, когда тот, отчаянно размахивая отточенным кинжалом, сражался с лезгинами, похитившими мирзаанских детей. Был он человеком сильным, настоящим кахетинцем. Работящим и умелым крестьянином.
Несмотря на то, что в 1861 году в России было отменено крепостное право, император Александр II считал нелёгкой задачей провести ту же реформу в самой Грузии. Это было невозможно без потери только что приобретённой лояльности грузинской знати, благосостояние которой зависело от крепостного труда. И всё-же, спустя 4 года Его Императорское Величество подписал указ об освобождении первых крепостных в Грузии, о чём и было громогласно объявлено во всех населённых пунктах, под шум духовых оркестров и бой барабанов, что гармонично сливались, вызывая вящее удовлетворение:
«Божией Милостью, Мы, Александр Второй, Император Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая…
…Крепостное право на крестьян, водворённых в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется НАВСЕГДА…
…Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с Нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного…».
Теперь крестьяне стали свободными людьми и могли свободно передвигаться, вступать в брак по своему выбору и даже принимать участие в политической деятельности. Землевладельцы же сохранили право на всю свою землю, но только часть её оставалась в их полной собственности, а другую получили право арендовать или выкупать бывшие крепостные, веками жившие на ней, чтобы компенсировать потерю земли владельцам. За пользование землей были установлены следующие повинности: за виноградники, а также пахотные – крестьянин отдавал богачу четверть урожая, за сенокос – одну треть укоса.
Вот так и трудились крестьяне села с утра и до поздней ночи. Кто-то на полях траву косил, размахивая над шумной травой лезвием кривой косы на длинном черенке. Целый день нужно было работать на жаре. Скошенная трава подсыхала на солнце и постепенно превращалась в сено. Крестьяне молили Бога о сухой и солнечной погоде. Ведь если идёт дождь, то трава преет, плесневеет и гниет – ни на что она больше не годная! Сушить траву выходили целыми семьями, переворачивали её граблями и вилами. А когда она полностью высыхала, из полученного сена делали большой стог с длинным шестом посередине, который крестьяне перевозили на свой двор, где также хранили телеги, колеса, сбрую и другое небогатое своё имущество.
Самым главным работником крестьянского хозяйства была лошадь. Без неё земледельческий труд был просто немыслим. Лошадь и поле помогала вспахать, и навоз для удобрения почвы давала. Безлошадные крестьяне считались совсем бедняками. Пасли лошадей ночью, потому что днём ей некогда было пощипать травки: она всё время была с крестьянином в поле. У очень немногих была пара коров или буйволов, а кто-то владел несколькими свиньями или овцами. Скот держали на дворе, а в холодную пору маленьких телят, ягнят или поросят крестьяне забирали в дом, специально отгораживая для них часть помещения. Скотина давала много полезных продуктов. Из коровьего молока делали сметану, масло, творог и сыр. Овца давала шерсть два раза в год. Из неё вязали носки, делали грубую ткань. Куры и гуси обеспечивали семью яйцами и мясом. Крестьянин заботливо ухаживал за скотиной, ежедневно готовил для неё в бадье специальное пойло – разваренную в печи кожуру овощей, оставшиеся от помола зерна мякину и отруби – оболочки зерен, перемешанные с некачественной мукой. Всё это надо было тщательно приготовить и подогреть. Да ещё и сеном надо было покормить! Как же без сена? Одна корова съедала его в день целый пуд, а на год надо было иметь 300 пудов сена, а то и больше. Кроме того, каждая корова выпивала не одно ведро воды, и хозяйке надо было ещё и подоить её дважды в день, чтобы на зиму побольше сыра и масла заготовить.
Помимо работы на полях, кахетинцы трудились на своих виноградниках. Работы на них велись каждый день и всем миром, вне зависимости от того, когда наступит пора сбора урожая. Крестьяне подвязывали лозу к опорным столбам и проволокам и обрывали лишние ветви, следили за тем, чтобы высота куста не превышала одного метра – так легче ухаживать за лозой, а открытые солнцу янтарные ягоды набирают больше сахара… Из них делают вино, из жмыха – чачу, на сухой лозе жарят шашлык, а из виноградных косточек давят масло.
Тяжёлый крестьянский быт делал судьбы многих семей похожими друг на друга. Из года в год жили они в одной и той же деревне, выполняли одни и те же работы и повинности. Построенная в деревне скромная церковь не поражала ни своими размерами, ни архитектурой, но делала это место центром всей округи. Ещё младенцем, нескольких дней от роду, каждый человек попадал под её своды во время собственных крестин и множество раз потом бывал здесь на протяжении своей непростой жизни. Сюда же привозили отошедшего в мир иной перед тем, как предать земле бренное его тело. Церковь была почти единственным общественным зданием в округе. Священник же был, если не единственным, то одним из немногих грамотных людей. Как бы ни относились к нему прихожане, он считался официальным духовным отцом, к которому Закон Божий обязывал всех приходить на исповедь.
Три главных события в жизни человеческой объединяли жителей села: рождение, бракосочетание и смерть. Именно на эти три части и были разделены записи в церковных метрических книгах. В тот период времени во многих семьях дети появлялись на свет чуть ли не каждый год. Рождение ребенка воспринималось как воля Господня, противиться которой мало кому приходило в голову. Больше детей – значит больше работников в семье, а отсюда и больше достаток. Исходя из этого, предпочтительнее было появление мальчиков. Девочку растишь – растишь, а она в чужую семью уходит. Но и это, в конце концов, не беда: невесты из других дворов заменяли рабочие руки выданных на сторону дочерей. Рождение ребенка всегда было праздником в семье, поэтому-то и освещалось оно одним из главных христианских таинств – крещением. Родители, вместе с крёстными отцом и матерью, несли ребенка в церковь. Священник монотонно читал молитву, после этого погружал младенца в купель, надевал крестик, как правило, деревянный, на простой веревочке. Возвратившись домой, устраивали крестины – обед, на который созывали родню. Детей обычно крестили в самый день их появления на свет Божий или в ближайшие три дня. Имя священник давал чаще всего, используя святцы в честь святого, в день которого родился младенец.
Предположительно, в 1862 году, у работяги Аслана Пиросманашвили и его жены Текле родился мальчик, которого, в честь Святителя Николая Чудотворца, нарекли Николаем, или, говоря по-простому, Нико.
Рос мальчик мечтателем и фантазёром. Бывало, мать просила отцу в поле обед отнести, а он по дороге задумается, зайдёт не туда, а отец голодным останется. Или, позабыв обо всём на свете, запрокинет голову и наблюдает за перелетающими с ветки на ветку птицами, прислушиваясь к тихому умиротворению живой природы.
Однажды, когда началась пора сбора винограда и всё село собралось вместе – каждая пара рук была не лишней – мальчик улёгся под куст и стал мечтать:
– Эх, вот было бы хорошо, если бы каждая лоза была размером вон с тот тополь. Тогда бы соком от трёх её гроздей можно было бы наполнить большой квеври.
Вот так и сегодня, до самого заката мальчуган был погружён в свои наивные детские мечты. А придя домой, увидел мать, которая вышла подоить корову. Та упрекнула сына:
– Ты, сынок, хотя-бы делом каким-то занялся. А то поработал месяц подпаском и загрустил. Что толку-то от твоих воздушных замков? Смотри, даже детишки не тратят время впустую, как могут родителям своим подсобляют. Мечта – не молоко, из неё ни масла не собьёшь, ни сыру не сделаешь. Глянь по сторонам, повсюду люди работают. Им мечтать некогда!
Мальчик не поверил матери.
– Почему? – с удивлением спросил он. – Что плохого в том, чтобы мечтать?
– Это мешает работе, сынок, и делает человека бедным и несчастным. Потому мы, взрослые, уже и забыли, когда мечтали-то последний раз…
– Разве такое возможно, чтобы взрослые не мечтали? Этого не может быть! Вот старый дед, когда сажал этот виноградник своими натруженными руками, разве не мечтал он, как будет детей и внуков сладким виноградом угощать?
Ноги сами привели мальчика на другой конец села. Стало ему интересно, неужели только дети мечтают? Неужели единственным полезным занятием в жизни является работа, а мечтать просто вредно?
– Гамарджоба ар ици, бичо!? – по дороге шёл крестьянин, согнувшись в три погибели под грузом большой бочки на спине.
– Гамарджоба, Абесалом-бидзия! – вежливо поздоровался задумчивый мальчик. И тут же, воспользовавшись случаем, спросил бедняка:
– О чём ты мечтаешь?
– О чём мне мечтать, швило? – вздохнул тот и вытер рукавом морщинистое лицо, по которому текли ручьи пота, берущие своё начало из-под кахетинской вязаной шапки, что грела зимой и охлаждала летом. – Мечтаю вот, чтобы путь мой был покороче, а бочка эта проклятая – полегче. А большего мне и не надо. – и пошел дальше, кряхтя под грузом тяжкой своей участи.
Идёт Нико дальше и видит, как, расположившись на траве, под старым орешником, пируют три князя в длинных до колен чёрных чохах, из-под которых виднелись шёлковые ахалухи. Приблизился он к ним, снял шапку и низко поклонился:
– Почтенные князья. О чём вы мечтаете?
Рассмеялись они добродушно над его вопросом. Один из них, крайний справа, поднял наполненный до самых краёв красным вином буйволиный рог и произнёс:
– О чём мечтаю, спрашиваешь? Хм.., – он погладил свои усы и закатил глаза, – желаю я, видишь ли, добыть на охоте благородного оленя, и чтобы все жители нашего села сказали:
«Вай! Какой молодец наш князь! Какого красавца оленя добыл! Честь ему и хвала!». Вот сейчас допью это доброе вино, встану, положу в газыри патроны и велю слуге моё большое ружьё из мехового чехла вынуть и принести…
– Да что там олень? – вмешался второй князь, что сидел в середине. – Вот я, малец, мечтаю, чтобы в наших краях, как в старину, появился могучий лев, и чтоб я его победил! И чтоб все воскликнули: «Вай! Какой храбрец наш дорогой князь! Какой смельчак! В одиночку такого зверя одолел!». Вот отдохну, возьму свой острый кинжал и пойду этого льва искать!
– А я, – бахвалился третий, – мечтаю красавицу Тину в жёны взять! Чтобы все жители нашего края возгласили: «Вай-вай-вай! Молодец наш князь-джан! Такую красивую молодую жену в дом привёл!». Вот сейчас допью этот кувшин, облачусь в белую чоху, вышитую золотыми и шёлковыми нитками, возьму музыкантов вместе с их доли, пандури и саламури, и пойду к ней свататься!
– А не откажет? – спросил первый князь.
– Почему это она должна отказать? Она что, дура что-ли? Пусть посмотрит на меня – красивый, высокий, богатый! Дом есть, слуги есть, земля есть! Сабля есть! Что женщине ещё нужно? Побежит как миленькая, ещё умолять будет! – хвастал тот, даже не заметив, как мальчик отвернулся и пошел от них прочь своей дорогой.
Весь день Нико бродил по селу и его окрестностям. Всех встречных и поперечных спрашивал, а те не гнали его, отвечая на его вопрос – кто с улыбкой, а кто серьёзно. Рыбак поведал:
– Мечтаю поймать самую большую рыбу, чтобы за деньги, что за неё выручу, смог и крышу в доме дырявую залатать, жене новое платье справить, и детям гостинцев купить. Да ещё чтоб на рубаху осталось…
Дворник у княжеского имения мечтал, чтобы всегда были только весна и лето, объяснив при этом, что осенью листья спадают с деревьев и подметай–не подметай, всё толку нет, руки от работы отваливаются…
Встретил наш Нико и мальчика на худющем ослике, навьюченном огромными бидонами с водой. Тот предложил подвезти его, но Нико отказался. Ему показалось, что бедное животное взмолилось:
– Если бы ты знал, малец, как я мечтаю, чтобы мой хозяин поскорее вырос и пересел на коня… вот тогда я бы, наверное, смог передохнуть немного…
Проходя мимо поля, заметил Нико двух бедняков, которые, устав от полевых работ, лежали на мягкой травке и вели разговор о том – о сём. Подойдя к ним со спины и спрятавшись за одно из редких деревьев, стал он свидетелем такого разговора. Один из бедняков, окинув взглядом поле, говорит другому:
– Эх, было бы это поле моим, а не нашего жадного князя, развёл бы я на нём ослов!
– Зачем тебе эти упрямые животные? Нашёл кого разводить! Вот я бы хотел иметь столько овец, сколько на небе звёзд! – размечтался другой.
– Бичо, где же ты такую тьму овец пасти будешь? На моём, что ли, поле? Моих ослов без травы оставишь? – озадаченно спросил первый.
– Выходит, твоим ослам надо пастись, а моим овцам – нет? – обиделся второй.
– Не позволю тебе пасти овец на моём поле! – закричал первый.
– Не позволишь? – силой сгоню и тебя, и твоих ослов!
Слово за слово – разгорелся между ними спор. Пошли в ход кулаки, колотят друг друга нещадно. Пожалел их Нико, вышел из-за дерева и подошёл к ним:
– Уважаемые. Что вы не поделили?
Рассказали приятели, из-за чего заспорили. Пусть, мол, ребёнок их рассудит. А Нико им говорит:
– Зачем же драться? Поле, ослы и овцы – это ведь только мечта!
Молодые люди переглянулись. Казалось, им стало неловко от того, что мальчик учит их уму-разуму…
А тот пошёл себе дальше.
Подойдя к реке, увидел он, как скандалят две старухи, Циури и Маквала. Одна жила по одну сторону реки, другая – по другую. Об их сварливом нраве давно шла молва. Не успеет взойти солнышко, а они уже тут как тут, стоят на берегу реки и спорят, бранятся до самого вечера. И никто не знает, чего это они ссорятся да шумят, чего никак не поделят.
– Ах ты, ведьма проклятая! Не спущу тебе ни одного слова! – кричит одна.
– Гляньте-ка на эту… на эту дочку осла, на осле сидевшую, осла погонявшую! – раскричалась в ответ вторая. – Погоди, доберусь сейчас до тебя, за волосы оттаскаю! – и, подобрав подол платья, почти ступила ногой в реку. Речка неглубокая, а камни в ней мшистые и скользкие. Доковыляла сварливая до середины, поскользнулась и плюхнулась в воду: «Вай ме!».
Мальчик наш пожалел старушку, бросился к ней на помощь, подхватил под руку, вывел на берег и усадил на сухой камень. А потом своими ручонками поправил старухе сбившиеся волосы, и повязал на голову сползший платок.
Старуха сперва молчала, а потом со слезами взглянула на своего маленького спасителя и горько заплакала. Стыдно ей стало перед ним.
– Циури, ну будь ты человеком! – попросила она соперницу. –Я ведь об одном тебя прошу – чтоб собаки твои не лаяли день и ночь напролёт! Спасу от них нет! Голова раскалывается!
А Нико, услышав это, подумал, что, как видно, и у дряхлых старух может быть мечта. Неужели его односельчане теперь, наконец-то, смогут обрести покой, когда они угомонятся?
А потом, спустя некоторое время, заметил он прекрасную девочку и ситцевом платьице. Та стояла на зелёной лужайке и весело играла с красным воздушным шариком.
– Ты кто? – кокетливо спросила она, спрятав шарик за спиной и с любопытством разглядывая мальчика. – Как тебя зовут?
– Нико, – застенчиво ответил он и покраснел. – А ты?
– Я Иамзэ, – звонко сказала та и засмеялась, став похожей на маленькое солнышко.
– А что это у тебя там? – Нико указал пальцем на воздушный шарик. Он никогда раньше не видел такой диковинки на шёлковой ниточке.
– Это шарик. Он умеет летать. Я взяла его на время у хозяйской дочки, она только из Тифлиса приехала. – с этими словами чудесная девочка с лёгкостью подбросила шар над головой и его отнесло ветерком в сторону. Она побежала за ним вдогонку, а Нико следил за происходящим, широко раскрыв глаза от удивления.
– Что это ты такой рассеянный, а? – на широком личике этой прелестной девочки вновь появилась улыбка и мальчик смутился.
– Молчишь? Язык проглотил, что-ли? Или мечтаешь?
– А откуда тебе знать, что я мечтаю? – спросил он, не зная, что ответить.
– Да это видно за версту! Ходишь себе, с поднятой головой, ворон крикливых считаешь…
– А ты… ты умеешь мечтать? – робко поинтересовался он.
– Умею…
– А о чём?
– Не скажу. Я ведь пока тебя не знаю. А ты… ты, если хочешь, мечтай. Мечта – это хорошо! Она – ну вот как этот воздушный шарик… Когда он есть, ты к нему привыкаешь и перестаёшь замечать. Он кажется ненужной игрушкой. Совсем бесполезной. А когда он умрёт…
– Кто умрёт? – перебил её Нико. Теперь он уже совершенно ничего не понимал.
– Шарик… Я знаю… У меня уже так было однажды… Он когда-нибудь обязательно лопнет. Вот нарвётся на колючку и лопнет. Или улетит ввысь, к небесам, если отпустить ниточку. Вот тогда понимаешь, как тебе его не хватает… – её личико вдруг стало таким печальным, что Нико стало по-настоящему жаль её.
– А где ты живешь, мальчик Нико? – вдруг спросила она с живым интересом. – И что делаешь?
– Живу там, – он махнул рукой, указывая на край села. – А ещё помогаю родным, работаю подпаском. Вместе с чабаном гоняю княжеских овец, чтобы стадо не разбредалось по долине, и не терялось на горных склонах… чтобы овцы волку в зубы не попались. А ты?
– Я пока не работаю. Но скоро, как закончится ртвели, буду помогать маме делать пеламуши и чурчхелы.
– А где твои родители?
– Отца у меня нет, а мама трудится в барской усадьбе… Ладно, мальчик Нико. Мне надо домой. Приходи ещё! – она нежно помахала ему своей ручкой и весело побежала к покосившемуся набок деревянному дому.
Он, провожая взглядом маленькую Иамзэ, вдруг вспомнил, что бродит уже целый день, а дома, должно быть, мама волнуется…
Матушка действительно стояла у калитки, дожидаясь сына.
– Куда же ты пропал, мечтатель мой неисправимый!
Он бросился матери на шею, рассказал, что узнал и увидел за день, мол, у каждого в нашем селе есть мечта. И у детей, и у взрослых, и даже у худющего, но очень выносливого ослика…
– А ты у меня спроси, сынок, о чём я мечтаю… – она ласково глянула на Нико.
– О чём, дэдико?
– Я мечтаю о том, чтобы ты вырос и стал хорошим, уважаемым человеком. Чтоб семья у тебя была большая и дружная…
– А что я должен делать, дэда, чтобы меня уважали?
– Не отлынивай от работы. Уважай старших и помогай им всегда…
* * *
В тот вечер Нико долго стоял у калитки и глядел вверх, в звёздное небо. Солнце давно зашло, унеся с собой свои яркие краски. А возле реки появился туман, который неторопливо начал застилать всё вокруг.
Он вдруг предался воспоминаниям, вспомнил о монастыре Святой Нино в Бодбе, что находится недалеко от Мирзаани, и куда он, маленький Нико, пройдя пешком через лес, недавно наведался, не спросив разрешения у матери. Красота тех мест поразила его. Цветники, ухоженные лужайки, церковные постройки, подсобное хозяйство, виноградники, целебный источник. Но самое главное – он узнал, что здесь покоились останки Святой Нино – просветительницы Грузии. Здешний старый монах-отшельник, заметив интерес мальчика, поведал ему о жизни Святой Нино из Каппадокии. Он рассказал, что главной целью, которую возложила на Святую сама Богородица, было просвещение Иверии, потому-что Иверия – это первый удел Божией Матери. Господь являлся Святой Нино в видениях и благословил её на подвиг, а Дева Мария вручила ей крест из виноградной лозы. Так она и попала в Бодбе, где на вершине горы разбила палатку и поселилась в ней, неся свою веру человечеству и помогая людям, излечивая их от различных недугов. Среди спасённых ею была и царица Нана, которая уверовала вместе со своим мужем Мирианом, а вскоре и весь грузинский народ принял христианство в реке Арагви у Мцхеты. Когда Святая умерла, царь Мириан повелел перевезти её мощи в древнюю столицу Грузии – Мцхету. Пара волов и 200 человек не смогли сдвинуть с места карету с её телом. Тогда царь приказал захоронить её на том месте, где стояла её палатка, а уже перед своей смертью наказал жене, чтобы она половину казны отдала на возведение храма над могилой Святой. В 17 веке кахетинский царь Теймураз I открыл в монастыре духовную семинарию с самым большим в стране собранием религиозных книг и школу живописи. Больше всего маленького Нико поразили фрески храма. Видимо, именно они и разбудили в нём художника…
Той ночью он спал, свернувшись в клубочек, и на его губах блуждала слабая мечтательная улыбка. О чём он думал? О прелестной Иамзэ, что повстречалась ему сегодня и улыбкой своей покорила его маленькое сердце? Или о том, кем он станет, когда вырастет?
Ночью ему приснилось, что слышит он за окном удивительный топот коня. Такой громкий, какой не слышал никогда. Выйдя из дома, он видит всадника в серебряных доспехах и голубой мантии, с золотым копьём в руке, сидящего на могучем серебряном коне. Он пугается и начинает молиться. А всадник говорит ему:
– Подойди ко мне, сынок! Не бойся. Ты знаешь, кто я?
– Нет. – Нико испуганно помотал головой.
– Я Святой Гиоргий – небесный покровитель Грузии. Ты слышал обо мне?
Конечно, Нико слышал об этом святом. И видел его образ, умерщвляющий дракона. А старый монах-отшельник в монастыре Бодбе, рассказывая о Святой Нино, упоминал его как двоюродного брата Святой Нино, совершавшего свои победы над злом и грехом. Из уст Святой народы Грузии впервые узнали о жизни и мученичестве её великого брата.
– Да, мне говорили, что вы – покровитель воинов, земледельцев, пастухов и путников. Вам молятся об избавлении от злых сил…
– Молодец, Нико… Господь не обделил тебя разумом! Наблюдал я за тобой сегодня, сынок. Видел, как ты старухе немощной помог, как спор двух приятелей разрешил. Доброе у тебя сердце. И пытливый ум. Ты вот ходил и выспрашивал у людей, о чём они, бедолаги, мечтают. И во всём селе не нашлось ни одного человека – ни старого, ни малого, кто бы в ответ поинтересовался о твоей мечте. Вот и решил я восстановить справедливость. Скажи мне, не бойся, какая у ТЕБЯ мечта?
– Больше всего на свете я мечтаю научиться рисовать, чтобы все мои фантазии перенести на картины, и чтобы люди в селе уважали меня, говорили, любуясь: «Вай, какой талантливый художник наш Нико!»
– Так и быть! Я дам тебе то, что ты способен будешь взять. Но смотри, то, что дам – не расплескай! Быть тебе большим художником, сынок. Но путь твой будет тернист. Не головой будешь жить, а сердцем. Так все грузины должны жить, чтобы Бога вмещать. А в голове… в ней живут одни лишь сомненья…
Нико слушал Святого насторожённо, храня молчание и глядя на него с испуганными глазами.
– Ты будешь слышать шёпот ветерка, эхо, доносящееся с высоких заснеженных гор, гул старых колоколов. Они будут твердить тебе: «Помни, ты избранный!» Ты будешь жить, чтобы служить добру, любви и красоте. И примешь муки за это. Но смотри, не дрогни, не уклоняйся от своей судьбы. Так ты достигнешь бессмертия и утвердишься в Царстве Небесном.
А картины… картины, которые ты будешь продавать за гроши, когда-нибудь станут бесценны. Но это не важно. Главное, будь хорошим человеком – всё, что делаешь, делай по совести. Не забывай, всё временно, всё бренно. Будешь земным – в прах превратишься, а будешь жить для вечности – тогда станешь как тот гордый орёл, что высоко летает над земной суетой…
И помни имя своё. Ты – Нико Пиросмани. Ты избранный. Иди к Богу и возлюби Его так, как Он возлюбил тебя.
Глава 2. Слеза виноградной лозы
Нико сладко спал в своей кровати, а в ушах тихо звучала мелодия колыбельной «Иавнана», которую мать, видимо, всё ещё считая его младенцем, пела ему каждый вечер перед сном своим завораживающим голосом:
«Иавнана, Вардо Нана, Иавнанинао,
Даидзине, генацвале, иавнанинао»…
Но его сонливое умиротворение и покой были потревожены шумом, доносившимся через окно. Только начинало светать. Это были властные пронзительные звуки, издаваемые их старым горластым петухом по кличке Мамало, который без устали кукарекал на всю округу, бессовестно разрушая благоговейную тишину своими хриплыми криками. Вслед за ним последовал лай соседских собак, а издалека протяжно замычала голодная корова. Нико был уверен, что она голодная, потому что, вдоволь наевшись травы или сена, корова не мычит. Это отчаянное кукареканье давно досаждало и будоражило его детский разум. Он даже несколько побаивался этого петуха после того, как тот однажды клюнул его выше колена. Тогда отец пообещал, что сейчас же, одним движением руки, отсечёт голову этой злобной и драчливой птице. Но мать его остановила, сказав, что Мамало прекрасно выполняет свои обязанности по хозяйству, и, помимо всего, он смел и отважен, и получше любой кавказской овчарки сторожит дом. И безумный петух, ощущая опору в лице хозяйки дома, что поила его и кормила пшеном, подсолнухом и кукурузой, позволял себе кукарекать, когда ему вздумается, невзирая на ранние часы, отчаянно, до крови, дрался с соседскими петухами и нахраписто преследовал чужих кур. Они же, питая к нему нежные чувства, вовсе и не торопились от него бежать, а ласково ему кудахтали, находясь в абсолютной уверенности, что солнце всходит только потому, что поёт вояка Мамало. И вот сейчас этот, до сих пор не съеденный «вестник зари», глухо шлёпал своими крыльями и, очевидно, не считал себя кем-то иным, кроме как горным орлом, а может, и двуглавым, со всеми сопутствующими атрибутами власти – скипетром, державой и тремя коронами…
* * *
– Неважны наши дела, Текле, – услышал Нико голос отца. – Плохо земля кормит. Уже и не знаю, что делать будем. Как семью содержать?
– Как-нибудь перебьёмся, Аслан, – успокаивала его мать, говоря тихо, чтобы не разбудить детей. Она пряла шерсть для чохи и изредка поглядывала на кипящий над огнём котел. – Если Бог дал нам детей, Он и поможет найти для них хлеб. Я вот вязать стану по ночам. Купим ещё шерсти у князя. Кахи, его работник, ведь овец стрижёт. Помою я её, прочешу и накручу нити…
– Да где тебе, Текле? Ты вон и так с утра до ночи горбатишься, посмотри, совсем на старуху похожа стала…
– Детей-то надо на ноги поднимать, Аслан…
– Мариам уже не ребёнок, выдать её надобно замуж…
– Да что ты говоришь, Аслан? Замуж! Кто её возьмёт, слабую здоровьем? Какая из неё жена и мать? И в приданое что дадим, ты подумал? Этот дырявый ковёр снимем со стены? – спрашивала Текле, качая головой, а тот только вздохнул в ответ:
– Ну что за мужчины пошли, Текле, если они только за богатством гонятся? Главное ведь, чтобы молодые любили друг друга, остальное неважно. Хотя, к чему об этом сейчас толковать? – он обречённо махнул рукой.
– Дети помогают нам как могут – и Мариам, и Гиоргий, и Пепуца, и младшенький наш – Нико…
– Я заберу сегодня мальчугана с собой, Текле. А то бродит бесцельно по селу, думает о чём-то своём, журавлей в небе считает…
– Да, Аслан. Пусть подсобит тебе. Посмотри на свои руки. Пальцы не можешь разогнуть от мозолей и порезов.
– Крепкие гроздья уродились в этом году, руке не поддаются. Приходилось срезать их ножиком.
– Хороший ты человек, Аслан. Вижу я, как спину гнёшь, из кожи вон лезешь, чтоб семью обеспечить… Всё своё умение проявляешь на винограднике. С каждым кустом разговариваешь, уговаривая его расти и плодоносить, ранней весной лозу гладишь, жалея её после сильных заморозков. Любишь ты своё дело, в нём ты не от мира сего, и отдаёшься ему без остатка.
– Вчера закончили сбор винограда, Текле. Уложили богатый урожай в плетёные корзины, а затем потихоньку перенесли в княжеский марани. Места там уже свободного не осталось!
– Ну слава Богу и Святому Гиоргию! Услышали они наши молитвы, послали сухую погоду на ртвели…
…В тот день Нико помогал отцу в винодельне, что стояла в большой усадьбе князя, недалеко от виноградников. Капитальное марани, построенное из камня, с орнаментом на наружных стенах и с красивым убранством внутри, хранило в себе не только вино. Здесь хватало места и для других фруктов и овощей, а также солений и других припасов на зиму. Внутри было тихо и прохладно. У стены находился сацнахели, чан-давильня, похожий на лодку-долблёнку из ствола большого дерева.
Наполнив сацнахели гроздьями винограда из кошёлок, что занимали почти четверть всего марани, отец приказал сыну хорошо помыть ноги в тазу с водой, и влезть в чан, на груды винограда.
– Будем делать вино, сынок! – гордо объявил он. – Видишь, как блестят эти плоды? Они впитали в себя солнце виноградной лозы. Смотри и хорошенько запоминай! Это дело передаётся от отца к сыну. Сначала будем давить виноград…
– Вместе с веточками и косточками, отец? – наивно спросил Нико.
– Да. Так надо. Так делал мой отец…
– Мой дед? А его кто научил?
– Его научил его отец, и его отца отец, и его дед, и прадед. От самого Адама…
– От какого Адама?
– Адам – это самый первый человек на земле. Все люди – его дети. Особенно грузины. Вот скажи мне, ты кто?
– Я? Нико. Николай Пиросманашвили…
– Слушай, я знаю, что ты Нико. Я сам тебя так назвал. Я спрашиваю, кто ты, Нико?
Мальчик задумался на мгновенье, а потом робко произнёс:
– Человек…
– Правильно. Ты адамиани. Значит – от Адама. Понял?
– Он тоже любил вино, отец? – простодушно спросил мальчик.
– Кто? Адам? А как же? Ещё как любил! Ты что, думаешь, Адам одни яблоки что-ли жевал?
Они вместе – отец большого семейства, этот безотказный работяга, берущийся за любое занятие, и его сын – в неторопливых беседах и шутках, давили ногами сочный и спелый виноград. Нико наблюдал за тем, как выжатый сок из давильни, вместе с перемолотой кожицей, косточками и веточками, попадает в зарытые в землю квеври. Какое это было весёлое и захватывающее занятие!
– Ты не бойся, сынок, сколько бы грязи ни попало в квеври, всё уйдет в осадок…
– Это уже вино, отец?
– Нет, пока это просто сок. Он будет бродить под землёй до тех пор, пока не превратится в вино, сынок. Но его надо время от времени навещать, спрашивать у него, как оно поживает. Оно ведь живое – дышит под землёй, всё слышит и чувствует! Надо следить, когда мезга поднимется наверх и создаст на вине плотную «шапку». Тогда эту «шапку» надо разбить и всё хорошо перемешать, а то вино скиснет, станет уксусом. А вот когда мезга опустится на дно, это значит, вино нам говорит, что надо квеври плотно закупорить, чтобы внутрь воздух не попал. И оставить вино в покое до весны. Пускай спит себе мирно. А в марте его надо разбудить, и осторожно, чтобы не поднялся осадок, перелить в бутылки…
Мальчик внимательно его слушал.
– Вино у нас принято пить молодое, пока ему один-два года. Но можно и долго хранить. Ты вот когда родился, я на радости заложил маленький квеври. Выпьем из него благородного вина на твою свадьбу. Надеюсь, доживу до тех дней. Позовём всё село кутить. Накроем большой длинный стол, положим на него цыплят тапака, лобио, пхали, хачапури, сациви, соленья, спелые помидоры, киндзу и петрушку, шашлык, горячий шоти, и настоящий сацебели… И, конечно, вино! Ты ведь слышал легенду о рождении вина, Нико?
– Нет, отец.
– Нет? Так я тебе расскажу сейчас. Каждый грузин должен знать её.
Были времена, когда люди ещё не умели готовить вина. Виноградные лозы росли в лесу, а ягоды клевали птицы. Один бедный грузинский крестьянин принес дикую лозу из лесу и посадил ее перед домом. Лоза дала хороший урожай, и все с удовольствием лакомились виноградом. На следующий год крестьянин прибавил ещё десять лоз, на третий – сто и таким образом развел целый виноградник.
Однажды осенью бедняк собрал виноград и выжал из него сок. Сладкий виноградный сок понравился всем. Не выливать же столько приятного нектара! Крестьянин разлил его по кувшинам и спрятал на зиму. Через два месяца решил он испробовать – у сока оказался приятный вкус. Удивился мужик: как неказистая лоза смогла дать такие удивительные плоды! Созвал он гостей – своим открытием похвастаться.
Первым пожаловал соловей. Выпил он стаканчик и воскликнул:
– Кто отведает этого напитка – будет петь, как я!
За ним пожаловал петух. Выпил он стаканчик и провозгласил:
– Кто отведает этого напитка, будет петушиться, как я!
Последней пожаловала жирная свинья. Она тоже выпила стаканчик и, хрюкая, объявила:
– Кто отведает этого напитка, будет валяться в грязи, как я.
С той поры так и действует вино на человека. Когда человек пьёт немного вина, его речь, порой, можно слушать как соловьиные трели. Если выпьет чуть больше меры, – становится похож на нашего петуха Мамало, у него рождается иллюзия, словно может он преодолеть любое препятствие. Всё ему нипочём! Ну, а крайне опьянев, человек уподобляется грязной свинье, – нетрудно догадаться, почему.
– А ты говорил, отец, что ещё первый человек на земле, Адам, пил вино… Как же он тогда пил, если виноградник развёл один бедный грузинский крестьянин?
– Я сказал, что наверно пил… Кто же его знает, сынок, этого Адама? – недовольно ответил отец, но Нико его не слышал. Он молча о чём-то думал, а потом простодушно спросил:
– Ты винодел, отец?
– Какой я винодел, сынок? Вот мой дед, Царство ему Небесное, был настоящим виноделом. Умел по вкусу, с завязанными глазами, определить не только сорт винограда, но и место, где он рос, и даже. год, когда его собрали. А с помощью гибкого прутика лозы мог он питьевую воду под землей найти, всегда точно указывал, где надобно колодец рыть! Столько секретов знал, что лучшего винодела во всей Кахетии никогда и не было! Всегда говорил он, что «плохой человек никогда не сделает хорошего вина». А я…я только за виноградниками ухаживаю и помогаю природе рождать вино! Природу ведь не обманешь, сынок, как простого человека. И землю нельзя! У настоящих виноделов любовь к земле заполняет их сердца и они готовы пожертвовать жизнью во имя нашей родины, благословенной Грузии. И ещё, ты запомни, сынок, что вино – это не просто напиток. Это живое существо, со своей душой. Если виноградник гибнет от града, то это не меньшее несчастье в семье, чем смерть самого близкого тебе человека. Не будь вина, и самой Грузии не было бы. Оно хранит Грузию, даже вот христианство приняли с крестом из виноградной лозы. Нет в нашей стране ничего лучше, ничего правдивее и ничего старее вина. Оно бессмертно, оно вечно и в нём можно найти весь мир. Рог, наполненный им, поднимают не с целью выпить, а потому что это повод сказать людям то, что не скажешь в другое время. А народ наш грузинский всегда пил – и когда ему было хорошо, и когда он плакал. Потому что вино, дорогой мой сын, это и есть слеза. Слеза виноградной лозы…
Глава 3. Старый Тифлис
Несмотря на то, что родители Нико трудились, не покладая рук, семья Пиросманашвили всё же жила впроголодь, перебиваясь жалкими крохами. Были дни, когда у них не было ничего, кроме хлеба с сыром. А когда и последнего не было, то пищей были хлеб с луком или со слабым кисленьким вином, – хлеб мочили в вине и так ели…
Отец, обладая недюжинной силой и трудолюбием, перебивался случайными заработками. Мать и дети фактически батрачили, а сам Нико пас телят и овец. В жестоком сражении за жизнь, в борьбе против нужды и голода, семье пришлось покинуть родные места и перебраться в Шулавери, большое село в пятидесяти верстах к югу от Тифлиса. Здесь, в имении «Иверия», принадлежавшем богатому тифлисскому землевладельцу армянину Ахверду Калантарову, Аслан нанялся ухаживать за виноградниками.
Хозяйство в Шулавери вела жена господина Калантарова, престарелая и добрая душой Эпросине-ханум, со своими многочисленными детьми – тремя дочерьми и троими сыновьями.
Хозяйка была щедра и платила исправно и, казалось, жизнь семьи должна была наладиться на новом месте. Но злосчастия всегда приходят не вовремя, нанося в спину свои нещадные удары. Внезапно и скоропостижно умер старший сын Аслана и Текле, Гиоргий. Ему только исполнилось пятнадцать лет. Когда это случилось, Текле, вся в чёрном, билась в горьких рыданиях, низко опустив голову над мёртвым телом, всё ударяла себя в грудь и кричала:
– Вай ме, швило! Гиоргий!
Чуть не обезумела от великого горя.
Похоронив сына, она долго оставалась безутешной, ведь несчастье её было просто сокрушительным.
А ещё спустя два года, поздней осенью 1870-го, умер отец. Расплатился таки смертью за свое неуёмное трудолюбие.
Вслед за ним ушла и мать. Она, высыхая от горя, скорби и тоски, уходила тихо и медленно. Казалось, после того, как легли в эту землю её сын и муж, ей не хотелось больше по ней ходить. Сначала она прекратила петь сыну перед сном колыбельную «Иавнана», потом перестала ждать его у калитки, а только всё больше лежала в доме, до тех пор, пока навсегда не исчезла из виду.
Самая старшая из детей, Мариам, к тому времени вышла замуж за какого-то заезжего землемера по имени Алекси и уехала в соседнюю с их Мирзаани деревню Озаани. Там она разродилась дочерью, но, будучи от рождения слабой здоровьем, внезапно захворала, а вскоре и сама покинула этот мир, сошла в сырую могилу, воссоединившись на том свете с родителями и братом.
Была семья и уже нет её! Вот так, от большого и дружного семейства Аслана Пиросманашвили из шести человек остались только две круглые сироты – сестра и брат – Пепуца и Нико.
Чтобы решить судьбу детей, из Мирзаани приехали родственники. Сели, выпили, погоревали и решили, что Пепуца вернётся в родной дом в Мирзаани, где, под присмотром родни, будет заниматься хозяйством. Нико же останется в Шулавери, в имении «важных господ» Калантаровых, у которых ребёнку будет и тепло, и сытно.
– Оставайся здесь, Никала. Тебе ведь хорошо у нас? – пожилая Эпросинэ-ханум, обняв мальчика, ласково посмотрела на него своими внимательными и сострадательными глазами. Для каждого жило в ней доброе слово, а её мягкий покладистый характер делал её другом для любого, кто хотел этого.
– Ты не отчаивайся, швило-джан! Милосердный Святой Гиоргий привел тебя к друзьям, которые будут любить тебя и постараются заменить тебе утраченное. Вот и матушка твоя бедная, Текле, да упокой Господь её душу, предчувствуя близкую кончину, просила меня позаботиться о тебе, чтобы мы стали тебе семьёй… Так и сказала, мол, поручаю моего Никалу прежде всего Богу, а потом вам, Эпросинэ-ханум. Что тебе подарить, сынок, чтобы ты позабавился?
– Я хочу рисовать, Эпросинэ-ханум, – сказал он, и слезы навернулись на его глаза.
– Не называй меня «ханум», Никала. Говори просто «бабушка». И не плачь, ты ведь мужчина! Шени чири ме! Привезём тебе из Тифлиса красок и бумаги, рисуй, сколько душе угодно!
Так и порешили. Добрая женщина оставила мальчика у себя и заботилась о нём как о родном человеке.
Бывало, по вечерам Эпросинэ-ханум садилась за старинный карточный стол со своей взрослой дочерью, и они с азартом играли в какую-то странную игру. Увлеченные, они обе с такой прытью и возбуждением кидали кости, выкрикивали непонятные слова «чари-ек», «шешу-беш», «чару-ду», «дубара», «беш-дорт», и так грозно стучали фишками по деревянной, богато инкрустированной поверхности, что мальчику становилось жаль эту несчастную доску, что стойко выдерживала подобные удары. Судя по всему, дочь постоянно была в проигрыше, поскольку, обсуждая каждый ход, досадовала, что не так он был сыгран. Женщины спорили и громко бранились, пока случайно Эпросинэ-ханум не заметила Нико, тихо стоявшего уже долгое время за её спиной.
– Поди сюда, сынок! – мягко сказала она, завидев его любопытство. – Чего смотришь? Тебе интересно? Я научу тебя играть, если хочешь… Игра эта старинная называется «нарды» и досталась она мне от любимой бабушки Нектаринэ. Великим была она знатоком в этом деле! С любым мужчиной могла сразиться, и не помню, чтобы она кому-нибудь проиграла. Смотри, это «зари» – игральные кости, – она стала показывать ему белые кубики из слоновой кости с чёрными точками на них и объяснять правила…
– А что это за слова, бабушка, которые вы произносите криком?
– Это цифры… Ты не поймешь, Никала. Здесь смешались разные языки – индийский, персидский, турецкий…
– А почему же нельзя говорить на понятном языке: «один-пять», «четыре-три»…?
– Э-э-э, швило, так не пойдёт! Это было бы недостойно… И не тычь пальцем, считая ячейки, которые прошёл «камень». Смотри как делаю я. – и она, театрально изобразив на добром своём лице орлиный взгляд, охватила им всё поле и мгновенно перебросила «камень» на нужное место. – И не думай, что соперник не следит за правильностью твоих ходов, как бы быстро ты их ни делал. Ещё как следит!
Хорошо ему жилось в этом милом доме в Шулавери, где он впервые услышал от домочадцев армянскую и русскую речь. Здесь, с утра и до вечера, его окружали уют и тепло. А когда приходила ночь, ему непременно снилась Кахетия, этот благодатный край Грузии – живописные горы, суровые древние монастыри и царство бесконечных виноградников, в котором к осени с вьющегося винограда уже тяжело свисали налитые гроздья, на рассвете покрытые росой, как слезинками, и готовые утолить и опьянить своим соком жаждущего. Под солнцем их лиловые ягоды становились настолько прозрачными, что сквозь тонкую их кожицу просматривались косточки.
Ему снилось родное село Мирзаани, что раскинулось на холме прямо над Алазанской долиной, с бескрайними своими полями и пасущимися на них отарами овец, деревенский двор, их крикливый петух Мамало и рябая курица с пушистыми цыплятами. Грезилась исхудавшая мать, стоявшая у калитки в ожидании сына. И та девочка – Иамзэ – с весёлым воздушным шариком в руках, что так приглянулась его душе…
* * *
Спустя пару лет один из сыновей Эпросинэ-ханум, Гиоргий, увез мальчика в Тифлис:
– Пусть Никала поживёт в столице, матушка. В Тифлисе ему будет поинтереснее. Хоть свет повидает! Хватит ему сидеть тут, в этой глуши…
И вот, спустя всего несколько дней, мальчика, привыкшего к деревне, и не видевшего в своей короткой жизни ничего, кроме крестьянского быта, усадили в восьмиместный дилижанс на конной тяге, куда вместе с ним уложили его небогатый скарб, и он, в сопровождении дяди Гиоргия, тронулся в путь.
Всю дорогу он смотрел в окно и с сожалением наблюдал за тем, как мало-помалу менялся ландшафт, как стали исчезать поля и становиться безжизненными холмы. Добродушный Гиоргий, заметив испуганность мальчика, старался веселить его на протяжении всего пути. Они проехали сады Крцаниси и Ортачала, затем миновали кривые домики в Харпухи и серные бани, чьи купола торчали прямо из земли и источали густой пар и такой странно-удушливый запах, что Нико, чтобы защититься от него, пришлось зажмуриться и закрыть нос и рот обеими руками.
– Смотри, Никала, это Метехская крепость. – рука дяди указывала направо. Там, на высокой скале над Курой, возвышалось здание, окружённое какими-то постройками. – Сейчас это царская тюрьма, – прошептал он, наклонившись к уху мальчика. – А площадь эта есть татарский Мейдан. Самое «сердце» нашего Тифлиса.
Взгляд мальчика уловил разгорячённые и лукавые глаза купцов и торговцев, в подвижной выразительности следивших за своим товаром и жадно выискивавших новых муштари на этой небольшой площади, сжатой со всех сторон кривыми и косыми «карточными» домиками.
Их дилижанс двинулся в сторону Армянского базара, вечно шумного и деятельного. Эта улица начиналась с самого Мейдана и поднималась вверх, заканчиваясь на Эриванской площади. Они проезжали мимо развалин, на которых всесокрушающее время нарисовало узоры глубоких трещин, и мимо домов новой архитектуры с прекрасной лепниной в причудливом восточном вкусе. В одном месте путь им преградило множество арб, ведомых нерасторопными, вечно жующими буйволами, а затем – караван из нескольких десятков диковинных животных. Дядя Гиоргий пояснил, что это верблюды. Они, мерно покачиваясь и гремя бесчисленным множеством бубенчиков, несли на своих горбах пёстрые ковры Персии и богатые шали Индии.
Наконец, дорога освободилась. Возничий стегнул лошадей и дилижанс со скрипом тронулся с места. Пробираясь взглядом по этим улицам и закоулкам, Нико на каждом шагу встречал ремесленников, работающих не в мастерских, а под открытым небом, на солнце, раскаляющем своими прожигающими насквозь лучами груды камней, сложенных в дома и сакли. Всё самое лучшее, что производил Восток, всё это было собрано здесь, на этой улице, деловитыми армянами: различных оттенков сукно, кожаные ремни, бурки, оружие горцев. И персидские узорные ковры, шёлковые ткани из самого Китая…
– Устал, сынок? – голос дяди Гиоргия отвлёк Нико от мыслей. – И проголодался, небось? Уже до дома рукой подать… Потерпи немного… вот приедем сейчас, сядем за стол и поедим горячую чихиртму с курицей и горячим лавашом… Ты ведь любишь чихиртму?
Нико утвердительно кивнул. Действительно, он впервые испробовал этот густой суп в имении Калантаровых, и он ему очень нравился. Особенно, когда его мастерски готовила сама Эпросинэ-ханум.
Недавно отстроенный двухэтажный родовой дом Калантаровых располагался в Сололаки, на Садовой улице. Здесь многие дома были застроены богачами, застроены домами каменными, в стиле ампир, с грифонами и купидонами на фасадах, с аккуратными железными балкончиками, и с нарядными, порой, помпезными, подъездами, где на столбах, рядом с лестницей, были фонари, которые торжественно освещали всю парадную с её лепниной и пилястрами. Это было типично тифлисское жилище: гостеприимно распахнутое, щедрое и шумное. Здесь, в этом дворянском гнезде, поселилось большое и дружное семейство: три брата – Гиоргий, которого, как потом узнал Нико, в Тифлисе звали на русский манер Егором, Мелик и Калантар. Первые двое были крупными предпринимателями, владели конным заводом в Шулавери, маслобойнями. А Калантар был владельцем большого караван-сарая. Хозяйством в доме управляли в основном женщины – в нём часто рождались дети, и маленький Нико рос вместе с ними на правах родственника и понемногу постигал основы тифлисских дворовых игр.
– Разве ты не умеешь играть в «авчалури», Никала? Все дети знают эту игру!
– Нет, не умею, – ответил мальчик. – Зато я умею играть в нарды.
– Смотри, – говорил один из домочадцев, Михо, – видишь этот мешочек?
– Вижу…
– Он сделан из старого маминого чулка или наших порванных носок, с зашитой в них горстью сухого красного лобио или кукурузных зерен. Или гороха. Потому от него такой шум. Его надо подбрасывать вверх, ударяя снизу ботинками – сначала правым, потом – левым. А все другие будут считать. Выигрывает тот, кто сделает это большее число раз…
Было видно, что Михо, да и другие мальчики в доме Калантаровых, были виртуозами в этой забаве, умудряясь подбрасывать «авчалури» несколько сотен раз, перебрасывая мешочек с ноги на ногу, поддавая его то носком ботинка, то пяткой, а то и вовсе лодыжкой. И Нико вскоре с досадой признал, что ему никогда не победить их в этом странном развлечении, которое ему захотелось назвать «летающим носком».
А ещё он научился играть в «кочи», поначалу искренне удивляясь тому, что дети в Тифлисе деловито бросают в воздух эти причудливой формы бараньи косточки, покрытые лаком, выкрикивают непонятные слова «алчу-кочи!» или «тохан – бабои похан!», и находят в этом озорстве большое удовольствие. Михо сообщил ему, что право первого хода получает тот, у кого эта косточка встанет на ребро:
– Это называется «алчу», Нико. Я вот сейчас выброшу свой кочи вперёд, а ты должен в него попасть своим кочи. Если не попадёшь, тогда придёт моя очередь целиться. И если я попаду, то получу в приз твой кочи. Понял?
В некоторые забавы можно было играть вместе с девочками. В жмурки, ловитки, семь камешков или «кучур – на место». А в паузах между играми они мимоходом злили дворника Шамо, что ежедневно мёл всю Садовую от начала до конца, при этом напевая зычным голосом:
«Любил я очи голубые, теперь люблю я чёрные.
Те были милые такие, а эти непокорные…».
Он был небольшого роста, чернявый. Ежедневно, после работы, он надевал на себя странное приспособление, похожее на «козу» из набитой шерстью ковровой ткани, под названием «куртан», и шёл подрабатывать носильщиком. Говорили, что с помощью куртана, в лямки которого он вдевал свои большие руки, он мог в одиночку поднять пианино на третий этаж, перехлестнув груз ремнём.
Так вот, когда Шамо входил в маленькую будку, чтобы спрятать там свою метлу и огромный жестяной совок, озорники запирали его будку снаружи и дразнили его на тифлисском наречии из смеси русского, грузинского, армянского, курдского языков. До поры до времени муша Шамо терпел их наскоки, лишь устало улыбался детворе, но и его терпению пришел конец. Первым под его горячую и сильную руку попал Михо.
– А-ах шени, бемураз ты такой! – поймав того за шиворот, дворник затащил его в будку и усадил на табурет напротив себя. Михо с ужасом следил за его правой рукой, крепко сжимавшей рукоять метлы. Но Шамо прочел мальчугану краткую лекцию на тему «старший-младший», а в конце произнес фразу: «Сынок, – сказал он, – если не можешь сделать ничего хорошего, то и плохого не делай!». С этими словами муша Шамо выпустил его из будки, одарив на прощанье горстью конфет. Притихшие дети, ожидавшие суровой расправы над товарищем, были озадачены, когда он делился с ними сладостями и жизненной философией муши Шамо.
Но, поскольку Калантаровы держали детей, по мере возможности, в строгости, и, бывали дни, когда глаз с них не спускали, то предпочитали неуёмные сорванцы обитать в соседних дворах, что победнее, с лёгкостью находя там новых друзей для своих игр и шалостей. Во дворах этих была особая прелесть – длинные и широкие деревянные резные балконы-галереи изнутри опоясывали дом ярусами, нависшими над маленькой площадкой двора, и на эти ярусы с ажурными перилами открывались двери комнат, расположившихся здесь анфиладой. Лестницы же здесь были часто винтовые и пристраивались к зданию снаружи.
Во дворике, куда повадилась ходить детвора Калантаровых, росли три дерева – акация, гранат и тута. И стоял «крант» для общего пользования. Солнце появлялось здесь только на балконах, в комнаты к жильцам оно никогда не заглядывало. Зато попадало оно на третий этаж, где в глубоких многокомнатных квартирах жили «большие люди»: семьи старого доктора Шнитмана и инженера-железнодорожника Донцова, а также сухопарая учительница французского, старая дева мадам Тер-Акопова. Вход к ним был только с улицы, с парадного подъезда. Во второй ярус можно было попасть или через двор, вверх по деревянной лестнице, или по лестнице подъезда. В комнаты же первого яруса можно было войти только со двора. И стояли эти тёмные комнатушки, тесно и сиротливо прижавшись друг к другу так, что сосед всегда знал не только какой обед у соседа, но и о чём он думает, ведь в старом Тифлисе думать принято громко. Всё знает сосед, всё слышит и видит! По звуку определяет, чья дверь вдруг предательски скрипнула и догадывается – «с чего бы это? да что ты говоришь? а, ну конечно! как же это мне сразу на ум не пришло!». Подмечает внимательный сосед даже то, чья жена и когда… ходила… душной тифлисской ночью… расфуфыренная… поливать цветы! А цветы, несмотря на такую заботу, отчего-то не политые стоят месяцами и вянут…
Жизнь била ключом в этом мирке. То и дело разносилось с первого яруса:
– Ануш, бала-джан, поднимись к мадам, постучись культурно, спроси который час.
– Мама, потерпи, сейчас наш Арсен придёт, будет кричать «яйца, свежи яйца!», значит ровно 10 часов.
– Ах ты, ленивая такая! – ворчала мать. – Ничего тебе поручить нельзя!
И тут во двор входит громкий голос продавца Арсена, протяжно поющий:
– «Яйса, свежи яйса!»
Тут же, на первых двух этажах появляются красные, жёлтые, синие халаты женщин в чустах, выстраивающихся в очередь к Арсену. Каждая накладывает яиц в свою корзину, предварительно просматривая их на солнце, и проверяя таким образом их свежесть.
– Что смотришь? Что там ищешь? – привычно ворчит Арсен. –Курица сегодня снесла…
А с другой комнаты доносится:
– Витик, вставай, лежебока. Арсен уже был! Завтракать пора!
Очередь у «кранта» занимали с самого утра. Знали, что сын портнихи, Арам, проснись он, будет полчаса в нём мыться, фыркая от удовольствия и подтягивая свои то и дело сползающие кальсоны. Керосинки на балконах уже шипели, вокруг них хлопотали хозяйки.
– Марго-джан, шакар чунес?
– Марили момеци ра, Жужуна – генацвале!
Толстый, неповоротливый Витик, завидев братву из Калантаровского дома, выбегал из комнаты, не доев свою кашу. За ним бежала его мать, крича и плача, что она «похоронит папу» и сама умрёт, если он не съест ещё одну ложку хотя бы ради неё.
После завтрака во двор, поближе к «кранту», выставлялись лоханки и начиналась стирка. В мыльной пене копошились женские руки. Они что-то усиленно оттирали, выжимали, затем полоскали, и снова отжимали. А потом заполняли отстиранным бельём верёвки, что протягивались через весь двор, от туты до акации, и от столбика к балкону. А на перила «выбрасывались» подушки, одеяла, коврики, которые предварительно хлестались рукоятками веников или швабрами. Детям нравились эти «занавеси», они помогали при игре в прятки.
А потом во дворе раздавался хриплый голос бойкой Нази-бебо, приводившей во двор своего старого ослика, на спине которого висели хурджины:
«Мацони! Ма-ла-ко-о!», – и опять хозяйки спешили вниз, на этот призыв.
– Почему этот мацони жёлтый? – спрашивала одна.
– Это «камечис», буйволиный, очень полезный. От всего лечит.
Спустилась и француженка, мадам Тер-Акопова. Но, увидев бедного ослика, у которого от старости уже провис хребет, она с жалостью прошептала: «О, Mon Dieu! Несчастное существо!» и удалилась, отказавшись покупать целебный кисло-молочный продукт у бесчеловечной мацонщицы. Нико тогда показалось, что мадам пустила слезу, иначе отчего это она вдруг достала из кармашка кристальной белизны платочек и коснулась им своих глаз?
– Руки уберите от моего осла! – кричала Нази-бебо детям, обступившим животное, чтобы погладить его. Но они, казалось, напрочь оглохли и продолжали своё дело, лаская ишачка и невзирая на громкие подзатыльники своих матерей.
Потом во дворике появлялась зелень – её катил перед собой на тачке сам продавец, фрукты тоже ехали, но не на тачке, а верхом на человеке. На голове его громадная плоская деревянная чаша с товаром. Настоящий кинто!
Раз в неделю, где-то в середине дня, вся Садовая на несколько часов теряла спокойствие. Женщины и мужчины хватали пустые бидоны и по гулким деревянным балконам, по гудящим деревянным лестницам взапуски неслись на улицу:
– Кэ-ра-син! – такое необходимое всем зажигательное слово.
Лошадь, железная бочка с керосином, пожилой армянин с колоколом в руке ещё только на подходе, а чьё-то чуткое ухо уже уловило звон, значит, лети поскорее, пока улица в неведении дремлет. Вот люди и бегут, стреляя бидонами и клича любимых соседей.
А когда садилось солнце во дворе появлялся новый завсегдатай по имени Шакро. Он нёс на спине два мешка. Один был доверху наполнен малиновыми шарами, сквозь другой просматривались очертания бутылок.
– Бады-Буды! На бутылки! Бады-Буды. Меняю на бутылки!
Шакро был любимцем всех детей и настоящим врагом их родителей.
– Мама, – кричал Витик истошным голосом, будто во дворе начался пожар. – Дай три бутылки. Быстро! Наш Шакро бады-буды принёс!
– Ва-а-ай! – вырвалось у женщины. – Не дам тебе никаких бутылок! Ишак!
Тот искривился и издал странный звук, похожий то ли на смех, то ли на плач.
– Или кричи и плачь, или не смейся, когда плачешь! И хватит тебе уже эту заразу кушать! Намучилась я с тобой! Сдохнешь в один день! – Витикина мама подробно перечислила все беды, какие обрушились на неё со дня его рождения и по сей день. Сверкая глазами и хватаясь за голову, она в то же время зорко следила за тем, какое впечатление производит не столько на непослушное дитя, сколько на соседей, и, в зависимости от этого, то сгущала краски, то смягчала их.
Но озорной Витик давно смекнул, что не нуждается в её благоволении. Точно зная, где в доме хранятся бутылки, он, схватил из своими пухлыми руками в охапку, и, гремя стеклом и очертя голову, бежал менять их на сладкую кукурузу, чтобы поделиться вкусными шарами с другими мальчишками. Иначе его, толстяка, не брали в игру.
А порой в этот шумный двор захаживал старик. Звали его Шалико и был он потомственным шарманщиком. Переступив за кованую дверь, он располагался под акацией и заводил свою «кормилицу» – музыкальный ящик. Первыми на звуки шарманки бежали любопытные дети. Пока Шалико крутил свой старый надтреснутый агрегат и скрипучим голосом пел подряд две песни о несчастной любви, с верхних ярусов, привязанные на веревках, опускались булки, рогалики и конфеты. А тонкая душой мадам Тер-Акопова всегда спускалась вниз, в нарядном платье и на каблучках, и уважительно опускала ему в фуражку мелочь. Собрав «урожай», мужчина накрывал шарманку старым чехлом из синего холста, взваливал на спину и тяжёлым шагом шёл дальше…
Однажды тётушки Калантаровы повели детей на прогулку на Михайловскую улицу, в парк, носивший какое-то странное название «Муштаид». Тётушка объяснила, что некий выходец из Персии по имени Ага-Мирфетах Муштаид получил эту территорию от властей и построил здесь дом. И была у него наложница, грузинская красавица по имени Нино. Он купил её на невольничьем рынке в Константинополе, влюбился в неё и женился на ней. После возвращения в Грузию Нино заболела и умерла. Муштаид сильно скорбел по ней и похоронил её тело рядом с домом, а вокруг могилы посадил много роскошных розовых кустов и реликтовых деревьев, которые и стали фундаментом для этого парка.
В этом «Гульбищном саду для тифлисцев» царила обстановка праздника: продавали ситро и сладкую вату. А на одной из аллей усатый старик с перекинутым за сгорбленной спиной ящиком кричал зазывным голосом на тифлисском диалекте:
– Аба, пломбир в стака-анчике, цхел-цхели шоколадни маро-ожниии!
Нико ещё не знал вкуса мороженого, и тётушки, что сопровождали детей на этой прогулке, решили устроить им праздник.
– Аба, свежиии, гариачиии, маро-ожниии! На разреез!
Тётушки переглянулись, заулыбались, и одна из них, остановив мороженщика, попросила показать, какое такое у него мороженное «на разрез»?
– Сначала купи, а патом я тэбэ пакажу, барышня! – ответил тот, вытирая пот со лба.
Тифлисец рассуждает как? Сначала поверим, потом проверим! Не оттого ли люди живут здесь весело, легко и долго…
Когда мороженщик получил деньги, то взял нож, воткнул его в один из стаканчиков, и спросил:
– Папалам резат? – его глаза плутовски созерцали красивую барышню, которая, конечно же, никогда бы не согласилась, чтобы её стаканчик с мороженым был изуродован ножом.
Но даже изумительный вкус мороженого, быстро тающего и превращающегося на языке в капельки сладкого парного молока, не мог оторвать взгляда Нико от художников, что с кистями в руках стояли за своими, расставленными на ножках, мольбертами. Рядом с ними, на траве, лежали краски, бутыли оливы. Одни рисовальщики сосредоточенно что-то изображали на своих холстах, накладывая на них краски так, что становились заметными мазки кисти. Другие – только пришли и выбирали себе подходящее, хорошо освещённое, место, расставляли мольберты, посмеивались, перебрасывались шуточками и фразами…
Нико вздохнул, представив себя на их месте: «Когда же закончится это глупое детство?».
А ещё он учился русской и грузинской грамоте, по воскресеньям ходил с семьей в Сионский собор поставить свечку Сионской Божьей Матери, по праздникам – в Казённый Театр, или оперу, что был построен в роскошном мавританском стиле и представлял собой совершенно очаровательное сооружение. В нём тогда шли «Фауст» и «Аида». Но Нико, казалось, интересовало только рисование. Взяв в руки красный карандаш или уголь, он каждую минуту изображал всех живущих в доме и соседей. Везде: на бумаге, на заборах, на стенах домов и даже на скалах Сололакского хребта, у подножия которого располагался дом его благодетелей. А порой он забирался на крышу и начинал углём зарисовывать прямо на жестяной кровле всё, что оттуда видел: Метехи, неприступную крепость Нарикала, Святую гору Мтацминда, Ботанический сад и горделивую Куру, разделявшую город надвое. Его рисунки очень нравились домочадцам, которые с гордостью показывали их своим частым гостям.
После убогих Мирзаани и Шулавери, взор мальчика не переставал дивиться шумному колориту старого Тифлиса, что был мостом между Европой и Азией. Узкие кривые улочки с маленькими домиками, что прижимались друг к другу, носили удивительные названия – Винный ряд, Угольная, Армянский базар, Башмачный ряд, Сионская, Банная, Ватный ряд, – они змейками ползли по склонам гор, вмещая в себя причудливо кипевшую городскую суету, включая всхлипывающее пение муэдзина с минарета незабвенной лазурной мечети на Мейдане.
Он бродил среди уличных лавок, что неровными рядами выпирали из домов и вытесняли прохожих на проезжую часть улицы. В этом месте, под лязг сотен весов с металлическими чашками, подвешенными к коромыслу на цепочках, можно было купить всё, что только могло возжелаться душе – персидские ковры, кувшины местные и привозные, фрукты, сукно.
Здесь трудились, зарабатывая себе на хлеб, добропорядочные мастера с подмастерьями, и ремесленники, пользовавшиеся большим уважением и соблюдавшие свои законы чести: гончары, оружейники, войлочники, сапожники и башмачники, кузнецы, ювелиры и слесари. Этих вольных мастеровых и мелких торговцев называли в Тифлисе одним ёмким словом «карачохели», и многие из них отличались поистине рыцарской натурой, беззаботностью и, порой, хорошими манерами. Люди эти были плечисты и сильны, облачены в чёрные шерстяные чохи, обшитые по краям тесьмой. Под чохой у них ахалухи из чёрного атласа в мелкую складку. И такие же чёрные шерстяные шаровары, широкие книзу, и заложенные в сапоги со вздёрнутым носком, голенища которых перевязаны шёлковой тесьмой. Они подпоясывались серебряным ремнём, имели расшитый золотом кисет и шёлковый пестрый платок «багдади», заложенный за пояс, а головы их венчала островерхая папаха из шерсти ягненка, под названием «цицака», или «перец». В зубах же, для пущей солидности, некоторые карачохели дымили трубку, инкрустированную серебром.
Прямо на улице портные умудрялись находить новых клиентов, снимали с них мерки, и вот, глядишь, они уже утюжат новую рубаху, размахивая в разные стороны утюгом, наполненным горящими углями:
«Снимай свою старую сарочку! Отдай её в духан, пусть там ею полы моют. Такой уважаемый человек как ты должен выглядеть достойно. Вот, бери, примеряй эту! Не жмёт? Тогда носи на здоровье, дорогой! Как сносишь – приходи ещё! И друзей приводи! Все довольны будут!»…
Пройдешь ещё пару шагов – новая встреча – цирюльник рад привести любого в человеческий вид, постричь или побрить, и даже предложит зеваке «кровь пустить» для омоложения, для чего мигом извлечёт из банки противных чёрных пиявок.
Тут пекари, круглосуточно пекущие горячий хлеб «шоти» в круглых печах «тонэ» из огнеупорных кирпичей. И при этом поют, ведь хлеб это любит, от этого он становится хрустящим и приобретает особый душистый аромат. Именно так должен пахнуть настоящий хлеб в старом Тифлисе. А там – повара, как змеи-искусители, со своими мангалами, где томятся мучительно ароматные куски шашлыка, нанизанные на шампуры, дух от которых одурманивал и будил аппетит. Краснощекие мангальщики, пританцовывая, ловко орудовали над ними, как будто совершали магический ритуал: то, крутя над огнем, то, поднимая вверх шампуры, нанизанные трескающимися от жара и истекающими соком бадриджанами и помидорами. А с подрумяненных и нежных кусков мяса сочились в огонь капли жира, от чего угли приятно шипели и от них поднималось облако дурманящего дыма. Оно обволакивало прохожих, дразнило им ноздри, призывало замедлить шаг и влекло отведать блюдо, впиться зубами в обжигающее мясо.
Винные погреба, духаны, харчевни и чайханы – «утром – чай, вечером – чай, душка моя, не серчай!». Отовсюду доносилось благоухание доброго кахетинского вина на любой вкус – старого и молодого, чёрного и белого, кислого, сладкого, сухого. И кваса, чачи, водки, чая или лимонада, выбирай что угодно настроению, чтобы запить вкусную еду. Но прежде чем ввязаться в разговор с торговцем, убедись, что ты слышишь звон шаури и абази в своём кармане…
Жизнь здесь начиналась задолго до рассвета, шумно кипела и была наполнена стуками молотков, звуками дудуки и зурны, песнями бродячих музыкантов, мелодиями шарманок, перебранками торговцев с покупателями, свистками городовых, криками разносчиков, воплями извозчиков скрипучих фаэтонов, танцами кинто и болтовнёй зевак, что толкались на перекрёстках. Среди них были и персы в аршинных шапках, и лезгины в мохнатых бурках, и курды, и татары, и турки в чалмах. Они продавали свои пряности, «заморские специи», и фрукты из Азии.
* * *
Но увидел наш Нико и новый Тифлис, совершенно европейский, что расположился в равнинной части города. Начинался он с Эриванской площади и продолжался хорошо освещённым Головинским проспектом с его величественным Дворцом Наместника Российского Царя на Кавказе и Штабом командования войск Кавказского военного округа. А неподалеку, на Гунибской площади, вырос громадный Военный собор в византийском стиле. Параллельно Головинскому проспекту двинулись и другие улицы, вверх, на Мтацминда, и вниз – к Куре, где на Михайловской, Елисаветинской, Александровской и Воронцовской улицах возвышались ампирные или ренессансные постройки двух и трёх-этажных зданий. Здесь находились новенькие магазины, музеи, всевозможные учебные заведения, банки, конторы деловых людей и доходные дома. А также – редакции газет и журналов, что выходили на грузинском, русском, армянском и других языках. Господа, гулявшие по Головинскому проспекту, во внешнему своему виду почти ничем не отличались от живущих в Париже или Петербурге, холодно демонстрируя модные европейские новинки. И если в старом городе карачохели запивали свою печаль кахетинским вином, то здесь аристократия потягивала французский коньяк под звуки французского шансона. «Кавказский Париж» – именно так называли тифлисцы свой город. И коли кому выпадало счастье попасть сюда, волею судьбы или по службе, он тотчас же покорял всех своим неповторимым колоритом и духом. Не обошла эта участь и нашего Никалу. Этот удивительный город с его узкими улочками и широкими проспектами, дал мальчику свою теплоту и привязал его к себе навсегда…
Глава 4. Элизабед
Маленький Нико не знал, что судьбой будет ему уготовано провести в семье Калантаровых долгих 15 лет. Здесь его заботливо оберегали от суровой правды жизни, и он чувствовал себя, как у Христа за пазухой. И все последующие годы его жизни в солнечном Тифлисе были далеко не суровы, тем самым продлив его детство и юность. Домочадцы любили его, но особенно тёплыми были его отношения с Кеке и Анной, с которыми он когда-то играл в прятки и ловитки в соседнем, «Витикином», дворе на правах младшего родственника. Девушки повзрослели и вышли замуж, но продолжали жить в большом доме на Садовой.
В дружном доме соблюдались многие грузинские обычаи и привычки, а члены семьи общались между собой на всех трёх языках, распространенных тогда в Тифлисе. И на своём родном армянском говорили не чаще, чем на грузинском или русском. Юный Нико никак не мог взять в толк, кто же эти замечательные люди на самом деле – грузинские армяне или же армянские грузины? Когда он, наконец, задал этот вопрос Анне, та, мило улыбнувшись, ответила с нескрываемой гордостью: «мы – тифлисские армяне!».
Действительно, армян здесь жило много, порой, даже больше, чем грузин. Народ этот, терзаемый иранскими и турецкими завоевателями, искал защиты и расселялся по всему свету. Но большая его часть обрела долгожданный мир и покой у единоверных христиан в Грузии. Приветливый и гостеприимный Тифлис радушно принимал страждущих и роднил их. Будучи искусными ремесленниками и толковыми коммерсантами, армяне быстро слились с тифлисской культурой, начав ощущать себя частью города, и, трудясь на благо новой родины, становились преданными ей не меньше, чем земле своих предков. Зажиточные армяне в Тифлисе получали звание почётного гражданина – мокалака. А позже, когда страна стала частью Российской империи, они – богатые купцы, нефтяники и меценаты, занимали высокие посты и пользовались уважением, часто становясь градоначальниками и служа городу верой и правдой. Вкладывали большие суммы для возведения разнообразных сооружений торгово-промышленного и культурного назначения, таких как – консерватория, театры, училища и гимназии, караван-сараи, больницы, заводы и фабрики, прокладывали мосты, водопроводы и канализации.
Поначалу Нико обитал в общей комнате для детей, а потом, спустя три года, ему выделили отдельную комнату, хоть и небольшую, но очень светлую. Рос он мальчиком до удивления наивным, и крайне добрым, впечатлительным и честным. И, как в раннем своём детстве, любил помечтать в любую удобную минуту. Ему очень нравился театр и тётушки продолжали знакомить его с мировыми шедеврами, что проходили в Казённом театре Тифлиса. А по выходным у них были обязательные посещения церковной службы. Обязанности учить его грузинской и русской грамоте взяла на себя Анна. Перво-наперво обучила она его буквам, потом, частенько гуляя по Сололаки, заставляла его читать все подряд вывески на домах, почти до одурения. Так и недавно, гуляя по Вельяминовской улице в одну, а потом в другую сторону, говорила она мягко, но требовательно:
– Давай, Никала, не ленись, читай. А то опять буквы позабудешь.
И он, узнавая знакомые письмена, собирал их в слоги, а затем – и в целые слова:
№2 – угол ул. Армянский базар – 2-е ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА
– ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД
– СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЯКОРЬ»
№2 – Булочная-кондитерская – И. П.Юзбашев
№2 – Винный склад – Егоров Егор Гаспарович
№2 – Маркозов И. М. – врач, хирург
№4 – Булочная-кондитерская – Карл Роллов
№4 – Егиазаров Иван Никитович – врач. Нервные болезни. Электролечение.
№4 (6) – Татевосян Тигран Матвеевич – врач, детские болезни
№6 – ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ
№6 – Тер-Никогосова Сусанна Ивановна – зубной врач
№6 – Апель Ольга Вильгельмовна – 3-я женская гимназия
№6 – ТИПОГРАФИЯ «ПЕЧАТНОЕ ДЕЛО» – Кохреидзе А. И.
№8 – М. А.Сундукян – Кабинет для чтения
№8 – И. Пфейфер – Бельгийское оконное стекло, домашние ледники. Склад.
№8 – Бакалея – братья Бостанджевы Казарос Нахапетович и Вагаршак Нахапетович
№8 – Агентства страховых обществ «ЭКВИТЕБЛЬ» и Товарищества «САЛАМАНДРА»
№8 – Винный магазин – Манучаров Георгий Кониевич
№8 – Георк-Бекян Т. И. – врач, глазные болезни
№8 – Степанов С. А. – зубной врач
№8 – Худабашьян И. В. – врач
№10 – Мелочная торговля – Арутюнов и Тамамшев
№10 – Худадов И. М. – Тифл. жел. дорожное уч-ще
№12 – «КУПЕЧЕСКИЕ НОМЕРА»
№12 – ТУРЕЦКОЕ КОНСУЛЬСТВО
№12 – Чайная – Товарищество «Губкин и Кузнецов»
№12 – Хатисов Иван Давидович – присяжный поверенный тифл. Окружного суда
№12 – Судаков Исидор Исаевич – Гор. уч-ще при Учительском институте
№14 – ЕГИАЗАРОВ Василий Сергеевич – Купец 1-й гильдии
№14 – Хизанова Софья Захаровна – акушерка
№14 – Вейс Исидор Леопольдович – посредническая контора
№16 – Тер-Ионисианц Я. Г. – присяжный поверенный
№16 – Арутинов и Тамамшев – мелочная торговля
№16 – Булочная-кондитерская – Саркисян А. А.
№18/2 – угол Лермонтова – ВАРТАНОВ Беглар Фомич – Купец 1-й гильдии. Сололакская дешевая столовая
№20 – АГЕНТСТВО РУССКОГО ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ – Сулханов С. Х.
№20 – Худабашев Исаак Вартанович – врач, женские болезни
№20 – Майсурянц
№20 – Хан-Агова А. М. – зубной врач
№24 – «МОСКОВСКОЕ» – страховое общество от огня
№24 – Мыкертьянц – врач, женские болезни
№26 – кн. Туманов Дмитрий Александрович
№28 – Абесологов Н. З.
№30 – Паповянц Александр Арт. – пом. прис. пов.
А потом они пошли по нечётным номерам Вельяминовской и Нико продолжал чеканить вслух, уже более уверенно и бегло, поглядывая то и дело на Анну и ожидая от неё похвалы:
№1 – Сараджева Е. И. – врач
№3 – Мучной магазин – Бродский Пейсах Исаакович
№3 – Торговля холстом – Гекелер И. Г.
№3 – Мухаринская Любовь Яковлевна – акушер и Мухаринский Арон Абрамович – внутренние и кожные болезни
№5 – АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВА АЗОВСКОГО ПАРОХОДСТВА
№7 – УПРАВЛЕНИЕ ТИФЛИССКОГО ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРА
№7 – ДОМ АГАБАБОВА
№7 – Типография Вартанова
№7 – Книжная торговля – Аветян Седрак Карапетович
№7 – Товарищество, «ГИР» – книги
№9 – Князь Бебутов В. Г.
№9 – ДОМ НАЗАРБЕКОВА – Тер-Григорянц А. С. – прис. пов.
№9 – Бакалея – Манвелов Вартан Мирзоевич
№9 – Винный склад – Исаев Аршак Егорович и Мирзоев Степан Иванович
№11 – ДОМ ГЕОРКОВА – 3-Я МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
№13 – Матинов Абгар Георгиевич – Купец
№13 – Самбегов Г. И. – Общ. вспом. нужд. уч-ся 3-й муж. гимназии
№13 – Арцруни Ваган Макарович – врач, ухо. горло, нос
№13 – Катанянц А. И. – врач
№15 – Тамамшева В. В.
№15 – Тер-Дагсанян – врач. Доктор медицины
№17 – ДОМ ХОДЖИМИНАСОВА
Прошло ещё какое-то время и вот уже Анна не скрывает своего восхищения от того, что: «Наш Никала прочитал все грузинские народные сказки, а сейчас, представляете, уже начал Библию читать!».
Но больше всего, как и раньше, Нико любил рисовать. И делал он это замечательно. Хотя, бывало, поверхностью для рисунка избирал он стену в комнате, да если бы только в своей! Изображения периодически появлялись также на стенах и окнах «святая святых» – огромной гостиной этого дома!
Здесь жизнь, спокойная и размеренная, шла своим чередом, никого не спрашивая, куда ей идти и где, на каких закоулках, поворачивать, чтобы идти дальше. Она текла в непрерывном ритме, несмотря на все противоречия и толчки, которые потрясали мир за порогом. Дети в доме подрастали, создавали семьи, у них появлялась своя детвора, и Никала, уже вовсе не мальчик, часто оставался за старшего, даря заботу новым домочадцам, рассказывая им сказки и забавляя их своими рисунками или сценками из увиденных им спектаклей. Но ему надо было устраивать и собственную жизнь, определяться с профессией, которая даст ему кусок хлеба. Ведь ему уже за двадцать, он – взрослый человек, мужчина…
Однажды Анна сообщила, что собирается пригласить на званый обед своего старого знакомого Башинджагяна – её ровесника и «настоящего художника».
– Представляешь, случайно встретила его на Вельяминовской улице. Он только вернулся из Петербурга, из Академии художеств. Покажем ему твои рисунки сегодня, Никала. Пусть скажет свое мнение…
Нико вздохнул, но ничего не ответил, лишь скромно смолчал. Он понимал, что пора было что-то делать со своей жизнью и с самим собой…
* * *
– А по-французски ты тоже говоришь? – спросила 6-ти летняя Сона, дочь Анны, бросив на Никалу лукавый взгляд.
– Нет, Сона-джан. Только по-грузински и по-русски. И немного по-армянски. Садись за стол, буду учить тебя читать.
– А зачем мне уметь читать? – не унималась шаловливая девочка. – Когда я вырасту, стану богатым купцом. Пусть мне другие читают…
– Ты права! – согласился с ней Нико. – Купцу не обязательно уметь читать. Важнее – уметь считать. Но купцом ты не станешь…
– Это почему же? – спросила Сона с любопытством, понимая, что этот великовозрастный ребёнок – «наш Никала» – раскусил-таки её лукавство.
– А потому, Сона, что женщины купцами не бывают. Это мужское дело… коврами торговать…
– Ай молодец, Никала! – вмешалась Анна. – Как хорошо сказал! А ты, красавица, слушай нашего Никалу. Он плохого не посоветует!
– И никакая я не красавица, мама. Меня девочки с улицы вчера уродкой обозвали, – вдруг вспомнила она и грустно взглянула на обоих – Анну и Нико. Она, говоря откровенно, писаной красавицей никогда не была, видимо, породой своей пошла в отца.
– А что красота, Сона-джан? – успокаивала её мать. – Красота – тьфу, хеч! Главное – ты умная. Вот научим тебя читать-писать и считать, посмотрим потом, у кого жизнь счастливее сложится, у тебя или у тех дурочек!
В этот момент в комнату шагнула Кеке в своём длинном, сильно приталенном платье из атласа зелёного цвета, с плотно облегающим лифом, отделанным бисером и золотой тесьмой. Пояс на её платье был из шёлковой ленты, а широкие его концы, богато расшитые золотом, спереди опускались почти до пола. На голове у Кеке – картонный ободок «чихти», обтянутый шёлковой тканью. Под ободком этим вуаль «лечаки» из тончайшей марли, закрывающая густые косы. Поверх головного убора, выходя из дома, она, женщина замужняя, накидывала большой шёлковый платок «багдади» или «чадри», в которые, отдавая дань традициям, закутывалась с головы до ног, оставляя открытым только лицо. А ноги её, длинные и стройные как у всего Калантаровского рода, включая престарелую и добрую душой Эпросине-ханум, оставленную в шулаверском имении в компании с нардами, были облачены в «коши» – туфли на высоком каблуке с загнутым вверх носком, без задников и из яркого бархата.
– А вот и наша Кеке явилась! – объявила Анна. – Где ты ходишь, сестра?
– На Мейдан ходила. Курицу хотела купить большую. – объяснила эта «законодательница моды», сверкая неизменными своими украшениями из бриллиантов на ушах, шее и пальцах. – Да вот, кажется, вместо курицы мне петуха старого продали. Торгаш хитрющим оказался. Говорил сладкими речами:
– «Красавица, мимо моих кур не проходи. Что хочешь из них выйдет – чахохбили, шкмерули или отменный сациви».
А я – ему:
– «Твоя курица больше похожа на петуха голландского».
– «Э-э-э, почему так говоришь, красавица? Какой еще петух? Обижаешь честного человека. Не хорошо!»
– «А почему тогда у твоей курицы гребешок на голове?! И такие пёстрые перья!»
– «Не понимаешь, что-ли? Это же модница-курица! Любит украшения. Как ты…»
– Ничего, – утешала её спокойная и рассудительная Анна. – Из старого петуха тоже можно сациви сварить. Главное, сунелибыли бы хорошие… Уверена, что Башинджагяну понравится. Не ел он настоящий сациви с тех пор, как покинул Тифлис для учёбы в Петербурге.
Ближе к вечеру пришёл художник, позвонив в колокольчик у парадной двери. Чёрный костюм, красивые волосы, борода и усы, и, что особенно бросалось в глаза – это его глубокий и задумчивый взгляд. Он скромно вошёл в дом и коротко представился, при этом галантно кивнув головой и протянув для рукопожатия свою крепкую ладонь с красивыми пальцами:
– Геворг Башинджагян.
– Очень приятно… А я – Нико Пиросманашвили.
До начала обеда Анна постаралась создать уют, располагающий к доверительной беседе и пониманию, во время которой, неспешной и приятной, выяснилось, что они, Геворг и Нико, оказались земляками. Тот родился в Сигнахи, в той же Кахетии, где и находится Мирзаани, родное село Нико. Что рос он в бедной, но образованной семье, и рано осиротел, взяв на себя заботу о братьях и сёстрах. С 14 лет служил писцом в канцелярии мирового судьи, где его держали за красивый почерк, а также писал вывески для местных лавочников, получая двадцать копеек за каждую. И разница в возрасте между ним и Нико всего-то небольшая – Геворг был старше на пять лет. Но многого успел достичь! Сначала учился в уездном училище, затем в Рисовальной школе при Кавказском обществе поощрения изящных искусств в Тифлисе. А потом поступил в Императорскую Академию Художеств в Петербурге, где учился в пейзажном классе у известного живописца Клодта и был награжден серебряной медалью за картину «Берёзовая роща». Одновременно он посещал мастерскую самого Айвазовского и пользовался его советами. А после окончания учёбы Геворг отправился в путешествие по Закавказью, пройдя пешком всю Грузию и Армению, и сочиняя рассказы о повседневной жизни грузин и армян. Он также серьёзно увлёкся собиранием песен ашуга Саят-Новы. Превосходно зная грузинскую литературную классику, он переводил на армянский язык стихи Акакия Церетели. А потом и вовсе уехал в Европу, посетив Италию, в частности Флоренцию, Венецию, Рим, Неаполь, где воочию познакомился с искусством итальянских мастеров живописи.
– А как давно вы рисуете? – спросил Башинджагян, с интересом изучая рисунки Нико.
– С самого рождения, – вставила Кеке. – Вот вам крест! – все засмеялись этой шутке.
– С раннего возраста, лет этак с 5-ти, наверное, – поправила сестру Анна. – Да, Никала? – тот тихо кивнул. – Он разрисовал все стены нашего дома, все окна, и, если бы ты поднялся на нашу большую крышу, ты и шагу бы ступить не смог – там повсюду рисунки нашего Никалы. А ты, Геворг-джан, давно рисуешь?
– Да вот тоже пристрастился с раннего детства. Однажды, помню, на стене дома, у дверей, изобразил вешалку. И гости, которые пришли к отцу, принимая гвозди за настоящие, пытались повесить на них свою верхнюю одежду и головные уборы и очень удивлялись тому, что они падали на пол…
– А как вы попали в рисовальную школу? – рискнул поинтересоваться Нико. Он, казалось, перестал робеть от присутствия этого незнакомого человека в их доме.
– В Сигнахи, по соседству с нами, жила семья уездного начальника Эраста Челокаева, а я дружил с их сыном Митей. Однажды тот стащил мой акварельный рисунок, который попал на глаза Орловскому губернскому чиновнику, гостившему у Челокаева, и он, как мне потом сказали, «разглядел талант» и помог с поступлением в школу… А у вас, юноша, – он посмотрел на Нико, – несомненно, самобытное дарование и вам непременно надо учиться. Можно обратиться в ту же самую школу, которую удалось закончить и мне. Она находится на Арсенальной улице. Я бы мог отвезти вас туда, Нико, но мне завтра утром уезжать в Швейцарию…
– Милости прошу в гостиную! – в кабинет заглянула Кеке. – Обед на столе. Приятного аппетита!
В гостиной, на большом овальном столе уже красовались изысканные грузинские блюда вперемешку с зеленью, овощами и фруктами! Здесь были острый суп-харчо с чесноком и говядиной, поданный в дымящихся горшочках, красное лобио, бастурма. Художник повёл над харчо носом, восхитительный запах блюда взмыл к его ноздрям, и он поднял глаза к потолку, выражая своё наслаждение ароматом. Все дружно застучали ложками, хваля этот чудесный суп и говядину на косточке, общались, смеялись. А, опустошив горшочки, стали элегантно промокать рты кончиком кружевной салфетки. Нико успел заметить, как это делает их гость – интеллигентно и благовоспитанно. Сказывалось долгое пребывание в столице Российской империи. Он, Нико, уже ни о какой еде и думать не хотел после изумительно вкусного и сытного харчо, но сидящих за столом ожидало продолжение трапезы. И всё бы хорошо, да вот только Сона как всегда капризничала, отказываясь есть.
– Сона-джан, почему руки не помыла перед обедом?
– Не хочу есть! Я не голодная…
– Ай ахчик-джан, что хочешь? Чем тебе угодить, княгиня «блага-вер-ная»? – нервничала Кеке, теряя терпение и обрушив свой гнев на непослушную племянницу, а та всё продолжала упрямиться, уставившись в окно. Похоже, ей нравилось, что взоры всех присутствующих были прикованы к её важной персоне. – Что хочешь делай тогда! Не подойду к тебе больше, не обниму, не поцелую, не назову «бала-джан»! Захочешь напиться – вот Кура… Захочешь купаться – вот Кура…
Ох и любила же она проводить с хитрющей, но очень смышлёной девочкой, воспитательные беседы, однако, всегда держала себя в руках, никогда не позволяла себе её шлёпнуть. Поругать – да! Но не шлёпнуть!
И, наконец, вот он – холодный «сациви» – прямо со льда, с кусочками отварной курицы или, точнее, петуха, купленного сегодня на Мейдане, и утопающего сейчас в густом ореховом соусе с янтарными капельками масла и мелко нарезанной зеленью киндзы на поверхности. Его подали с горячим «гоми» – кукурузной кашей.
– Какое сациви готовит наша Анна! – хвалилась Кеке, посматривая на Геворга. – Поэма, а не сациви! Не раскроешь своего секрета, сестра-джан?
– Никакого секрета у меня нет, – скромно отвечала Анна. – Орехи не экономлю. К соусу добавляю пару столовых ложек винного уксуса, потом тщательно всё перемешиваю, даю разок вскипеть и ставлю на холод для загустения…
– Иф-иф-иф! – восклицала её сестра. – Пальчики оближешь и язык проглотишь! Объедение!
А на десерт на накрахмаленной скатерти стола появились «пеламуши» и армянская гата – выпечка со сладкой начинкой «хориз»…
Быстро опустился вечер. В домах зажигались огоньки. Со стороны Мтацминдской церкви доносились удары колокола, и глухой тоскливый звон рассыпался в отсыревшем воздухе. Гость, пожав всем руки и поблагодарив за тёплый приём и вкусный обед, попрощался с гостеприимными хозяевами и ещё раз пожелал Нико удачи.
Сам же Нико долго не мог уснуть той ночью, ворочаясь в постели с боку на бок. Ему не давали покоя слова Башинджагяна. И, на следующее утро, он, набравшись храбрости, собрал свои рисунки и отнёс на Арсенальную улицу… Когда он подошёл к серому зданию школы, его встретили недруги. Его собственные недруги: полная неуверенность, тревожные сомнения, страх перед переменами и НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ. Этот последний его враг оказался сильнее трёх предыдущих. Он, обратившись тяжёлыми кандалами на ногах, не давал Нико сделать и шагу. Сомнения его переросли в мелкую, противную дрожь, поселившуюся в руках и безжалостно сотрясавшую сейчас всё его тело… В странной задумчивости он потоптался на месте, у порога школы, оглядываясь по сторонам, словно взглядом ища кого-то, кто подтолкнул бы его. И, не дождавшись никого, повернул назад, к дому, милому дому, успокаивая себя тем, что «ещё не готов».
* * *
Вскорости большое семейство Калантаровых встречало свою дочь. Приехала сестра Анны и Кеке – Элизабед. Бедняжка! Похоронив мужа в Баку, она вернулась в родной дом на Садовой вместе с маленьким своим сынишкой Солико.
Нико не виделся с ней почти 10 лет. И, любуясь ею, изменившейся до неузнаваемости, похорошевшей, с короткими милыми локонами красивых волос, закрывавших виски, в современном европейском наряде, он дивился тому, что была она теперь совершенно не похожей на ту девочку, с которой он провел беззаботное детство. Она стала красивой и элегантной, а её манеры, внешность, лицо и выражение глаз говорили о том, что перед ним – истинная аристократка!
Сердце его внезапно дрогнуло. Он вспомнил о том, как ещё тогда испытывал к ней особую симпатию за её мягкость и кротость, добродушие и приветливость. И вот – она здесь, сидит перед ним, заботливо гладя послушного сына по голове, тихо, но так интересно, рассказывает о жизни людей в Баку. О своей жизни. О сыне.
В голосе ее было столько достоинства, столько теплоты, что Нико казалось, будто с ним говорит его мать. Слова её лились как полноводные реки, размеренно и мудро, неся в себе удивительно притягательную силу.
Нико был повергнут в смятение странным, внезапно нахлынувшим чувством. Он не смог бы объяснить и самому себе, что оно значило, никогда ранее он такого не испытывал. Хотя нет… однажды что-то подобное с ним случилось. Было это в далёком детстве, ещё в Мирзаани, когда он, гуляя по селу, случайно встретил маленькую девочку с воздушным шаром. Как же её звали? Кажется, Иамзэ… И вот это произошло вновь – трепет души, состояние восторженной влюблённости, выход в мир, к солнцу, и радостное предвкушение чего-то нового и прекрасного…
А Элизабед заметила, что милый, робкий мальчик с наивными глазами превратился в молодого мужчину, стройного и румяного. Научился читать и писать, хотя и делает это с ошибками, и более или менее правильно излагать свои мысли. Это были единственные изменения, которые пришли к нему со временем. В остальном же – Никала остался ровным счётом таким, каким она его помнит. Добрым, простосердечным, застенчивым и совершенно несамостоятельным РЕБЁНКОМ. Мудрая женщина видела в этом юноше беспомощность, его неготовность для борьбы за существование. В то же время она замечала, что он всё ещё сияет нетронутостью своей души, наполненной возвышенными устремлениями.
И она, сердечно желая помочь другу детства, стала подыскивать настоящих художников, которые, несомненно, согласились бы за плату заниматься с Никалой живописью. Но этому, как видно, не было суждено сбыться. У Нико неизменно находились отговорки. Хотя, как-то вдруг он сообщил, что хотел бы научиться ремеслу, и Элизабед с превеликой радостью отвела его к своему старому знакомому, хозяину типографии, расположенной на Михайловской улице. Старый еврей, придирчиво рассмотрев Нико поверх своих очков, сообщил, что ремесло типографа хорошо кормит, да и заказов, мол, у них много. А само занятие связано с чтением, картинками, требует ума и усидчивости. Трудиться придётся, порой, день и ночь. Нико поначалу согласился, но проработав у старого еврея лишь короткое время, он вернулся, объяснив, что типографское дело не пришлось ему по душе. Не мог же он признаться, что, на самом деле, он страшно скучал по Элизабед и не смог вынести разлуки!
Одолеваемый влюблённостью и одновременно той скрытой опасностью, каковую она в себе таила, он, вставая по утрам с постели, начинал стыдиться своих мыслей и чувств, пережитых в ночную бессонницу! Никогда не умел он говорить о нежных чувствах. И сейчас не тешил себя мечтами. Однако, одно обстоятельство подталкивало его к действиям. Он замечал, что с появлением Элизабед, в их шумном доме всё чаще стали собираться молодые люди – высокородные грузинские и армянские аристократы и богатые коммерсанты, которые, как казалось Нико, поглядывали на Элизабед с интересом и галантно оказывали ей знаки внимания, которые она, будучи женщиной благовоспитанной, не отвергала в резкой форме. И робкая надежда, поселившаяся в нём – единственное, чем он располагал, – заставляла его спешить. Теперь он старался найти любой предлог для более частого общения с ней. Игра в нарды, например! А что? Очень даже «умное и достойное занятие», как поговаривала старая Эпросине-ханум. А однажды он предложил нарисовать её портрет. Она с удовольствием согласилась ему позировать в гостиной и он стал её рисовать, а потом вдруг уничтожал нарисованное. Снова рисовал – и вновь уничтожал. Чтобы удержать её с собой подольше… А потом он сделал ещё один робкий шаг – попросил разрешения прийти для общения в её апартаменты, поскольку гостиная в тот вечер была занята деловыми людьми…
* * *
…В цветочных магазинах Головинского проспекта дамы в огромных шляпах, похожих на корзины, перебирали розы, лежавшие в корзинах, изящных, как сами шляпки. Нико, покопавшись в кармане и вытащив оттуда немного денег, купил одну красную розу, недавно распустившуюся и благоухающую влагой, и стремглав помчался в дом, прижав цветок к груди и многократно поранив пальцы её острыми шипами.
– Это тебе, Элизабед! – сказал он у самой двери, протянув ей цветок. – Не хотел с пустыми руками приходить.
Она искренне поблагодарила его и позволила ему пройти вовнутрь. Он несмело вошел в её комнату и огляделся. Уже 15 лет он живёт в этом гостеприимном и ставшем ему родным доме Калантаровых, но эта дверь для него открывается впервые. Идеальное убранство дышало богатством. Пахло старинной мебелью, лаком и добротным дубом на полу, покрытом большим турецким ковром. На стенах, обитых тёмно-красным атласом с золотыми узорами, висели картины. В середине комнаты стояли овальный стол и стулья, чьи резные ножки были выполнены в виде лап животных. А в углу, у широкого окна, обитал кабинетный рояль из красного дерева с подсвечниками. Так вот значит откуда доносились завораживавшие его душу звуки нежнейшей музыки, которые он так часто слышал снизу…
Нечаянно его взгляд остановился на толстой старинной книге, лежавшей на столе и раскрытой приблизительно посередине. И правая его рука сама собой потянулась к увесистому тому.
– Что это, Элизабед? – робко поинтересовался он.
– А ты сам прочитай название, Нико, – предложила она и молодой мужчина, боязливо положив руку на правую сторону открытой книги, осторожно взглянул на её обложку.
– Шо-та Рус-та-ве-ли. «Ви-тязь в тигровой шку-ре», – медленно и почти шёпотом прочитал он и поднял на Элизабед свои задумчивые и наивные, почти детские, глаза. В них таились неподдельное удивление и вопрос.
– Да, это Шота Руставели, – ответила она, бережно поглаживая рукой огромный фолиант в кожаном переплёте с медными застёжками. – Любимая книга грузинского народа, сокровищница его вековой мудрости, и непревзойденный шедевр поэзии. – а завидев его сосредоточенный взгляд, спросила:
– Ты об этом что-нибудь слышал?
– Слышал… но очень мало. – он стоял смущённо, словно поражённый громом, стесняясь взглянуть ей в лицо. И, неуверенно опустив голову, он видел сейчас только её длинные точёные ноги.. Ей же, женщине просвещённой и умной, было очевидно происхождение этого чувства. Ведь Нико явно стыдился своей малограмотности. Однако, всего через миг, завидев на её лице очаровательный румянец, он смог пересилить себя и попросил:
– Ты ведь расскажешь мне о Руставели, Элизабед?
– Конечно расскажу, Никала. А ты… ты не стыдись учиться в зрелом возрасте. Понимаешь? Лучше узнать о чём-то позже, чем никогда. Ну а теперь садись-ка ты на этот диван и слушай…
* * *
История эта произошла около 7 столетий назад. Тогда, вблизи от Кутаиси, на высокой горе, царь Давид Строитель построил Гелатский монастырь. И основал там академию – центр античной философии. Много учёных и философов преподавали в ней. Здесь, в качестве лучшего ученика, и появился 17-ти летний Шота Руставели.
С малых лет любил он читать и, говорят, проявлял интерес к философии, ещё в юношеском возрасте стал победителем на поэтическом турнире. В академии Руставели выучил нотную грамоту, учился зодчеству и живописи у лучших мастеров Грузии. И любил подолгу смотреть на удивительную Колхидскую долину, на её роскошные леса и зеленеющие луга, любоваться бурной Риони, по которой плыл Ясон за своим «золотым руном». А ещё пристрастился он к охоте и, бывало, целыми днями пропадал в лесу, охотился или плавал, наслаждаясь дикой природой.
Наступила весна, и, чествуя молодых учёных, окончивших академию, на Гелатской горе был устроен турнир, на который приехала молодая Тамар – справедливая и мудрая царица Грузии. Руставели знал, что о ней слагали легенды, воспевали её красоту, великодушие и мудрость. Несравненная правительница строила несокрушимые крепости, храмы и дворцы, дороги, корабли, поразительные мосты через реки и ущелья, школы. При ней стала плодоносить земля, тучнели стада, развивались ремёсла и торговля. Она приглашала ко двору лучших учёных, поэтов, философов, историков и богословов. И страна её процветала, став за короткое время одной из богатейших держав того времени.
И сейчас, когда «царица цариц» восседала на возвышенном пьедестале, под дымчатым балдахином, Руставели с интересом наблюдал за ней, прекрасной молодой грузинкой, статной и грациозной, с тёмными, удивительно глубокими глазами. Но это восхитительное созерцание было прервано гулом колокола – начинались состязания в метании копий, борьбе, верховой езде и игре на музыкальных инструментах. Шота Руставели выходил победителем во всех соревнованиях, а когда началось чтение стихов, творения этого витязя, похожего на античного бога, поразили всех. Царица не скрывала своего восторга. Никогда раньше не доводилось ей слышать таких слов, умело облачённых в божественную рифму, да чтоб лились они так легко, воздушно и музыкально. Никому еще не удавалось с такой силой донести до слушателей чеканность грузинской речи.
Пришло время вручать награды победителям. Это были дорогие одеяния из бархата и парчи, и кинжалы в инкрустированных серебром оправах. А в конце церемонии глашатай объявил, что главный приз получит тот смельчак, кто стрелой пронзит яблоко, которое солнцеликая царица будет держать в руке. После того, как прозвучали эти слова, Тамар взяла со скамьи маленькую золотую шкатулку и достала из неё яблоко, румяное и золотистое. Среди молодых витязей поднялся ропот, мол, великая царица не должна подвергать себя страшной опасности, ведь шальная стрела может поразить её. Они почтительно преклонили пред ней колени, и стали умолять её отменить это состязание или заменить его на другое. На что храбрая Тамар возразила, что её не страшит никакая опасность. И только Шота Руставели не было среди них. Он стоял в сторонке. Лицо у него покраснело от возбуждения, щёки горели и были похожи на это красное «яблоко раздора». Случайно поймав на себе её вопросительный взгляд, он молвил:
– Если действовать не будешь, ни к чему ума палата. О, богоподобная царица, возьми в руку яблоко свое. Я пронжу его стрелой.
Он спокойно достал из широкого колчана свою ледяную быстролетящую стрелу. Толпа ахнула. Неужели этот безумец отважится стрелять? Все наперебой стали его отговаривать. Но он, не слушая никого, смотрел в одну точку – на то сочное райское яблоко, которое царица подняла над головой. А потом, чинно подойдя к ней, он воткнул в плод жало стрелы, пронзив его насквозь и высоко подняв вверх на острие стрелы. Царица рукоплескала стоя, держась гордо и с достоинством… Её губы чуть шевельнулись, и с них сорвалась маленькая искорка, сорвалась и, точно бабочка, легко запорхала и полетела над Колхидской долиной…
– Значит это была загадка, которую удалось решить Шота? – уточнил Нико. Он сидел перед Элизабед как прилежный ученик, слегка наклонившись вперёд и боясь шевельнуться, и жадно ловил каждое слово своей «учительницы».
– Да, Нико, ты прав, – лучезарно ответила Элизабед, обрадовавшись смекалке Нико.
– Интересно! А что было дальше? – осведомился он с нескрываемой увлечённостью.
– А потом… потом царица объявила, что Руставели заслужил золотой венец. Но было заметно, что не все с ней согласились, кое-кто из витязей зароптал, мол, немудрено проколоть яблоко. На что справедливая царица ответила, что предлагала пронзить плод, а расстояние, с которого следовало это сделать, не указала! После этих слов она собственноручно надела на голову Руставели золотой лавровый венец и протянула ему руку для поцелуя. Молодой витязь преклонил колено и поцеловал руку владычице обширной страны, что располагалась от одного моря до другого. Потом он поднял голову и посмотрел в её глаза, а её очи – смотрели на него. Так он на всю жизнь лишился покоя. И яблоком тем было его собственное сердце, которое пронзила яркая стрела любви…
В тот же день Руставели было предложено стать придворным поэтом. Конечно же, он принял это предложение, считая его самой большой удачей в своей жизни. Ах, если бы мог он знать, что это назначение обернётся ему самым большим горем.
Его талант развивался в окружении лучших философов и мыслителей «золотого века», как называли период правления великой царицы. Дни его проходили на государственных советах, на городских собраниях, а вечера – в беседах и спорах о мудром царе Соломоне, о псалмах Давида, о философии Сократа, Платона и Эпикура. А долгими ночами, пока не догорала последняя свеча, он писал стихи о дружбе, преданности и любви. Любви к той, которая озаряла его животворящим светом. Это безмолвное чувство поселилось в нём в тот миг, когда он впервые увидел её, и ширилось теперь с каждым днём, становясь всё сильнее и бездонней…
Суть любви всегда прекрасна, непостижна и верна,
Ни с каким любодеяньем не равняется она:
Блуд – одно, любовь – другое, разделяет их стена.
Человеку не пристало путать эти имена…
…Элизабед вдруг замолчала. Серьёзное выражение её благородного лица, сердечная теплота в её чёрных, как смоль, глазах возбудили странное и тревожное беспокойство глубоко у него в душе. В её же – ясной и такой же лучезарной, как её взгляд – пылал всепоглощающий пожар, однако на лице невозможно было прочитать ничего. И Нико не выдержал, тихо спросил:
– А что случилось потом, Элизабед?
– Однажды на охоте, – продолжила она свой рассказ, – а это было в окрестностях древней Мцхеты, где сливаются воедино воды бурной Арагви и степенной Куры, царица и Шота Руставели, верхом на своих скакунах, оказались одни. И она попросила почитать стихи его сочинения.
– Хорошо, моя царица! – произнёс поэт. Она в ожидании взглянула на него. И он начал свою декламацию:
Вспоём Тамар, величием восхищающую взоры!
Для неё из слов хвалебных я уже сплетал венок.
И перо-тростник поили глаз агатовых озёра,
Пусть сердца пронзает песня, как отточенный клинок!..
Не знал тогда Шота, что эти строки станут вступлением к его бессмертной поэме. Закончив и посмотрев на Тамар, ему показалось, что его патетическая декламация была произнесена впустую. И оказался прав.
– Тебе известно, что не жалую я стихов в свою честь, Руставели! Весь двор тем и занят, что без устали одаривает меня своими хвалебными речами. Почитай что-нибудь другое.
– Да будет так! – ответил он. И, побледнев, произнёс:
Тот, кто любит, кто влюблённый
Должен быть весь озарённый,
Юный, быстрый, умудрённый,
Должен зорко видеть сон,
Быть победным над врагами,
Знать, что выразить словами,
Тешить мысль, как мотыльками —
Если ж нет, не любит он…
Она всё давно поняла и сейчас молча смотрела на него.
– Моя царица, позволь мне признаться тебе… – он шагнул к ней, но мрак окутал его глаза, в них стояли кипящие слёзы.
Тамар не сказала ни слова. Воцарилось гнетущее молчание, и вдруг откуда-то донесся резкий крик совы. Конь царицы рванулся вперед, поскакал… и остановился на вершине холма. Руставели догнал Тамар – и замер: на ее глубоких очах, как яркие адаманты, повисли две слезинки.
– Зачем ты пытаешь судьбу?.. – не закончила фразу царица.
Шота побледнел. Он понял свою ошибку. Он поторопился…
Опять тишина. Только бьются два сердца, как бы соревнуясь между собой.
Долго они ехали в кромешной тиши, пока Тамар не нарушила молчания.
– Поезжай в Афины, Руставели, набирайся знаний… Воспользуйся этой возможностью! Ах, если бы я не носила тяжёлый венец! С какой радостью посетила бы я солнечную Элладу – родину Гомера и Аристотеля, Платона и Сократа, страну языческой радости и жизнелюбия… Путешествие – это тоже бессмертие… Поверь мне, моё счастье не больше твоего.
– Я выполню желание моей госпожи, – почтительно преклонив голову перед царицей, произнес Руставели.
– И ещё… Чувство своё перенеси на пергамент. Напиши книгу о любви. Это не повеление владычицы. Это – её просьба.
– Я её выполню, моя царица, – дал ей слово Шота.
«Мудрый борется с судьбою, неразумный унывает» – так успокаивал себя Руставели. И через неделю он уже стоял на палубе корабля, что медленно и величаво подплывал к проливу Босфор. Пурпурные лучи заходящего светила освещали небосвод и величественную столицу Византии – Константинополь – колыбель изысканности и культуры, и чрево коварства и низменных чувств рода человеческого. Он плыл дальше, держа путь в удивительную и прекрасную страну Элладу, со всех сторон окружённую лазурным морем. Говорят, там царит вечная весна, в садах растут маслины, а на склонах гор – виноград, по вкусу похожий на тот, что рождает его родная грузинская земля. В страну, над которой простирается ясное голубое небо, а вершины неприступных гор, где обитают бессмертные боги, теряются в облаках. А в низинах живут люди, которых привлекают неведомые заморские страны и чудесные истории о славных героях, их битвах и великих победах, а также о греческих небожителях, их безрассудных пирах и приключениях, шумных ссорах и примирениях.
Солнце медленно опускалось в воды моря, делая его волны спокойными и умиротворёнными. Но душа Руставели ныла тоской и болью, а разлука с той, что подобно всесильному божеству владела его разумом и телом, становилась всё более невыносимой…
Как то розу вопрошали:
«Ты красива, стан хорош.
Но зачем в шипы одета?
Путь к тебе с трудом найдёшь».
Та в ответ: «Путь к сласти – горечь,
Кто нам дорог – тот пригож.
Коль краса для всех доступна,
Ей цена – всего лишь грош…»
…Прибыв на благословенную землю великих эллинов, Руставели стал изучать их поэзию, архитектуру и скульптуру, и, погружённый в вечную думу, бродил по развалинам Акрополя, залитым бронзовым солнцем, где каждый камень дышал бессмертной историей.
Спустя годы, он – мудрец и поэт – вернулся на родину, да не с пустыми руками – он привёз с собой свою новую поэму «Витязь в тигровой шкуре». Был он встречен с восторгом и призван ко двору. А непревзойдённый шедевр его поэзии начали читать и переписывать от руки. В ней влюблённый Шота воспел идеалы любви, дружбы, благородства, чести и добродетели. Все эти высокие качества поэт видел в своей великой правительнице. Но, чтобы скрыть свои чувства и не навлечь тени сомнения на возлюбленную, Руставели специально перенёс действие поэмы в Индию и Аравию. Но если читать её внимательно, то в каждой строке этой книги угадываются образ прекрасной, величественной царицы Тамар и чувства несчастного поэта, упоённого безответной любовью.
Но Грузия, как показалось Руставели, была уже не той, которую он оставил несколько лет назад. И Тамар… Тамар, мысли о которой занимали всё его время на чужбине, тоже изменилась. Стала холодной и сдержанной царицей. К тому же, всего несколько лун она… она по своей воле станет женой осетинского князя Давида Сослана…
Ты, увидев эту свадьбу,
сам бы сердцу приказал:
«Погуляй с гостями, сердце!
Не спеши покинуть зал!»
Нет, сердце Руставели было не в силах этого вынести… «В плен захваченным любовью трудно муку превозмочь»… А тут ещё коварное дворянство и высшие чины духовенства увидели в поэме осквернение существующих устоев жизни и противоречия с христианством и стали жаловаться на поэта царице. Тамар не хотела видеть в Руставели политического противника, но вскоре, будучи вынужденной подчиниться воле строптивых и властных князей и дворян, и она отвернулась от своего поэта. Под их натиском Руставели был изгнан из страны.
«Зло не стоит удивленья,
Горю нечего дивиться.
Удивляться нужно счастью,
Ибо счастье – небылица».
– А что же народ, Элизабед? – спросил Нико. Было похоже, что наивная натура его была ошеломлена жестокой несправедливостью.
– Слава о поэме Руставели разнеслась далеко за пределы дворцов, найдя путь к сердцам людей по всей стране и далеко за её пределами. Они полюбили его «Витязя в тигровой шкуре» и будут любить всегда.
– А Руставели? Что с ним случилось потом? – спросил он, печально вздохнув.
– Шота более уже не мечтал о Тамар. Он босым ушел в Иерусалим и поселился там в грузинском монастыре Святого Креста, приняв монашеский постриг. И однажды в маленькой и тёмной келье монастыря было найдено обезглавленное тело несчастного грузинского поэта…
– А царица Тамар? – проговорил Нико чрезмерно взволнованным голосом.
– Она, родив двоих детей, умерла от тяжёлой болезни. Её, царицу цариц, похоронили в фамильном склепе в Гелати. А когда через несколько веков склеп вскрыли, то останков царицы там не обнаружили. Склеп был пуст. Согласно преданию, когда великая правительница доживала последние дни, она попросила утаить от людей место её погребения, не желая, чтобы её гробница была найдена и осквернена мусульманами, которые за долгие годы борьбы так и не смогли завоевать её страну. Прах её был тайно вынесен из монастыря, и где он покоится ныне – никто не знает. Говорят, в Ватикане были обнаружены летописи, согласно которым солнцеликая правительница похоронена в Палестине, в древнейшем грузинском монастыре Святого Креста. Будто бы она завещала отвезти её туда после смерти. Кто знает, Никала, быть может, в вечности великая царица хотела остаться рядом с воспевшим ее поэтом…
* * *
…Ночь Нико провёл в думах, за керосиновой лампой. Ему хотелось бы поговорить с целомудренной Элизабед по душам, поведать ей о своих чувствах, но это было немыслимо! К тому же, его недруги – нерешительность и страх – будь они прокляты! – они не дали ему этой возможности. Не было нужных слов, мысли в голове путались и копошились, не желая складываться в предложения. А время, казалось, беспощадно остановилось, и минуты то еле текли, то вообще замирали на месте…
После долгих раздумий он склонился над бумагой, стал что-то выводить на ней, неуверенно скрепя карандашом и исправляя свои ошибки в скудных словах. Он писал женщине, что была на 10 лет старше его самого, о своей любви. О том, что хорошо понимает, какая высокая стена разделяет их положение в обществе, но надеется, что она, как человек образованный, окажется выше этого и согласится стать его женой – потому что это его твёрдое желание. И что он, Нико, считает себя таким близким к её семье человеком, что это даёт ему надежду…
Он положил карандаш и остановился, глядя в тёмное окно. Новых мыслей не появилось. От усталости и напряжения у него мелко тряслись руки, кружилась и всё больше и больше болела голова. А по лицу градом катил пот. И, наконец, решив, что дело сделано, он сложил бумагу вчетверо и на цыпочках, чтобы не разбудить домочадцев, поднялся на верхний этаж, просунув своё послание под её дверь…
Кажется, он так и не заснул той ночью. Но перед самым рассветом всё же погрузился в дремоту, вскоре проснувшись от того, что услышал какую-то возню в коридоре. Одевшись, он выглянул за дверь и, услышав голос тётушки, всё понял:
– Заперлась в своей комнате и никого не хочет видеть! Плачет она… и душа у неё болит. Никала наш письмо ей написал. Говорит, любит её и всё!
Другая ей вторила:
– Вай-вай-вай, Аствац-джан! Бедная девочка! У меня со вчерашнего вечера глаз дёргался. Это не к добру. Вот и новость принёс.
– Элизабед же тоже любит его. Но только как младшего брата. Она учила его читать и писать, возилась с ним, как с ребёнком. А он, вай ме, ей в любви признаётся! Руку предлагает. Эх, Никала-Никала, перепутал он любовь с дружбой! Поцеловать пытался… как он мог так поступить? Знал же, что нельзя… Неужели не видит – не пара он ей…
– А как он собирается семью содержать, наш Никала? Без профессии. И главное, не спрашивает, любит ли она сама его?
– А ну-ка поднимись, постучи в дверь и спроси, как она!
– Уже поднималась и стучала!
– Что говорит?
– Плачет!
– Кто? Элизабед?
– И Элизабед, и её дверь тоже. Обе плачут!
Для Нико это было сильнее самого сильного удара! Он изнутри закрыл дверь свой комнаты и потоки слёз, не стыдясь, щедро полились из его глаз. Из глубины его чистой души. Вслед за потоками пролившимися рождались новые, и не было им конца, как нет и дна у истинной печали.
– Неужели вчерашний день, когда я смеялся и радовался, был последним в моей жизни счастливым днём? – спрашивал он самого себя. И с горечью восклицал:
– Эх, судьба! Есть ли у тебя совесть и человеческий облик?! – а в ответ услышал пророческие слова поэта Шота Руставели. Великого, но такого же несчастного, как и он сам:
«…горю нечего дивиться.
Удивляться нужно счастью,
Ибо счастье – небылица».
Глава 5. Под стук колёс
В то злосчастное утро Нико не мог найти себе места. Ведь он «заставил плакать бедную Элизабед». Его раненное сердце отчаянно билось, сам же он чувствовал себя заблудшей овцой в этом жестоком мире. Ища спасения, он, незаметно от домочадцев, покинул дом. Среднего роста, худой, он шёл в неизвестном направлении, то медленно карабкаясь вверх, по кривым и узким улочкам, вымощенным камнями в форме огурцов, мимо домов, приросших к скалам словно гнёзда ласточек, то, петляя, отрешённо спускался по крутым поворотам вниз, чтобы затем пройти по просторным, величественным проспектам, что звенели военными оркестрами, мимо дворцов и особняков, где за высокими, коваными затейливым узором, решётками росли удивительные цветы, а из окон доносились мелодии вальса или «Мравалжамиер».
Будучи в «Верхнем» городе, где то тут, то там из домов на улицы просачивался слабый запах дыма и угля от каминов и мангалов, он ненароком повернул в переулок, занятый серебряных дел мастерами и остановился посмотреть, как куски металла в умелых руках быстро превращаются в кубки, азарпаши и тазы для вин или красивую отделку для поясов. Потом прошёлся мимо растянувшихся посудных лавок, в которых на показ выставлены стеклянные вещи ярких цветов и все чудеса фаянсового производства – все эти редкости привозились в Тифлис с русских фабрик. За посудными лавками сидели табачники, разложившие свой товар на синей бумаге перед глазами покупателей. В следующих лавках можно было приобрести яркие лоскутья, старые мундиры, тульское ружьё и самовар, и много разной харахуры. Потом пошли булочные, питейные, кофейни, цирюльни, и духаны… В воздухе разливался запах вина, чеснока, пахло серой из бань, верблюжьим потом и Азией, кабаками и духанами, от аромата которых он опьянел… Кто только не пьянел и не терял здесь своего рассудка!
Затуманенный мыслями и ослеплённый пестротой товаров, разнообразием лиц и одежды, оглушённый суетливой деятельностью торговцев, он и не заметил, как приблизился к древней святыне, стоявшей среди этого шумного сборища разноплеменных народов, к Сионскому собору. Оглушительные крики раздавались вокруг – здесь торговали восковыми свечами и ладаном, предлагали прохожим купить у них предметы для спасения души…
Молчаливая толпа в тусклом храме согрела его своей теплотой. Священник певуче читал псалтырь, запах ладана в таинственном, сладостном покое лежал на воздухе и щекотал ноздри, шелестело пламя свечей, успокаивая неприкаянное его сердце. Тёмные лики многозначительно смотрели на него с древних фресок. Эх, понять бы, о чём они желают поведать ему? Увы, этого умения ему не дано свыше. Но как же любил он созерцать стенную церковную роспись древних мастеров! Никогда не уставал глядеть, запоминать и учиться у них, своих давно ушедших в мир иной художников и иконописцев! Напоследок, глубоко вдохнув в себя сладковатый дым мирры, он покинул храм, войдя затем в прекрасный и массивный караван-сарай, с его внутренним двором и бассейном посередине. Здесь вывешены самые богатые товары Тифлиса! Через «тёмные ряды» вышел он на татарский Мейдан, заполненный грузами овощей и фруктов, и оглох от неимоверных криков продавцов, что, не жалея ни своего горла, ни чужого слуха, наперебой зазывали покупателей: «ай яблук, ай виноград, ай персик», или: «па-па-па! дошов отдам, пожалуй барин», «ай книаз-джан, здесь хороши тавар!». Среди всего это изобилия бродили горцы, обвешанные поясами, старым оружием и нагайками. А мимо прошёл букинист с грудой книг, сложенных пирамидой и крепко перетянутой длинным ремнем. Повсюду сновали седые муши в мягких чувяках, готовые за ничтожную плату нести тяжести на своих «горбах» во все части растянувшегося вдоль Куры города. Ах, этот неугомонный Тифлис – вечный город Кавказа! Шумный, пёстрый и трудолюбивый!
Внезапно откуда-то издали донеслась быстрая дробь копыт. Извозчик кричал во всё горло: «Ха-бар-да!!!», то есть посторонись! Пара вороных, запряженная в старинный экипаж, галопом промчалась по широкому и правильному Головинскому проспекту, и, осаженная туго натянутыми вожжами, остановилась на тенистой аллее у самого дворца наместника, вход в который охраняли два жандарма в голубых мундирах. Стало понятно, что великий князь принимает высоких гостей… Он пошёл дальше, встречая на своём пути чиновников с тросточками, в модных пальто «а-ля полька», гуляющих под ручку с дамами в парижских шляпках с густыми перьями…
Когда спустя время он остановился, чтобы перевести дух, то, оглянувшись по сторонам, понял, что находится в саду. В том самом Гульбищном саду «Муштаид», где ещё в детстве играл вместе с «калантаровскими» детьми под неусыпным надзором их строгих тётушек. Какое же это было беззаботное, беспечное время!
Он продолжил бесцельное блуждание по аллеям сумеречного парка, шурша опавшими листьями, временами останавливаясь, чтобы что-то неразборчиво пробурчать самому себе. Ему слышались то едва уловимые шорохи падающих с дерева веток, то редкие крики птиц, то шум ветра и сухих листьев на этом блекло-оранжевом окрасе земли под низко нависшим серым потолком неба.
Сегодня здесь было почти безлюдно, а те немногие, что прогуливались, кто в одиночку, кто – с детьми, а больше – парочками, – наслаждались теплом слабеющего осеннего солнца, отчаянно и безуспешно сражавшегося сейчас с густыми лиловыми облаками. Небесное светило печально и вдумчиво взирало сквозь осеннюю дымку на жёлто-багряную листву парка, как смотрит старый друг перед долгой-долгой разлукой.
Его одолевали тягостные мысли об Элизабед, о своей непутёвой жизни. Но сквозь их плотную завесу всё же упорно пробивались звуки с улицы, прилегающей в парку: лай голодных собак, недовольных наступлением холодов, ржание запряжённых лошадей, крики раздражённых тяжёлой жизнью извозчиков, приглушённый стук колёс их чёрных фаэтонов, чередовавшийся со скрипом фонарей под натиском ещё не сильного ветра. Немного раньше ему раза два послышались как будто отдалённые звуки какой-то песни, но теперь совершенно ясно начал доноситься красивый мужской голос откуда-то из глубины парка. И как он пел! А музыка его незримым магнитом притягивала к себе слушателей.
Нико, повинуясь неведомой силе, потянулся туда же. Здесь, в центре парка, под полусферой, находилась сцена, на которой длинный и тощий, но изящно одетый мужчина, обладая непревзойдённым басом, пел чувствительный романс о любви, искусно подыгрывал себе на рояле и раскачиваясь в такт, а голос его рыдал! Люди, обступившие сцену, вздыхали и вытирали глаза, кто от умиления, а кто – от слёз и тоски.
Нико, прислушавшись к словам, вдруг оторопел, а потом стал задыхаться от волнения. Ему показалось, что песня эта была написана про его несчастную любовь к Элизабед. Её глаза, полные слёз, стояли перед его рассеянным взором с самого утра. А чарующий голос исполнителя, минуя голову, вливался в само сердце…
Очи чёрныя, очи жгучия,
Очи страстныя и прекрасныя!
Как люблю я вас! Как боюсь я вас!
Знать, увидел вас я не в добрый час!
Очи чёрныя, жгуче пламенны!
И манят они в страны дальния,
Где царит любовь, где царит покой,
Где страданья нет, где вражде запрет!
Не встречал бы вас, не страдал бы так,
Я бы прожил жизнь улыбаючись.
Вы сгубили меня, очи чёрныя,
Унесли навек моё счастие…
Неподалёку от него стояли два человека, похоже, отец с сыном. Младший, худой и высокий, был полон уныния. Старший же подбадривал его. До Нико донеслись слова их беседы.
– Видишь, что я тебе говорил, отец? Опять поют про несчастную любовь. – со скорбью в голосе говорил молодой человек. – Не бывает такого, чтобы про любовь, но без слёз и страданий…
– Ты ещё юн, сынок, не понимаешь, что любовь бывает разной: счастливой или несчастной, взаимной или безответной. – объяснял ему другой. Он, с выпученными своими глазами и большими ушами, выглядел как старый еврей, несущий на сгорбленных плечах всю благоразумную мудрость веков. – Но, какой бы она ни была, цени её как величайший подарок судьбы.
– А зачем мне такая любовь, если она не дарит радости? – молодой человек недовольно посмотрел на отца, крепко сжав тонкие губы. – Может и нет вообще настоящей любви?
– Кто сказал тебе, что любви нет? Она есть, и она будет, пока живёт на земле человек, пока бьётся его сердце, потому что любовь на Земле вечна!
Невыносимое отчаяние, скорбь и полное отчуждение настигли Нико. Он чувствовал, что измученное сердце его не способно более к радости. Внутри него поселилась темнота – злая тень, призрак, который, не имея постоянного пристанища, приходит ниоткуда и уходит в никуда. Беспросветная мгла омрачала его живую, порождённую светом душу:
«Мне бы туда, где заканчивается этот мир, и начинается другой. Туда, где босиком по траве росистой и мягкой пройтись, среди пёстрых полевых цветов. Побрести пастухом, не спеша, за отарой овец. Лечь под старую сосну, в пряный запах прогретого лучами леса, чудесный, прохладный и сладкий, словно с медовым привкусом. И смотреть, не моргая, на чистое лазурное небо, на птиц, парящих в нём. Слушать их тонкое пение до самого заката, пока не закружится голова от пьянящего аромата природы…».
…Он так же неслышно воротился домой. Тихонько затворил за собой дверь и задумчиво сел на табурет у окна. В Тифлис пришла поздняя осень. Мчались куда-то мохнатые тучи, чуть не задевая вершины деревьев. Шумел и качался лес на склонах Мтацминды, а в небе раздавались тревожные крики птиц, с опозданием тронувшихся на юг. А с появлением монотонного, протяжного и громкого напева муэдзина, его вновь охватила невыразимая грусть.
– Мне надо уехать… просто уехать, хоть куда-нибудь, «… в страны дальния, где царит любовь, где царит покой, где страданья нет…» – стучали в голове слова из услышанного им сегодня романса. Но внутренний голос, мучивший его с самого утра, скрипел как плохо смазанная телега и не переставал грызть его и попрекать:
– Всё спешишь? Торопишься? Куда? Зачем? Не понимаю я уезжающих, уходящих… Из Тбилиси только Кура спокойно уходит. Но Кура что? Вода? Пришла – ушла. А человек так не может!..
– Не могу я больше оставаться в этом доме. – оправдывался он перед самим собой. – Как смотреть теперь в глаза Элизабед?
Немного погодя он нашёл силы признаться самому себе, что боится грядущих перемен. Да, ему стало страшно. Он и представить себе не мог, как отнесутся домашние к его срочному отъезду? Что-то неизвестное и тревожное, неприятно чужое терзало его душу. Так бывает иногда: даже в хорошую погоду, когда солнце светит, птицы щебечут, а сердце отчего-то обдаёт холодком в мрачном предчувствии. Но натура его, наполненная благородной гордостью и достоинством, решительно подталкивала к действию. И он… принялся укладывать свои вещи.
– Никала-джан, ты пришёл? Где ты был весь день? – услышал он вкрадчивый голос тётушки, завидевшей его через плохо прикрытую дверь. – Мы тебя заждались. Ужинать не садились… Что это ты делаешь?
– Мне надо уехать, тётушка, – тихо ответил он. А она – ласковая душа – заглянув в его глаза, осуждающе помотала седой головой:
– Зачем ты сердишься, сынок? Ты знаешь, что мы тебя очень любим, швило-джан. Успокойся. Сейчас накормлю тебя. Потом поспишь, а завтра будет другой день, и всё исправится и забудется. Поверь мне, старой…
– Не могу я здесь оставаться, тётушка. Виноват я. Обидел я Элизабед и нет мне никакого прощения…
…Элизабед не покидала своей комнаты. Сам же Нико выглядел очень несчастным, и домочадцы видели его грусть. И, страшно расстроенные, старались они сейчас изо всех сил что-то изменить в своём поведении, в надежде, что он передумает уходить. Но его намерение оказалось твёрже, чем можно было себе представить.
Невыносимая боль расставания охватила всю семью, которая со страхом ожидала наступления последнего и мучительного момента. И вот он пришёл, час прощания с родным домом, в котором он провёл 15 лет своей жизни.
– Мои дорогие, любимые люди. Я буду очень скучать по всем вам! – тихо молвил он, а его взгляд, совершенно неуверенный, вдруг встретился с глазами Элизабед. «Очи чёрныя, очи жгучия, очи страстныя и прекрасныя!» – волнительно пронеслось в голове.
Она была грустна и молчалива. И ещё заметней сделалось, какая она красивая!
Он замер и опустил голову, начав смотреть себе на ноги, в то время как шея его стала наливаться соком граната, выставляя напоказ его душевное состояние.
– И я тоже… – с грустью вздохнула она. – Но… не забывай нас, Никала. Обещай сообщать о своей судьбе, куда бы не занесла тебя твоя звезда. И ещё… вот, возьми зонт! И это… – она протянула ему совершенно новый кожаный чемоданчик. – Здесь краски. И кисти из конского хвоста. Ты ведь, как я помню, о таких мечтал?..
Он махнул рукой на прощание и поторопился выскользнуть за дверь парадной, чтобы она, не приведи Боже, не заметила его слёз. За проёмом двери закончилась его прежняя, беспечная жизнь…
* * *
Над Тифлисом плыла осенняя ночь. Где-то внизу мерцал редкими огоньками большой город. Ветер усилился. Он налетал порывами, подхватывая полы плащей, теребил волосы. Ещё быстрее мчались с гор лиловые облака, подсвеченные одинокой луной.
Нико не уходил в никуда. Было решено, что он поживёт у Калантара Калантарова, у которого были свои дома и караван-сарай возле Мейдана.
Так и вышло.
Но… время шло, и скоро уже Нико исполнилось двадцать пять лет, потом двадцать шесть, потом двадцать семь. И жизнь менялась. Только его положение оставалось прежним, и, вместе с тем, всё более неясным. Уйдя и от Калантара, который на прощание подарил Никале целых 100 рублей, он попытался открыть собственную мастерскую и зарабатывать на хлеб и кров, разрисовывая недорогие вывески. Незадолго до этого он успел познакомиться с молодым художником-самоучкой Гиоргием Зазиашвили и предложить стать его компаньоном. Они сняли небольшое помещение на Вельяминовской улице, над дверью прибили вывеску торговца рыбы, который отказался за неё платить.
Но… от злой судьбы не спрячешься.
Заказов было мало, поскольку новоявленные живописцы не внушали людям доверия. Таким образом, совместное предприятие вскоре развалилось, подаренные ему деньги ушли на оплату съёмного помещения, а вчерашние компаньоны пошли каждый своим тернистым путём.
С той поры Нико и породнился с одиночеством. Однако, потерпев первое поражение, он всё же отчаянно пытался бороться с суровой самостоятельной жизнью, что оказалась намного коварней, чем ему представлялось.
Эх, судьба-судьба! Есть ли у тебя совесть и человеческий облик?!
* * *
Но однажды ему и вправду улыбнулась удача.
Что это – неужели само провидение решило помочь ему?
Он робко постучался в белую дверь и, услышав: «Войдите!», проник в крошечный кабинет железнодорожного чиновника, сняв с головы шляпу, тем самым воздавая должное уважение стенам, коридорам, этому казённому кабинету и человеку, сидевшему в нём. Поставив свой новый чемодан из чёрной кожи у порога, он теперь нерешительно топтался, осматриваясь по сторонам и стараясь скрыть охватившее его волнение.
– Здравствуйте! – наконец-то молвил он и уставился на стену, где потолок подпирали канцелярские шкафы с картотекой, а на двух столах у стены громоздились стопы бумаг, занявшие и пару старых тумбочек в придачу.
– Вы проходите, сударь. Присаживайтесь! А это что-за чемоданишко вы там оставили? – чиновник, внешностью своей чем-то походивший на большую мышь или маленькую крысу, снисходительно рассматривал странного человека в приличном «русском костюме», несмело сжимавшего шляпу в руках, и наконец вот робко присевшего на краешек стула по ту сторону покрытого синим сукном стола с двумя расплывшимися чернильными кляксами посередине.
– Там краски. И кисти. – тихо ответил Нико.
– Вы что, голубчик, рисовать сюда пришли? – тот нахмурил узкий лоб и сузил маленькие глазки.
– Если получится… – несмело отозвался он.
– Ну нет, маляры нам не требуются. Что ещё умеете делать?
Он заметно вздрогнул, услышав этот вопрос, и почувствовал, что покраснел. Эх, знал бы господин чиновник, что умеет он видеть прекрасное вокруг себя, умеет создавать красоту, и стремится к гармонии во всём. Говорит непонятно, зато любовь живёт в его сердце. А что не умеет? Хм… да много чего не умеет! Не умеет, например, лгать и обманывать…
Служащий открыл бюро, со вздохом вытащил оттуда лист бумаги и протянул её Нико, затем двинул под нос чернильницу:
– Грамоте, я надеюсь, вы обучены, господин… как вас там? Пиросманашвили?
– Что? – не разобрал Нико.
– Писать-то умеете, спрашиваю?
– Умею, господин начальник. – оробело ответил Нико. – На грузинском и русском.
– Не «господин начальник»! По «Табелю о рангах» следует говорить «Ваше благородие». Пишите на русском языке! Итак… Подписка… Даю сию Управлению общества Закавказской железной дороги в том, что я получил относящуюся до моей обязанности инструкцию, – монотонно диктовал чиновник с чернильными пятнами на цепких пальцах, и время от времени повторял уже произнесённые им слова. – При чём мне разъяснены все пункты оной, которые я понимаю, и обязуюсь в точности выполнять все изложенные в ней правила. Также обязуюсь подчиняться денежным взысканиям по службе, которые будут наложены на меня начальством железной дороги. Написали?
– Уже написал…
– Мда, не важнецки вы накарябали, милейший, с прегрешениями и описками, ну да ладно, не писарем вам служить. Теперь пишите разборчиво и без ошибок: «Кон-дук-тор Николай Пиросманашвили». И число проставьте. Нынче 17 апреля 1890 года…
– Вот, Ваше благородие, – Нико протянул чиновнику заявление. – Разрешите справиться, что за дело мне следует выполнять?
– Обучитесь вы легко, любезный. Да и работёнка не пыльная. Стоишь себе смирно за вагоном, на тормозной площадке. Как услышишь сигнал главного кондуктора – пускаешь в ход ручной тормоз. Со слухом-то всё в порядке? Не глухой? У нас главное, не спать, чтоб сигнал не пропустить мимо ушей. Всё разумели? Вопросец есть? Коли нет, то завтра в 6 утра быть, как штык, на станции. Форму получите там же. Да, и вот что ещё! Пройти нам надо бы с вами в соседний кабинет к счетоводу нашего Управления господину Калюжному…
Они вдвоём – Нико и «чернильная крыса» – вышли из этого душного кабинета и проследовали по коридору к другому.
– Обождите меня здесь, – сказал чиновник, строго подняв кверху указательный палец, а сам нырнул за белую дверь, забыв как следует прикрыть её за собой.
– Разрешите, Александр Мефодиевич? Я тут человечка нового оформил «тормозильщиком». Правда, у него на лице написано, что кондуктор из него никудышный. Но что делать-то прикажете? Люди бегут от адской сей работы, сломя голову…
Тот ничего не ответил, зарывшись в горы бумаги и деловито стуча костяшками на счётах.
– Входите, Пиросманашвили! – послышался голос «крысы» из-за двери. – Заполните этот формуляр для жалования…
Счетовод бросил на Нико быстрый взгляд, но отчего-то не отвёл его в сторону. Заметив, как старательно тот выводит буквы, на его взоре отобразилось благосклонное сочувствие к молодому человеку.
– Вам есть где жить, господин Пиросманашвили?
Тот лишь молча поднял широко раскрытые глаза, смущённо и как-то виновато, как будто не понимал, как он здесь оказался. А потом пожал плечами и пробормотал что-то невразумительное.
– Понятно-с, батенька. – господин Калюжный вздохнул. – Значит так, имеется у меня в доме местечко свободное. Могу приютить, коли изволите…
– Господин Пиросманашвили направляется для службы на станцию Михайловская. – поспешила сообщить «чернильная крыса», но тот что-то быстро черкнул на клочке бумаги и протянул Нико:
– Вот вам адрес. Будете в Тифлисе, можете приходить.
– Добрейшей души человек наш Александр Мефодиевич! – стал угодливо восхвалять Калюжного чиновник. А затем, выйдя из кабинета последнего, привередливо произнёс:
– Но строгих правил! Посему настоятельно советую вам, Пиросманашвили, меньше воображать и знать своё место. И оно отнюдь не на коленях у маменьки. Понимайте, чего от вас ждут на службе и на что можете рассчитывать. Прощевайте!
В 1872 году на линии Поти – Тифлис было торжественно открыто первое движение поездов. Бакинская нефть рвалась к Чёрному морю и Российской империи было жизненно необходимо связать Кавказ в кулак стальным каркасом железных дорог. Спустя десять лет будут построены участки Баку – Тифлис – Батум, а следом начнёт работать участок Михайлово – Боржом, затем Тифлис – Карс. Здесь, на станции Михайловская, и началась служба Нико в качестве тормозного кондуктора товарных вагонов.
* * *
На этом месте день и ночь звучали колокола, семафоры взметали свои крылья, дудели в рожки стрелочники, дежурные в красных фуражках поднимали над головой сигнальные диски. По перегону шёл путевой обходчик с гаечным ключом и молотком на плече, забивал вылезшие костыли, подтягивал ослабевшие гайки и важно показывал флажок проходившим поездам, а по станциям передвигались шипящие и клокочущие паровозы с серо-белыми клубами дыма и с лязгом механизмов. Пахло гарью, керосином, смазкой, шпальной смолой и песком… И повсюду стоял терпкий, неотвратимый запах железной дороги.
– Что глаза выпучил озираючи? Новичок? Впервые на станции? Фамилия? – услышал он требовательный голос человека, похожего на городового, но одетого иначе – в щеголеватую чёрную форму с витыми погонами-галунами и шапку-бадейку. Позже ему рассказали, что это и есть тот самый обер-кондуктор, «хозяин поезда». Это он ведёт маршрут поездки, следит за расписанием, носит сигнальный жезл, а в своей массивной сумке на ремне хранит сопроводительные документы на вагоны, в пути связывается с диспетчером и передаёт на телеграф наличие мест в поезде и, самое главное – это он подаёт своим свистком сигнал к отправлению поезда. Без свистка обер-кондуктора ни один машинист никогда не тронется с места!
– Пиросманашвили я…
– Чего стоишь, разинув рот? Форму получил, а сейчас ну-ка марш на площадку!
В тот день Нико узнал, что такое «площадка». Ею называлось место, на котором имелись деревянная лавка для проезда кондуктора, тормозной привод и штыри для сигнальных фонарей. Это так и называлось: «ехать на тормозе». Вдоль поезда была протянута сигнальная веревка, которую привязывали к паровозному свистку. Если нужно было подать сигнал машинисту об опасности или необходимости срочной остановки, кондукторы тянули за эту веревку.
Труд этот – за 15 рублей в месяц – был адским! За трое суток беспрерывной работы – откручивания и закручивания рукоятки тормоза, отцепок и прицепок вагонов на ветру и на холоде – Нико чрезмерно уставал. Бывало, что от переутомления его собратья засыпали «на тормозе», поезд проезжал закрытый семафор и дело кончалось крушением. Но даже после трехсуточной работы продолжительность отдыха кондукторов не была определена, и обычно не превышала суток…
…В его формуляре появились частые записи о штрафах…
– Итак, Пиросманашвили, вот ваша папка! – «чернильная крыса» сегодня был явно не в добром расположении духа, сердито отчитывая нерадивого работника. – Открываем её и что же мы видим?: «За опоздание на дежурство – 50 копеек», «За проезд безбилетного пассажира – 3 рубля», «За неявку к поезду – 2 рубля», «За неисполнение приказаний дежурного – 3 рубля», «За ослушание главного кондуктора – 3 рубля». Как вы можете это объяснить? Или вы считаете эти штрафы ничем иным, кроме как несправедливыми придирками вашего строгого начальства? И денег вам заработанных не жалко? А зря! Ведь они – вещь хорошая и в хозяйстве всегда нужная. Всё можно за деньги достать, голубчик, всё, коли голову на плечах иметь!
Нико молчал, угрюмо понурив голову. Да, его спокойная, размеренная жизнь у Калантаровых не приучила его к дисциплине, к точному и чёткому выполнению возложенных на него обязанностей. Не был он приспособлен к работе, не лежала душа его к казённой службе. И она, похоже, в свою очередь, мстила ему за непослушание и угнетала его.
– Начальство докладает, что вы, Пиросманашвили, человек мечтательный и забывчивый, рассеянный до невозможности! Вы легко нарушаете строгие правила службы на железной дороге, самолюбивы, горды и не привыкли к подчинению. Умудряетесь малевать картинки, ездя «на тормозе», когда надо начеку быть и ухо востро держать! Или, что уму непостижимо, можете вообще не прийти к поезду? Как можно осмелиться перечить обер-кондуктору? Кто вам дозволил провозить бесплатных пассажиров? Что вы молчите? Признаёте свою вину? Или опять стрелочник во всём виноват? Я жду ответа!
– Как же, ваше благородие, строгие правила, когда у той бедной женщины сын тяжёлый? – промолвил Нико и, подняв глаза, заглянул в лицо чиновнику. – Эта несчастная торопилась к нему в больницу, хотела застать его в живых. Она умоляла меня со слезами…
– Подумайте только, какое сердобольное состояние, Пиросманашвили! Только не напускайте на себя этот жалостный вид, а то старушки на вокзале сами начнут подавать вам последние свои медяки. Безотказный вы наш! Доверчивый! Ему лапшу на уши вешают, лишь бы без билета проехать, а он и верить всем горазд… Вот! – он протянул ему бумагу. – Вам надобно рапорт написать. А потом ступайте работать!
Когда наступили холода, Нико не спасала даже специальная зимняя одежда для «тормозильщиков», что должна была защищать от стужи и встречного, порой ледяного ветра: тёплая рубаха, тулуп, валенки, меховая шапка и рукавицы. Он стал часто болеть, подавал рапорты то об отпуске, то о лечении. Наконец начальство согласилось отпустить «нерадивого кондуктора» в Тифлис на 3 дня – для врачебного обследования. Но, вдохнув в себя воздух столицы, наш Нико позабыл о своём «хроническом насморке, затрудняющим дыхание, о болях в груди и ревматизме». А потом откуда-то явилось жестокое прозрение, что в этом огромном шумном мире, живущем по своим правилам, о коих он, оказывается, никогда и не подозревал, не было пространства, где можно было бы приютить свою уставшую жизнь. И в голову полезли думы о ночлеге, который ещё надобно было поискать.
– Где найти убежище? Куда податься? – задавал он себе этот вопрос. – К Калантаровым? Но чем мне перед ними хвалиться? Чего я достиг?
Раздражение и усталость, вызванные переездом и голодом, привели его в состояние крайнего напряжения и ощущения своей беспомощности. В глубине души он чувствовал слабость своего характера, но признать её было для его непомерной гордыни невозможно. И вдруг, как манна небесная, на него снизошла мысль – он вспомнил о предложении господина Калюжного, счетовода их Управления, о том, что тот когда-то был готов пустить его на постой и даже вручил ему свой адрес. Где же эта бумажка? Он покопался во всех карманах – пусто! Полез в свой «художественный» чемоданчик, стал перебирать краски и кисти, и вот он – заветный адрес, свалялся в презренный комочек, почти что катышек. С трудом развернув его, он смог разобрать адрес. Это придало ему сил, и он, не отдыхая, быстрым шагом направился в сторону Михайловского проспекта, втянув голову в плечи и натянув шляпу поглубже на свой «русский костюм», отчего со стороны сделался похожим на худой чёрный гриб…
– Гамарджоба! – сказал он и сердце его замерло, когда дверь дома широко распахнулась на его стук. На пороге стоял молодой человек и с нескрываемым удивлением смотрел на него, скорее всего, не понимая грузинского языка. И тогда Нико продолжил на русском:
– Прошу прощения за то, что помешал вам, но я хотел представиться и извиниться за то, что пришёл сюда без приглашения. Я Нико Пиросманашвили. Мне дал этот адрес господин Алексей Мефодиевич, вот! – он протянул молодому человеку истёртый до невозможности клочок бумаги. Тот, взглянув на него, приветливо кивнул головой:
– Вы, видимо, хотели сказать Александр Мефодиевич, потому как Алексей – это я. Но можете звать меня просто Алёша. Проходите поскорее, на вас лица нет. Как вас зовут, вы сказали? Нико? Коля, значит… Вы продрогли, да и погодка стоит такая, что добрый хозяин собаку не выпустил бы из дома. Проходите к столу, садитесь, а я вмиг самовар поставлю. Как раз собирался поесть. Александр Мефодиевич придёт поздно, он просил не ждать к ужину…
Нико сел рядом с дровяной печью, что наполняла комнату мягким светом и дружелюбным запахом горящих поленьев, и тихо наблюдал за тем, как этот квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, синими, глубоко посаженными раскосыми глазами и курносым носом молодой человек принёс откуда-то медный самовар и поставил его на стол. Затем вернулся снова с чашками и вареньем красного цвета. Похоже, кизиловое! С теплом пришли и вкусные запахи еды.
– Александр Мефодиевич – человек на редкость добросердечный. Бывший революционер, отбыл шесть лет тяжелой каторги, а потом, за книжную учёность его и взяли на службу в Управление Закавказской железной дороги. – сообщил он. – И ваш приход, Коля, не окажется ему в тягость, не будет от этого никакого убытку. Я ведь и сам здесь вроде как на «птичьих правах» комнату снимаю… Пока закипит самовар, успеем поесть…
– Вы не суетитесь, я сыт. – поспешил сообщить Нико.
– Ну, мил человек, сыт – не сыт, а супу горячего поесть надо, коли в гости пришли! – улыбался Алёша. – Отменную чихиртму стряпает Нино, помощница по хозяйству нашего Александра Мефодиевича.
Чихиртма! Нико почувствовал, как от одного только этого слова закружилась его голова и затрепетал в мучительном томлении пустой желудок, натерпевшийся за два года службы от недоедания и напрочь забывший отменные вкусы и запахи обильной домашней трапезы. Голод заставил его схватить ложку и он, крепко сжимая в руках миску, жадно уплетал сейчас горячую похлёбку, лишь внешне смахивавшую на чихиртму. Ибо не шла она ни в какое сравнение с настоящей куриной чихиртмой – наваристой, густой, ароматной – которую готовили Калантаровы! А вот хлеб в этом доме оказался очень вкусным, хотя и совсем пресным.
Большой самовар с начищенными до солнечного сверкания боками громко пыхтел и манил к себе. Но от этого шума, столь похожего на пыхтение ненавистного паровоза, лицо Нико передёрнула судорога. В голове застучало так, точно стучат колёса его поезда по навершию рельс и на их стыках. Вспомнил он, как сидит на своём «тормозе» в тулупе и шапке с рукавицами, а поезд натужно скрипит буферами, сцеплениями. и всё стучит и стучит колёсами в его беспокойном сердце, а зубы его стучат ещё громче самих колёс… А потом вдруг раздаётся жуткий гудок, от которого в скором времени глохли сослуживцы, один за другим. Воистину сказано, что паровозный гудок лучше слышать издали…
Они пили чаю из пузатого самовара. Нико постепенно удалось преодолеть природную свою застенчивость, и молодому человеку в доме господина Калюжного стало ясно, что у нежданного гостя открытое и доброе сердце. Он бессвязно рассказывал о своей службе, показал несколько своих картин: «Портрет железнодорожника Миши Метехели», «Портрет двух друзей – железнодорожных рабочих», и «Портрет железнодорожного начальника Кипиани». Долго рассматривал Алёша его картины, а потом признался, что такую живопись ему ещё не доводилось видеть.
Он, Алёша, оказался довольно словоохотливым, сидел перед Нико в своей золотистой шёлковой рубахе, плисовых штанах и скрипучих сапогах гармоникой. Блестели его волосы, сверкали невероятно весёлые глаза под густыми бровями и белые зубы под чёрной полоской молодых усов. Он рассказал Нико о своей жизни. О том, что родился в Нижнем Новгороде, в благополучной семье, и отец его был управляющим пароходной компанией. В три года заболел он холерой и ухаживавший за ним отец заразился и умер. Два года отучился в народном училище, но бросил его. Мать вторично вышла замуж за дворянина, который её бил, а потом Алёша пытался его зарезать. Вскоре мать умерла от туберкулёза, а следом – дед и бабка. Рассказывал, что в 10 лет он ложился на спор под поезд между рельс:
– Ой, как же жутко, но приятно чувствовать, Коленька, что вот сейчас полетишь над землёй! Но это ещё не всё. В 19 лет я стрелялся от уныния, из-за любви! Написал предсмертную записку, что хочу избавиться от зубной боли в сердце, даже анатомический атлас изучал, чтобы ненароком не промахнуться.
– Значит промахнулся. – вставил Нико, не заметив, как за длинной беседой у потрескивающей дровами печи они перешли на «ты».
– Как видишь. Промахнулся мимо сердца, в тот момент поражённого несчастной любовью. А потом, довольно скоро, пришло прозрение. Я понял, что не любил по-настоящему эту женщину. И посвятил ей эти строки:
Зачем тебя я одевал
роскошной мантией мечты?
Любя тебя, я сознавал,
что я себе красиво лгал
и что мечта моя – не ты!
– Но вскоре история повторилась. И вновь – разочарование! Эх, Коля, очень я одинок. Осточертело мне всё до отчаяния. Вот и пустился я странствовать бесцельно. Где только не был, кем только не работал! Так и попал на Кавказ, а Александр Мефодиевич пристроил в железнодорожные мастерские сначала молотобойцем, затем отметчиком. Хотя страсть у меня к другому имеется, – к письму! В нём описываешь подробно все приключения, всё то интересное, что услышишь от людей незнакомых во время странствий. Я, было дело, как-то прочитал ему свой рассказ, правда, на тот момент ещё не законченный. А Александр Мефодиевич серьёзно так на меня посмотрел, потом встал, взял меня за плечи и вывел вон в ту комнату. Втолкнув меня туда, он запер за мной дверь:
– Там на столе есть бумага, – сказал он мне через дверь, – запишите то, что мне рассказали. А до тех пор, пока не напишете, не выпущу!
– Раз ты сидишь сейчас передо мной, значит – написал! – весело заключил Нико. – О чём же был этот рассказ?
– Это романтическая история. Представь себе ночь у моря, горит костёр на берегу, старый цыган рассказывает писателю историю про вольных цыган…
– Этим писателем был ты, Алёша, да? – догадался Нико.
– Я, Коленька, я… Так вот, цыган советует ему беречься любви, ибо полюбив, человек уже не принадлежит себе, а вынужден только выполнять чужую волю. И, в подтверждение своих слов, рассказывает быль.
– Расскажи, генацвале! Не тяни… очень прошу…
– Слушай:
* * *
«Лойко Зобар – молодой цыган, красавец, любящий коней и готовый отдать деньги, имеющиеся у него, любому, кто нуждался в них. Однажды приехал Лойко в цыганский табор, где жила Радда – дочь солдата Данилы. Очень красивой была Радда, многие мужчины были влюблены в неё, много денег давали ей богатые люди за взаимность, только отказывала она всем, так как была очень гордой и свободолюбивой.
Заночевал Лойко в шатре Данилы, а утром все увидели, что голова у него тряпкой обвязана. Сказал он, что это его конь ударил, но все поняли, что это дело рук Радды. И решили люди, что напрасно Лойко за Раддой решил приударить – недостаточно хороша она для него!
Так и остался молодой цыган жить в таборе. Все полюбили его настолько, что готовы были жизни свои за него отдать, и только Радда была к нему не очень благосклонна. Однажды она посмеялась над песней, которую он спел (а надо сказать, что он играл на скрипке и пел так, что у людей слёзы на глаза наворачивались). Данила хотел отстегать дочь кнутом за такое поведение, только Лойко не дал ему этого сделать, а попросил отдать ему Радду в жены. Согласился Данила, и тогда подошел Лойко к Радде и сказал, что полюбил её, и что возьмёт её в жены с тем условием, что не будет она ему никогда перечить, а он при этом будет жить так, как он посчитает нужным. Но только он отвернулся от Радды, как девушка схватила кнут и обвила им ноги Лойко. Он упал на землю, а она отошла в сторону и молча легла на траву.
Вскочил Лойко и убежал в степь, прочь от людей. Долго сидел он там в одиночестве, пока не пришла к нему Радда. Схватил он нож и хотел ударить им девушку, но она опередила его – приставила к его лбу пистолет. А потом и говорит: «Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А ещё я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя». Она призналась, что готова стать его женой, пообещала ему быть с ним нежной и ласковой, но взамен должен был он перед всем табором поклониться ей и поцеловать правую руку, признав тем самым ее старшинство.
Вернулся Лойко в табор и сказал цыганам, что царит в его сердце Радда, поклонился он ей и поцеловал ей правую руку, а потом сказал, что хочет проверить, насколько крепко сердце девушки. Никто не успел даже понять, о чём идет речь, а Лойко уже воткнул в сердце Радды свой кинжал. Радда спокойно сказала, что ожидала этого, вынула кинжал и заткнула рану своими волосами. Поднял нож, брошенный Раддой на землю, её отец Данила и воткнул его в спину уходящему Лойко. Так и упал Лойко к ногам умирающей Радды»…
– Той ночью мне не спалось, Коля. – продолжал свой печальный рассказ Алёша. – Я смотрел на море, и, казалось, вижу я царственную Радду, а за ней по пятам плывёт Лойко. Оба они кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.
Тягостное молчание воцарилось в комнате. Нико весь ушёл в себя, храня задумчивость, грудь его предательски тяжело вздымалась, а лицо покрылось холодным потом.
– Горький рассказ, – вымолвил он наконец, не поднимая глаз, и сильно закашлял. – Очень горький!
– Вот и Александр Мефодиевич тоже сказал, что «горький». Потом добавил, что передаст рассказ знакомому журналисту из газеты «Кавказ», поскольку его в обязательном порядке необходимо опубликовать. И посоветовал подписаться под ним фамилией «Горький», мол «не идти же тебе, Алёша, в литературу с фамилией Пешков…». Пешков – это моя фамилия. Так и порешили. А имя я взял у отца – Максим. Я ведь его очень любил. Если у меня когда-нибудь родится сын, непременно назову его Максимом…
* * *
…Нико вернулся на службу. Но вскоре опять заболел, продолжая подавать просьбы то об отпуске, то о пособии, то о переводе в Тифлис. К тому же, он продолжал рисовать, что не могло нравиться железнодорожному начальству, поскольку отвлекало работника от его обязанностей и грозило привести к крушению на дороге. С ним было крайне хлопотно. Его рапорты не хотели удовлетворять, его не желали слушать, никто не хотел с ним возиться. Он же страшно волновался, часто горячился, при этом забывая русские слова, начинал кричать по-грузински, или убегал, понимая, что ему не удалось убедить руководство.
Через полгода он всё-же лёг в ведомственную больницу с жалобой на кашель и худобу. И, по совершеннейшей случайности, очутился в одной палате с человеком, чья внешность показалась ему знакомой.
– Где же я видел этого человека? – размышлял он. – Неужели это тот самый певец, чьё зачарованное пение он слышал в парке Муштаид? Как же называлась та песня? Кажется, «очи чёрныя». Да-да, конечно, это именно тот человек! Ведь у него прекрасная память на лица! Тот самый молодой человек, только совсем уж он сейчас худой, а когда ест, видно как кусок проходит по его горлу.
Звали его Фёдором и был он бывшим артистом, а сейчас – работником канцелярии их железнодорожного управления. Потому-то и лежат они в одной больнице, где лечение проходят одни служащие железной дороги.
За долгой беседой выяснилось, что летом 1891 года тот ненароком оказался в Баку. Кочевая труппа, с которой он прибыл, уехала, и он остался совершенно один в незнакомом городе, без работы и крова. Голодал. На беду в то время разразилась эпидемия холеры. Люди сотнями умирали прямо на улицах. В этом тяжёлом, казалось, безвыходном положении судьба неожиданно ему улыбнулась – он нашел на улице четыре двугривенных. Первым делом он наелся люля-кебаба, а затем пошёл на железнодорожный вокзал и упросил кондуктора отвезти его в Тифлис. Кондуктор оказался «добрым малым» и взял его всего за 30 копеек. Весь путь от Баку до Тифлиса он провел на тормозной площадке товарного вагона.
– Интересно, – думал в эту минуту Нико, – кто же был этот неизвестный кондуктор, этот «добрый малый»? Ведь поездов-то у нас немного и ходят они редко.
Первые четыре дня в Тифлисе Фёдор провёл без денег и пристанища, просто слоняясь по городу. Кругом разливались ароматы жарящихся прямо на улицах шашлыков, одуряюще пахло свежевыпеченным грузинским хлебом, горы фруктов высились на прилавках. А он умирал от бесхлебицы, скрючившись ночью под лестницей случайного подъезда… И тогда он решился на крайний шаг: увидев на витрине оружейного магазина пистолеты, он собрался войти туда, сделать вид, что выбирает оружие, нажать на курок и покончить с собой.
И тут… его окликнул знакомый голос итальянца – актера Понти, с которым Фёдор играл на одних театральных подмостках. Узнав о трагедии Федора и его решении, Понти повёл его домой, отогрел, накормил, приютил – до лучших времен. И времена эти для него скоро настали. Ему как-то довелось выступать в увеселительном саду, куда публика ходила послушать выступления артистов на открытой сцене. Длинный, тощий от постоянного недоедания, босяк «за угощение» развлекал анекдотами посетителей ресторана. За этим занятием он и познакомился со служащими управления Закавказской дороги и как-то раз, во время их очередного застолья в саду, поведал им о своей непутевой жизни. И – чудо! Рассказ его вызвал сочувствие и понимание! Подвыпившие чиновники, выяснив, что он грамотен и «знаком с канцелярской работой», предложили ему подать прошение бухгалтеру дороги, что сидел сейчас за тем же столом. Прошение было подано на другой же день, и вчерашний бродяга сделался писарем в управлении с жалованьем 30 рублей в месяц.
– Вот так я и закрепился в Тифлисе, Нико. – продолжал Фёдор. – Но быстро опостылела мне эта нудная служба, сидит у меня в печёнках и продыху не даёт. Если бы знал ты, какой огонь тлеет во мне и угасает, как свеча! Не моё это – пером ржавым скрипеть! Мне бы петь! Знаешь, здесь в Тифлисе есть одна знаменитость – Усатов – великий он человек. Известный педагог пения, бывший артист Императорских театров. Вот бы к нему в ученики попасть, большего мне и не надо ничего!
А, рассмотрев картины Нико, он сказал:
– Не дурно, Нико, вовсе не дурно! Умеешь выхватить кусок жизни! Я и сам то рисую, и, если бы не пение, стал бы я скульптором или художником. Видел бы ты мой грим для сценических портретов…
…Утром следующего дня Нико проснулся от того, что услышал взволнованные голоса врача и сестёр, вошедших в палату и выглядывавших сейчас растерянно в распахнутое окно.
– Больной Пиросманашвили! – обратился к нему доктор. – Когда вы последний раз видели этого господина? – врач указывал рукой на пустующую койку Фёдора.
– Что? – переспросил Нико, еще не проснувшись окончательно.
– Я спрашиваю, когда вы последний раз видели господина Шаляпина?
– Фёдора? – уточнил Нико. – Вчера перед сном видел…
– О чём он говорил?
– Ничего не говорил… Только сказал, что хочет петь, господин доктор.
– Бродяга он и есть бродяга! Ну что с этим поделаешь? – развёл руками доктор. – Бежал через окно, не долечившись! Господь миловал, что дифтерит его был без серьёзных осложнений!.. Кстати, вы, Пиросманашвили, признаны нашей комиссией пригодным к службе, вот только полипы бы вам удалить в носу, и будете сиять как новый двугривенный на солнце! Ну, что изволите сказать нам, милейший, согласны на операцию?
Нико отрицательно замотал головой:
– Не надо операции, господин доктор. Я и так вернусь на службу…
* * *
…И опять медленно потянулись будни постылой его службы. В апреле 1892 года Нико вновь просит об отпуске. Рапорт отклонён. Второе заявление он пишет через месяц – и вновь получает отрицательный ответ. Следующим летом он снова просит об отпуске и о пособии в 150 рублей на лечение. Совет врачей поддержал его ходатайство, и в конце июля он получил двухмесячный отпуск для поездки в Абастумани. Но в Абастумани он не поехал, а направился в родное село Мирзаани, погостить у сестры Пепуцы. Потом опять вернулся на работу, но уже 6 ноября подал новое заявление начальнику станции. Ссылаясь на хронический насморк и грудную болезнь, полученные на службе на товарных поездах, он просил вовсе уволить его и уплатить пособие за ущерб здоровью. «Не знаю, – писал в докладной по этому поводу начальник станции, – действительно ли Пиросманашвили болеет насморком, но увольнение его КРАЙНЕ желательно, т.к. его постоянные болезни служат КРАЙНЕ плохим примером для других служащих…»
Весь ноябрь он не выходил на службу, сказавшись больным, а 25 ноября, не дожидаясь окончательного решения своей судьбы, внезапно уехал в Тифлис и пропадал там больше недели, после чего прибыл на место своего предписания в Елисаветполь и, не давая никаких объяснений, забрал свои пожитки и снова направился в Тифлис. Не могло больше начальство «возиться с ним, как с дитём малым», махнуло на него рукой и уволило в конце декабря, выплатив ему выходное пособие – 45 рублей.
Итог его 4-х летней службы был невесёлым, а попытка найти своё место в жизни закончилась крахом, ведь он, уже 32-х летний, продолжал оставаться без дома, без профессии, без семьи. Нико понимал, что сбился с пути, что разочаровался. Что пора бы начинать жить, как все. Ведь все КАК-ТО живут… Работают… Но как? Ответа на этот вопрос он не знал… А спрашивать было не у кого…
Глава 6. Верийский молочник и Падшая красавица
Вот уже несколько часов он словно тень бродил по оживлённому Тифлису и скучал, а с лица его не сходила растерянная улыбка. Временами он чувствовал себя совершенно свободным, как вольная птица, что, глядишь, взмахнёт крыльями и полетит куда захочет, по необозримым просторам синего неба, среди белоснежных облаков и ночных звёзд – навстречу ветру. Только вот куда лететь – этого он ещё не знал. Тем не менее, в такие моменты он наслаждался пёстрой картиной мира: разнаряженными барышнями, скользящими по Головинскому проспекту под ручку со своими кавалерами, и оставляющими за собой шлейф французского парфюма, неугомонным чириканьем воробьёв на густых платанах, стуком колёс изящных фаэтонов. А потом внезапно подкатывало ощущение, что теперь он – никому не нужный, всеми забытый и покинутый человек. Да и человек ли? В голове кружило бесчисленное множество всяческих мыслей.
Когда стемнело, он, такой одинокий и неприкаянный, бесцельно свернул в Александровский сад, что между Головинским проспектом, Барятинской и Александровской улицами. Днём здесь делает променад масса хорошо одетой и благовоспитанной публики, гремит военная музыка и бьют фонтаны, запускаются ракеты. А сейчас, вечером, здесь шастали одни кинто вместе с «грубыми дамами» с фонарями под глазами. То и дело раздавались их громкие песни и хриплые звуки шарманки. Другая категория публики являлась большей частью прислугой, которая стекалась сюда с предложением своих сомнительных услуг в качестве домашней кухарки, лакея, уборщицы, няни и прочее. Здесь, среди скамеек, деревьев и клумб с цветами, бродили добродушные собаки, сюда с прилегающей улицы доходил звук колясок и переклики наездников…
Ну вот и всё. С ненавистной службой на дороге покончено. Сейчас он свободен от обязательств. А что теперь? Куда податься? Опять к господину Калюжному? Не удобно как-то во-второй раз. К Калантаровым? Нет, не пойдёт он туда, хоть и сильно скучает! Как посмотрит им в глаза? Стыдно!
Надо бы поискать ночлег. Но прежде следует где-то укрыть свой кожаный чемоданчик с красками и кистями – прощальный подарок Элизабед. Правда, поистрепался он сильно. Но на это не посмотрят – стащат за милую душу и имени не спросят.
Он приметил одинокий старый дуб на окраине обезлюдевшего сада и, подойдя к нему, внимательно осмотрелся кругом. Никого. А вот и дупло! Неудивительно, ведь в каждом настоящем дубе обязательно должно быть своё дупло, если его хорошо поискать. Вот и это достаточно просторное, чтобы вместить в себя его чемодан.
Наконец он нашёл слегка покосившуюся скамеечку в таком месте, где и обзор был, и народ не слонялся почём зря, и устроился на ночлег, сняв с себя пиджак и укрывшись им с головой.
Только на рассвете, в окружении высоких деревьев и шелестящей листвы, ему удалось заснуть. Спал он сладко, а по лицу бродила всё та же наивная, почти глупая, улыбка. Ему грезились Мирзаани, виноградные поля, матушка с драчливым петухом Мамало и девочка с шаром – он больше не забывал её имя – Иамзэ. А потом приснилась Элизабед, мудрая и такая прелестная… Но безмятежной ночной идиллии не суждено было длиться вечно – кто-то разрушил её, грубо толкая его в спину:
– Эй, вставай! Нечего здесь околачиваться!
Он испуганно открыл глаза. Над ним стоял немолодой уже человек в чёрных калошах. Дворник? Да! Потому что на нём это написано, да-да, так именно и написано на его форменной фуражке «Дворникъ». И ещё зачем то номер какой-то приписан сверху: «1035». Сутулится в своём поношенном чёрном пальто из грубого сукна, поверх которого напялен белый передник. Беззубые щёки его ввалились, крупный нос свисает книзу, а уши почти слились с лицом.
– Зачем дерёшься, уважаемый? Что я натворил? Деньги у тебя украл? – робко спросил Нико.
– Нельзя спать на городских скамейках! – сердито ответил дворник, но губ его Нико так и не увидел. Они были покрыты рыжей растительностью. Как и волосы – клочья сплошного лишайника! – Здесь тебе не Багдад, а Тифлис! Ев-ро-па! Ишь ты, разлёгся, всю скамью занял, как будто это мамин дом – папин духан!
– Тебе что, скамейку жалко для человека, да?
– Может и жалко. А вдруг приличные люди придут, им она и понадобится. А ну-ка вставай отсюда! – дворник грозно застучал по земле толстой палкой с загнутой ручкой, которую он держал в своей правой руке словно посох отшельника.
– Кому я мешаю? Какие ещё приличные люди в такое время гуляют в саду? – возразил ему Нико.
– Кто гуляет? Мало ли кто? Князь какой-нибудь знатный возвращается с пирушки в Ортачальских садах, захочет посидеть на скамейке, отдохнуть, воздухом подышать. А здесь – ты! Куда деваться бедному князю? Или сын богатого купца из Сололаки и дочь другого купца из Авлабара захотят туда-сюда… поцеловаться на этой скамейке. А здесь – снова ты! Что несчастным детям делать прикажешь? Не целоваться?
– Слушай, уважаемый, я не понимаю, где ты видишь «бедного князя», где «несчастных детей» увидел? Никого же нет вокруг!
– Это пока – нет. Но в любой момент подойти могут.
– Когда подойдут – встану. Дай поспать человеку.
– А вдруг сон увидишь?
– Какой сон?
– А кто тебя тебя знает… мало ли какой? Ан-ти-го-су-дар-ствен-ный, вот какой! Народ недовольный увидишь! «Долой царя» кричать будут! «Долой наместника!». Зачем мне такие неприятности на моей скамейке? Устал я уже бродяг со скамеек поднимать! Уходи отсюда, по доброму прошу. А нет – околоточного позову.
Покидая своё временное прибежище под открытым небом, услышал он, как дворник запел довольным голосом:
«… в Александровском саду
музыка играет,
разным сортом барышня
туда-сюда шляет…»
Весь следующий день его прошёл в бестолковом скитании по городу. А под вечер он оказался на какой-то неосвещённой улице, где фонарей не полагалось, и, боясь вывихнуть себе ногу, если ненароком попадёт в одну из ям или рытвин, он спустился вниз, к Куре, где сел на её покатом берегу, глядя на воду и пытаясь освежить мысли свои чистым воздухом.
Она текла, тёмная и холодная, ворчала и хлюпала об изрытый берег и неслась куда-то в далёкое Каспийское море. Капризная река порой демонстрировала жителям Тифлиса свой норов, переполняясь водой от сезонного таяния снегов с гор либо от сильного весеннего ливня. Тогда, разливаясь, она нещадно затапливала все низменные части города, выкорчёвывая деревья, смывая мосты и хозяйственные постройки. В первую очередь страдал район Пески, тот самый, в котором удачливым мукомолам разрешили ставить мельницы. Вот и совсем недавно, пока Нико ещё служил на железной дороге и находился в Елисаветполе, уровень Куры превысил Песковскую улицу более чем на 4 метра. Остальные улочки, на которых подвалы и нижние этажи домов оказались под водой, уподобились Венеции – по ним на лодках развозили еду людям, укрывшимся на верхних этажах. Под воду ушли знаменитые Верийские и Ортачальские сады, частично обрушившийся Верийский спуск и парапет Цициановского подъёма, затопленные караван-сараи у Авлабарского моста и рельсы ортачальской линии конки. Это страшное наводнение затопило 90 домов и лавок, а улицы были занесены густым слоем ила и песка…
Нико, погружённый в мысли, то и дело всматривался в мутную воду, откуда слышались то всплески хищного судака, терпеливо поджидавшего свою добычу в засаде, то показывалась тёмно-зелёная, с синеватым отливом, спина костистой шамаи.
«Если ты меня не любишь,
На река Кура пойду.
Меня больше не увидишь —
Как шамайка поплыву…»
– вспомнил он слова недавно услышанной из уст весёлого кинто песни.
Одна за другой зажигались в небе звёзды и взошла полнотелая луна, озарившая Нико сочувственным бледным светом. Воцарились мир и звенящая тишина. А затем до него откуда-то донеслись звуки музыки и пение. За ними приплыли вкусные запахи жареного мяса и вина – видать, где-то гуляют бесшабашные люди. А, спустя минуты, показалось и само ристалище этого пиршества – плот, скользивший по серебристой воде. На нём сейчас кутили весёлые карачохели в своих чохах, окружённые музыкантами с дудуки, доли и зурной. Парные барабанчики «диплипито-ногара» выбивали плясовую дробь. Слышалось блеяние барана под скрип шарманки, а над всем этим какафонным весельем распростёрлась мгла, вперемешку с белым дымом, поднимающимся от раскаленного древесного угля, на котором поджаривался сочный шашлык…
– Тысячелетиями вода из этой реки течёт в морскую бездну, – думал Нико. – Вот бы и мне на такой плот! А то лишний я здесь! Пущусь по течению, навстречу случаю… навстречу будущему… Всей науки-то – работай веслом, следи, чтобы плот носом по течению шёл, подальше от камней и коряг.
Но внутренний голос безжалостно разрушил его мечты, сердито напомнив:
– Нико, зачем тебе ещё один плот? Не довольно ли с тебя одного, на котором ты сидишь, посреди огромного океана тоскливой пустоты?
…Он услышал странный шелест травы за спиной. Кто-то крадётся? Не разбойник ли местный? Вот недавно целую шайку поймали, что грабила людей по ночам. И во всех тифлисских газетах об этом писали, предупреждали, что не стоит по ночам в одиночку бродить по безлюдным местам, где шатаются карманщики и всякий пьяный сброд. А что с него взять-то, безработного? Нет у него ни толстого кошелька, ни золотой цепочки. Хорошо ещё, что чемодан спрятал. И деньги там же, внутри. Целых 45 рублей! А сейчас только вот – шляпа есть, костюм старый, и изношенные ботинки, что остались после службы на железной дороге. Пусть всё забирают на здоровье! Ему не жалко!
И вдруг шорох исчез, но вместо него появился нетерпеливый звук, напоминающий журчание фонтанчика. А следом и другой – возглас облегчения. Судя по всему, кто-то, найдя себе отхожее место, признательно отдал Богу душу.
– Эх, даже место себе нормальное выбрать не смог, – удручённо пронеслось в голове. – То, что нашёл – и то нужником оказалось! – он медленно повернул голову и в пяти шагах от себя разглядел силуэт коренастого человека, справлявшего в кустах «малую нужду».
Тот тоже его заметил, смутился и стал торопливо застёгивать шаровары:
– Извини, брат. Не заметил тебя.
– Ничего-ничего, дзмао, делай своё дело. Это нужная вещь. Её на потом не отложишь.
– Нико, ты что-ли? – незнакомец пялился, пытаясь рассмотреть лицо и глаза, закрытые шляпой. – Не узнал?
– Шен хар, Димитри? Гаумарджос! – по-детски воскликнул он, узнав в незнакомце своего земляка. – А я принял тебя за настоящего ночного грабителя!
Тот обнял Нико на радости своими натруженными руками с грязными, с черными ободками, ногтями, а его уставшие глаза добродушно сузились в улыбке, собрав на своих краях сеть тонких морщин.
– Сколько лет не виделись, Нико, шен генацвале, сколько зим!
Димитри Алугишвили был человеком среднего роста, плотный и налитой, с чёрными волосами и тёмно-лиловыми губами. Имел он невысокий лоб, и типично кахетинский нос. А кожа его была смугла и несла на себе отголосок долгого ирано-турецкого владычества в Кахетии.
– Я вот в Тифлис перебрался, Нико. Жену привёл, дочка у меня родилась. Да только работы всё нет. Боюсь, что останемся без куска хлеба. Придется в деревню возвращаться. Да и там – некуда идти и не к кому. Дом отобрали за долги. Устал я горбатиться земледелием на князя, годы уже не те. Думал, подамся в большой город, ремеслу обучусь – но и с этим ничего не вышло. Здесь мастеровых, как собак нерезаных, они не дадут никому ходу. Остаётся одно – заняться торговлей. Но с пустыми руками не начнёшь это дело. Везде деньги эти проклятые нужны.
– Деньги есть. Димитри, – наивно произнёс Нико. – Накопил немного. 45 рублей. Остались со службы на железной дороге.
– Правду говоришь? – Димитри недоверчиво сузил глаза. – Ну, раз есть деньги, может, вместе займёмся торговлей? Лучше быть хозяином в собственной халупе, чем прислуживать в чужом дворце. Откроем лавку, будем торговать. Разбогатеем, станем настоящими людьми, наймём столько приказчиков, что ты всех по имени не будешь знать! Что ещё нужно человеку для счастья?
– Я ничего не смыслю в торговле, Димитри. – признался Нико. В то же время он понимал, что земляк его был человеком хозяйственным, работящим. К тому же он семейный. На него можно было положиться. А если и нет, так хотя бы просто помочь хорошему человеку, как-никак, семья у него бедствует.
– Нехитрое это дело, Нико. Выгодно купить – выгодно продать! Главное, чтоб барыш был! Весь мир торгует, и мы будем торговать. Что скажешь на это, братишка? Решено?
– Решено.
– Насчёт прибыли ты не волнуйся. Будем её честно делить, по-братски. – Спина его выпрямилась, морщины разгладились, в тусклых глазах появился блеск надежды.
– Ладно. Будь по-твоему, Димитри. Я согласен!
Недолго думая, они сняли небольшое помещение на Верийском спуске и стали торговать. Вход с улицы украшали вывески кисти самого художника: две коровы, симметрично одна против другой – белая и чёрная. И под ними надпись «Молочная». В центре лавки устроили прилавок. На нём была выстроена пирамида из круглых сыров: пресный осетинский, островатый на вкус имеретинский, пахучий тушинский, резиновый сулгуни с сочившимися из него каплями свежего молока. В больших глиняных кувшинах желтело густое свежее мацони, покрытое коркой масла. В банках – парное молоко. На слое из ореховых листьев были разложены круглые куски сливочного масла, покрытые чистой тряпкой. В других горшках переливался янтарём майский мёд, а рядом – мёд в сотах. Цены были невысокие, и никто здесь не обсчитывал и не обвешивал покупателей. И товар хорош: молоко цельное, а сметана не разбавленная. Сыр всегда свеж и мягок! И всю сдачу отсчитывают до последней копейки. Вот и шли люди сюда, зная, что застанут продавца за прилавком в любой час и в любую погоду.
Компаньоны старались, вставали до рассвета, когда природа ещё дышала дремотой. А с первыми лучами солнца из окрестных деревень Табахмела и Окрохана по пыльной Коджорской дороге спускались усталые ослики с хурджинами на спинах. Из них торчали горлышки глиняных кувшинов. Мускулистые и деловитые сельские парнишки останавливали вьючных животных у дверей их лавки. А Нико уже стоял у входа, созерцая пока ещё холодные тени слабого рассвета. Юные погонщики любили этого странного торговца – не такой он, как другие. Не кричит, не клянёт предков, не хулит твой товар, а, бывало, ещё и предложит нарисовать мальчугана, леденец или свистульку подарит, посмеётся вместе с ребёнком, или побегает, да и гривенник даст в придачу! А потом может и саму картину подарить на память – «пусть малец радуется, дай Бог ему счастья!».
– Парень с головой! – говорили о Нико покупатели. – Смотри как дела-то повёл! Разбирается в торговле, знает подход к клиенту. Да чтоб я сдох, если из него не выйдет купец первой гильдии!
Действительно, новое дело пошло хорошо, хотя и сильно выматывало. Они оба – Нико и Димитри – сами себе были и хозяева, и слуги, и продавцы, и уборщики, и грузчики. Весь день на ногах, а вечером, когда ноги гудели, как колокол в Сиони, они пересчитывали выручку и засыпали без задних ног.
– Разбогатею, построю себе дом деревянный, на горе, чтобы город было видно. – мечтал Нико. – Куплю большой самовар, как у Калантаровых в гостиной. Будут люди в гости приходить, будем чай пить вприкуску и это время вспоминать…
Вроде бы, житейское счастье наконец улыбнулось ему. Но… как только прошёл елейный вкус новизны, с ним вместе ушёл и прежний, почти мальчишеский, азарт, теперь их заменили извечные, недоумённые вопросы:
– Ну вот, лавку открыл. И торгую как все. – рассуждал он своим умом. – А что же дальше? Опять прилавок с товаром с раннего утра и до самого темна, а вечером – выручка? И так – день за днём, год за годом? – он тяжело вздохнул и помотал головой. – Неужели Димитри прав, когда говорит, что теперь я не просто торговец, а «коммерсант»? И настоящий человек? Дёшево купить – дорого продать! Это значит – «настоящий человек»? Ну нет, с этим я не согласен. Наверно, я так и не стал человеком!
Временами им овладевало равнодушие, и тогда он не появлялся за прилавком.
– Нико! – звал его Димитри. – Что торчишь у двери как градом побитый? Иди сюда, смотри, сколько дел! – а тот стоял у двери и смотрел то по сторонам, то куда-то вдаль, думая о чём-то своём.
Однажды в их лавку робко заглянула пожилая женщина, вся в чёрном, худая и очень похожая лицом на его мать Текле. Было видно, что она в дикой нужде живёт.
– Никала, сынок. Дай мне немного молока. Сын денег пришлёт – я отдам. – она смотрела на Нико умоляющими глазами. Но Димитри вмешался в разговор:
– Что смотришь? За товар платить надо! Ты что, скрипучая арба, ослепла от старости? Не видишь цену – крупно написано «20 копеек»? Или решила у меня на шее посидеть? Ничего не выйдет! Закон торговли: сначала деньги – потом товар…
Женщина, сгорбившись от отчаяния ещё сильнее, повернулась уходить, скорбно опустив голову, но Нико остановил её:
– Погоди, матушка! – та обернулась, подняв на него свои влажные глаза. – Вот, бери молоко, – он стал укладывать товар в плетёную корзину, – и сыр возьми, и десяток яиц. Не нужны нам твои деньги, не обеднеем…
– Святой Гиоргий да благословит тебя, сынок, за доброе сердце! – она осенила его крестным знамением…
– Ты что творишь, Нико? – негодующе вскипел Димитри сразу же, как только они остались наедине. – Ты зачем нищей старухе даёшь молоко и сыр без денег? И еще яйца в придачу?
– Нельзя обижать старых и бедных, Димитри! Нельзя прогонять их.
– Всем раздавать товар – так по миру пойдём! Мозги твои набекрень! Ради чего мы здесь ишачим? Нам деньги нужны! – не унимался компаньон.
– Слушай, что ты заладил: «деньги! деньги!»? Ну что такое эти твои деньги? Это вода. Она приходит и уходит. Потом опять приходит и снова уходит. Жизнь коротка как ослиный хвост – от крестин до погребения два шага. Человечным надо быть, Димитри, добрым! Доброта, в отличие от денег, если приходит, то уже никогда не уходит.
– Эх, Нико, Нико! Хочешь в рай за свою сердечность попасть, да? Ну, ступай! Что смотришь? Иди, иди, никто тебя не держит. Я лично туда не тороплюсь. Мне вон семью кормить надо… дочку вырастить, на ноги поставить, потом замуж выдать…
Кое-как успокоились. Принялись за дело, но ненадолго. В лавку заглянула Лали, молодая женщина, живущая неподалёку, в этом же убане. Соседки её избегали с ней общаться, обходили за версту, держа в памяти её сутяжный нрав:
– Ты что это мне продал сегодня утром, Димитри? – крикливо начала она, суя ему под нос корзину. – Буйволиное молоко?
– Ты что, Лали, не в своём уме? – отвечал ей компаньон. – Какое ещё буйволиное? Выдумала тоже! Продал тебе свежее коровье молоко, как всегда. Каждый день ведь приходишь в лавку, знаешь, что не обманем тебя.
– А кто тебя, плута, знает? Торгаш – он и есть торгаш! Все вы одного поля ягоды! Сегодня хороший товар, завтра – плохой… Вот молоко твоё – видишь? Свернулось оно, полюбуйся! Загляни в кувшин. Чем мне теперь детей поить, а?
– Диди амбавиа, молоко у неё скисло, ленивая ты женщина! Возьми и сделай из него хачапури.
– А ты мне не указывай, что мне делать! Бери обратно свой товар. Верни деньги или налей новое молоко… А то разнесу тут всё, ты меня знаешь!
И опять пришлось Нико вмешаться в спор, дать женщине другое молоко. И вновь выслушивал он упрёки компаньона, мол, добрый он очень. Безотказный.
– Ты меня не понукай, Димитри. Я как умею, так торгую…
* * *
Он выскочил из лавки, словно ему в ней не хватало воздуха. Завидев мальчишек, что на двух осликах везли свежескошенную траву, он кликнул и остановил их и, опустив руку в карман, вынул оттуда рубль:
– Бичебо, продайте траву. Этого же хватит?
Потом отнёс её в заднюю комнатку при лавке и рассыпал по полу.
– Зачем тебе эта балахи, чудак ты – человек? – недоумевал Димитри. – На что деньги изводишь?
– Давно в деревне не был, брат. Раскину её, лягу, приятно будет.
– Так у нас вся прибыль уйдёт! – бурчал Димитри.
– Ты что там ворчишь, дзмао? Мои деньги заплатил – не твои же. Ты лучше иди сюда, пока клиентов в лавке нет. Дай я тебя так нарисую, что обезьяннее тебя на свете не найдется… Садись сюда, смотри на свет…
Когда портрет был готов, Нико повернул его лицом к компаньону:
– Похож? Дарю от чистого сердца! Возьми домой, повесь на стену, пусть жена порадуется! Я и дочку твою нарисую, как-никак, крестница же моя.
Тот, взглянув на рисунок, вздрогнул:
– Нет, Нико. Ты не обижайся, будет лучше, если я оставлю его здесь. Ребёнок увидит – испугается. И ещё, хотел тебя попросить… ты это… моей жене больше не показывай свои рисунки. Она порядочная женщина, а ты ей голых женщин под нос суёшь…
* * *
Каким-то образом, скорее всего, не без участия Димитри, до Мирзаани дошли слухи о том, что у Нико есть собственная лавка в Тифлисе.
– Видишь, какое дело завёл мой брат. Говорят, вышел в богачи. – сообщила мужу новость Пепуца. – Давай-давай, собирайся. Поедем, навестим его. Может и нам что перепадёт по-родственному. Одной плоти и крови мы, как-никак.
Они, прихватив бурдюк кахетинского, отправились в Тифлис: вино наше – угощение ваше!
– Как ты возмужал, Никала. Царство небесное нашим родителям, не узнали бы тебя! Красивый стал, умный, богатый! А что не женился до сих пор? Ещё не встретил свою княгиню в таком большом городе? Грех холостым жить! Жизнь коротка. Надо и тебе след на земле оставить. Род наш Пиросманашвили продолжить.
– Мне свобода дороже, Пепуца. Не хочу быть птичкой в клетке.
Но сестра с мужем не унимались, и став часто наведываться в Тифлис, каждый раз говорили об одном и том же: о его деньгах и о женитьбе. И приглашали в Мирзаани…
В конце-концов, дождавшись весны, Нико приехал в родное село. И не с пустыми руками – с богатыми подарками и деньгами. Сестре он привёз швейную машину «Зингер» – эту диковинку в селе никто раньше в глаза не видывал. Пепуца растрезвонила во все колокола, что брат приехал строить новый дом, куда и приведёт вскоре молодую хозяйку.
Нико старался изо всех сил. Достал камень, известку, сам работал, месил цементный раствор и помогал каменщикам возводить стены. А потом, на удивление сельчан, привёз из Тифлиса настоящее кровельное железо – о таком те даже не слышали! И заказал мастерам из Сигнахи двери, окна, перила.
– Ай-да Никала, вот молодец какой! – делились известиями сельчане. – Дом построил самый лучший! Потом посадил ореховое дерево, огородил его, чтобы животное чужое ненароком не сломало. Говорит: «Вот примется, раскинет ветви, лягут под ним люди, вспомнят меня!»
– Пей, Никала, – Пепуца поднесла ему чашу вина. – Доброе вино. Из нашего марани… Тебе уже 37 лет, совсем скоро, не успеешь миску лобио съесть, будет 40, а ты ещё не женат. Всё рисуешь, как мальчишка! Тебе нужна жена! Умная, хозяйственная! Ты на красоту не смотри! Что красота? Сегодня есть – завтра уже нету! У нас есть здесь одна… хорошенькая, пухленькая… зато в постели не потеряешь… Я тебе её сосватаю. Тем более, что и дом ваш уже готов. И согласие её я получила. Будете жить в нём, детишек заведёте. Род наш продолжится! Вот пост закончится – так и сыграем свадьбу. Пошьём тебе белую чоху, купим кинжал…
– Это не для меня, сестра…
– Что не для тебя, Никала?
– Этот дом. Он мне ни к чему. Это вам нужен новый дом. Старый совсем ветхий стал. Вот соломенная кровля вся уже истлела…
– А как же ты, брат?
– Я буду смотреть на вас и радоваться!
Дом в деревне построили. Устроили пир. А Нико написал и подарил сестре картины, изображающие праздник: «Гости слушают тамаду», «Гости за столом», «Возвращение домой» и «Сона Горашвили играет на гармонии».
Он рисовал луну и звёзды, свадьбу, ангелов и осликов, а потом за ужином объявил сестре, что не может оставаться в деревне и уехал в Тифлис. Сказал, что хочет одного – рисовать, так как понял, что живопись – главное дело его жизни.
Итак, затея Пепуцы сосватать невесту для брата рухнула. Но родственники не унимались. Той же осенью 1899 года они высылают ему депешу:
«Дорогой брат Никала. У нас беда. Срочно приезжай. С деньгами!»
Он срочно выехал в Мирзаани, оставив лавку на попечении Димитри. Картина, которую он увидел, поразила его. Кахетию постиг сильный неурожай, вызванный засухой. Начался голод. Исхудавшие люди продавали скот за копейки, чтобы купить хлеба.
– Никала, спаситель ты наш! – причитала Пепуца, – На тебя одна надежда, брат! Спаси и сохрани!
– Ты не плач, сестра. Скажи, что мне делать? – не понимал он. – В Тифлис хотите переехать?
– Нет, Никала, как дом здесь оставить, хозяйство? Ты лучше вот что… если хочешь доброе дело сделать для нас, и для сельчан, начни торговать мукой. Мука сейчас ох как в Кахетии нужна, по цене золота пойдёт! Это выгодно! Не прогадаешь!
Нико, недолго думая, согласился. Вернулся в Тифлис, купил там целый фургон белой муки из Одессы.
– Нико, что ты задумал, чокнутый? – пытался остановить его Димитри. – Куда везёшь такую дорогую муку? К нищим односельчанам?
– Хочу чем-то помочь, Димитри. Голодают они там…
– Слушай, если будешь продавать муку дешевле своей цены – будет убыток. А если дороже, тогда не говори, что делаешь доброе дело…
Он вернулся в Тифлис через несколько дней, кричал и плакал:
– Они обманули меня, Димитри. Родная сестра и её муж – я убью его! Сказали: «ты не волнуйся, отдыхай с дороги. Мы сами продадим муку». Вином угостили и спать уложили…
– Выгодно хоть продали?
– За два часа всё продали… за полцены. Потом сказали, что надо бы помолиться Святому Гиоргию и пожертвовать ему скотину, чтобы уберёг от засухи. На последние деньги купил я тельца и поехали в Бодбе. А они сами сожрали тельца, все деньги от муки присвоили, а меня высмеяли, выгнали. Сказали: «мы думали, ты нормальный человек! Хотели жену тебе найти, свадьбу сыграть. А ты сумасшедший! Зачем тебе жена, дети?»…
Он надолго замолчал, смотря куда-то вперёд невидящими глазами. Димитри хотел встряхнуть его, вернуть к действительности:
– Ты не переживай, Никала. Не беда! – он хлопнул компаньона по плечу и шагнул в смежную комнату, где в корзинах, сплетённых из прутьев, держал на продажу глиняные кувшины с кахетинским вином. Рядом лежали тяжёлые гроздья винограда. – Деньги еще заработаешь… Тебе и так мало надо… Вот, пей вино – оно развеселит твоё сердце…
– Дурак ты, Димитри, если не понимаешь, что не в деньгах дело! Не это огорчило меня! Хотел помочь я им, спасти от голодной смерти. А у них задние мысли… Больше не поеду туда – не буду иметь с ними никакого дела…
Он налил себе в чашу густого крепкого вина из глиняного кувшина и залпом её осушил. За первой чашей последовала вторая, потом третья, пока, наконец, кувшин не опустел.
– Хороший мы народ – грузины, только тут у меня ничего нет… – он показал на свою голову. – Как мне надоела вся эта суета, Димитри! Принеси еще вина! – потребовал он.
– Ты закусывай, Никала. Вот есть хлеб, свежий сыр, помидоры…
– Принеси ещё!
На прилавке появился следующий кувшин… Он надолго припал к чаше, а затем протянул руку к кувшину, чтобы вновь наполнить её. Рука его дрожала. Он пил жадно, медленными и долгими глотками.
– Пьешь вино как ишак – воду, – стал волноваться Димитри.
Но Нико не обращал на его слова никакого внимания. Потом он внезапно вскочил на ноги в таком буйном исступлении, что едва не опрокинул прилавок, такое под силу разве что тигру. Стойка дрогнула, и третий, ещё недопитый, кувшин покачнулся и полетел на пол, разлетаясь на крупные и мелкие черепки и разбрызгивая свое красное содержимое во все стороны.
– Не к добру это, – покачал головой Димитри, – ой, не к добру! – и перекрестился. А Нико, одержимый яростью, кричал:
– Обманули меня… думают, что я безотказный… сумасшедший… И ты тоже, да? Братом меня называешь, а вместо вина воду подаёшь?
– Что ты говоришь, Никала? Какую воду? Ты уже совсем пьян! Вино от воды не отличаешь… Остановись, пока не поздно…
– Кто – я? Я пьян? Да я в жизни ничего кроме коровьего молока не пил. И лимонад – у Калантаровых…
Должно быть, первый кувшин вина на этом грустном пиру был чашей его наслаждения, второй – опьянения, третий же, недопитый, – полного омерзения. Последний, казалось, высосал содержимое его разума, отчего в голове у него царила пустота, как в только что разбитом сосуде, превратившемся в разбросанные черепки на полу их молочной лавки.
На мгновенье он погрузился в странный ступор и, обездвиженный, едва мог поднять голову. Чаша бытия казалась ему чужой и отдалённой. Пресытился он ею, отверг вино жизни, и пришёл к сознанию того, что радости и горести, чувства и переживания не заслуживают никакого повторения.
– «Помни, ты избранный!» – отчётливо услышал он голос свыше. – «Ты должен жить, чтобы служить добру, любви и красоте. И примешь муки за это. Но смотри, не дрогни, не уклоняйся от своей судьбы. Так ты достигнешь бессмертия и утвердишься в Царстве Небесном».
Устроившись полулёжа на полу, в луже багровой жидкости и осколков, он выглядел теперь мучеником, чья жизнь была распята обманом и предательством. А пятна от разлитого вина на нём походили на капли крови, сочившейся из его израненной души. Казалось, он медленно испускает дух. Не поднимая глаз, протянул он дрожащую руку к глиняному черепку, взял его и поднёс к самому своему носу, отрешённо разглядывая с разных сторон шершавые острые сколы:
– Ме вар венахи… Я есть виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. – вдруг многозначительно, с тяжелым вздохом, вымолвил он, чем не на шутку напугал своего земляка. – Каждую мою ветку, не приносящую плода, Он отсекает… Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, ибо без меня не можете делать ничего… Эта чаша – кровь моя за ваши грехи. Пейте из неё все…
* * *
Спустя месяц их посетило горе. Чёрной вороной, огромной и зловещей, слетевшей с высокой сосны, обрушилось оно на семью Димитри Алугишвили. Это было горе, горше которого не может и быть для человека – внезапная смерть его маленькой дочери. И родители чуть не сошли с ума от безысходности, а страх их и отчаяние находили выход в беспрерывных потоках слёз.
Маленький гробик установили в центре комнатки, украсили его цветами. За ним, у изголовья, поставили таблу – небольшой столик, со священной едой для усопшей девочки, дабы обеспечить её душу пищей: чашу с зерном, стакан воды и вина, сахар и соль.
– Зажги масляный светильник, – скомандовала пожилая женщина, много повидавшая на своём жизненном пути, другой, что помоложе. – Он укажет нашей Марусе путь в загробный мир! И следите, чтобы маслице в нём не заканчивалось, чтобы горел он до сорокового дня, пока душа её безгрешная не покинет дом и не вознесётся на небо…
Неугасимая красная лампадка замерцала на табле, разливая дрожащий полусвет в комнате и освещая строгие лики святых, внимательно смотревших на пришедших со своих образов. На пол и стены падали мягкие тени, падали и колебались.
Нико тяжело переживал смерть девочки – ведь он крестил её год назад. К страшной этой беде добавилось горькое чувство одиночества. Он не находил себе места, почему-то считая себя виноватым в её смерти, мол, это его несчастливая жизнь повлияла на судьбу девочки. Выходил из комнаты во двор, к тихо судачащим там мужчинам, и снова входил в дом, подходил к покойной и мороз пробегал по его спине, когда он смотрел на её прелестное личико, озарённое моргающим светильником, и видел, что множество херувимов над нею блюли её, как зеницу ока, ограждая мечами своими.
И смотря в глаза каждому пришедшему в этот дом на прощальную панихиду, он обращался к крестнице со словами:
– Бедная, бедная моя Маруся. Это я погубил тебя. Сглазил своей похвалой… Ничего хорошего делать не научился. Приношу людям одно несчастье!
Во дворе накрыли общий стол для поминальной трапезы – «келеха». Привели молодого безмолвного барашка, привязали его верёвкой к старой, облезлой акации во дворе. Обречённый на заклание агнец склонил голову набок и, закрыв глаза, безропотно ждал своей участи. Нико, завидев ягнёнка, нарвал ему с улицы свежей травы, поставил воды и поторопился его отвязать:
– Пусть пощиплет траву, – словно самому себе говорил он. – Бедняжка, что тебе осталось? Совсем ничего. Ещё немного, и придётся самому ублажать других. Молодой ты ещё. Жалко тебя! Что ты видел в жизни? Поживи ещё!
Того барашка вскоре зарезали и, по древней традиции, голову и ноги животного отдали тому, кто его заколол. Специально приглашённый мзареули готовил на костре ритуальную пищу – шилаплав – не женское это дело! Пусть вот возятся с пхали и другой растительной пищей и подают её на стол!
Возвратившись с Кукийского кладбища, людей встречали во дворе дома с ведром воды, кружкой для полива и полотенцем – так они совершали обязательное омовение рук. Потом был соблюдён обряд обмакивания хлеба в стакан с вином, после чего присутствующих попросили за поминальный стол. Мужчины и женщины расселись порознь: мужчины за одним длинным столом во дворе, женщины – за другим, что поменьше, внутри дома. До этого на столы, наряду с вином, хлебом, кутьёй и солью, были выложены и холодные закуски: рыба, пхали, зелень, соленья. Но к еде никто не притрагивался, помня о том, что это недопустимо до поры, до времени.
Пурисупали попросил всех встать на ноги и произнёс первый тост:
– Да будет светлой память усопшей Марии, Царствие Небесное её душе! Пусть она обретёт вечное пристанище и да будет ей пухом родная земля. Путь её будет праведным и да благословит она свою семью! Пусть в семье нашего дорогого Димитри больше не будет горьких утрат…
Только после этих слов разрешалось «преломить хлеб», а на столе стали появляться и горячие блюда: бозбаши, лобио, заправленное орехами.
Пурисупали, строгий знаток обрядов пития в траурном застолье, неукоснительно следил за тем, чтобы стаканы гостей опустошались до дна после каждого тоста, количество которых не должно превышать сакральной цифры 7.
Вскоре на стол подали хашламу – большие куски отварной говядины. Пурисупали напомнил, что «есть её надо в горячем виде потому, что пар на небесах соединяется с душой покойника». Затем он благословил на счастье всех живых на земле: «Да избавит нас Бог от горя и ниспошлёт нам радость».
И вот, наконец, появилось обязательное для поминальной трапезы блюдо – шилаплав, сделанный из риса, приправленного тмином, и мяса закланного агнца, успевшего таки перед смертью напиться и пощипать немного свежей травы. Шилаплав знаменовал завершение застолья, и пурисупали произнёс последний тост, вновь посвященный памяти безвременно усопшей рабы Божьей Марии Алугишвили. Гости выпили его стоя, кто-то из них негромко произнёс: «Ну вот и всё. Пора и честь знать», и тихо разошлись по своим домам.
Казалось, Нико горевал даже больше, чем Димитри с женой. Они, как и все, дочь свою вспоминали, но им пришлось закопать свою боль в глубине сердца, поскольку у них был ещё и другой ребёнок, да и дел было много по домашнему хозяйству и в молочной лавке. Хотя всегда, за любым застольем, поминали душу ушедшей вином и хлебом. Так, утрата постепенно теряла свою остроту, не была она уже так тяжела и горька – сама жизнь, вернувшись в обычный ритм, вытеснила её, изгнала из души. Даже бессмертное горе когда-нибудь умирает…
Шли месяцы и вот – пролетел год со дня смерти девочки. Близкие, как положено, закололи убоину, пошли на кладбище, взяли с собой вино, кутью, хашламу, шилаплав из барашка, разной закуски, а также церковные свечи, чтобы зажечь на могиле. И пригласили священника. Нико шёл, ссутулившись, и нёс перед собой большой букет цветов и красивую куклу с золотыми волосами, купленную им в модном магазине на Головинском проспекте. Он ступал через поваленные надгробия, огибая вековые могильные плиты, поросшие травой, и то и дело натыкался на полусгнившие деревянные ограждения.
Поминальный стол накрыли на кладбище, рядом с могилой.
– Хочу пить за бессмертную душу Маруси в её присутствии, – заявил Димитри. – Чтобы она слышала голос отца. Пусть будет ей вечный покой на небесах!
Нико много пил, смешивая вино и водку и пытаясь заглушить горе утраты любимой крестницы. Потом, заслышав колокольный звон кладбищенской церквушки, он упал на колени и бил земные поклоны. В итоге, он напился допьяна и стал плакать.
Священник монотонным голосом завершал заупокойную литургию, после чего произнёс:
– Пусть Бог утвердит вечную обитель усопшей рабе Божьей Марии, да будет её душа в свете, а оставленным ею на земле – долголетие и радость. Помянем покойную.
Вдруг Нико остановил свой взгляд на священнике. Он стал пристально его изучать, с головы до пят, поскольку закрались в его душу сомнения, искренними ли были слова служителя церкви, и правда ли тот так же неподдельно сопереживает их страшному несчастью, как скорбят они сами?
– Моя крестница – голубка, ангел, она улетела на небо, а что нужно здесь этому чёрту! – он указывал рукой на священника.
Конфликт постарались замять шуткой, кто-то тихо засмеялся в усы, мол, не обращайте внимания, человек сейчас пьян, мало ли что у него на языке… да и чудаковатый он какой-то…
Но он продолжал рыдать, лежа на земле, потом впал в хмельное беспамятство. Служба тем временем давно закончилась. Присутствующие, с наполненными до краёв стаканами, провозглашали витиеватые тосты – один за другим, – и чокались, соблюдая приличия и не пьянея. Напоследок выпили «ковладцминда» – за всех святых. Родственник Димитри со стороны жены – Зураб – опустошив стакан, как положено, мелодично затянул песню, означавшую, что траур окончен и семье надлежит продолжать обычную жизнь. Это называлось «черис ахсна», или «открытие потолка». Песню подхватили и другие, ведь петь её следует так громко, чтобы голоса сотрясали потолок и могли «поднять его», чтобы в день годовщины душа покойной могла навсегда покинуть дом, вылетев через открытую крышу.
От громкого пения Нико очнулся, осмотрелся по сторонам и вскочил на ноги, как ни в чём не бывало.
– А что я один плачу, а все поют и смеются?! Все мы там будем – и вы, и я! Не будем же мы жить вечно! А сейчас хватит уже, ай-да отсюда! – и насильно погнал всех с кладбища, продолжая дорогой то плакать, то смеяться, и всё повторял:
– Не пугайтесь моих слёз и смеха. Мне можно, я – несчастный!
* * *
В молочной лавке он иногда становился дерзким и надменным. Торговля тяготила его, особенно тот факт, что для успеха предприятия им следовало, как говорил Димитри, «выгодно купить – и выгодно продать, чтоб поменьше дать и побольше взять». Он часто бросал прилавок, уходя в свою «балахану», как он называл смежную комнату с охапками свежей травы, где предавался думам и отдыху, пока Димитри обслуживал клиентов.
Порой рядом с ним становилось страшно.
Это случилось во второй половине дня, ближе к вечеру. Уже почти весь товар был распродан, оставалось только немного мёда. Димитри был уверен, что Нико безмятежно спит в своей «балахане», как вдруг услышал громкий крик:
– Помогите, помогите! Мой святой Гиоргий, мой ангел-хранитель стоит надо мной с кнутом и кричит: Хватит пить! Рисуй! Помни, что ты – избранный! – с этими словами он упал на колени, целовал пол с разбросанной по нему сырой травой, и плакал…
– Успокойся, Никала. Не плач! Это был просто сон. – пытался угомонить его компаньон. – Но так нельзя, Никала. Ты должен остепениться.
– Что я должен делать, брат? – непонимающе спросил Нико, успокоившись после своих видений.
– Дело не сложное! Надо жену в дом привести! И всё!
– Нет, брат Димитри, никого я искать не буду. Женщина – баран что-ли, чтобы её привести?
– Дзмао, ты ни о чём не думай. Не твоя это забота! Уже и нашли за тебя, и приведём для тебя. Красавица, а не девушка! Не хромая, не косая, не деревенская девка. Чистоплотная. Скромная. В Тифлисе живёт, на Башмачном ряду. На мужчин глаз не поднимает. И семья у неё строгая, отец сапожник-карачохели, Аршак зовут. Работящий! Приданное за дочку даёт небольшое – 70 рублей – но и то хлеб, не откажемся! В молодой семье всё понадобится. Соглашайся, чего там думать! Пусть твоя Пепуца с мужем-пройдохой своим от зависти сдохнут, что ты тифлисскую в жены привёл, а не из Мирзаани…
Но не внял Нико настойчивым увещеваниям компаньона, наотрез отказался, хотя тот всеми доступными ему словами и уговорами пытался достучаться до его разума дельными своими советами.
– Что мне до визга ребенка и до лечаки жены! Мне только налей – выпей!
– Много ты стал пить, Нико, упрямый ты человек. Жизнь свою напрасно прожигаешь!
– Много, много, дзмао. – вздохнул он. – Изменился я. А когда-то даже вкуса вина не знал.
– Это когда же такое было? – спросил Димитри и недоверчиво взглянул на него. – В другой жизни что-ли?
– Это время утекло в прошлое, как воды Куры. Жил я тогда у одних людей. Целых 15 лет жил. А потом еще 3 года – в доме их брата. Калантаровы их звали, да благословит их Господь за добро! По гроб жизни я им должен… – его взгляд переметнулся куда-то вдаль, а взор накрыла тоска по старым временам, по ушедшему беспечальному детству. Тоска эта была как бессильное сожаление о невозможности ещё раз испытать эти яркие впечатления. А когда перед глазами встал лик прекрасной Элизабед, мрачная грусть овладела его беспокойным и усталым сердцем. Спустя минуту, вернувшись из своих воспоминаний, он продолжил:
– Что я говорил?… – он взглянул на Димитри. – Да, вспомнил. Тётушки в том доме всегда ставили меня в пример подрастающим детям, выговаривали им: «Что это вы ходите вокруг вина на столе, как кот вокруг сметаны? Так и норовите полакомиться. Забулдыгами станете! Вот смотрите, какой наш Никала умница. Вообще никогда не пьёт!»
– А сейчас что-за чертовщина с тобой происходит? Чего тебе не хватает? С самого утра берёшь из кассы деньги и исчезаешь до ночи. А иногда и до утра. Или, как недавно было, до следующего вечера… С кем проводишь время, Никала, где шатаешься?
– Мало ли где в Тифлисе погулять можно, Димитри? Хорошие люди говорят, 150 трактиров здесь, 200 винных погребов, и столько же духанов! Во многих я был: «Сам пришел», «Загляни, генацвале», «Не уезжай, голубчик мой», «Зайдешь-отдохнешь у берегов Алазани», «Сандро налей пива голова болит». Или, если лень далеко ходить, вот вся Михайловская, от Кирочной до Муштаида, в «садах», любой выбирай: «Сад кахетинское время», «Сад гуляния для золотых гостей»… Везде играет зурна и доли, подают недорогое вино из бурдюка, лобио и закуску – что ещё мне нужно для души, брат?… А в ту ночь был я на Куре… друзья-карачохели пригласили… плыли мы на плоту с факелами по чёрной воде… шарманку слушали – «Семь сорок», «Сулико» «Маруся отравилась»… сердце сжималось… Потом сидели молча под пение старого сазандара:
«В Белом духане шарманка рыдает,
Кура в отдаленье клубится.
Душа у меня от любви замирает,
Хочу я в Куре утопиться…»,
– тихо запел он, но деловой компаньон, осуждающе подняв глаза и нахмурив брови, прервал его песню вопросом:
– Опять много потратил?
– На музыкантов потратил… – признался Нико.
– А молоко кто продавать будет в этой треклятой лавке? Один Димитри? Кто сыр будет продавать? Мацони? Масло? Мёд? Тоже Димитри? А товар кто будет принимать? Конечно, опять Димитри! Потому что «его сиятельство великий князь Николоз Пиросманашвили» – хочет гулять. А потом – отдыхать. Гулять и отдыхать… отдыхать и гулять. А когда придёт обратно – идёт уставший в свою «балахану», чтобы поспать на траве…
– Эх, – Нико тяжело и очень грустно вздохнул полной грудью. – Ничего ты не понимаешь, дзмао. Одни деньги любишь. Когда я там, я испытываю очищение от житейской суеты, получаю радость от свободного, бесхитростного общения… и возношусь к небу…
– Чтобы вознестить к небу, надо работать… Там ворота для лентяев и бездельников на десять замков заперты! – закричал Димитри, уже будучи не в силах сдержать свою ярость по отношению к этому «чокнутому» и «побитому градом».
Но Нико его уже не слышал. Он, надев свою фетровую шляпу, уже направлялся… впрочем, вероятнее всего, он и сам ещё не знал, куда ноги приведут его этой ночью…
* * *
…Их кутёжное веселье в «Дарьяле» затянулось допоздна. Потом они, вместе с зурначи, взяли грустного извозчика в армяке с яркими пуговицами и, удобно устроившись в его фаэтоне на широких сиденьях из тёмно-красного бархата, понеслись по ночному Тифлису. Башенные часы над Думой на Эриванской площади только пробили одиннадцать и люди давно разошлись по домам. После удушливого дневного зноя и сутолоки уже не слышны были выкрики продавцов, были закрыты все магазины и лотки. Утих непрекращающийся гомон на базаре. Город, натруженный в течение всего знойного дня, сейчас отдыхал от забот. Но в верхнем Сололаки – таком родном ему Сололаки – где он знал каждую улочку и каждый дом, на кровлях некоторых домов сидели люди, наслаждаясь свежим вечерним ветерком, веющим с горы Мтацминда и со стороны садов Ортачала, где сейчас вовсю гуляет дворянство и купечество. Гладкие, покрытые глиной и пылающие жаром крыши кто-то охлаждал водой из чанов и кувшинов. Некоторые стлали ковры. Выносились мутаки – цветастые подушки продолговатой формы. Где-то устраивались общие увеселения, восхитительно плясали «Лезгинку».
Нико и не заметил, как фаэтон доставил их в Ортачала, к Орбелиановским серным баням, чьи двери круглые сутки были открыты для всех желающих.
– В Цовьяновских банях сегодня женский день. – со знанием дела объяснил извозчик, поправив на голове цилиндр. – В Мирзоевскую и Бебутовскую не протиснешься в этот час, а баня Царя Ираклия – на ремонте.
Гостеприимный банщик встретил их на пороге, провёл внутрь под сопровождение зурны и противной вони от серы.
– Располагайтесь, господа-батонебо! – учтиво предложил он, рассматривая гостей. – Я сейчас позову его…
– Кого? – поинтересовался один из друзей Нико, Гогия.
– Того, кто не сеет, не пашет, – только жнёт, тем и живёт… – ответил тот хитроумной загадкой и быстро удалился. Все переглянулись и только один из них, Васо, смекнул:
– Пошёл за цирюльником.
Баня была большой и каменной и имела отдельные номера со сводами. Свет проникал во внутрь сверху, через купола, едва освещая глухие кирпичные стены. Пол в предбаннике выложен плитами из серого камня и устлан коврами, а лавки покрыты разноцветным сукном, в изголовье которых лежали мутаки. Сами ванны в купальне облицованы мрамором. Когда-то в одной из них мылся сам Пушкин, а потом описывал роскошь тифлисских бань…
Пока гостей брили, успели, не спрашивая, накрыть стол. Иначе нельзя! Зашипел огромный самовар с ароматным чаем из мяты.
Худой лысый тёрщик без возраста, чудом выживший в этом аду и пару, подошёл к Нико и уложил его на тёплом каменном полу, запрыгнул ему на плечи, стал вытягивать ему суставы, скользил ногами по бёдрам и плясал по спине вприсядку, бил кулаком, не причиняя боли, а лишь давая удивительное облегчение. После этого стал тереть его всего «кисой» – шерстяной рукавицей-мочалкой и намыливать полотенцем, чтобы опять, по второму кругу, сдирать с него грешную шкуру.
Эх, тёрщик, тёрщик! Древняя у тебя профессия! Знаешь и молчаливо хранишь все самые сокровенные тайны моющегося. А как же иначе? Перед тобой, как перед Богом на исповеди, все равны в своем естественном, неприкрытом обличье.
А тот, верой и правдой служа благому своему делу, ещё и громко напевал:
«Лучше нашей серной бани
Нет, поверь, и не бывает.
Все похмелье прочь выходит.
Все грехи она смывает».
Напоследок он окунул разомлевшего Нико в ванну с целебной серной водой из горячих подземных источников. Жизнь вернулась в его тело вместе с аппетитом. Ощущая внутри себя сладость бытия и освобождённость от забот, закрыл он глаза в упоении, желая одного – до самой смерти продлить это блаженство.
После того, как их беззаботную компанию побрили и помыли по всем банным правилам, они, свежие и обновлённые поехали дальше – гулять так гулять! До глубокой ночи! До следующего утра! А лучше всего – и вовсе бы не возвращаться домой, в эту постылую молочную лавку…
Их фаэтон покатился дальше, сквозь узкие улочки, обгоняя коляски-одиночки и другие фаэтоны, что понаряднее, явно петербургской работы, со спешившими в Ортачальские увеселительные сады князьями, сопровождавшими своих разодетых дам и уже изрядно подвыпивших гостей. Любители пиров – кто быстрее, а кто не спеша – съезжались сюда со всех районов Тифлиса – из Авлабара, Сололаки, Воронцова, Харпухи, с Хлебной площади и Шейтан-базара. Все с радостью и нетерпением предвкушали покутить здесь как следует, пообщаться, на людей посмотреть и себя показать, увидеть весёлые танцы кинто, баяты и мухамбази ашугов, и другие забавные зрелища.
Из приоткрытых окон и распахнутых дверей духанов слышались песни, звуки зурны и саламури, мелодия шарманки. И носились в воздухе волнительные и дурманящие запахи пряностей, которыми были обильно приправлены грузинские блюда. У входа на мангалах поджаривались шашлыки из нежного мяса, бадриджанов и сочных помидоров, вокруг них пританцовывали краснощёкие мангальщики, ловко совершая необъяснимый, почти магический ритуал над громко шипящими углями и исходившим от них одуряющим дымком. Рядом, в тонэ, пекли шотиспури и предлагали добрые кахетинские вина: Цинандали, Саперави, Телиани, Карданахи…
Вошли в один из духанов – Нико и сопровождавшие его приятели-карачохели: Гогия, Васо и Шакро. Заказали купаты, ткемали, сулгуни, шотиспури, харчо, яйца, фрукты и вина. Побольше вина! Эй, микитан, тащи сюда весь бурдюк! И свежий шашлык из барашка. «Ещё утром бегал, травку щипал!» И не успели замерцать на небе все звёзды, как все они уже были навеселе, весело и не сердито подшучивая друг над другом.
– Аба, Васо, скажи, – спросил Гогия и, шутя, подмигнул другим, – зачем тебе нужен такой огромный нос? Чтобы шашлык нюхать?
– Как зачем, Гогия-джан? Нос человеку нужен обязательно! Представь, утром ты просыпаешься, а у тебя носа нет.
– И что?
– Как и что? Носа не будет – глаза передерутся!
А третий, Шакро, запел приятным голосом:
«Я гол и бос – так что ж? Я не в убытке:
Моя душа весёлая поет.
Карачохели всё пропьёт до нитки, —
Но шапку чести не пропьёт!
А потом его пение было подхвачено остальными:
«Пусть миллионщик деньги копит —
Последний грош да будет пропит!»
Потом опять вступился приятный баритон:
«Сегодня пьян и весел я, но, брат мой,
Я разве помешал кому-нибудь?
Вино – нам верный друг в судьбе превратной,
И ты мне другом будь!…»
– Эх, хорошие вы люди – карачохели, – молвил Нико, – с широкой душой, как птицы вольны и беспечны. В поте лица своего трудитесь шесть дней в неделю, чтобы всё прокутить в день седьмой…
– Помни, Нико, мир – дешевле соломы, а деньги не стоят жизни, и всё золото мира не стоит одной красавицы! – произнёс Гогия и проникновенно запел:
«Облака за облаками по небу плывут,
Весть от девушки любимой мне они несут…»
– Живи сегодня, брат мой, – назидательно говорил Васо, обратившись к Нико, – день завтрашний препоручая небесам…
– Но правда, честь и дружба бесценны для карачохели! – вторил ему третий. – Правде мы низко кланяемся, честью дорожим, а дружба наша крепка навеки – за друга мы голову сложим. Аба, Нико, золотой ты человек, за нашу вечную дружбу! Чвенс дзмобас гаумарджос!Пей до дна! Я говорю длинно, братья, чтобы все имели время выровнять вино в своих чашах…
Так они, умудрённые жизненным опытом мастеровые, почти что поэты, веселились и пили доброе вино из кулы – деревянной чаши, обитой серебром, пока мимо них не прошёл расхлябанный кинто, разодетый в просторные сатиновые шаровары, заправленные в носки, в ситцевую, в белый горошек, рубаху, подпоясанную ремешком, с высоким, не застёгнутым, воротником. Из-под пояса у него торчит лёгкий красный платок. На ногах – сапоги «гармошкой», на голове – картуз, а из его нагрудного кармана свисает массивная золотая цепочка от часов. Он громко пел своим надтреснутым голосом озорную песенку:
«А жена моя, Анет, —
Ночью душка, утром нет…
…Чи-ки, чи-ки, файтон-чики…»
– Вот, посмотри, Нико, на этого бездельника Симона, – Гогия указывал пальцем на кинто. – Не человек он – плут, обманщик и воришка! Днём торгует на базаре плохими фруктами и увядшей зеленью – семь пудов на голове носит! Всюду восхваляет свой товар, так и норовит одурачить любого простака, продать ему втридорога, и ещё обмерить и обвесить, ловко обсчитать и громко обругать… Совести у него, что волос на курином яйце. А по вечерам – он здесь, в Ортачала, ни один духан мимо не пропустит, народ веселит да деньги выпрашивает.
Скользила, плавно покачивая бедрами, чёрная тень пляшущего кинто, поющего «Ах, попалась, птичка – стой!». Сколько раз наблюдал Нико дикий разгул их братии, запомнил синие белки их чуть раскосых глаз, оскал зубов… Пальцы ныли от желания написать все это – всё просилось в картину…
Он видел сейчас, как плутоватый кинто Симон подходил к столам с пирующими, и, подобострастно согнувшись, веселил их песнями в обмен на шашлык, чарку вина или деньги:
Как родился я на свет, дал вина мне старый дед.
И с тех пор всю жизнь свою я вино, как воду пью.
Если б я не пил вино, я б засох давным-давно.
Даже бочка без вина рассыхается до дна.
Джаан, айя-джан, айя-джан, айя-джана-джан.
Джаан, айя-джан, айя-джан, айя-джана-джана-джан!
Вот барашек поднял крик – это блеет мой шашлык.
Вот гранат уже в соку – это соус к шашлыку.
Все, что скушать я хотел, за меня хозяин съел.
Неужели для того я работал на него?
Джаан, айя-джан, айя-джан, айя-джана-джан.
Джаан, айя-джан, айя-джан, айя-джана-джана-джан!
Плачет даже крокодил, если свет ему не мил.
Но чтоб плакал я, Кинто, не видал еще никто.
Если ж я погибну вдруг, положи меня в бурдюк.
Брызжет пена через край – в бурдюке мне будет рай.
Джаан, айя-джан, айя-джан, айя-джана-джан.
Джаан, айя-джан, айя-джан, айя-джана-джана-джан!»
И столько было задора и лукавства во взоре этого забияки, а пластика танца его граничила с фокусами циркача! А потом пошли в ход его острые анекдоты:
«По Головинскому идёт пара – муж и жена – одна сатана. Проходят мимо аптеки.
Жена спрашивает: «Гиви, что это?», и показывает на змею вокруг чаши.
Муж: «Нэ знаю!».
На обратном пути идут опять мимо этой же аптеки.
Жена опять: «Гиви, ну что это такое?!»
Муж: «Ээээ, что ты пристала! Что это? Что это? Это твоя мама у меня дома чай пьёт, никак не напьётся!»
– Я тоже хочу выпить! – продолжал кинто Симон, обращаясь к одной дружной компании, занявшей большой стол в духане. – Только не чай! А вино с вашего красивого стола! Хочу выпить за эту прекрасную барышню! – он бросил взгляд на полную грудь женщины, которую, наверно, уже знала треть Тифлиса. Звали её Кекела. За талию её обнимали чьи-то крепкие мужские руки. Кинто без стеснения смотрел на её бёдра, обрисованные длинной юбкой, и во рту у него пересохло, а глаза заблестели и замлели. – Но сначала я спою. Песня любви полилась из его уст:
И ты, и я красивые, Кекел джан,
На что нам сваха, Кекел джан?
Из-за реки Куры принесу тебе персики
И ты желала, и я желал, Кекел джан…
Он закончил петь. В глазах его горел жар:
– И выпью я, друзья, вина из под стройных ног Кекелы, а чашей мне станет её туфля! …Чи-ки, чи-ки, файтон-чики…
Между столами с веселившимися за ними гостями осторожно лавировала другая молодая девушка, Маро, прижимая к груди огромный докис вином, и нервно вздрагивала каждый раз, когда те протягивали к ней жадные руки или наполненные до краёв вином чаши и рога.
Нико изрядно захмелел и встал из-за весёлого их стола, чтобы немного пройтись. Он вышел из душного помещения и направился вглубь сада. Присел здесь на разостланную под деревом тростниковую подстилку и набрал полную грудь прохладного ночного воздуха.
– Батоно чемо, – услышал он низкий женский голос рядом с собой. – Папироской не угостишь?
– Вот, угощайтесь на здоровье, – он полез в карман и медленно повернул голову на голос. Он принадлежал довольно перезрелой женщине, небольшого роста и в теле, лет 37-ти, 38-ми, не намного младше его самого, чьи чары давно стали увядать, с густой копной чёрных волос и удивительно белотелой. Её пышный бюст прерывисто и тяжело вздымался под белой накидкой, что источала запах дешёвых женских духов.
Её губы цвета крови, словно разделённые чёрной полоской, с наслаждением затянулись папироской. Она выгнула спину в неге, а потом присела рядом, вытянув уставшие ноги в красных туфлях на каблуке, и произнесла с усмешкой:
– Папиросы «Трезвонъ» – три копейки вагон…
Нико молчал.
– Скучаешь? – спросила она, томно закатив глаза, и, не дождавшись от него ни звука, попросила, – Закажи мне выпивку, тогда грустить тебе не придётся!
– Кто ты? – спросил Нико, внимательно взглянув на неё ещё раз. Лицо её, освещённое сейчас светом луны, какой-то таинственной силой привлекло его. Его удивительная зрительная память, не замутнённая выпивкой или временем, и внутренний голос – всё твердило ему, что он видел её раньше. Но где и когда? Он молчал, мучительно копаясь в воспоминаниях. И вдруг что-то осенило его. Не может этого быть! А что, если он прав…
В воздухе повисла странная тишина.
– Кто я? – переспросила она и, затушив огонёк папиросы в траве, мило улыбнулась ему своими большими и чёрными, не утратившими жизнь глазами, в которых он заметил оттенки страсти. Завидев их, сердце его тревожно застучало. Господи, да ведь это она!
– Таких как я называют жрицами любви. Я утешительница в бедах и горестях жизни, я – радость и гордость настоящего мужчины…
– Как зовут тебя? – спросил он вполголоса, боясь услышать её ответа.
– Я давно позабыла своё имя, мужчин это не интересует.., – но, заметив его выжидательный взгляд, всё же сообщила:
– Иамзэ, – и поправила свои роскошные чёрные волосы.
В эту минуту над ним прогремел гром и земля содрогнулась в ужасе:
– Она! – застучало в голове, и сердце сжалось от уныния. – Иамзэ! Та самая девочка с воздушным шариком из их села Мирзаани, что приглянулась ему в далёком детстве, а потом нередко являлась ему в приятных воспоминаниях…
* * *
…Он приходил к ней часто, с цветочком в руках, и, набравшись смелости, открылся ей в один из вечеров. А потом слушал неторопливые, взволнованные рассказы «сестрички» о самой себе. Она же, называя его «братом» и «другом», была рада тому, что он навещает её, не отводит глаз от её позора. И откровенничала с ним так, точно общалась со старой подругой по несчастью:
– Мать болела, друг мой Никала, кашляла сильно, с кровью. Все причитала: «Швило, что с тобой будет, когда в землю уйду? По рукам пойдёшь!». Потом умерла от злой чахотки. Отца я никогда и не знала. Осталась я одна в Мирзаани. Что мне там было делать? В 12 лет кое-как добралась до Тифлиса, и меня похитили два кинто, увезли в фаэтоне под звуки шарманки. И привезли сюда, в Ортачальские сады. Тогдашний хозяин духана – сейчас его уже нет в живых, успокоился на Кукия, рядом со своими дедами, – с большой головой и волосатыми руками, сказал, что раз уж родилась красивой, надо делиться этой красотой с другими! Говорил, что мои «губы похожи на только что распустившийся бутон, обещающий неземные наслаждения тому, кто покорит сердце этой красавицы…». Он видел мои слёзы, рыдания и протест. Но на отказ у меня уже не было сил: первый раз я сказала «нет» и покачала головой – и осталась голодной на два дня. Снова покачала головой – и опять сидела взаперти два дня без воды и хлеба. И в третий раз покачала… а потом согласилась. Овладел он мною и с того дня изменилась моя судьба, навсегда заклеймив меня несмываемым позором…
Потихоньку научилась пить и курить, сначала махорку и трубку, а потом вот появились папиросы. Когда мне минуло четырнадцать, я стала на содержании у князя дигомского. Потом – у князя ортачальского. Он один табак нюхал, и пил – не закусывал… Один раз, помню, даже Его Сиятельство князь Акаки Цицишвили заезжал повеселиться… Но что князья, брат мой Никала? Они сами бывают бедны, оттого и прижимистые такие. Что у них есть, кроме имени, титула и герба? Ничего! Но никого в свой круг не пускают. Считают ниже своего высокого достоинства. Даже авлабарских и сололакских купцов 1-й гильдии. Зато те имеют большие деньги, а значит – почёт и уважение! Когда я однажды сказала ему, что мне нужны деньги, он устал угрожать, что бросит меня. Укорял и приговаривал:
– Я тебя так кормлю, что должна меня на руках носить. Клянусь своими усами, что ты ещё пожалеешь! Горькими слезами будешь заливаться. Потому что князья на улице не валяются!
А когда мне исполнилось 17, стал ко мне сам русский генерал наведываться. Иван Николаевич. Жандарм его сопровождал, откидывал подножку экипажа, дверцу открывал, и светловолосый красавец, высокий и статный, в светлом кителе с генеральскими эполетами, вылезал оттуда и, быстрым шагом, чтобы его не заметили, направлялся ко мне, тихо напевая:
«Однажды русский генерал
Вдоль по Кавказу проезжал
И грузинскую он песню
По-менгрельски напевал…»
И говорил потом приятным своим голосом:
– Здравствуйте, фиалочка, отрада моя! – и подносил руку к фуражке. Говорит, честь отдавал, а я уверена, что глаза свои прикрывал от моей ослепительной красоты.
Я отзывалась на его приветствие: «Здравие желаю, Ваше Высокопревосходительство!» Так он радовался, как юнец, этим словам!
Помню, спрашивал он меня, мол, «скажите мне, душенька, какое вино лучше – красное мукузани или напареули?» А я отвечаю – «гурджаани».
А он:
– Вина у вас изумительные на Кавказе. Но весьма коварные. Пьются очень легко, только с некоторого момента вдруг обнаруживаешь, что встать уже и не можешь! С головой всё в порядке, а ноги, ноги то уже не идут!
А потом:
– Душенька, гостил я недавно в доме известного писателя Мачабели, слышал там чудесную песню некой Вариньки Мачавариани на стихи великого Акакия Церетели. Уж очень красивая песня была. «Сулико» называлась…
В этот момент я запела её:
Увидал я розу в лесу,
Что лила, как слёзы, росу.
Ты ль так расцвела далеко,
Милая моя Сулико?
– Душенька, да это же та самая песня! До чего же она красивая! Душа ликует! А голос ваш – как прохладная вода, которой жаждет земля… Научите и меня петь «Сулико».
А когда Его Высокопревосходительство узнал, что «сулико» как раз и означает «душенька», то так обрадовался, что и меня стал звать Сулико. Бывало, рассказывал истории интересные из своей военной службы. Один раз поведал, что когда он был ещё совсем молодым прапорщиком, полковник предложил ему вопрос о том, как следует отступать при превосходном числе неприятеля. Он ответил:
– Ни при каком числе российскому воину отступать не приличествует.
– Ну, а если бы вашу роту атаковало скопище тысяч в пять?..
– Отбился бы… И тому примеры из героической истории нашей имеются, Ваше Высокоблагородие, – отвечает он.
– Ну, а тысяч десять?..
– Надеялся бы на Бога, господин полковник.
– Это хорошо… Но представьте себе, что на вас набросилось бы видимо-невидимо…
– Стал бы готовиться к смертному часу… а об отступлении бы и не подумал.
– Я думаю, его больше и экзаменовать нечего? – обратился полковник к окружающим.
– Разумеется, офицер будет бравый. Ну, Иван Николаевич, поздравляю тебя с эполетами!
* * *
Эх, щедрый он был, мой генерал от инфантерии! Привозил мне, своей «Сулико», целое приданое – дорогие духи, бельё из шёлкового батиста, тонкого, как паутина, с кружевами и лентами, которому позавидовала бы любая парижская кокотка. И вот эти красные туфли тоже привёз для меня – купил в Петербурге! Говорил, что я восхищаю его, вдохновляю на жизнь… Нравилось ему, как я лезгинку танцую! Господи, помню его улыбку, его глаза и губы! Хорошее это было время! С замиранием сердца ждала я каждой нашей встречи. Но ничто не длится вечно, всему приходит конец. Так и он – закончил свою службу на Кавказе и вернулся в родной Петербург. Писал мне поначалу: «Бесценная Иамзэ, свет очей моих! Мысленно целую ваши прелестные пальчики, с совершеннейшим почтением и нежной любовью, навеки ваш…», а однажды приписал в конце письма: «Уроните слезу, душа моя, если я геройски паду на поле брани!». То было последним его письмом…
Нико видел, как глаза её заблестели от наворачивающихся слёз, от отчаяния. Он понимал, что Иамзэ, видимо, как никогда до этого, было противно от своей профессии, противно от самой себя. И от стыда хотелось провалиться на месте, исчезнуть навсегда с лица земли. Но прежде, ей, падшей женщине, надо было выговориться кому-нибудь, неважно, подруге ли или старому знакомому, коим оказался Нико, и она продолжала свою печальную, душераздирающую исповедь, с излияниями души и сердца:
– После Ивана Николаевича был купец второй гильдии. Из Авлабара. Гулять любил больше жизни своей! Князья его принимали с радостью. Любили они его набитый кошелёк! А он – сперва на фаэтоне с музыкантами поедет на крестины к князю Дадиани, потом на поминки к князю Кипиани. Потом в ресторан, а потом – в духан. А затем приезжал ко мне – в Ортачала. Был он со мной долго, почти пять лет. А потом стал холодным и грубым, разлюбил, наверно. Всё больше молчал, и однажды сказал:
– Ты была красивая как серна, Иамзэ, и стройная как кипарис. А сейчас растолстела! Не похудеешь – другую найду – а ты по миру пойдёшь. Долго искать не придётся – вон сколько вокруг брюнеток! Да хотя бы твои юные подруги – Кекела и Маро. Кокетки как конфетки… Иф-иф-иф!..
– Эх, Никала, Никала. – вздохнула она под конец. – Незавидный, брат, достался мне жребий. Всё бы я отдала, чтобы повернуть время вспять, но судьбу изменить невозможно… Погибшая я…
* * *
В один из дней Нико упросил нарисовать её:
– Стой так, сестричка, я нарисую тебя! Не говори, немного в тишине побудем… – вымолвил он и почувствовал горькую боль в груди. Он попытался спрятать её поглубже, не показать виду, но она настойчиво рвалась наружу из своей тесной клети, кричала и плакала, и всё требовала и требовала чарки вина или стопки водки для умиротворения. Он достал из чемодана свои кисти и краски…
– А бумаги-то у тебя нет, Никала. На чём расписывать мою красоту будешь? Неужели на песке? – вздохнула она. – Ну ничего, и то дело… порадуюсь до первого дождика. Всё в моей жизни временно и зыбко, даже собственный портрет…
– Пойди сейчас в духан, – сказал он сосредоточенно. – Принеси одну клеёнку со стола.
– Клеёнку? – не поверила она. – Но она же чёрная… как моя жизнь…
– Принеси, говорю…
– Блаженный ты какой-то, Никала… не такой как все… только не обижайся…
* * *
Её долго не было видно, потом она, наконец, появилась, покрасневшая и взволнованная, с клеёнкой в руке:
– Кинто Симон поймал меня, – объяснила она. – Проходу не давал, пока не ущипнул. Еле ноги унесла. От всех женщин он без ума, любит их породу…
* * *
…Иамзэ, возвышенная и лёгкая, спокойно возлежала перед ним на деревянной тахте, покрытой красным ковром, положив голову свою на белизну подушки, а руку держала под щекой. Другой же – стеснительно натягивала на себя накидку, застыв в ожидании… в извечном ожидании настоящей любви, счастья и умиротворения… На чёрном фоне клеёнки сияли две красно-белые розы и четыре белых цветка, похожих на лилии. А на плече её, в тишине и гармонии, отдыхал голубь, точно была она девой святой, а белый цвет накидки, очищая порочную душу, прощал её распутное грехопадение…
Именно такую он её и видел, именно так он и хотел рисовать эту несчастную ортачальскую красавицу, в которую, по злосчастному умыслу судьбы, обратилась прелестная маленькая девочка с красным воздушным шаром на шёлковой ниточке из его далёкого детства! Жалел он её сильно. Давно возникли в глубине его широкой души сочувствие и печаль, и вырвались они, наконец, на волю немым одиноким криком:
– Женщина! Не «дочь греха» ты! Нет! Имя тебе – сама любовь!..
Глава 7. Мастер и Маргарита
В очередной раз поругавшись с Димитри, Нико повернулся, и, схватив шляпу, выскочил из лавки, бросился прочь, подальше от оков ненавистной торговли, от этого порочного круга: «дешевле купить – подороже продать – посчитать выручку, и опять – дешевле купить, чтобы подороже продать, чтобы вновь поделить барыш…». В груди его клокотало от негодования – сегодня компаньон опять попрекал его, и даже потребовал раздела прибыльного предприятия…
– Как же так? – по-детски обижался Нико. – Мы открыли лавку на мои деньги. У тебя, Димитри, не было ни рубля за душой.
– Я один работаю в этой лавке, как вол проклятый, ломаю себе хребет! – справедливо возмущался трудолюбивый Димитри. – Пашу и за себя, и за тебя, притомлённого дуракавалянием, и давно уже честно заработал себе долю. А ты или спишь в своей «балахане», или берёшь из кассы деньги и пропадаешь…
Не выносил Нико этих споров. Ему хотелось плюнуть на всё и бежать куда глаза глядят, лишь бы подальше.
Не оглядываясь и не останавливаясь, он бездумно побрёл вперёд, сквозь изнурительную весеннюю жару, когда улицы Тифлиса, зажатого к котловине между горами, дымились от накала палящего зноя. Ноги легко снесли его по чешуйчатой мостовой Верийского спуска, аккуратно перевели через мост над Курой и по Михайловской улице довели прямиком до самого Муштаида, этого «Булонского леса» грузинской столицы, в котором он так давно не был. Здесь пахло жаренными каштанами, в богатых ресторанах страстно пели и кутили богачи, – эти дети веселья и достатка, щегольски разодетые в серебро и цветные сукна, и беспечно рассыпали по сторонам свои накопления. Солиднее и сдержаннее вела себя интеллигенция – врачи, инженеры, учителя, адвокаты, которые приходили сюда отдохнуть и подышать прохладой за тихой благоразумной беседой. В заведениях попроще собрался торговый и ремесленный люд Тифлиса: карачохели, торговцы, и мелкие купцы, ставшие недавно набирать коммерческий оборот. Мужчин непременно сопровождали черноволосые и черноглазые красавицы с румяными щеками и сверкающими белизной зубами. Кто-то из них – чья-то жена, кто-то – дочь на выданье, а кто-то – и любовница. И вся эта толпа – в ресторанах и духанах рядом с фонтанами, или под свежей сенью елей, акаций, чинар и тутовых деревьев, – острит и хохочет, танцует и азартно играет в лото, поёт, болтает и бранится, гуляет по аллеям сада, шумит и блестит улыбками, ботинками, платьями, мундирами.
Неугомонная детвора шумно носится по аллеям сада, лишь изредка останавливаясь, чтобы поглазеть на представление «Петрушки» или понаблюдать за ловкими китайскими фокусниками, послушать старых шарманщиков, чьи барабаны изготовлялись одесскими мастерами, по причине чего здесь были популярны мелодии «7.40», «Шарлатан» и другие еврейские напевы. Любопытным девочкам постарше предсказывают судьбу разноцветные попугаи, за определённую плату вытаскивающие своими кривыми клювами плотно уложенные и написанные корявым почерком судьбоносные билетики.
Нико заглянул в духан. Здесь, в глубине, за длинным столом, освещённом лампами, сидели люди. Шёл большой пир на полупире. Ароматные бычьи лопатки, хорошо сваренные, лежали в облаках пара на больших блюдах, рядом с шашлыками на шампурах, пестрели гранаты, наливные яблоки, гроздья прозрачного винограда, жирная индюшка и поросёнок, покрытый яичным желтком и обжаренный, с зеленью петрушки и ярко-красными «болоками» – редисками в раскрытом рту, и тарелки с тёмно-зелёным варёным шпинатом, заправленным пахучим хмели-сунели. Мужчины сидели кто в пиджаках, кто – в блузах, а кто – в чохах – чёрных, каштановых, с серебряными и чёрными поясами и кинжалами. Все говорили спокойно, наслаждаясь, что ночь ещё длинна, и тем, что это уже не первая, и далеко не последняя, ночь великого пира.
Недалеко от входа сидел старый дудукист Геворг. Он, вздыхая, жаловался своему соседу – зурначи – на судьбу-злодейку:
– Хотел вот в ресторане поработать, здесь рядом, так не впустили же даже за порог. Говорят, мол: «Неинтересный у тебя инструмент! Не-со-вре-мен-ный и нудный! И песни твои уже всем приелись, грусть навевают на клиентов. А клиент, наоборот, должен радоваться, веселиться, забыть о печали, много кушать и пить, чтобы много платить. И друзей своих приводить, чтобы тоже много пили и ели…». Откуда им, бестолковым, знать, что когда поёт бархатистый дудук мой – это душа абрикосового дерева поёт…
– Что они понимают, глупые люди? – вторил ему собрат по музыкальному ремеслу. – Как быстро забыли они то время, когда даже птицы в садах умолкали, заслышав звуки твоего сладкого дудуки и моей правдивой зурны! Теперь, видишь ли, другое время настало. Другая одежда у людей – «модная», манеры, еда другая. И музыка тоже другая. Всё оттуда приходит, – он пальцем указал куда-то вдаль, видимо, имея в виду Петербург или даже Париж. – Что же нам остаётся делать, ахпер? По миру пойти? Не выбросить же зурну, на которой ещё мой дед играл? Ни одно веселье или народный праздник без зурны и дудуки не обходилось, без них свадьба – не свадьба, а глухие поминки…
– Эх, Аствац-джан? Как семью кормить? Руку я протягивать не привык. Научиться по клавишам стучать что-ли, или пищать на медном кларнете?
Нико прошёл вовнутрь и сел за одинокий столик, не снимая с головы шляпы:
– Водку принеси, брат.
– Чем закусывать будете, батоно чемо?
– Закуски не надо.
Вскоре подошёл буфетчик-микитан, обмотанный фартуком до самого пола, с подносом в руках. На нём стояли стеклянный графин с холодной водкой и рюмка. Нико залпом выпил полную стопку и блаженное тепло немедленно разлилось по всему его телу. Затем он выпил вторую, и третью и, опустошив графинчик, взял дрожащей рукой пустую рюмку, став в задумчивости рассматривать её матовое донышко…
* * *
Оставив духан, он в отрешении углубился в сад и наткнулся на кафе-шантан. Здесь, на открытой эстраде ресторанчика, по вечерам давали музыкальные спектакли и иллюзионные номера. Здесь выступали весёлые конферансье-куплетисты и акробатки-«каучук», балетные пары исполняли «па-де-де» и «па-де-труа», им на смену выбегали стройные артистки кордебалета, а ближе к ночи неискушённой кавказской публике демонстрировали непристойные пляски задорного и беззаботного «канкана».
Дыхание новых перемен, идущих с Запада, как и дыхание необычайно жаркой весны, явственно витало во всей атмосфере этого увеселительного заведения, с появлением которого неведомая сила начинала выгонять мирных жителей Тифлиса, привыкших проводить тихие весенние вечера за игрой в нарды и лото, в эти кафе-шантаны, заставляла, из любопытства, слушать пикантные шансонетки на непонятном языке, учила не стыдиться коротких, выше колен, юбок, выразительно-двусмысленных движений танцовщиц французского варьете в купальных костюмах, высоко задиравших длинные ноги и посылавших зрителям воздушные поцелуи, и толкала скромных и совершенно невинных девушек, дочерей местных обывателей, выгоняя их на работу модистками в ателье, на сцену, в театр, натурщицами к свободным художникам, либо на новый промысел на новом тротуаре.
Нико бы прошёл мимо эстрады и толпы зевак, созерцавших анонс выступления какой-то заезжей артистки, которое вот-вот должно было начаться. Он подошёл к широкой тумбе с наклеенной на нём афише, краешек которой был потреплен ветром:
«Новость!
Съ 27-го Марта 1905 года
Г А С Т Р О Л И
Впервые в Тифлисе Парижский Театръ Миниатюръ «Бель Вю»
и знаменитая артистка ещё небывалаго въ Россiи жанра
La Belle Margaritta De Sevre.
Уникальный даръ петь шансоны и одновременно танцевать кейк-уокъ!
Только на 7 гастролей.
А также ежедневно концеръ-дивертисментъ въ трёх отделенiяхъ
От 8 час. вечера до 2 час. ночи.
Билеты покупайте в кассахъ».
Спустя мгновенье, взгляд его остановился и задержался на диковинке, что появилась на сцене из-за кулис после того, как конферансье объявил выход мадемуазель Маргариты. Изящная певичка с лёгким слоем наложенного на белое лицо театрального грима, что придавал ей выразительности, с большими глазами, обведёнными чёрной краской, пухлыми, розовыми от пудры, щеками, с копной вьющихся волос, она стояла в полосатых чулках, не скрывавших её крепких ног, на которых красовались изящные туфельки с заостренным мыском на небольшом каблучке в форме рюмки. На ней была пышная юбка на очень тонкой, похоже, перетянутой, талии, а в руках она держала веер и кланялась публике своим ротиком тёмно-морковного цвета, чем невольно заставила Нико обратить на себя внимание. Она больше походила на куклу с заводным механизмом, чем на живую женщину. Дивно запела на непонятном ему языке своим глубоким и чувственным голосом, и все, заслышав её пение, отчего-то вздрогнули. А она, танцуя, в такт музыке плавно покачивала бёдрами из стороны в сторону, размахивала руками над головой, а на припевах подскакивала и поднимала ноги выше своей головы таким образом, что Нико искренне испугался, как бы эта чудесная кукла не развалилась на части.
Рот его был приоткрыт от наивного удивления, а застывшие глаза устремлены к эстраде. Он не мог оторвать их от неживой, и тоже холодной, улыбки мадемуазель Маргариты. В какой-то миг ему показалось, что она бросила на него свой томный взгляд из-под густых ресниц, а её странное, «двойное» пение, внимательно его слушая, создавало впечатление, словно одновременно пели два человека: будто главный голос, что был громче другого, был золотой, а второй, очень тихий – серебряный. Этот необыкновенный вокал тронул его до глубины души и, ещё немного, он готов был заплакать, хотя это бывает с ним редко, когда он слушает песню. Ему представлялось, что певица рассказывает о человеке, которого хорошо знает, за которым не раз наблюдала, знает, как он смеётся, смущается, радуется…
– О чём эта песня, уважаемый? – шепнул он, не в силах сдержать свой интерес, на ухо человеку весьма почтенного возраста, с пышными усами и не менее пышными бровями, одетого в дорогой костюм по моде тифлисского городского купечества.
– Понятия не имею, генацвале. Либретто ведь у нас нет, а название на французском мне ни о чем не говорит…
Артистка завершила своё выступление и зал охватил восторг. Одна из зрительниц, что стояла ближе всех к подмосткам, громко взвизгнула в ажитации, а кое-кто из молодых офицеров, предчувствуя нешуточное веселье, стал свистеть.
На сцену полетели букетики цветов! Сердце Нико заколотилось от волнения, задрожало от злости на самого себя – как же так, что у НЕГО нет цветов? Никаких! Даже полевых! Вот ведь, навещая Иамзэ в Ортачальских садах, он всегда радует её свежим букетиком! Эх, Никала-Никала, глупый ты, и голова твоя саманная! Не запомнил разве, что женщины любят цветы. Их в духаны не води, вареной осетриной и копчёным балыком не корми, а вот цветочек, хотя бы маленький, подари! Разбейся, найди этот чёртов гривенник и купи!
Публика в экстазе вздыхала и колыхалась. Слышались раскаты грома восторженных оваций!
– Шарман-шарман! – истошно вопила дама в цветочной шляпе и с пломбиром в руках.
– Гран-мерси, мадемуазель Маргарита! – вторили другие.
– Браво! – кричали третьи, посылая артистке бурные аплодисменты и воздушные поцелуи снизу. – Прелестно! Очаровательно! Мерси боку!
А высокий мужчина солидного возраста в дорогом костюме, который во время выступления мадемуазель Маргариты стоял рядом с Нико и что-то говорил про какое-то, кажется, «либретто», вдруг бросил пыхтеть своей трубкой, и, усиленно толкая других своими локтями и плечами, и даже не оборачиваясь, чтобы извиниться, смог, в конечном счёте, протиснуться к самому краешку сцены и, встав на цыпочки, покровительственно кивнул артистке и что-то положил в боковой кармашек её платья…
Нико не отводил от неё глаз, зачарованно смотрел, изучал каждое движение той, что до невероятности поразила его воображение. Сейчас вот ему показалось, что артистка кокетливо подняла на плечо спадающую бретельку её легкого платья и… странно! она вновь бросила на него свой взгляд, а потом, на очередные возгласы публики:
«Гран-мерси, мадемуазель Маргарита!», она скромно прошептала серебряным голосом что-то невнятное, вроде бы «жё ву зан при». Нет, ему не приснилось! Она действительно посмотрела на него! Но почему? Что в нём такого особенного? Ей смешно? Или, быть может… может… он приглянулся ей?
Он не мог прийти в себя от изумления, от какого-то удивительного, странного чувства, поселившегося в нём. Что это с ним? Неужели он, увидев прекрасную девушку, влюбился с первого взгляда? Влюбился без памяти, по-настоящему, до сущего безумия?
– Вот она, любовь всей моей жизни! – грезило его большое, мечтательное сердце. – Прекрасный ангел, наконец-то спустившийся ко мне с неба!
* * *
…Он не мог дождаться наступления нового дня, ворочался всю ночь напролёт с боку на бок. Кровь его, воспламенившись от любви, бурно текла по жилам, а из головы не выходил дивный, чарующий голос певицы, невероятный по своей силе и красоте. Вернее, сочетание в нём двух голосов одновременно – золотого и серебряного…
На рассвете к дверям его молочной лавки подошли серые, вечно грустные ослики из Табахмелы с хурджинами на своих спинах, таких пыльных, будто весь Тифлис вытирал о них свои туфли. Нико, не торгуясь, второпях заплатил деревенским мальчишкам за молоко, мацони, сметану и сыр, и, не дождавшись прихода компаньона, принарядился как умел – снял фартук и, взамен него, нацепил на себя пиджак – и выскочил из лавки, прихватив с собой из вчерашней кассы целых 5 рублей.
* * *
Вот и Муштаид. Здесь, у самого входа, расположились два чистильщика сапог. Сидят себе перед красными креслами и стучат щётками по ящикам. А над креслами у них – настоящие балдахины с фестонами, кистями и декоративной бахромой – господам хорошим нравится! Любят в Тифлисе картинность!
С раннего утра в саду уже гуляли люди, плавно кружилась карусель с гнедыми лошадками в сбруях, санями, белыми лебедями, радостно визжали детские голоса, а один старый грузин, в сером плаще и сванской шапке, следил за порядком на этой территории и одновременно нажимал кнопки, запускающие аттракционы. Недалеко какой-то шустрый и крикливый малый зазывал широкую публику в павильончик кривых зеркал.
Нико без труда нашёл кассу – маленькую будочку – и за полтинник купил входной билет на представление актрисы Маргариты.
– К представлению бокал вина прилагается бесплатный, – монотонно сообщил кассир за складным столиком в круглом окошке.
– Почему сегодня такие дорогие билеты? – услышал он за спиной вопрос следующего покупателя. – Это же обычная певичка из варьете, а не опера?
– Это не обычная певичка! – ответил из окошка кассы недовольный голос. – Это представление знаменитой певицы и актрисы Маргариты Де Севр из Парижского Театра Миниатюр «Бель Вю».
– Хм, – заворчал кислолицый покупатель. – Дороговато будет для концертика заезжей певички!
– А по мне так цена в самый раз! – кто-то ткнул его сзади зонтом в спину, между лопаток. – Проходите мимо, интриган, освободите очередь!
– Я не продаю вам билеты на какой-то неизвестный спектакль, – продолжал объяснять продавец билетов. – Не тащу вас туда насильно. Не хотите – не покупайте!
– А может это кто-то из местных шансонеток выдаёт себя за ту, кем на самом деле не является… – не унимался сомневающийся человек.
– Послушайте, почтенный! – казалось, продавец билетов вышел из себя. – Вы такую страну знаете – Франция?
– Ну, знаю, – хмуро отвечал кляузный покупатель. – И что?
– А во Франции знаете такую провинцию – Эльзас? Ах, знаете? Ну, так она, мадемуазель Маргарита, родом из этой самой провинции будет, из Эльзаса. Самая настоящая француженка высшего сорта. Что за люди? Простых вещей не понимают!
* * *
Итак, сокровенный билет у него в кармане. И сейчас прожигает насквозь его кожу. Но он, Нико, вытерпит эту боль. Ведь осталось ждать не так и долго – всего до 8 часов вечера, когда начнётся большое представление!
Ему захотелось есть, но в духан он не пошёл – испугался за себя, что выпьет лишнего и предстанет пред Маргаритой не в лучшем виде. Весь день он находился в сильном волнении и, вместе с тем, радостном возбуждении, и ощущал странный трепет в груди. Когда же в желудке его заурчало грозно и неумолимо, он купил себе сначала жаренных каштанов, потом – кукурузы и стакан сельтерской, тем и утолил голод и жажду.
Оставалось не более двух часов до начала концерта. Электрические лампы напрасно горели над ненужными уже афишами: билетная касса была закрыта. На её круглом зарешетчатом окне теперь висела табличка «Все билеты проданы». Зато расторопные мелкие спекулянты наживали себе состояния, только и успевали продавать вожделенные билеты в три, а то и в пять раз дороже их стоимости – ведь желающих попасть на представление было больше, чем мест в зале.
И вот, наконец, двери роскошного ресторана широко распахнулись и грузный билетер в ливрее стал запускать зрителей внутрь, строго проверяя наличие у них билетов и отрывая от них корешки, дабы не были они использованы во второй раз. Здесь, в большом светлом зале с громадной электрической люстрой, паркетным полом, высоким потолком, стенами, обклеенными богатыми обоями, за столами, покрытыми белыми накрахмаленными скатертями, ужинали нарядные дамы и господа, по преимуществу – русское население, принадлежащее к военному сословию, или к гражданской администрации. Грузинское же и армянское дворянство, зажиточное купечество и интеллигенция тоже усвоили костюм и образ жизни европейский. И старалось если не перещеголять, то не отстать от русских, в пышности своих туалетов. Здесь не было ни одной женщины в лечаки, наоборот – состоятельные дамы были облачены в пышные юбки. Широкие поля их шляпок, украшенные цветами и атласными лентами, венчал роскошный букет из перьев или даже целые чучела маленьких птичек, хотя программа концерта «покорнейше просила» дам снимать их роскошные головные уборы, чтобы не загораживать сцену зрителям, сидящим сзади. Руки дам закрывали узкие перчатки, ноги – чулки, а элегантный аксессуар – зонтик, был заботливо поставлен рядом со стулом. Здесь было не найти ни одного мужчины в чохе или остроконечной бараньей шапке, сюда не пришёл ни один кинто! Сегодня мадемуазель Маргарита собрала воедино весь цвет европейского Тифлиса!
Публика пребывала в волнительном ожидании – время концерта приближалось. Актриса сидела одна перед зеркалом в маленькой комнатке, служившей одновременно уборной и гримёркой. Всякий раз, когда она собиралась накладывать себе грим, она вспоминала скандалы, которые устраивал Жан, её импресарио, требуя, чтобы макияж её был максимально заметным и броским:
– Мужчины падки на красоту, глупышка! По платью встречают! Ты же актриса! Ну же, дай им зрелищ, покажи чувства, страсть, индивидуальность! Развлеки их, даже если ты рыдаешь под маской грима. Обмани их и замани в свои сети! Помни, тебе под силу всё – даже обмануть само время! – он нервно прохаживался за её спиной, то держа руки сзади, то лихорадочно размахивая ими в воздухе. – Тебе уже скоро тридцать, и ты мечтаешь стать богатой и знаменитой, той, которую на выходе поджидает толпа состоятельных поклонников и вездесущих репортёров! Слушай мои советы и жизнь твоя станет лучше. И тогда я либо сделаю из тебя великую актрису, либо пойду по миру без гроша в кармане…
Тёмная прядь её волос упала на глаза, упрямое выражение которых была не в силах скрыть даже самая обаятельная улыбка. Не нужны были ей ссоры и скандалы Жана, и она всячески старалась их избегать. Она жила, как умела, и слушала советы этого пройдохи только для того, чтобы кивнуть в знак согласия, но вовсе им не следовать. К тому же, она помнила, что ещё бедная её Maman, посвящая её, тогда ещё маленькую девочку, в женские тайны, рассказывала, что броский макияж считается уделом представительниц одной старинной профессии:
– Ты ведь не станешь куртизанкой, дочка? Одной из этих «une demi-mondaine»! Не для этого я тебя родила! Не для этого сама прошла этот тернистый путь! Ты приличная барышня, Марго. А приличные барышни отбеливают кожу уксусом или лимонным соком. Хочешь придать коже таинственное мерцание – всегда найдёшь рисовую пудру и жемчужный порошок. Желаешь выглядеть аристократкой – бледность лица твоего оттенят тёмные густые брови, которые аккуратно подведёшь сурьмой…
Maman её когда-то в юности подрабатывала модисткой, а потом, в поисках лучшей жизни, предпочла стать куртизанкой и жить за счёт средств состоятельных любовников. Этому способствовали её приятная внешность, умение вести красивую беседу и одеваться со вкусом. Её дочерей – Марго и Франсуазу – воспитывала её старая мать, жившая в Париже. Когда девочки подросли, их отдали в школу Мадам Фрессард. Там они и стали впервые принимать участие в спектаклях, там раскрылся их талант: музыкальный и актёрский. Следующим учебным заведением, в котором учились девочки, была частная привилегированная школа, а потом – драматический класс Высшей национальной Консерватории драматического искусства, обучение в которой, конечно же, оплачивала Maman, грезившая видеть своих дочерей, или хотя бы одну из них, «второй» Сарой Бернар, «Божественной Сарой»!
В Консерватории они научились создавать характеры с помощью жестов и голоса. Что касается вокала – профессора были очарованы голосом Франсуазы, но не Маргариты!
Лучшие парижские театры ставили пьесы Генрика Ибсена и Эдмона Ростана, и девочки мечтали играть в одном из них – на сцене «Комеди Франсэз». Марго удалось сыграть третьестепенную роль в «Женщине с моря», а Франсуаза дебютировала в спектакле «Ифигения». Но увы, стало понятно, что для всего нужна протекция! Maman уже не было среди живых, она оставила их, будучи ещё далеко не старой женщиной. Бывшие же её покровители не собирались помогать дочерям давно покинувшей их куртизанки Мадлен лишь «в память об их матери». И тогда обнажилась жестокая правда жизни. Театральные критики внезапно стали суровыми к ним и непреклонными, они не разглядели в начинающих актрисах будущих звёзд и считали, что их имена могут в лучшем случае появиться на афишках, но никогда – на серьёзных афишах! А когда и сам главный режиссёр объявил, что они лишены большого дарования, им пришлось покинуть театр. Театр, который они с малых лет считали Храмом, где все роли, как вскоре выяснилось, давно уже были разобраны среди фавориток маститых и, одновременно, очень могущественных режиссёров, стоявших за кулисами театральных несправедливостей, лжи, интриг и вопиющей подлости. И молодые женщины, запрятав поглубже попранные надежды, ушли оттуда, где «жизнь твоя – игра», и надевая маску, ты прячешь душу в тёсаный гранит, а бытие твоё – кривые зеркала, и отраженья в них размыты и пусты… Для них наступили непростые времена. Пришло ощущение, что никогда уже не зажжётся для них свет на сцене. Никогда им не играть ведущих ролей в драматическом театре! И Франсуаза, смирившись, ушла танцевать и петь в кабаре «Мулен Руж» на бульваре Клиши. А Маргарита, после того, как все взыскательные импресарио отказали ей в ангажементе, обосновывая своё решение тем, что её голос для профессиональной сцены довольно слаб, начала танцевать в кабаре «Чёрный кот» на Монмартре. Что поделаешь, им приходилось исполнять канкан, хоть он и считался крайне непристойным среди приличной публики, но, благо, осуждать их мораль было уже некому…
А потом, совершенно внезапно, спустя два года после смерти Maman, к ним пришла беда. Заболела Франсуаза, лихорадочно билась в ознобе, боролась с рвотой, жаждой и рвущей болью в спине. Они поначалу полагали, что она простудилась, или «потянула голую спину» в бойком танце. Но потом на её замечательном лице и теле стала появляться страшная, безобразная сыпь, конечности её била беспощадная судорога, а сознание было в бессвязном бреду.
– У вашей сестры серьёзное заболевание, мадемуазель, – озадаченно произнес приглашённый Docteur. – Вы чудом не заразились! Это Variole, или чёрная оспа, крайне опасная вирусная инфекция. Если она и выживет, то может частично или полностью потерять зрение. А кожа её навсегда останется покрытой многочисленными рубцами. Точно от этой напасти и упокоился наш король Людовик XV…
* * *
…Внезапный стук в дверь уборной и женский голос: «Можно?», – мгновенно вернули её к действительности.
– Входи, Франсуаза. Я уже готова. – ответила Маргарита.
Вошла женщина, платье которой с длинными рукавами закрывало её тело вплоть до самого подбородка. Лицо её скрывал толстый слой белил и румян, плохо маскируя оспенные шрамы.
– Марго, Жан сказал, мы начинаем через считанные минуты. – звонким и чистым голосом произнесла та. – Зал полон… Что это с тобой? Опять началось? – она с тревогой посмотрела на сестру.
– Кажется, да, Франсуаза. Опять этот чёртов страх перед сценой. В этом городе приступ повторяется каждый вечер. Не могу ничего с этим поделать… – в её голосе слышался трепет. Она силилась унять нервную дрожь в коленях.
– Успокойся, Марго, возьми себя в руки. Всё пройдет прекрасно!
– Я боюсь, как бы зрители не смекнули, что на афишах – обман. Что нет у меня никакого «уникального дара одновременно петь и танцевать кейк-уок»… Что и голоса то у меня пригодного нет… Этот Жан, если бы он не настоял, не грозил разрывом ангажемента, никогда бы не согласилась я на такую авантюру…
– Родная, мы делаем это не впервые. И репетировали мы много раз. Не собьёмся… Ты танцуй, как обычно. А я, по причине большого зала, буду петь за кулисами громче, чем всегда…
– Как всё осточертело, Франсуаза! Мотаемся по странам и провинциям, веселим публику, а утешительным призом для нас служат лишь низкие гонорары. Всё оседает в кармане у этого жулика и канальи Жана. Вместо сердца у него – книжка театральных билетов, вместо идеалов – красиво отпечатанная афиша…
В дверях уборной в этот момент показалась голова взволнованного импресарио, словно он услышал, что его имя склонялось на все лады в этой уборной. Его можно было бы назвать симпатичным: высокий светловолосый человек лет сорока, с чеканными чертами высокомерного лица и холодными голубыми глазами, если бы только не его рот, с неестественно широкой улыбкой на накрашенных губах – он портил его, делая похожим на постаревшего клоуна. Поправляя на ходу свой шейный шнурок-галстук и очки в золочёной оправе, он произнёс с апломбом, всплеснув холёными марципановыми ладошками:
– Небывалый аншлаг, Марго! Ни одного свободного места сегодня. Так неожиданно! И приятно! Люди толпятся даже в проходах и между столиками. Ты должна, слышишь, должна напоследок поразить искушённую публику этого Тифлиса… Кстати, очень недурной городишко, скажу я тебе! Среди сидящих в зале – много тех, кто не только в Петербург и Москву катается, но и в Париж, Вену, Лондон ездит по делам. Так что, ты выжми из себя все соки… ничего с тобой не станется – отплясала шесть концертов, остался сегодняшний – прощальная гастроль! – и домой, в Париж. Там отлежишься в своих апартаментах. Я ведь ещё не полностью расходы возместил за этот вояж, за дорогой отель, чёрт бы побрал его несговорчивого метрдотеля! за все твои капризные предпочтения в еде: «багет, фуа гра, бешамель, печенье безе и крем брюле, шампань…», затраты на аренду зала, на афиши. А ведь ещё и труппе надо гонорары выплатить… – его губы в алой помаде искривились в ехидном раздражении. Он налил себе отменного коньяка в разогретую им в ладонях рюмку и, втянув носом его аромат, залпом её осушил, следуя своей неизменной традиции перед началом каждого концерта, спектакля, а также репетиции, которую он также приравнивал к спектаклю, принимать вовнутрь это чудесное французское средство. – А ты, Франсуаза, не стой как манекенщица на помосте! Лучше затяни на Марго корсет потуже! Что за моветон? Сколько же раз можно напоминать, что это не комильфо?
Сестра, дрожащими от смятения руками, затягивала шнуровку на поясе, то и дело путаясь в его длинных лентах. От боли Маргарита закусила губы, во рту внезапно пересохло, дыхание затруднилось. Но она совладала с собой. Послушно кивнула Жану, затем встала со стула, придирчиво осмотрела себя в зеркале, поправила перья и провела рукой по блёсткам.
Во Франции она блистала в жанре варьете и водевиля. Но в Тифлис труппа театра «Бель Вю» привезла небольшой репертуар: несколько скетчей, коротких комедийных пьес и шуточных реприз, танцы и несложные песенки, модные в парижских кафе-шантанах и поэтому всегда принимаемые «на ура» в «провинциях», к одной из которых французы и относили ещё мало знакомую им Грузию.
…Нико занял своё место за столиком. Отсюда было хорошо видно сцену и всю остальную публику, уже слегка выпившую и раскрасневшуюся. Ему принесли бокал вина, от которого он отказался, попросив водки:
– Бокал вина вам положен за счёт заведения. А за водку платить придётся, уважаемый. – на что он молча кивнул в знак согласия.
И вот на сцену вышел тапёр, похоже, француз, средних лет, в белоснежном костюме. Он, поклонившись респектабельной публике, ударил по клавишам рояля своими длинными тонкими пальцами, заиграв рэгтайм. В полумраке блеснули подведённые густым гримом глаза артистки. Она! Прелестная мадемуазель Маргарита! Сверкнули её белые зубы, такие ослепительные на фоне ярко накрашенных губ. И она начала петь своим удивительным «двойным» голосом и танцевать оригинальный, совершенно новый для тифлисских зрителей, танец «cake-walk», он же «ки-ка-пу», этот гротескный танец американских негров, подскакивая и вытягивая руки вперёд параллельно полу, словно предлагает толпе попробовать пирог.
За ней стояла пара – очередная диковинка – два самых настоящих чёрных негра-франта, разодетые в пух и прах по последней моде, с белоснежными манишками, высокими воротничками, с пенсне и тросточками. Они, активно двигая бёдрами и тазом, громко топали ногами и подпрыгивали в темпе кейк-уока, смешили публику и дурачились, выделывая различные «кренделя».
Представление не один раз покрывалось оглушительными криками, дикими воплями пылкого восторга, гиканьем, аплодисментами, взлетающими кверху шляпами и летящими на сцену цветами. Что касается танцев самой актрисы Маргариты, то умение выделывать ею различные «па» ласкало взгляд и возбуждало всеобщее ликование. Публика просто тряслась от неподдельных эмоций, неистово экзальтируя. Похоже, люди были готовы наслаждаться этим лицедейством с ночи до утра!
Под конец актриса спела несколько лёгких мелодраматических песенок, и красивый её голос пробирался всё глубже и глубже в души зрителей, чем вызвал слёзы восторга у нежных барышень, тут-же заспешивших полезть в свои сумочки за платками, и сентиментальные вздохи дамочек повзрослее.
Нико не сводил глаз с Маргариты, любуясь ею, восхищаясь её воздушными движениями в такт музыке, внимая каждому слову из её песни, но слышалось ему одно лишь кошачье мурлыканье, какое-то странное, легкомысленное «мур-мур-мур». Как бы хотелось ему знать, о чём же она поёт!!! Но песня эта была на французском, которого он, на беду, никогда и не знал и отчего сейчас так сильно страдал. Ведь ему совершенно необходимо было знать, о чём же она поёт? Что хочет сказать своим зрителям? А зал, похоже, понимал её очень даже неплохо, и от этого веселился и ликовал! Нико с завистью оглянулся по сторонам. Эти аристократы и интеллигенты из европейского Тифлиса, что относят себя к великим знатокам обычаев просвещённого Запада, им то до тонкости известны правила загадочной науки, именуемой «этикетом», а знание французского или даже немецкого они позаимствовали у своих гувернанток или закордонных поваров, научивших их на этих языках изъясняться, а коли надо, то и разговор поддержать недурно. И ни нашлось в тот вечер никого поблизости, кто мог бы объяснить Нико, что в незатейливой и фривольной той песенке пелось, конечно же, про любовь. Разве поют французы про что-то иное со времён сотворения мира?
«Бомонд гулял, блистал гламур,
Закат… старинный абажур.
Слегка придвинулись: «Бонжур!»
Лишь пара слов, и вот – тужур,
В глазах горит уж, мон амур.
В руках твоих бокал с перчаткой.
Струится платье крупной складкой,
Затем: «амур», «лямур», «тужур»,
Слетает платье от кутюр,
Накрыв страницы партитур.
И затухает абажур,
Молчит старинный гарнитур.
Мон шер ами сразил амур,
И вот уж ты, мой балагур
У ног маркизы Пампадур…
Слова: «лямур», «лямур», «лямур»,
Какой-то странный каламбур
Для сверхчувствительных натур!
Горит щеки моей пурпур:
«Я Ваша, знайте, мон амур!…»
Нико схватил со стола астры, окрашенные во все цвета радуги умелым мастерством садовника, и, подойдя к сцене, протянул их «божественной» Маргарите. Та приняла их, как и другие букеты, не особенно выражая восторга. Лишь сдержанно произнесла, бросив на него сиюминутный взор: «Мерси, месье!». И он догадался, что «мерси», должно быть, означает «спасибо». Второго слова он не разобрал.
Публика еще семь раз вызывала её на «бис», она появлялась, опять танцевала, ей кричали:
– Шарман-шарман! Браво! Гран-мерси, мадемуазель Маргарита! Прелестно! Очаровательно! Мерси боку!
Освещённая огнями рампы, она грациозно кланялась, посылая «в никуда» улыбку и воздушные поцелуи. Казалось, представлению не будет конца. Но вдруг на сцене появился высокий представительный человек в пенсне, встал рядом с актрисой, поклонился зрителям, широко улыбнувшись при этом своими удивительно красными губами и одновременно подав за кулисы раздражённый жест, означающий, чтобы занавес больше не раздвигали, как бы там ни надрывалась публика со своими докучливыми «браво» и «бис!»…
Нико и заметить не успел, как Маргарита пропала из виду, исчезла в тени пыльного занавеса. Зрители, успокоившись, стали постепенно расходиться, благосклонно обсуждая выступление гастролирующей парижской труппы. За воротами их ожидали роскошные экипажи, фаэтоны и коляски.
Он тихо поднялся со своего места, с растерянным видом озираясь по сторонам. Ей не понравился его букет? Наверное и правда, не понравился! Иначе она бы одарила его лучезарной улыбкой! Ведь цветы других поклонников были пороскошнее, побогаче. Что же делать теперь? Он подошёл к выходу, что-то напряжённо обдумывая. В каком-то недоумении, вперемешку с щекочущим нервы волнением, сделал он пару неуверенных шагов вперёд, но вдруг передумал и замер на месте, а потом робкой поступью вернулся к своему столику и заказал водки…
* * *
…Танцы совершенно выбили Маргариту из сил, а сильно затянутый на талии корсет совершенно не давал дышать.
В гримёрной Франсуаза помогла ей переодеться и расстегнуть шнуровку бандажа. Когда актриса стирала искусный грим, её неприятно поразило истощённое лицо, покрытое сетью мелких морщинок, выглянувшее из зеркала. Только теперь она почувствовала смертельную измождённость, как медведь навалившуюся на неё всей своей непомерной тяжестью.
– Я умираю от усталости! – сообщила она сестре, а взгляд её был вялый и оцепеневший, и смотрел в одну точку. – В зале было накурено и душно до дурноты! – она вновь повернула голову и бессильно взглянула на себя в зеркало. – Мне кажется, я сильно постарела за эти семь дней. И нервы мои окончательно истощены… К счастью, сегодня был прощальный концерт.
– C’est la vie. Ты приляг, Марго, – заботливо суетилась вокруг неё сестра, поправляя подушку на диване и помогая ей лечь повыше. – Я принесу мокрые полотенца и бутылочку коньяка. Отдохни немного, хоть четверть часа. А потом поедем в отель. Тебе надо поспать. А я начну собираться в дорогу. Жан заказал экипаж на завтрашний полдень.
– Merci beaucoup! Что бы я без тебя делала, Франсуаза? И ещё… поищи пузырёк с нюхательной солью, s’il te plaît. Ума не приложу, куда он запропастился…
* * *
Нико всё ещё сидел за столиком в ресторане и с напряжённым вниманием наблюдал из окна за его центральным входом. Некоторое время спустя он заметил, как подъехал фаэтон и вот – ОНА! Мадемуазель Маргарита! Сопровождаемая какой-то женщиной, они, облачённые в лёгкие манто, вышли из заведения и впорхнули в ожидавший их фаэтон. Кучер щёлкнул бичом и фаэтон двинулся с места.
«Я не могу её потерять! Мне надо узнать её адрес!» – повторял он самому себе. Он бросился вдогонку, однако лошадь бежала так проворно, что он вскоре выбился из сил: пока фаэтон петлял по улочкам, он ещё кое-как поспевал за ним, но вот он покатил по набережной, и Нико стал задыхаться и отставать. По счастью, было темно, и он, ни жив ни мёртв, рискнул вскочить на запятки так, словно всю свою жизнь служил выездным лакеем – чего только не учиняет любовь с человеком! Там, на запятках, он перевёл дух, радуясь собственной находчивости. Однако другое чувство, поселившееся в нём с недавнего времени, терзало его. И имя ему было – ревнивость! Оно убедило его не сомневаться, что фаэтон ЕГО «ангела» направляется сейчас в какое-нибудь укромное местечко, где её, прелестную актрису Маргариту, дожидается какой-нибудь таинственный молодой кавалер, с жаром аплодировавший актрисе. Однако, какое право имеет он, простой молочник, совать свой нос в ночную жизнь красавицы Маргариты? Но он полюбил её, полюбил всей душой, и был полон решимости проникнуть в одну из её тайн, и, если понадобится, защитить её от упрямых, докучливых и грязных помыслами обожателей.
Когда лошадь остановилась на Головинском проспекте, аккурат напротив недавно возведённого Александро-Невского военного собора, у гостиницы «Ориант», он понял, что напрасно тревожил себя дурными мыслями. Ведь ОНА, ЕГО «чистый ангел», здесь проживает.
Незаметно соскочив на землю, Нико испытал минутное замешательство.
– Подойти? – спрашивал он самого себя, но тут же задавался другим вопросом, – Но как? Без цветов? Нет, это не по-мужски! Так он никогда не поступит!
* * *
…Уже совсем стемнело от туч, и скрежещущий удар пронёсся по небесам. По иссохшей земле застучали дождевые капли и, наконец, хлынул ливень. Он хлестал по кронам деревьев, по крышам домов, фаэтонов и колясок, по булыжным мостовым. Потоки воды с шумом неслись вдоль тротуаров. Сквозь сверкающую пелену дождя пробивались тусклые лучи одинокой и равнодушной луны. Загулявшие допоздна девушки, приподнимая пышные юбки, со смехом пробегали мимо. Но Нико не замечал дождя. Он, подталкиваемый неведомой силой, куда-то шёл быстрым шагом и вскоре оказался в Харпухи, где упрямо стучался в старую деревянную дверь хромого на одну ногу садовника Нукри. Он знал, что на его заднем дворе цветут пышные клумбы роскошных роз, которые тот потом продавал на Мейдане. Помнил, что Нукри, как и его отец, был не просто букетчиком, а, прежде всего, очень хорошим садовником, умел своей заботливой рукой прививать и выращивать фруктовые деревья и разводить новые цветы.
– Кто там? – услышал он голос и в окне показалось заспанное лицо пожилого человека.
– Это Нико.
– Какой такой Нико – не знаю. Знаю, что ночь уже на дворе. Всем спать пора. Что тебе нужно?
– Цветы. Очень нужны. Сейчас.
– Цветы тоже спят, генацвале. Нельзя их тревожить. Приходи завтра, на рассвете. – но, увидев, что Нико очень расстроен, всё-же сжалился. Встал, отворил ему дверь, и, ступая шаркающими шагами, провёл гостя в свой тёмный притихший сад, умытый сильным дождём. Где, объяснившись в любви к выращенным им цветкам и попросив у них прощения, аккуратно их срезал большими садовыми ножницами и отдал странному ночному покупателю. Несколько очаровательных роз, обильно покрытых дождевой росой, крупных и душистых – за полтора рубля.
Видел бы эту сделку его компаньон Димитри! Да он бы насмерть убился, но никогда бы не отдал денег за цветы. Сказал бы ему: «Эй ты, градом побитый! На что такие деньги тратишь? На веник? Что? Это цветы? Какая разница, что цветы? Всё равно завтра в веник превратятся! Слушай, хочешь цветы – пойди нарви где-нибудь! Э-э-э, кацо, что тебе ещё сказать? Настоящий ты чокнутый! За полтора рубля целого ягнёнка купить можно в базарный день! Пир закатить!».
А ему, Нико, не жалко никаких денег для «ангела, сошедшего к нему с небес»! К тому же, Нукри их заслужил, уважил его просьбу, встал с постели посреди ночи, а ведь он – ранняя пташка – рано ложится и рано встаёт! Поистине, великий он садовник, даже холщовый фартук на нём не преуменьшает его особого величия! Не бывает ведь роз без шипов, а вот он так умело их срезал своими золотыми руками, что смог избежать уколов. Точно как и хороший пчеловод, которого не жалят пчёлы, когда тот крадёт у них мёд.
С букетом в руках он торопился, почти бежал на Головинский, к гостинице «Ориант». Швейцар в ливрее преградил ему путь, не впустил к заезжей «звезде», сославшись на слишком позднее время суток. «Никого не велено пущать к госпоже артистке! Сударыня нынче почивать изволит». И если бы он не дал ему щедро на «чай», а потом ещё столько же – и портье, ему, вероятно, так и пришлось бы ночевать сегодня либо на мокрой скамье Александровского сада, находящегося под боком, откуда его когда-то погнал строгий дворник, либо идти в свою лавку, чтобы провести бессонную ночь в смежной комнате, на излюбленном снопе сена. Но цветы! Цветы! Ведь они неизбежно завянут к утру! А если и поставить их в воду, то и в этом случае они будут уже не так свежи, грустно повесят свои головки. Прилизанный портье провёл его, утомлённого и взволнованного, пахнущего потом, в отяжелевшем от ливня костюме и грязных ботинках – к заветной двери.
– Как подойти к ней? Что сказать? – мучился Нико вопросами. – Как надо здороваться с такой знаменитостью? – французского языка он совсем не знал. Вот грузинский – да! русский – тоже, пожалуйста! даже на армянском мог изъясниться, в чём была явная заслуга Калантаровых. А вот на французском – ну никак, ни единого слова не знал. Непонятный язык ведь какой-то, странный, ни на что не похожий…
В итоге, собравшись с духом, он постучал в дверь.
Маргарита с сестрой недавно вернулись в свой номер. Актриса только успела переодеться в пушистый белый халат, окончательно стереть макияж, как в дверь робко постучали.
Déjà-vu! Боже, как часто это случалось в её жизни!
Схватив пуховку, она начала судорожно поправлять грим, словно пудра могла скрыть её страх от нетерпеливых глаз кавалеров и поклонников. Да-да, очередных, бестактных поклонников, которые вот так, самым беспардонным образом, вторгаются в её покои, бесцеремонно будят её, Примадонну Парижского Театра, и несут потом несусветную чепуху, что мечтают мол пообщаться с ней лично, с глазу на глаз, и заполучить автограф на вечную память! Несмотря на обаятельность и воспитание, будет она неприступна и холодна к этим назойливым воздыхателям, от которых слышала многое в своей жизни – банальные комплименты, маскирующие лесть, торжественные клятвы быть с ней «в радости и в горе», чувственные, однако, пустые обещания, но лучшее, что она слышала – это тишина. Потому что не было в ней вопиющей, гнусной лжи…
– Vous avez besoin de quelque chose, monsieur? – спросила Франсуаза, отворившая дверь незнакомцу.
Он оцепенел от неожиданности. Удивительный голос этой женщины, одетой в плотное длинное платье от подбородка и до самых пят, показался ему до боли знакомым. Не тем ли самым «золотым» голосом он наслаждался на концерте Маргариты? Но лицо её, сплошь покрытое грубыми рубцами, не говорило ни о чём и отталкивало. Он не понял её вопроса, и не знал, что надо ответить. И, потеряв дар речи, которым, впрочем, никогда и не обладал, только робко протянул цветы – роскошный букет красных роз. Та, кивнув головой, произнесла:
– Merci beaucoup, monsieur! – и отчего-то стала рыться в бархатном ридикюле на тонком шнурке. – Un instant s’il vous plait! Её сумочка, похожая на шар, вмещала всё, что было необходимо настоящей моднице или актрисе – обрамлённое серебром овальное зеркальце с изящной ручкой, помаду, румяна и пудру, расчёску, флакон с нюхательной солью, игральные карты…
Но безумный взор Нико был устремлён вглубь комнаты, где у трельяжа, всего в нескольких шагах от двери, спиной к нему сидела ОНА, актриса Маргарита, его Непорочная Дева, благородная и чистая! Его Богиня красоты, хоть и земная от рождения! Она, словно почувствовав на себе чьё-то касание, слегка повернула голову и он поймал её растерянный взгляд, увидел светлые её очи, в которых блистали искорки, подбородок, высокие скулы и маленькие губы, обрамлённые густыми прядями её распущенных пышных волос, которые так и просили, чтобы их целовали. Он смотрел на неё с неисчерпаемой нежностью и его стало трясти от страха, или от вожделения…
Она же, с некоторым удивлением на лице, рассматривала худого, промокшего до нитки мужчину. Кто он? Вид отнюдь не парадный, не респектабельный, а неухоженный и измождённый. На лице – старая щетина, под глазами мешки, руки тонкие, почти прозрачные… В поношенном костюме, на неуклюжих ботинках – свежая уличная грязь… Фу! Не выношу грязной обуви! А на голове – низко надвинутая на глаза и насквозь вымокшая, какая-то старомодная фетровая шляпа. В Париже давно уже таких не носят. Ему, должно быть, лет 45. Ну да, она так и знала. Очередной бесцеремонный поклонник… Чего ему дома не сидится в такую непогоду и поздний час? Хотя, возможно, она и ошибается. На поклонника ведь он не слишком похож. Больше, всё-таки, на нарочного. От какого-нибудь местного богача, наверное… как их здесь называют? князь? купец? С дорогими цветами и, наверное, с запиской – приглашением на обед или ужин – и пылкой надеждой на мимолётный адюльтер с французской шансонеткой…
Женщина, что стояла перед ним, у самого порога, вытащила, наконец, из недр своей сумочки двугривенный, и протянула его Нико, снова бросив что-то непонятное, и, прежде чем он успел опомниться, закрыла перед ним дверь.
– Зачем она вручила мне эти 20 копеек? – недоумевал Нико, раскрыв ладонь. – За цветы заплатила что-ли? Или за посыльного приняла? – казалось, он был растерян оттого, что ожидал радушного приёма в будуаре знаменитости. А его и внутрь то не впустили, чаю не предложили. Не по-грузински это, не по-человечески как-то. А потом его враз осенило:
– А может они, эти французы, относятся к тем людям, которые встречают незнакомого человека по одежде? И, если это так, тогда ему всё понятно. Вид то у него довольно посредственный. Значит ему нужен новый костюм – конечно, не тот, в котором он ездит кутить с друзьями-карачохели по весёлым духанам да по деревянным плотам, передвигающимся по Куре. И не тот, в котором он ранним утром покупает молочный товар у деревенских мальчишек. И уж точно не тот, в котором стоит за прилавком, с фартуком поверх него, но всё равно замызганном белыми каплями парного молока или липкими пятнами от мёда…
На его лице появилось выражение упрямой решимости, а где-то глубоко внутри него проснулись бушующие чувства, надёжно до этого скрывавшиеся за его робким, излишне застенчивым видом. Недаром ведь говорят, что слишком сильная любовь вызывает желания, недоступные трезвому человеку, и покоряет его разум.
– Будет у меня хороший костюм и новая обувь – не хуже тех, в какие были облачены купцы и дворяне на концерте! – твердил он самому себе, засыпая в своей балахане. – А у тебя, моя божественная Маргарита, будут самые лучшие цветы мира! Могилой матери клянусь!
* * *
На другой день, дождавшись компаньона, он сообщил, что согласен продать ему свою лавку, то есть ту долю, которая всё еще принадлежала ему. Удивлённый Димитри, не ожидая такого поворота дела, радостно потирал руки от выгодной сделки, глаза его сверкали от внезапно навалившегося счастья. Во всю прыть сбегал он домой – только пятки сверкали, и вернулся в лавку с деньгами:
– Вот, Никала, держи, генацвале. Как договаривались. Ты смотри – не брось деньги в воду, дзмао… на ерунду не истрать!
Спустя четверть часа Нико уже нёсся что есть мочи по Головинскому проспекту. Зайдя в Дом готового платья «Венский шик», имевший также собственное пошивочное ателье, он нашёл здесь знаменитого Сержа, старая мать которого, зажиточная армянка Анна-ханум, часто покупала молоко и свежий сыр в его лавке. Серж считался лучшим портным Тифлиса, потому как Господь при рождении поцеловал его в темечко. Именно так говорила Анна-ханум о единственном сыне. Он совершенствовал своё мастерство сначала в Петербурге, а потом – в Вене и туманном Лондоне, и, при каждом удобном случае, хвастал, что пил чай с молоком за столом у самого английского короля Эдуарда VII, который считается законодателем мод. А в качестве доказательства об окончании им портновских «академий» служили его дипломы, висевшие здесь в рамках под стеклом. К этому первоклассному столичному портному стекалась постоянная богатая клиентура из буржуазии и верхушки тифлисской интеллигенции. Под фигуру каждого он делал манекен, чтобы шить одежду стиля «модерн», не слишком утомляя клиента частыми примерками, и создавал «продукт» свой в строгом соответствии с пожеланием заказчика и по модным журналам, которые издавались в том же Петербурге, Вене и Лондоне. Имелся у него ассортимент материй как кусками, так и в образцах, в виде каталогов английских, русских и лодзинских фирм. И славился он своим намётанным глазом и умением создавать все виды и типы костюмов, в том числе военные мундиры, фраки, сюртуки и смокинги.
– Шить я не буду, Серж-джан, – поторопился сообщить Нико. – Мне срочно приодеться надо. Я ждать не могу.
– Как хочешь, Никала… Желание клиента для нас – закон!
Ему показали пиджаки двубортные и однобортные: черные, синие и тёмные в светлую полоску. Из крепа, бостона, шевиота. Порекомендовали купить удлинённый и приталенный, с высоким воротником и широкими лацканами, рукава у которого покороче, с учётом, чтобы крахмальные манжеты выступали на 2–3 сантиметра из-под рукава. К пиджаку брюки дали неширокие, на подтяжках, жилет с лацканами, белую рубашку, тёмные носки, шляпу, скрипучие от новизны ботинки, а галстук из атласа повязали широким узлом, сколов его булавкой с головкой из жемчужины.
– Выпрямите спину, любезный! Одежда не терпит сутулости. Ну вот, теперь другое дело – костюмчик ваш сидит, как влитой! Головой ручаюсь! – говорил ему галантный продавец в Доме готового платья, ахая от восхищения. – Наряд этот отобьёт всех конкурентов и откроет путь в тот мир, где вас будут любить и страстно желать. Дело за малым – вам, генацвале, в парикмахерскую бы сходить ещё…
Что Нико и сделал. Побрился у лучшего цирюльника на Головинском, который, за отдельную плату, ещё и опрыскал его модным цветочным одеколоном «Вера-Виолет». В конечном итоге он, наивный человек, полный надежд на счастье, свежий, прилизанный и напомаженный, одетый с иголочки щёголь, и с немалыми деньгами в кармане, нанял извозчика. Лошадиное ржание, цокот копыт, и вот уже коляска стучит колёсами по мостовой, вдоль тротуаров справа и слева, держа путь на Мейдан.
Впереди его ждала новая жизнь…
* * *
Хромоногий Нукри и двенадцать его собратьев по садовому делу в холщовых фартуках, завидев платежеспособного заказчика, беспрекословно стали собирать в охапки все цветы, что были ими свезены сегодня на продажу, и грузить их на арбы: гордые розы всех оттенков крови, оранжерейные лилии, садовые гвоздики, гиацинты, камелии, астры, бегонии, пионы… Каких цветов тут только не было!
Поднялись шум и суета, мол, «какой-то чудак сегодня скупил на корню все цветы в Тифлисе! И все цветы, которые росли под Тифлисом, и все цветы, которые пришли в Тифлис на поездах из Батума…».
Недалеко от этого действа торговал один кинто по имени Сико, в чёрном ахалухе, подпоясанный тяжёлым, сплошь из серебряных чеканных накладок с чернением поясным ремнем. Шаровары у него были с напуском на мягкие полусапожки, из-под ахалуха на груди проглядывала яркая, красного цвета сорочка со стоячим воротником. С утра носил он съестное и зычно кричал: «Агурец, агурец, Александре молодец», «черешни, вишни испанцки», «яблок антоновцки», «перцик, перцик, априкос», «красавица памадор», «бадриджани, свежий луки, немецки слива!». Но сейчас, больше чем продать свой товар, торопился он разнести ошеломительную весть по всему городу:
– Клянусь, что земля всех садов в Тифлисе сейчас черна. – говорил он каждому встречному и поперечному, громко жуя «ляблябо» – орехи с кишмишом. – Пусть цветы никогда не вырастут на моей могиле, если остался сейчас хоть один цветок в городе…
– А что? Что случилось, Сико? Почему так? – с любопытством спрашивал подошедший к нему другой кинто, с фруктами, разложенными на подносе-«табахи», который он держал на голове. Затряслись от интереса у него на плечах весы с большими медными тарелками на цепях, которые носил он как коромысло, держа в отдельном холщовом мешочке гири разных размеров.
– Да вот этот Нико все цветы в Тифлисе купил сейчас… Миллион роз!
– Вах! Что я слышу? Какой Нико? Зачем? Почему?
– Слушай, Сако, ты его знаешь. Этот Никала держит молочную лавку на Верийском спуске.
– Пиросман что-ли? – догадался тот наконец. – Говорят, он и так немного чокнутым был…
– Да-да, он самый, не от мира сего. Влюбился в какую-то артистку. Француженку. Вот этими ушами всё слышал – садовники шушукались. Говорили, лавку свою продал, на все деньги цветы купил. Совсем разум потерял. Вот что любовь с человеком делает!
– Вах-вах-вах! – покачал головой Сако. – Бедный Пиросман. Чувствую я, сгорит его сердце от этой любви…
– А ещё новость знаешь?
– Что за новость?
– Говорят, жених живёт у неё в Париже,
Он по моде очень-очень рыжи.
Она зовёт его Жаком,
Потому что ходит он пинджаком…
Они переглянулись и оба шумно расхохотались. И смеялись бы они долго, если бы вдруг один не посмотрел на другого и спросил с серьёзным выражением лица:
– Слушай, Сико, я тебя вчера почему весь день не видел на базаре? Где был? Что делал?
– Болел я…
– Вай ме, болел? Как? Чем?
– С разным девочкам гулял, сильно наслаждался, нехорош болезнь поймал – насморк назывался…
– Ва-а-а! А я кутил в дуканах. А потом нанял два фаэтона… Сел в передний…
– А второй для кого?
– А во втором ехал моя шапка! Он тоже человек!
– Ва-а-а!
– Кля-нусь чесный слова!
Сами же над собой они и смеялись, а мимо проходила незнакомая молодая женщина, которую юбочник Сако не мог пропустить мимо, чтобы не задеть:
– Ах, попалась, птичка – стой! Мадам-джан, пойдем в баню! Любую выбирай на твой вкус, красавица…
– Фу! Срамник! – покраснела та и поторопилась поскорее удалиться.
– Не хочешь – как хочешь. Ходи тогда грязный!
А когда женщина скрылась из виду, Сако добавил со смехом:
– Наверно, изъян у неё есть какой-нибудь. Потому не хочет. Стесняется мадам-джан.
Под ногами торговцев, покупателей и зевак тут сновали мальчишки-тулухчи с глиняными кувшинами, распевая: «Тунели вада, халодни вада, чисти вада!» Человек, утоливший жажду водой из тоннеля, видел приклеенную с наружной стороны дна стакана надпись «пил халодни вада – 1 копейка платить нада!».
Тем временем, горы купленных цветов – в больших и маленьких корзинах – были уложены в нанятые повозки с впряженными в них лошадьми. А когда корзины закончились, цветы стали сваливать и без них, поверх самих корзин, перевязывая их тесьмой. Одна повозка, вторая, третья, четвёртая, пятая… они, доверху нагруженные срезанными и обрызганными водой дарами флоры, заскрипели и тронулись в путь с Мейдана, через Армянский базар, в сторону Головинского проспекта. Позади них шёл Нико, по лицу которого, не столько от яркого полуденного солнца, сколько от волнения, ручьями лился пот. И кружилась его голова, пьянея и сводя с ума от приторно-сладкого благоухания цветов, над которыми, словно над цветущими лужайками, летали беззаботные стрекозы, шурша своими прозрачными крылышками, жужжали трудолюбивые пчёлы, порхали легкомысленные бабочки…
Вереница повозок остановилась около гостиницы «Ориант», где на время гастролей остановилась актриса Маргарита. Носильщики, сопровождавшие груз, вполголоса переговариваясь, – нельзя в этом солидном заведении шуметь! – начали суетливо снимать охапки цветов восхитительной красоты и заносить их вовнутрь, поднимая на второй этаж с его элегантным интерьером, к дверям номера знаменитой актрисы. Ставили пахнущие ароматом корзины повсюду, к двери, вдоль длинного коридора, потом стали заставлять помпезную мраморную лестницу, запрудили ими парадный вход в гостиницу. Но неразгруженными оставались ещё три повозки. И тогда цветами стали усыпать сначала широкий тротуар, а потом уже и саму мостовую Головинского проспекта. Их запах заполнил всю округу, привлекая пытливых прохожих. Швейцар гостиницы многозначительно бросал зевакам, жадно наблюдавшим удивительное зрелище:
– Большой князь… Кто именно? Не велено сообщать! Проходите-проходите, господа дорогие, не толпитесь у входа! Это вам не цирк!
Но люди не расходились, продолжая глазеть на непонятное зрелище. Шум, галдёж, громкие разговоры и возгласы удивлённых прохожих, поднимавших головы и пытавшихся разглядеть окна той загадочной счастливицы, кому предназначалось сие дорогущее преподношение, разбудили Маргариту. Она села на постели и вздохнула. Море запахов – ласковых и нежных, радостных и печальных – наполнили её комнату. Взволнованная, она быстро оделась, ещё ничего не понимая. Надела концертное платье, тяжелые серебряные браслеты, прибрала свои роскошные волосы и, выглянув в окно, ахнула. Oh mon Dieu!
Отроду не видела она такого чуда! Как в сказке! Хотя и в сказках она о таком не читала. Сердце её замерло. Она догадалась, что этот праздник устроен для неё. Но кем? Кто этот таинственный незнакомец, бросивший к ЕЁ ногам миллион алых роз!
Счастливая улыбка родилась на её лице, губы смеялись, а на прелестных глазах навернулись слёзы умиления, которые она аккуратно смахнула кончиками своих тонких пальцев. Выглянула ещё раз в окно, под которым собралась чуть ли не половина Тифлиса с поднятыми вверх головами. Все смотрели на неё. И она – истинная артистка – начала рукоплескать публике.
– Марго! – услышала она за спиной громкий и страшно взволнованный голос сестры, ворвавшейся к ней в номер. – Ты видела это? Такого ещё никогда и ни с кем не происходило! Ни в жизни, ни на сцене… Что за богач здесь чудит?
– Не знаю. Франсуаза. Быстренько разузнай, s’il te plaît!
Через минуту сестра вернулась. И не одна. За ней в номер медленно вошли знакомый ей гостиничный портье, неплохо изъяснявшийся по-французски, и какой-то странный, худой и бледный, но очень прилично одетый мужчина, должно быть, коммерсант. Или, мерчант, как называют богатых торговцев у неё на родине. Он снял шляпу, прижав её к груди, затем пригладил свои поседевшие, но благоухающие модным парфюмом волосы, и застенчиво взялся рукой за стену, словно боялся упасть.
– Это он, – сказала Франсуаза по-французски. – Ты не помнишь его, Марго? Вчера он преподнёс тебе этот букет цветов. – она указала на красные розы, стоявшие в китайской вазе на полированном столике. – Я приняла его за нарочного. А сегодня – вот! – всё, что ты видишь – дело его рук!
– Oh là là! – вырвалось из уст артистки. Она, очаровательно улыбнувшись, протянула ему руку для поцелуя. А он стоял, как громом поражённый – наверное, его компаньон Димитри бы прав, когда называл его так! Сейчас он впервые услышал, как этот прелестный голос, такой знакомый, обращается к нему, впервые увидел, как идол, которому он поклонялся, сходит с пьедестала и хотя мгновение, но живёт и улыбается лишь ему одному. Он, художник, заметил, как свет рампы меняет черты знакомого лица! И она, мадемуазель Маргарита, в жизни оказалась ещё прелестнее, чем на сцене! Не сразу он сообразил, ему подсказал портье, что к протянутой руке в таких случаях положено прикоснуться губами. Что он и сделал, ощутив в этот миг, что кожа её нежной ручки обожгла его огнём.
– Quel est son nom?! – полюбопытствовала она с неподдельным интересом.
– Николя. – сухо сообщила Франсуаза.
– Merci, monsieur. – выговорила она, ласково смотря ему в глаза. – Merci beaucoup, Nicolas! Но… но затчем столько тсветки? Мой голова будет ломатса от боль. И вы тратить много деньги… очень много…
Он молчал. Только тихо смотрел на её ангельское лицо, чуть дыша.
– Он не есть мерчант, Марго. И, тем более, не князь! – хладнокровно вставила Франсуаза на своём языке. – Простой мелкий лавочник. Ничего не имеет за душой. Странноватый чудак из Тифлиса. Попрощайся уже с ним. С минуты на минуту подъедет экипаж. Саквояжи я уже упаковала. Ты готова?
* * *
ОНА ВСЁ ПОНЯЛА!
Он полюбил её, заезжую артистку с берегов Сены. Капризную, избалованную примадонну маленького театришка. Влюбился так, как безусый юнец может влюбиться в девушку с первого взгляда. И, сам веря в сказку, подарил её ей, искренне надеясь, что она покажет ей силу его большой, необъятной любви.
Но ведь она совсем не знает его. И поэтому не может ответить на его чувства взаимностью, а только… только жалеет этого мечтательного романтика и идеалиста. Ему бы, с его сентиментальной душой, не лавочником быть, а поэтом, или художником…
Санта Мария! Неужели она, сама того не желая, разбила его сердце? Тогда ей надо покаяться! Хотя, в чём состоит её вина перед ним? В чём ей каяться и укорять себя? За что терзаться муками совести? Она вздохнула и вспомнила:
«C’est la vie!» – «Такова жизнь!» – так любила поговаривать её бедная матушка, когда ничего нельзя было изменить и оставалось принимать жизнь такой, какая она есть.
* * *
На башне городской думы часы пробили двенадцать раз. Полдень. Снизу был слышен приближающийся стук колёс. Высокий экипаж, запряжённый парой лошадей, подкатил к парадному входу гостиницы и замер в ожидании пассажиров. Кучер спрыгнул с подножки на тротуар, учтиво приподнял фуражку и распахнул дверцу.
Пора!
Слуги стали выносить их вещи и грузить сзади, в отделение для багажа – два приличных, затянутых ремнями, дорожных саквояжа, туго набитых чем-то. И большой деревянный сундук, который грузчики несли с двух сторон за обе ручки.
Маргарита, опираясь рукой на согнутую в локте руку Нико, стала спускаться вниз по лестнице, вслед за вещами. Их сопровождала бесстрастная Франсуаза, а за ними следовал портье. Он нёс в руке корзину с удивительно нежными алыми розами. Всего лишь одну корзину! Потому что увезти с собой целое море цветов не под силу никому, даже всесильному чародею!
Казалось, что-то необъяснимое удерживало её, и она не желала торопиться, не хотела отрывать от Нико своей руки. А чем он, герой её сегодняшнего романа, отличается от кудесника? Ровным счётом ничем. И достоин большего, чем просто быть взятым под руку! И она, слегка приподнявшись на цыпочки, вдруг чмокнула его в щеку. Жар красным пятном растёкся по его лицу…
Франсуаза, увидев эту картину, решила в этой ситуации проявить твёрдость и подтолкнула сестру к дверце – устраивайся поудобнее! Та, вздохнув, решительно ступила на лесенку, под свод экипажа.
– Adieu, mon ami! – не сказала, а почти крикнула ему Маргарита, а потом произнесла ещё что-то, что тут же было переведено услужливым портье на грузинский язык:
– В сотый раз, Николя, примите мою благодарность… Я тронута безмерно. И, поверьте мне, сохраню о вас самые лучшие, самые приятные воспоминания… Может быть, mon ami, если будет воля провидения, мы когда-нибудь увидимся… – она, говоря о провидении, показала указательным пальцем вверх, имея в виду, что великая и необъяснимая сила судьбы выше всего земного, и обитает где-то высоко над головой, в небе.
Дверца экипажа захлопнулась за женщинами.
Bon voyage!
Почти тотчас раздался стук в переднюю стенку, который дал кучеру знать, что пора трогать. Подобно эху от пистолетного выстрела, щёлкнул его кнут и экипаж затрясся по мостовой, подпрыгивая по булыжнику идеально прямого, совершенно европейского проспекта.
Нико не отводил глаз от быстро удалявшейся от него Маргариты. И не мог не заметить, как она дрожащей рукой посылает ему прощальный жест из окна. По его растерянному лицу потекли горькие слёзы. Он пристально всматривался в маленькую точку исчезающего экипажа, точно хотел сорвать её с горизонта. И не мог, не хотел поверить, что его «ангела» больше нет рядом с ним.
Как во сне вернулся он в гостиницу и поднялся на второй этаж, прошествовал по коридору и вошёл в знакомый номер. Никого! Окна закрыты наглухо, шторы задвинуты, по комнате разбросаны этикетки от шампанского, визитные карточки поклонников и обрывки некогда нарядных афиш. И больше никого и ничего, кроме фимиама знакомых духов, смешанного с запахом женщины, которую он так нежно полюбил.
Он подошёл к широкой неубранной постели, бережно и с глубоким благоговением взял в руки её подушку и прижал её к себе, блаженно закрыв глаза и поглубже вдыхая еле уловимый аромат дорогих благовоний.
Уехала!
Покинула его навсегда!
Опустошила его душу и похитила его сердце!
* * *
Он спустился вниз. Дул ветер. Ветер разлуки. Закончилась волшебная сказка. Но какой в ней толк, если золото в итоге превратилось в черепки, Красавица уехала на край земли, где говорят на непонятном ему языке, а он – Чудовище – остался. Недобрая вышла сказка, печальная, без весёлого пира, без счастливой свадьбы! А может всё это сон?
* * *
НЕТ! Это было наяву!
Свидетельством тому была площадь перед гостиницей, затопленная солёным морем из цветов и слёз.
Цветы… цветы надежды… цветы жизни… цветы любви…
* * *
Ещё сегодня утром он был уверен, что они приносят счастье, но, увлечённо вдохнув благоухание их прелестных лепестков, он потерял голову и сохранил очарование их навязчивого запаха: лицо его теперь омрачено боязнью, а душа, она охвачена вихрем, поднимающимся из тех туманных бездн мысли, где вулкан гордости тлеет под пеплом бессилия и неудач.
– Всё правильно! – рассуждал он, силясь найти оправдание своей не сложившейся судьбе. – Я ей не ровня. Она – звезда, знаменитость и Красавица. А я – обыкновенный лавочник. Хотя… уже даже и не лавочник, потому что нет больше лавки. Нищий! Ни кола – ни двора!
Мысли… мысли… они не давали ему покоя. И, если бы рядом с ним в этот непростой для него период жизни, оказался человек образованный, уж он то бы смог раскрыть ему глаза на очевидное. Он бы сказал ему, что для таких мечтательных натур, как Нико Пиросмани, нет ничего опаснее, чем любовь к актрисе, ведь она непременно сопровождается непрестанным самообольщением, безумным бредом и дурным сном. Всё существование такого романтика сосредоточивается на одной несбыточной цели, и пока он стремится к ней, он счастлив – но стоит ему протянуть руку, чтобы коснуться идола, как грёзы рассеиваются. И цель растворяется в призрачном свете рампы…
Он тихо побрёл по Тифлису, спускался к воде, смотрел, как мели в середине реки отшибают Куру к берегам, с её тенистыми зелёными садами. Здесь летом бывает прохладно до холода… Заглянул в ботанический сад, где смотрел на водопад под мостом, на весеннюю сосновую рощу… Стал взбираться на Святую гору, где, подняв купола, стоит церковь с целебным источником. Мимо неё, медленно, как дворник с вязанкой дров по чёрной лестнице, полз на самую верхушку горы маленький вагончик фуникулера.
Забытый всеми, без роду и племени, он уныло повернул вспять, в Сололаки. Здесь, в подвалах, входы духанов. Оттуда слышна негромкая песня. Он спустился. Горело жёлтым светом электричество. За столами сидели нарядные люди, пели, произносили красноречивые тосты о сердце, о вечной дружбе, о любви… И пили из рога. Попросил у буфетчика графинчик водки… в обмен на свою жилетку с лацканами. Следующий графин он выменял на ненужный ему атласный галстук – и в придачу отдал венскую булавку с головкой из жемчужины.
Сердце его больше не стучало… оно сгорело от большой любви, той, что не сможет поместиться ни в этом духане, ни в переулке, ни во всём Тифлисе!
* * *
Шло время. Подул ветер и пошёл дождь. Он слушал бесконечный плач дождя, смешанный с протяжной песней сазандари «Махинджи вар» и с удивлением обнаружил, что грустная эта песня, похожая на стон и плач, затянута зурной и дудуки специально для него, Нико Пиросмани:
Махинджи вар,
Маграм шентвис гавкаргдеби,
Генацвале…
Мхолод шэн эрц Генацвале…
Пусть ангелы поют,
Как безобразен я.
Всю боль возьму твою
Себе, душа моя.
Печальные глаза,
Любимых губ кармин..
Как птица в небесах
Ты над плечом моим.
Я безобразен, да,
Но тёплый свет прольют
Пускай мои уста
Теперь на грудь твою.
Тебя покинет грусть,
Усталость и тоска.
И для меня ты, пусть,
Как прежде далека.
И ангелы поют,
Как безобразен я…
Всю боль возьму твою
Себе, душа моя…
Почти весь Тифлис уже знал о том, что случилось с Нико Пиросмани. Все были потрясены, жалели его, сошедшего с ума от той, что украла его сердце. Все, кроме двух бесшабашных кинто, которые, как обычно, дурачились, напевая под нос:
«Он чудак, она –шарман.
Не сложился их роман».
А один благородный карачохели, с убелёнными сединой волосами, терпеливый и умный, знающий праведную жизнь и оттого почитаемый не только в Сололаки, но и во всём городе, подсел к нему. Они в бездонно глубоком молчании выпили вина. После чего тот сказал:
– Что уши повесил, Никала? Не горюй! Нельзя тебе превращать печаль в своё ремесло… Накрой её чёрным сукном, и пусть унесут её воды Куры!
А потом, будучи простым кузнецом в жизни, но истинным поэтом в душе, как и все тифлисские карачохели, он продолжил свое напутствие стихами, наполненными силой истины и духом благодати:
Кто богаче, кто бедней.
Кто страшней, кто красивей.
Друг Никала, не сердись,
Лучше Богу поклонись!
Ты здоров, Нико, одет,
И живёшь вдали от бед.
Остальное – это жизнь!
Что Бог дал – за то держись.
Знал, знал этот мудрый старец, что только труд сделает из Нико настоящего Мастера, истинного художника.
– Святой Гиоргий тебе в помощь! – сказал он на прощанье. – Верь в него!
* * *
…Нико не помнил, как оказался в тот вечер в Ортачальских садах. Как искал тот духан, в котором обитала его Иамзэ. Он не навещал её почти полмесяца. В последнюю их встречу он оставил ей два рубля – этих денег хватило бы ей на пропитание и по сей день, даже если бы она не заработала и копейки…
Куда же делся тот духан? Неужели он проглядел его в темноте, прошёл мимо?
Наконец, вот он – перед ним! Стоит – как стоял. А над самым входом – картина, на которой он, Нико, изобразил «ортачальскую красавицу». Он с грустью осознал, что предприимчивый хозяин духана повесил её как вывеску. Теперь каждому понятно, что тут и девки имеются, для любви или компании, – «распивочно и на вынос».
Войдя, он огляделся по сторонам: духан был полон людей, все пьют, поют и веселятся. Но Иамзэ здесь нет. Он вышел во двор, обогнул ресторанчик с обратной стороны, где она, сдержанная и печальная, позировала ему в прошлый раз. Но двор тоже был пуст, только две бездомные худые собаки, трусливо поджав облезлые хвосты, смиренно ожидали объедков и костей после кутежа.
Вдруг, в проёме задней двери, показалась тонкая фигура женщины. Она принадлежала подруге Иамзэ, ещё молодой девушке Маро, которая, прижимая к груди тяжёлый доки с вином, обычно разносила его по столикам, наполняя чаши пьяных гостей. Он кликнул её, спросил, где найти Иамзэ. Та подошла, узнала его, и шёпотом поведала о том, что бедная её подруга заболела неизвестной хворью. Клиентов у неё уже совсем не было. Обслуживать гостей за столами ей не позволял хозяин, говорил: «чёрт, мол, знает, чем она больна?» Поначалу она, корчась от боли, и согнувшись в три погибели, мыла здесь грязную посуду, чтобы заработать на похлёбку. Потом слегла окончательно. А три дня назад уснула вечным сном, не проснувшись, как обычно, с криками горластых петухов на заднем дворе духана. В кармане у неё нашли два рубля, на то и схоронили в тот же день. Вернулись, выпили за упокой души по чаше вина, и каждый занялся своим делом. Где погребли? Где-то на Кукийском кладбище… Могилу её не ищи, всё равно не найдёшь! Нет там ни креста, ни камня, ни таблички какой!..
* * *
…Крепись, Никала!
Все знают, что лиха беда не ходит одна. Сама идёт – и другую ведёт…
* * *
…Где Ортачала – и где Кукия! Огромное расстояние! Но в кармане его нет ни гроша, чтобы нанять коляску. И он побрёл на Кукия пешком. Дошёл до обширного кладбища только глубокой ночью, нарвал здесь для Иамзэ фиалок с чужого захоронения, не забыв при этом попросить прощения у усопшего и пожелать ему Царствия Небесного. Стал искать свежую могилу при тусклом свете луны, споткнулся носком нового ботинка о мокрый камень и лихорадочно искал, за что бы ухватиться при падении. Упав, он сильно поранил колено о чью-то надгробную плиту, а пробираясь впотьмах, царапался о колючие ветки шиповника и острые металлические ограды.
Увы… дождь смыл все следы, беспощадно уничтожил все новые бугорки, сровнял их со старыми погребениями.
Лишь когда в дали замаячил рассвет, промокший до нитки и оставленный всеми, упал он в бессилии на сырую землю и обхватил руками свою несчастную голову. В ней зазвучали грустные нотки одной тоскливой песни, которую ему совсем недавно, всего полмесяца назад, тихо и нежно пропела девочка с воздушным шаром из увеселительных ортачальских садов. Его Иамзэ.
Я могилу милой искал,
Сердце мне томила тоска.
Сердцу без любви нелегко.
Где же ты, моя Сулико?
Глава 8. Духанный живописец
Уже третий день бродил он по городу с окаменевшей душой. Вновь и вновь мерил его усталыми шагами вдоль и поперёк, то спускаясь вниз, к реке, то упорно поднимаясь вверх нехожеными доселе тропами, карабкался по скалам Сололакского хребта. Но нигде не находил он своего места под солнцем. Одно было ему ясно – прежняя жизнь его кончилась, новая же пока не началась.
Да и начнётся ли? Одному Богу это известно.
Временами он останавливался лишь с целью уткнуться взглядом в одну точку на горизонте, где случайно показалась маленькая тучка, и куда он готов был направиться в следующую минуту, словно за ней скрывалось то действенное целебное снадобье, что успокоило бы его, унылого неудачника, помогло бы высвободиться из плена обманчивых иллюзий и глупых мечтаний.
А ведь ещё совсем недавно ему казалось, что скоро он получит то, чего ждал так долго. Ощущение счастья было таким близким, а всё остальное, что происходило вокруг, делалось рядом с ним не имеющим значения, тусклым и ничтожным. Но ощущение это оказалось напрасной иллюзией, а мечты и чаяния – просто глупыми фантазиями. Всё это рухнуло в одночасье, как замок на песке, растаяло как мираж в раскалённом воздухе, а жизнь приняла печальные очертания холодной пустыни. А он, он-то искренне верил, что обладает безграничным разнообразием богатства возможностей, чтобы строить мечты, а потом воплощать их в жизнь.
Увы, от всего этого ничего кроме вреда!
Потому что ему, в его возрасте, нельзя питать пустые надежды на лучшее!
Его время ушло безвозвратно, оно никого не ждёт! Кануло в далёкое прошлое и осталось там, в глухой безвестности. И теперь уже всё равно, что преподнесут ему своенравные небеса, не терпящие чьей-либо воли над собой. Он, с покорностью агнца, примет очередной удар судьбы, любое, хоть самое жестокое, злосчастие на свою голову!
Даже смерть он готов принять молча.
Каждый ведь умирает когда-нибудь – рано или поздно – в собственной постели или под ступенями грязной лестницы. Человеку не дано знать, в каком последнем приюте приуготовлено для него вечное ложе покоя. И уйдёт он один. Все ведь уходят в одиночку, непременно в одиночку. Так и он – уйдёт в неизвестность, разделив участь всех прочих наивных простаков, которые, как и он, гонялись за миражами всю свою жизнь, пока не пришёл их последний час.
Он закрыл глаза и замер, изнемогший и обессиленный от голода, бесцельного дневного блужданья и бессонных томительных ночей под первой же парадной лестницей какого-нибудь дома…
Никто в Тифлисе больше не видел его смеющимся, никто не слыхал от него шутки. А тем немногим горожанам, кому не довелось услышать о несчастной истории любви Нико Пиросмани, со стороны было удивительно видеть человека, одетого в заморский костюм из дорогого крепа – чёрного и двубортного, модно приталенного по фигуре, с высоким воротником и широкими лацканами, да с укороченными рукавами, чтобы манжеты ещё недавно белой рубашки выступали из-под рукава.
Что он делает здесь? Под пеклом полуденного солнца, когда все приличные горожане ищут спасительной тени? Лакированные его ботинки более не скрипят от новизны, а безропотно принимают на себя удары неровных булыжников разной величины, смиренно служа своему патрону и медленно покрываясь сероватой мучнистой пылью. А он, этот странный господин, и не замечает, что шнурок его правого ботинка давно развязался и сиротливо болтается в дорожной грязи. Не чувствует он потёртостей и кровавого волдыря на пятке. Не поёт, не смеётся, не кричит и не плачет он, ещё не старый, но на вид – почти старик, бледный, небритый, больной, оборванный. Ходит себе средь бела дня по улочкам Тифлиса, отсвечивая слабой тенью своего угловатого силуэта, как серый призрак прошлого величия, ещё живой при уже давно умершем хозяине, жизнь которого поглотило страшное несчастье.
Ближе к вечеру он подыскивал себе бесплатный кров, и находил его там, где придётся. Парки, скверы, берег Куры, подъезды и подвалы домов на постепенно пустеющих улицах, в сумерках уходящего тёплого дня, открывали ему свои объятия, давая временное пристанище, иногда – неприветливое, но чаще – вполне сносное, где он, после долгого мытарства обустраивая неприхотливый ночлег, должен был испытывать истинное блаженство.
Но облегчение не приходило. Бывало, забившись в какой-нибудь угол тёмного каменного подвала, он начинал бредить и порой терял сознание.
– Конченый я человек! – твердил он самому себе в полумраке. И задавался вопросом:
– Неужели всё, что мне осталось, это одни страдания?
Но ответом ему была тишина, уютно поселившая среди старых матрасов, поломанных керосиновых ламп, ненужного тряпья, каких-то пустых банок и толстого слоя пыли.
Но даже покой не бывает вечным!
Вот и сейчас безмятежное затишье нарушила назойливая муха, которую он стал отгонять, а она продолжала кружиться над ним и гудеть, то и дело садилась на его волосы, лоб и руки. И его уши стали глохнуть от этих звуков.
В углу подвала – липкая паутина клочьями свисает с балки низкого потолка. Он видит, что гадкая муха влетает в неё, бессознательно попав в самую середину ловушки. И тщетно пытается выбраться из плена, шевеля лапками, громко гудит и жужжит крыльями от отчаяния, всё сильнее и сильнее путаясь в ажурной сети, а по её нитям, натянутым как корабельные канаты, уже ползёт мерзкий паук. Крепко схватив парализованную жертву мохнатыми лапами, он начинает свой чудовищный пир. Немного спустя муха перестала жужжать, и стало так тихо, как бывает только там, где лежит мертвец.
Всё было немо, холодно и бездушно.
– Неужели единственное, что мне осталось, это страдание? – повторил он вопрос и посмотрел по сторонам. – У кого спросить? Кто знает ответ?
Ответить могут только друзья. Но где они? Куда все уходят из его жизни? Впрочем, и сам он не стремится к ним, породнившись с уединением – сторонится сытых, избегает удачливых. Всё равно ведь не поймут! Не сумеют…
А кто бы сумел?
Элизабед? Добрая, милая, мудрая Элизабед! Она понимала его с полуслова, понимала даже тогда, когда он и вовсе ничего не говорил. Но к ней он не обратится за советом. Не может быть дружбы на пепелище, оставшемся от костра любви!
Иамзе? Девочка с шаром, похожая на Солнышко и имевшая весёлый, звонкий голосок? Да, и она могла бы поддержать его добрым словом. Но её нет. Бедняжка, она так внезапно покинула его! Мир её праху!
Неужели и его черёд настал?
Молчаливо и одиноко прошел он свой путь от начала и до конца… Превратился теперь в одряхлевшего старика, которому суждено последние дни своей жизни бродить по улицам, побираясь.
Горе сдавило обручем сердце, превратившееся в одну большую печаль. Отчаяние подступило к горлу, закипело, заклокотало в груди и наконец хлынуло слезами из глаз.
«Даже в час смерти я не буду оплакан никем», – пришло ему в голову.
А ведь нет ничего проще, чем вот так взять и умереть. На ум почему-то пришли слова великого Шота Руставели: «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор».
Да, поэт был прав! Теперь ему осталось лишь одно – найти верёвку и все счёты с жестокой жизнью будут сведены.
Конец страданиям! Да здравствует вечный покой!
Он стал пристально смотреть по сторонам, силясь разглядеть что-либо в полумраке. Вот так всегда – когда что-то нужно, хоть умри – никогда этого не найдёшь!
И вдруг взгляд его упал на земляной пол, откуда, из-под разной рухляди, ненужного хлама и ветоши, торчал шнурок. Он ухватился за него и потянул на себя. Шнурок оказался старой бельевой веревкой, довольно длинной и прочной, вовсе не изветшалой беспощадным временем.
Не порвётся, выдержит!
Главное сделано. Остался сущий пустяк – один конец закрепить за балкой на потолке, вот ведь она, расположилась не высоко – только ногами встать на старую керосинку, всю в копоти, на ней, наверное, когда-то варили вкусную чихиртму, – и руку вверх протянуть. Из другого конца связать верёвочное кольцо и накинуть на шею.
Он поставил одну ногу на отслужившую свой век керосинку – для второй его ноги на ней не хватало места – и закинул верёвку за балку…
Вот и всё!
* * *
…Ему показалось, что его кто-то зовёт и при этом толкает в бок…
– Никала…
Он помнил свой крик. Помнил, как куда-то летел. И больше ничего. А сейчас, прислушавшись, он сообразил, что действительно слышит голос. И зов этот, такой мягкий и знакомый, мгновенно вывел его из оцепенения:
– Очнись, Никала, бичо!
С трудом подняв веки, он увидел склонившуюся над ним женщину.
– Слава Богу, пришёл в себя! – молвила она.
Её затуманенные глаза были широко распахнуты, губы сжаты, а кожа была бледной, как полотно, и мерцала в тусклом свете луны, проникающем в подвал через маленькое застеклённое отверстие вверху стены, у самого потолка, выходящее на тротуар.
Он вскрикнул так, как будто увидел привидение! Хотя он знал, что в настоящей жизни не бывает привидений и оживших покойников. Но то, что он увидел, казалось совершенно невероятным.
Перед ним была Иамзэ!
Он, отказываясь верить своим глазам, протёр их в изумлении и посмотрел ещё раз – всё осталось прежним и женщина оставалась там же, более того, сейчас она обрела чёткий контур. Знакомые волосы, чёрные и такие же роскошные, как в жизни, пышный бюст, белая накидка. Теперь он мог убедиться, что это никто иной, как она! Да-да, она! Та самая Иамзэ из ортачальских садов, девочка с воздушным шаром из его кахетинского детства!
– Ты? – шёпотом спросил он, неотрывно глядя на неё и пытаясь сообразить, как такое может произойти.
– Да, Никала. Это я. – услышал он в ответ и удивился тому, что, оказывается, у мёртвых сохраняется всё тот же голос, каким он был при жизни человека, с той лишь разницей, что к нему добавляется некоторый отголосок, как если бы всё это происходило в глубокой пещере.
Она прикоснулась к его виску, вытирая капли крови на свежей ссадине. И он вздрогнул от этого касания, не от боли, а от того, что не почувствовал его, таким оно было лёгким, почти воздушным. Однако он уловил холод. От ужасающе холодной – руки мертвеца!
– Но ведь ты… мне сказали… что тебя больше нет?
– Да, – хладнокровно произнесла она. – Меня нет…
– Выходит, и я умер… – возникло у него в мыслях. – Значит, у него получилось…
А вслух он произнёс:
– Где я, Иамзэ? В аду или раю?
– Тебе ещё не время туда, Никала. Ты жив! А вот я и в самом деле умерла. Но всегда жива перед Господом. У Него ведь все живы… – она взволновалась, отчего её бледные щёки зарумянились, а губы запылали… – Ты помнишь, сегодня ведь сороковой день с моей кончины?
– Сороковой день… – повторил он шёпотом, не сводя с неё глаз и ещё ничего не понимая. – Но что ты здесь делаешь, если отправилась на тот свет?
– Всё это время, Никала, я странствовала между этим и тем мирами. На третий день после смерти душа моя предстала перед Господом и ангелы небесные показывали мне райские обители. Забыла я на время о скорби, помнила лишь, что виновата в грехах, и корила себя за то, что не так прожила жизнь, что провела её в беспечности, а не послужила Богу. На девятый день ангелы привели мою душу на поклонение Господу. Я с трепетом стояла перед Ним, но никто на земле не молился, не просил Милосердного Судью помиловать мою грешную душу. После поклонения меня отвели в ад, где показывали мучения нераскаявшихся грешников. Я носилась по тем местам тридцать дней, опасаясь, чтобы и самой не быть осужденной на заключение в них. А сегодня отпустили меня на землю, чтобы могла я проститься с родными людьми. А из родных то у меня только ты, Никала, да две подруги – Кекела и Маро. Вот прощусь с вами, вознесусь на поклонение, а Он и решит на Страшном суде, куда определить мою душу – в райские ли кущи или в самую бездну, где буду обречена на вечные муки в аду?
Оцепенев, Нико молчал, слушая гулкие удары собственного сердца. А она глядела, как он покрывается краской, затем договорила уже другим тоном:
– Ты помоги мне, брат, помолись! Я ведь не могу этого сделать за себя, это удел земных.
– Я не умею молиться, Иамзэ… – молвил он с прискорбием. – Я бы рад, но не знаю, что говорить…
– Повторяй за мной, брат: «Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей Иамзэ, и прости ей вся согрешения вольные и невольные, и даруй ей Царствие Небесное»…
Трижды, слово в слово, повторил он святые слова, воссылая молитву Богу, и стены сумрачного подвала гулко вторили сакральным звукам. Закончив, в тот же миг он почувствовал, как легко, чисто и радостно стало на душе.
– Благодарствую, брат! – произнесла она. – Господь да услышит твою молитву. Он милостив…
А ты, я вижу, удавиться вздумал, Никала? Руставели вот вспомнил: «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор». Думаешь, славу приобретёшь или бессмертие, если повесишься, как христопродавец Иуда, на осине? Не ведал ты, что грех это великий перед самим собой? Какую славу захотел? Великомученика… за несчастную любовь?
Видела я, как проклинал ты жизнь и небо, как бился головой о стену, как просил и молил, надеясь, что в этом твоём унижении увидит она, французская актриса, величие твоей души! Не увидит! Она далеко за морями. Опять поёт и дрыгает ногами, как ни в чём не бывало, только на другой сцене, перед другими людьми. Очаровывает их – пленит – сводит с ума – и бросает!
А ты? Сидел и плакал, как баба. Фу! Стыдно мне за тебя, брат. Хорошо, вовремя керосинку успела выдернуть из под ног, пока ты петлю на шее не затянул! Посмотри – на кого ты стал похож? Исхудал до неузнаваемости, лоб разбит, а костюм весь в грязи и пыли. Тебе не жалеть себя надо, а жить дальше! Жить как все. Ещё сильны твои руки, ещё остро зрение и верен глаз. Придётся трудиться в поте лица целый день, чтобы заработать гривенник. Будешь есть чёрствый хлеб, спать где придется, хоть под лестницей или в подвале, как сейчас…
– Как трудиться, сестра? Что я умею делать? – пожал Нико плечами. – Ничего ведь не умею… Торговать так и не научился. Претит мне это. Да и кандалов на себя надеть не могу. Не могу заниматься и ничтожными тёмными делами, удачным и неудачным обманом.
– Да, для всего этого ты слишком чистосердечен и горд… – она покачала головой.
– Не умею, как весёлый и наглый кинто на Мейдане, делать деньги «из воздуха», из анекдота, из неприличной шутки, из «ишачьего крика».
– Но ты умеешь рисовать, Никала!
БЕРИ КИСТЬ И РИСУЙ!
Если надо, рисуй вывески на духанах. Не нужны вывески – пиши объявления! И это будет не нужно – стены крась как простой маляр! Сам же мне рассказывал в Ортачальских садах, что было тебе в детстве видение? Не помнишь разве? Сам Святой Гиоргий на могучем серебряном коне явился твоему взору. Явился и сказал:
«Быть тебе большим художником, сынок. Но путь твой будет тернист. Не головой будешь жить, а сердцем. Так все грузины должны жить, чтобы Бога вмещать. А в голове… в ней живут одни лишь сомненья… Ты будешь жить, чтобы служить добру, любви и красоте. И примешь муки за это. Но смотри, не дрогни, не уклоняйся от своей судьбы. Так ты достигнешь бессмертия и утвердишься в Царстве Небесном.
А картины… картины, которые ты будешь продавать за гроши, когда-нибудь станут бесценны. Но это не важно. Главное, будь хорошим человеком – всё, что делаешь, делай по совести. Не забывай, всё временно, всё бренно. Будешь земным – в прах превратишься, а будешь жить для вечности – тогда станешь как тот гордый орёл, что высоко летает над земной суетой…
И помни имя своё. Ты – Нико Пиросмани. Ты избранный…»
* * *
…В подвал, где царил полумрак, неожиданно заглянул одинокий лучик солнца. Пробился сквозь застеклённое окошко вверху стены, озаряя прямоугольные трапеции суетливо порхающих пылинок. И утро заиграло беззвучную увертюру ясного, почти беспечного дня.
Иамзэ несколько секунд постояла под ласкающим лицо солнечным лучом, а потом вспомнила, что торопится.
– Мне пора, брат мой Никала. Я ухожу навсегда. Будь здоров, не взыщи и прощай! – на её губах появилась улыбка, а за плечами засияли очертания огромных белых крыльев.
Через мгновение её образ растаял, растворился с восходом солнца в ярком белом свете, исчез с лица земли, словно его тут никогда и не было. Навсегда ушло всё, чем он дорожил. Но осталось сильное ощущение чего-то безгранично светлого и радостного…
* * *
Да, он любил живопись, и только живопись. С того самого момента, когда он впервые стал рисовать, он раздаривал свои картины и бывал необыкновенно счастлив, когда их охотно брали и вешали на стену. Вот и в большом доме Калантаровых все стены комнат украшали его картины, висели даже в «святая-святых», гостиной с камином, где часто собирались деловые люди, банкиры, князья и купцы первой гильдии.
Стал он бродить по Тифлису, в котором особенно любил верхнюю часть старого города. Ходил там по кривым улочкам и извилистым запутанным переулкам, которые, казалось, уходили вверх, за облака, в бескрайнее синее небо, а солнце, если и заглядывало сюда, то долго потом плутало, чтобы найти выход. И дворики здесь были типично тифлисскими, маленькие и большие – все на один лад, с коврами на перилах резных балконов, с «крантом» посреди двора. А за стенами – живут разговоры, беседы с Богом, слова о гордости, чести и верности, смех и стоны, шёпот и крик, шелест поцелуев, мечты и предсмертные вздохи.
Он радовался, если его окликали.
Вот и сейчас он кому-то понадобился:
– Эй, Никала! Поднимись, стены покрасить надо, облупились совсем. – пожилая женщина с грустными глазами машет ему рукой из окна и зовёт слабым голосом.
Зашёл в дом, снял шляпу и тихо поздоровался. Огляделся по сторонам. Здесь чисто и уютно, если бы не потолок и стены – тусклые, желтовато-серые, плохо крашенные.
– Одна я. – словно оправдывается старуха. – Муж вот уже пятый год как умер, болел он. А сын в Екатеринодаре работает, не думает приезжать, совсем старую мать позабыл. Только деньги присылает аккуратно, думает, деньги могут заменить мне сына. Вот и приходится к чужим людям обращаться за помощью.
– Когда в последний раз здесь красили стены, матушка?
– Я и не помню, сынок. Лет тридцать назад будет, молодые мы были тогда, счастливые.
– Я думаю, что сначала надо бы побелить потолок, а потом стены…
Трудился он без отдыха: твёрдой рукой заделывал дыры в стенах и потолке, штукатурил, красил, починял…
Он был голоден, и оттого ослабел.
– Отдохни, Никала. Устал ты. – говорила заботливая женщина. – Дай-ка я покормлю тебя, сынок. Вкусное лобио у меня есть, джонджоли, гоми с сыром – пальчики оближешь…
Когда к вечеру он закончил работать, женщина протянула ему рубль:
– Спасибо тебе, Никала! Добрый ты человек.
А он вежливо отстранил её руку, отказался от щедрого вознаграждения:
– Не нужны мне твои деньги, матушка. Лучше позволь мне переночевать тут, где-нибудь.
– Конечно, сынок. Места здесь много. Оставайся до утра.
Утром он спустился вниз, на Мейдан. Здесь околачивалось человек двадцать пять – тридцать мастеровых, кто с мешком стоит за спиной, кто на корточках сидит – все застыли в тягостном ожидании, что подъедет вот на коляске приказчик какого-нибудь купца, работу предложит в доме или по хозяйству – починить, покрасить, дымоход прочистить или кровлю сменить. А они, завидев Нико издалека, этого высокого, странного мужчину с грустью на лице, говорили про него друг другу:
– Смотри, а вот и граф наш идёт.
– Почему граф? Ведь он бедный?
– Да, сегодня он бедный. И готов на любую работу. А вчера был богатый!! Не видишь разве, как он одет? Не так, как положено одеваться мастеровым, а в костюм! Настоящий граф!
Да, его костюм «времён шумного успеха» действительно можно было назвать «русским» или «европейским», но ровно до того дня, пока он окончательно не замусолился и истёрся до дыр от его скитальческой жизни и, говоря начистоту, был давно уже годен разве что только для утиля. Да и сидел он на сильно исхудавшем хозяине как тяжёлая ноша, взваленная на хрупкие плечи.
Утром Нико шёл мимо этих мастеровых, и видел, что они ждали появления «дела», чтобы, выручив гривенник под конец дня, с грехом пополам накормить детей. И сейчас, ближе к вечеру – идя обратно, видит он, что они опять сидят и терпеливо ждут своей удачи. Эх, нет работы, выходит. Неудачный день выдался. Зря он пришёл сюда. Говорят, народ вон бунтует от жизни несладкой: грузчики бастуют, извозчики. И он поспешил убраться восвояси, потому что не будет он у этих честных людей работу отнимать. А то ведь приказчик может приехать, и на него пальцем указать. А он этим мастеровым и в подмётки не годится. Лучше поищет завтра чего-нибудь в переулке у кустарей или башмачников.
На другой день, взяв с собой кисти и ведро, свернул он в сумрачные и узкие переулки старого города, заглядывал там в лавочки цветочника, булочника и ателье портного, в мастерские горшечников, плотников, кузнецов и одного серебряных дел мастера.
– Эй, граф! – кричали ему мастеровые-карачохели, узнавая его и приглашая разделить с ними по-братски небогатую трапезу. – Иди выпей с нами по стаканчику! Есть хорошее вино, горячий лаваш, немного сыра и свежий цицмат. Посмотри, какой запах!
И он подходил к ремесленникам со словами «Мир вашему дому», заводил с ними недолгие разговоры и сообщал, что готов к любой работе.
Здесь внизу, рядом с мастерской хромого кузнеца, что славился на весь убан тем, что рука, мол, у него была стопудовая, мог убить одним пальцем, находился подвал. И немногим было известно, что в нём, почти совсем под землёй, в убогой тёмной каморке, жил старый сапожник по имени Шио с больной женой. Были у него когда-то золотые руки. С двенадцати лет сам шил он и сапоги, и ботинки. А с годами постарел, глаза его потеряли свою ясность. Сидит себе, сгорбившись, как старый дед, и тачает какой-нибудь разбитый мужицкий сапог, а жена его копошится около него, подсобляет чем может, и тихонько мурлыкает какую-нибудь песню. И трудом праведным поддерживают они с бедой пополам свою несладкую жизнь.
Заслышав разговоры на улочке, сапожник высунул голову, белую от седины, и, в надежде встретить нового покупателя, стал поспешно выбираться из-за прилавка на свет Божий. Заслезились его полуслепые, отвыкшие от дневного света, глаза.
– Кто здесь? – спросил он, поднимаясь вверх по ступеням. – Сапоги, башмаки нужны?
– Здравствуй, отец! Это я, Никала Пиросмани.
– А, граф наш пришёл! – закряхтел тот. – Давно тебя не видно. Где пропадал, сынок, где тебя ноги носили?
– Да вот хожу себе, работу ищу. Написать-нарисовать могу что угодно.
– Кисти–краски есть?
– Есть, – ответил тот. – А что тебе. отец?
– Вывеску надо сделать, Никала. Давно уже пора. А то ходит здесь люд разный, туда-сюда. Раньше, когда помоложе был, всех на лицо знал, и меня все знали. Большим людям сапоги тачал – лаковые, высокие, блестящие. Сыну князя Дадиани такие ботинки сшил, что ни у кого в городе не было – красные сафьяновые с золотыми подковками. Его мать, когда увидела, в обморок упала… – Нико молчал, давая старику возможность выговориться.
– Эх, Никала, давно это было… А сейчас в Тифлисе много люду всякого появилось. И никто не знает, что старый Шио сидит тут, как крот под землёй, возится, молотком стучит, гвозди забивает. Свет моей лампады с улицы никто не видит. Да-а-а, жизнь идёт – нас не ждёт! Старость так незаметно пришла. Силы уже не те, пару сапог шью почти четыре дня, а раньше – день. Если уставал, поднимался на воздух, садился здесь у порога и всякий раз, когда кто-нибудь был обут в мои башмаки, любовался своей работой, с гордостью говорил: «Смотрите, добрые люди, вы знаете, кто это сделал? Это я сделал! Вот этими руками!».
– Я сделаю тебе вывеску, отец! Разговорами дело с места не сдвинешь. Скажи только, что написать…
– Что хочешь пиши… сынок, главное, чтобы люди прочитали и поняли, что сапожник здесь трудится. А то видят подвал, спускаются по ступеням вниз нужду справить… Погоди, попадутся они мне, шкуру с них спущу… – Когда начнёшь?
– Да хоть сейчас!
– Да благословит Бог начатое тобой дело, сынок!
Кряхтение и вздохи старика продолжались четверть часа, ровно столько, сколько понадобилось Нико, чтобы расписать вывеску. Она гласила:
«Бедны Шио
в подвале жиот
сапоги и калоши шиот».
– Молодец, сынок! Ай да спасибо! Подожди здесь… – он отодвинул полог и исчез в сумраке своей каморки. И вскоре появился оттуда с парой хороших, крепких ботинок в руках.
– Деньгами не богат я, Никала, но расплачусь с тобой этим. Это не какой-нибудь халам-балам. Это – Вещь! – старик, называя ботинки «вещью», имел в виду, что они будут крайне полезным, поистине бесценным приобретением для Нико. Сейчас он горделиво поднял их на уровень собственных глаз и рассматривает со всех сторон, любуясь искусным мастерством. – Прими от меня! От чистого сердца даю. Носи на здоровье! Почти новые и тебе как раз будут. На сто лет хватит, без ремонта! А то твои так стоптались, что уже скоро пасть разевать начнут, воду в неё набирать. И подмётки вот уже отрываются. Видно, сильного они горя хлебнули, что даже починить их не получится… Работу, говоришь, ищешь? Ты вот что, Никала, ты сейчас сверни направо, дойди до середины улицы. Увидишь там трактир и много духанов. Хозяева хотят их расписать и разукрасить. Бог тебе в помощь! Цади, генацвале. Маград икави!
– Спасибо, отец! Сто лет жизни тебе!
– Не важно, сколько проживёшь, сынок. Важно – как? И каким словом тебя вспомнят. Дай Бог, чтобы добрым. Доброе слово за усопшего – оно как молитва Богу за упокой его.
Нико шагал неторопливо, не забывая вежливо уступать дорогу прохожим, и разглядывал старые выцветшие вывески на всяких лавках и питейных заведениях. И озирался по сторонам, боясь услышать что-то типа: «Эй, ты, не задерживайся, проходи. Лавку не загораживай! Не стеклянный – через тебя не видно!».
– Никала! – услышал он и, обернувшись, увидел, как кто-то голосисто кричит и машет ему рукой. – Иди, иди сюда, работа для тебя есть. Видишь мой дворец?
– Какой дворец? – подойдя, спросил Нико, не понимая шутки.
– Ты что, думаешь, это духан? Ошибаешься, генацвале, настоящий дворец! Только вывеску обновить осталось. Совсем почернела от времени и солнца, заржавела от дождей. Замажь её и напиши на ней новую вывеску, чтобы издалека видна была, новых клиентов привлекала…
Еле разобрал буквы, прочитал: «Вино, пиво, разные закусаки». И круг колбасы нарисован! Что такое «закусаки»? Закуски что-ли? Глупая вывеска!
Закрасил он её и стал рисовать всё, что приходило в голову: кувшины с вином, спелые тыквы, оранжевые мандарины, янтарные гроздья винограда, богатые натюрморты из шашлыков, помидоров, баклажанов, сыра и рыбы «локо» в уксусном соусе «киндзмари».
На вывесках других духанов писал он грузинское хлебосольство: многолюдные кутежи на траве, за узкими скатертями. То, что он изображал, уже не называлось странным словом «натюрморт», что, как ему объяснили люди знающие, означало «мёртвую природу» и очень его коробило. Теперь на его работах всё чаще и чаще стали появляться люди, пейзаж и животные, в основном – нагруженные большими хурджинами ослики и шерстистые барашки.
– Молодец, Никала. Хорошую вывеску нарисовал. – хвалил его духанщик. – Теперь надо и название поменять. Чтобы весело было, не как у всех. И Пиросмани, усмехаясь, выводил что-нибудь замысловатое, вроде: «Шашлыки по-электрически» или «Одному не надо пить».
Когда приходило время расплатиться за его искусство, денег ему, как правило, не давали, зажимали копейку.
– Я тебя так не отпущу. Мы ещё выпить должны, бичо.
– Сегодня не хочется пить, генацвале, – отвечал Нико, – мне бы поспать где-нибудь.
– Как это так – не хочется пить? – не понимал духанщик. – Кацо, настоящий мастер должен пить. Ты покушай давай и выпей вина. Такой мадчари у меня – лёгкий, как сон красавицы, но потом – с ног валит. Заснёшь, как убитый. Зато тот, кто его выпьет – ни в огне не сгорит, ни в воде не утонет! Там, за кухней, у меня чулан есть, с тахтой. Поспишь, а завтра с утра стены духана разукрасишь.
И Нико пил, не хотел он спорить и хорошего человека обижать.
Материала у Пиросмани не было, и он начал писать на том единственном, что находилось всегда под рукой в каждом, даже самом бедном духане, – на простой клеёнке, снятой со столика. В ходу были клеёнки чёрные и белые. Пиросмани брал ту, что попадалась под руку, и писал, оставляя там, где это было нужно, незакрашенные куски клеёнки.
«Графа» любили. «Добрый он человек», говорили про него, «мухи не обидит. За тарелку харчо напишет на чёрной стене винного погреба историческую картину: Гиоргий Саакадзе целует стяг перед боем, священный стяг кизилового цвета!». Люди охотно ходили смотреть такое, другим рассказывали. Чем больше покупателей – тем щедрее хозяин. Да и за картинами этими пятен жирных на стене уже не видно. Чем не дворец? Красота!
На следующий день создал он другое свое творение. Назвал его «Марани в лесу». Марани – огромный сосуд с вином – изображён в центре. Слева и справа две фигурки, сзади домик, вокруг деревья.
Потом, для другого духана, написал натюрморт на жести, внизу приписал по-русски надпись: «Да здрастуите хеба солнаго человека», не заботясь об орфографии. На чёрном фоне в центре изобразил кувшин, слева и справа – бутылки вина, бурдюк, рог с вином, стаканы на подносе, два шашлыка на шампурах, рыбки на блюде, жареная курица.
– Видишь, Никала, как хорошо, с моей лёгкой руки, дела твои пошли! – говорил ему духанщик. Все теперь хотят иметь твои картины и вывески. Ты только, брат, на правый берег Куры не ходи! Там свой художник работает, Карапет зовут, Григорянц, кажется, по фамилии. Один духан «Симпатия» чего стоит! Зайдёшь – голову потеряешь! Сам Чайковский туда ходил… ты Чайковского знаешь? Да, «Лебединое озеро». Вот он то работами этого Карапета восторгался! Ай тебе крест!
Эти слова лишили Нико покоя. Не терпелось ему взглянуть на работы хвалёного живописца Карапета. И однажды он пересчитал заработанные деньги – ведь каждую копейку он складывал в мешочек, берёг для одной заветной цели… В нём насчитал он 12 рублей и 40 копеек. Целое «состояние». На эти деньги можно было жить целый месяц, а то и дольше. Можно было приобрести десять пудов пшеницы, или 34 петуха, или 60 фунтов мяса или сыра. Но не станет он покупать птицу, не нужны ему горы красной говядины и пирамиды молочного сыра. Завтра идёт он в духан «Симпатия», что на Эриванской площади, смотреть на «искусство» Карапета.
* * *
Этот духан был одним из любимых местечек у горожан. Здесь в основном собирался европейский Тифлис, интеллигенция и люди творчества: музыканты и певцы, художники и поэты, литературная и театральная богема. И стекались они сюда не только с целью весело провести время, хотя и этого хватало, поскольку здешние ароматные шашлыки дразнили аппетит, и рекой текло вино. В его стенах можно было отвести душу за тихой беседой, всласть повеселиться, и укрыться от забот и тягот судьбы. Здесь посетители преображались, чувствовали себя щедрыми благодетелями, одаривающими радостью и добрым словом. В «Симпатию» приходили ещё и по причине её уникальности – на стенах этого духана тифлисский художник Карапет написал тридцать два портрета великих людей по числу столов в этом заведении: Цезарь и Наполеон, Колумб и Коперник, Шекспир, Толстой, Руставели… Над каждым столом висела своя знаменитость…
Нико с нескрываемым удивлением рассматривал портреты художника, такие оригинальные и трогательные. В них было столько доброты и света! А потом смиренно занял место за небольшим столиком и, в задумчивости, заказал порцию шашлыка и кувшин кахетинского вина. За особую плату главный буфетчик согласился никого к нему не подсаживать. В ожидании Нико успел заметить, как тот вдруг отчего-то засуетился за стойкой, быстро подправил рукой свой чёрный, вьющийся чуб и, споткнувшись, с распростёртыми объятиями бросился к входу.
Нико повернул голову. В духан вошёл высокий мужчина средних лет. За соседним столиком зашептали, узнав его: «Это он… Смотрите, смотрите… сам Карапет пришёл…»
Да, вошедший был автором этих стенных росписей. Видимо, время от времени ему хотелось побыть рядом со своими героями.
– Пачот и уважени, Карапет-джан! – поклонился ему буфетчик, усадил художника под портретом Руставели, и взглядом приказал помощнику не отходить от него ни на шаг, выполнять все его пожелания. Сам же направился в кухню, чтобы отдать распоряжение повару:
– Карапет здесь. Как всегда, с Руставели сидит… Форель зажарь. На троих! Еще двое скоро подойдут – Азира и Иетим Гурджи. Всё сделай, как надо! Горячий шоти не забудь! Вино я сам поднесу…
Славный художник Карапет когда-то брал уроки живописи у немецкого живописца Голфинга, очень скоро стал делать успехи, и, завоевав признание, открыл собственную живописную мастерскую на Абас-Абадской площади, у самой Мугнинской церкви. Помимо живописи, этот одарённый талантами человек был драматургом – написал пьесу «Братоубийца», которая с небывалым успехом шла в театре Араксяна на Авлабаре. Написал 12 книг, в том числе «Источник мудрости» и «Небылицы старого Тифлиса». И даже перевёл на армянский язык «Витязя в тигровой шкуре».
* * *
Действительно, сегодня в «Симпатии» ждали и друзей Карапета Григорянца – ашугов Азира и Иетима Гурджи. И Азир, и Иетим считались последователями великого Саят-Новы, и умели с поразительной интуицией воспринимать и передавать переживания и стремления современного им общества, сам дух эпохи.
Азира был устабашем амкари ашугов и в этой должности принес много добра людям – прежде всего слепцам. Он обучал их пению и игре на дайре (бубне) и кяманче, и тем самым спасал их от голода и нищеты. А между занятиями не уставал он повторять им, что ашуга отличает самоотверженность и любовь к земле, которая его приютила, её должен ашуг родиной своей считать. «Какой из писателей, – спрашивал он учеников, – какой из проповедников мог внушить народу то, что мы внушаем нашей сладкозвучной игрой и пением?». А еще напоминал, что в старину ашуги непременно шли впереди грузинского войска и песнями вселяли мужество в души воинов.
Тбилисцы любили ашугов, любили их утренние серенады – сари. И пели они, право, один другого лучше… В городах и сёлах, в духанах и лавках карачохели, на народных играх и храмовых праздниках – везде ашуги… Приезжали они отовсюду: певцы и сказители, мастера стиха и творцы эпоса, приходили показать свое искусство, соревновались друг с другом, иной тост их звучал как поэма… А на свадьбах ашуги пели песни подвенечные. Саму царицу Тамар веселили на её свадьбе!
…Спустя час на подмостках «Симпатии» был устроен настоящий спектакль. Оба ашуга – Азира и Иетим Гурджи – первый с дайрой и кяманче, второй – с пандури развлекали утончённую публику. Завязалась игра в вопросы и ответы:
Азира: «Что свисает с небес до земли самой? Кто быстрее всех успокаивается? Что переходит из рук в руки?»
Иетим Гурджи: «С небес до земли дождь свисает. Быстрее всех ребенок успокаивается. Из рук в руки деньги переходят».
Азира: «Что и в воде остается сухим? Что и в земле не грязнится? Как зовут птичку, что вечно одна живет в гнезде?»
Иетим Гурджи: «В воде и свет не мокнет. Благородный камень и в земле чист. Сердцем зовут ту птичку, что вечно одна живет в гнезде»…
А потом начались состязания в песнях. Дайра была любимым музыкальным инструментом Азира. Играя, он вкладывал в ее ритмы всю свою душу:
Если в путь тебя увлек
Жребий твой – строптивый конь,
Дедовского очага
Вспомни ласковый огонь.
Если, жаждою палим,
Ты к чужой реке приник,
Благодарно помяни
И своей земли родник.
Конь летит во весь опор,
Только пыль из-под копыт.
Помни, как в родном дому
Пахнет дым и дверь скрипит.
Как младенцем в первый раз
Перелез через порог,
Не забудь – а то и жизнь
Не пойдет бродяге впрок.
Нико был опьянён сладостными и певучими стихами Азира. Но вот зазвучало стихотворение Иетима Гурджи:
Человек, люби равно
И грузина, и еврея,
Ибо мы живем, старея,
И на всех на вас на грешных
Смерть глядит давным-давно
Парой глаз кромешных,
Человек, люби равно
Армянина, осетина.
Если бы любить друг друга
И беречь мы не могли —
Верь пророку Иетиму —
Нас бы сбрило, как щетину,
Опалило, как щетину,
Прочь с лица земли!
А после – вновь стихи Азира. Нико показалось, что на этот раз они были резки и горьки:
Последний грош я свой отдал
Слепому, выходя из храма.
«Жадюга!» – вдруг он мне сказал
И глянул злобно так и прямо…
Увы, Азир, таков весь свет,
О том печалюсь я и плачу,
И зрячий тот слепец впридачу
Еще и плюнул мне вослед.
Пора привыкнуть, Азира,
Что делать, уж судьба такая,
Всё бормочу: «Пора, пора»,
А ни к чему не привыкаю.
Как дружеский тяжёл поклёп!
Твои слова переинача,
И причитая, и судача,
Тебя кладут живого в гроб.
Готовят катафалк и клячу…
Не хороните! Не пора!
Я не такой – я Азира!
Но не кричу я, плачу, плачу…
Все перепутала молва,
Ей все равно: героем, трусом,
Иудой или Иисусом
Тебя честить: она права —
Она молва… Но что со мной?
У ваших окон я маячу
Как бессловесный зверь лесной.
Я Азира – я плачу, плачу —
Но вы не плачьте надо мной!
Нико посмотрел по сторонам. Как же он раньше не заметил, что его окружали исключительно красивые мужчины и женщины, с правильными и одухотворёнными лицами, сотворённые неким мечтателем-идеалистом. Вот красивая грузинка сидит за соседним столиком – под портретом царицы Тамар – её тёмные глаза такие удивительно живые и глубокие, что в них нельзя смотреть без восхищения. Одно загляденье! А вот мужчина за другим столом – глаза большие, сильные, яркие-блестящие, выразительные, волевые и умные…
Покидая «Симпатию», в голове у него играла божественная музыка, он чувствовал себя совершенно воодушевлённым, будто он создаёт шедевр. И был полон сил и решительных действий.
Озаренный надеждой, в те дни Нико трудился необычайно легко, самозабвенно: хотел доказать кому-то, что и самоучка чего-то стоит. Создавал вывески на трактирах, винных погребах, духанах – везде и на любой вкус. На духане в Шайтан-базаре написал: «Барев, кацо, мардокмин, добри челавек». На трактире, затерявшемся в тесном Авлабаре с его кривыми улочками вокруг старых церквей, вывел он слова: «Душа рай, двер открывай, не стучай», «Вини погреба, кахетински Акоба, пиом до гроба и даже в гроба». Потом работал в Дидубе, рядом с паровозным депо и маленькими домами, разбросанными вокруг железнодорожных путей, где царил запах мазута и гари, под аккомпанемент тревожных паровозных гудков, от которых он каждый раз съёживался, вспоминая свою нелёгкую службу тормозным кондуктором. Здесь, по заказу дидубийского духанщика, разукрасил он вывеску словами: «Скори файтон, весоли Антон, иду вагзал и обратон». Сколько же было в них простоты, весёлости и душевности!
Он, следуя совету: «Ты только на правый берег Куры не ходи! Там свой художник работает, Карапет…», определил для себя основной ареал для работы – всё левобережье Тифлиса, где располагались бедные районы: Пески, низко припавшие к Куре и затопляемые своенравной рекой каждой весной. Здесь имелись ряды лавок, духанов и мастерских. Дидубе, Нахаловка, самовольно застраиваемая беднотой, и официально, на карте города, не существовавшая. Кукиа и Чугурети, что расползались по голым холмам, над которыми высилась громада Арсенала. Длинные привокзальные улицы: Вокзальная, Молоканская, Абастуманская, Авчальская – здесь чуть ли не всякий дом звал в свой винный погреб.
И на том спасибо! Не пойдёт он на правый берег, если он не нужен. Пусть там работают другие мастера, с академическим образованием!
И у него, у Нико, могло бы быть хорошее образование. Эх, не послушал он в свое время художника Башинджагяна, что был знаком с Калантаровыми. А ведь стоял же у самого порога Рисовальной школы при Кавказском обществе поощрения изящных искусств в Тифлисе. Не рискнул зайти. Жаль! Мог бы получить знания от больших мастеров, узнал бы, что такое композиция, ракурс и перспектива, цвет и его градация. Поведали бы они ему о строении человеческого тела… Была бы у него сейчас большая светлая комната, настоящие художники называют её «студией». Не мёрз бы сейчас по подвалам…
Или в Москву надо было податься что-ли? Правда, и там зимой очень холодно. Не выносит он стужи, но, говорят, там один человек живёт, купец Третьяков, кажется. Он страстно любит искусство и щедро помогает художникам… Не знал бедный наш Пиросмани, что знаменитый меценат уже умер. Что случилось это не так давно, в 1898 году, и покровитель искусств, умирая, прошептал свои последние слова: «Берегите галерею и будьте здоровы».
Нет, не уедет он из Тифлиса. И не понимает он этих уходящих и уезжающих… Отсюда ведь только Кура спокойно уходит. Но Кура что? Вода! Пришла – ушла. А человек так не может!..».
Не город надо менять, а саму жизнь.
В Сололаки он тоже не пойдёт работать, хоть и провёл он там почти 18 лет своей жизни. Там дома чистые и просторные, из окон льётся фортепианная музыка. Публика живёт там не простая, образованная и утончённая, по-французски изъясняться умеет и по Головинскому проспекту, мимо Дворца наместника, прогуливается неспешно. Тамошний люд оперу посещает, в банки ходит, в театры и музеи, вещи покупает в дорогих магазинах и отдыхает в ресторанах. А если в духан пойти, так только в «Симпатию», где нет запаха пота уставших карачохели и непристойных шуток наглых кинто, зато со стен тебе подмигивают возрождённые Карапетом Цезарь и Наполеон, Колумб и Коперник, Шекспир, Толстой, Руставели…
Но как бы он не зарекался, ему всё же случалось, в поиске заработка, попадать на другой берег Куры – на Мейдан. И тогда шёл он туда не через центр, не по Верийскому мосту. К чему платить властям, что недавно ввели пошлину за проход по нему? Он проходил вдоль Михайловской, потом по Воронцовскому мосту над Мадатовским островом, чтобы, миновав несколько кварталов, нырнуть в узкую щель Анчисхатской улицы, или через Пески и по Метехскому мосту, который вонзался прямо в Мейдан. Так, в Сололаки, на вывеске одного из духанов он начертал: «В духане Гога, апетит Бога».
…Возвращаясь «домой», на привокзальный перрон, он проходил через Метехский мост. Луна, сквозь ватные облака, испытующе взирала на него своим жёлтым глазом, с Куры дул ветер, а сама она брызгала мутной пеной. Остановился, облокотившись о перила и почувствовав, как сжалось его утомлённое сердце.
Устал он скитаться в вечном поиске хлеба насущного и ночного приюта. Но никуда не денешься: работа не ищет человека, «хлеб за брюхом не ходит»…
Пошёл он дальше, мимо Метехской крепости, что стоит на отвесной скале и молчит, только пялится по сторонам своими окнами-бойницами и решётками. Это страшное место – тюрьма. Рядом с ней – как спичечный коробок – расположилась полосатая будка, в ней часовой – точно оловянный солдатик, стоит с винтовкой и штыком.
Нико втянул голову в плечи – от мрачной крепости веяло холодом. Нечего мимо неё ходить! Надо бы поскорее уносить отсюда ноги – здесь, на воле, свет и свободный ветер. Там – темнота! Не дай Бог, схватят ещё, изобьют до полусмерти, заточат в душный и сырой застенок, а потом, в тяжёлых оковах узника, отправят под конвоем в Сибирь, как многих честных людей!
«Боже, будь милостив к пленникам!» – попросил он, как всегда забыв вымолить небесного благоволения к самому себе, человеку, не имеющему собственного крова и ночующему под лестницей…
* * *
…Однажды он уехал в Закатальский район – ему передали, что хозяин тамошнего пивного духана давно уже ищет его, чтобы он, Никала, расписал ему вывеску.
Зал духана был небольшим, чистым и очень по-восточному уютным, заполненным почти до отказа. За окном дул ветер, гнал мохнатые тучи, как отару серых овец. Те, в свою очередь пролились на Закаталы проливным дождём. Тяжёлые капли бешено ударяли по стёклам, грозясь их искрошить в осколки, и люди, спасаясь, спрятались в этом заведении.
Хозяин-аварец встретил его сухо, лишь буркнул себе под нос:
– Ты и есть Нико Пиросмани? Тогда ступай в кухню. Там найдешь чем закусить. Чурпа есть горячая, из чечевицы. – а сам, что-то пощёлкивая на счётах за прилавком, погрузился в хмурые мысли, людей, мол, навалило, а ничего не заказывают. Он изредка поднимал голову, чтобы согнать мух со стаканов, липких от вина и пенящегося пива. Шум дождя заглушал говор посетителей духана.
К вечеру дождь почти стих. Нико выглянул в окно. Ему показалось, что теперь он не капал, а сыпался мелкой пылью. Он, наконец, закончил вывеску. Сделал на ней надпись на русском языке «ПИВНАЯ ЗАКАТАЛА», а вокруг изобразил пейзаж: людей, едущих в коляске. Буйволов, тянущих повозку с огромным бурдюком вина. Ворота в виде арки, горы, деревья, человека с ружьем, всадника. Справа, на фоне гор, изобразил он солнце, а слева на голубом небе – луну.
Он закрыл глаза и вздохнул. Он отдыхал, слушая за спиной шёпот похвал посетителей, обсуждавших его работу.
– Что это? – спросил озадаченный хозяин, увидев вывеску. – Где ты такое видел, чтобы и солнце, и луна были на небе вместе? Это день или ночь?
– Какая разница, уважаемый, ночь это или день? – возразил ему Нико. – Разве ты не будешь рад, если люди к тебе придут хоть при луне, хоть при солнце?
– Главное, чтобы они пришли кутить, а не только прятаться от дождя…
* * *
Вскоре он получил новое задание от владельца «Белого духана» на Манглисском шоссе:
– Распиши-ка мне, Никала, духан. – говорил ему хозяин. – Как можно лучше да побыстрее. Чтобы к Пасхе обязательно успел! Много народу приезжает на праздник. Ты постарайся!
Он работал без отдыха несколько дней и ночей, забыв о пище и сне.
– Сагол! Быстро работаешь. – похвалил его хозяин. – Только здесь сбоку обязательно нарисуй орла! Чтоб был как живой Понимаешь?
– Зачем тебе орёл? – спрашивал Нико. – Какое дело он к твоему духану имеет?
– Слушай, кацо, так надо. Орёл – Божий сторож! Символ храбрости. У него нету закромов, есть только сила и смелость.
– Орёл огромный, беспощадный, – размышлял Нико. – Он ловит и терзает маленького зайчика. Орёл – это царь, а зайчик… это мы с вами, простые люди.
– Дорогой, ну зачем спрашиваешь, зачем медлишь? Просто, нарисуй для моего уважения.
И он писал из уважения. Ведь духаны были для него всем, в них текла его жизнь и им он отдавал свое искусство. Духаны нуждались в нём, и он не мог прожить без них. Когда его искали, шли по духанам. В каком-нибудь из них он был бы непременно!
Его утро начиналось с того, что он, входя в духан, произносил с улыбкой на губах: «Ну, что тебе нарисовать?». Если дела не находилось, он шёл в другой духан, если находилось, он оставался и принимался за работу.
Всё, что делал Пиросмани, вызывало искреннее восхищение. И не было у него соперников, потому что создатели вывесок, в отличие от него, писать живописных картин не умели. Он мог бы неплохо зарабатывать и даже преуспевать. Но Тифлис, как говорят его жители, – город маленький. Здесь из уст в уста передавали, что Пиросмани отказывается от платы за работу, будь то вывеска или живописный портрет. Действительно, он как-то так и сказал, мол «Иногда платят машинисты и в мелочных лавках, а вообще работаю за еду… за деньги я не рисую», или «Купите мне краски, и я нарисую вам и то, и это…». Он брал деньги только на материал – краски, клеёнку. Для того, чтобы расплатиться с ним, не жалели вина и водки. Чаще же всего он зарабатывал по одному-два, реже – по три рубля за картину, независимо от ее сложности. Пять рублей он получил за «Грузинку с тамбурином». Часто деньги ему просто насильно впихивали в карман. А он – не умел торговаться, и не пытался. Говорил: «Что дадите – то дадите», и часто просто раздавал свои творения.
Его несложно было и обмануть. Был случай, когда некий парикмахер с Черкезовской улицы по имени Ростеван Григорьевич заказал свой портрет, но когда тот был выполнен, обидел художника. Мало того, что он отказался платить, это было делом привычным, так он ещё заявил: «Не похож! Кто вам сказал, что это я?». Нико не придумал ничего получше, кроме как растеряться. И на выручку ему пришёл его приятель Саркис с Винного подъема, имевший безупречную репутацию. Про него многие говорили: «Саркис – мой друг, честный человек, никогда не нальёт ни единой капли воды в вино; потому что уверен, что вино – Божья благодать и портить его водой такой же грех, как воровство». Саркис, узнав об этой истории через одного карачохели, был оскорблен и за художника, и за себя, потому что сам рекомендовал Пиросмани парикмахеру. Будучи человеком крепким, он преподал Ростевану Григорьевичу «урок по-тифлисски» – сильно его избил.
А Нико? Он хотел оставаться щедрым и всегда старался сделать что-то приятное другим. Создав своего знаменитого «Оленя», он заявил: «За „Оленя“ ничего не платите, уже довольно. Вы и так меня покормили вкусным лобио».
* * *
– Эх, Никала, бичо! Чудак ты! – говорил ему приятель-карачохели. – Живёшь одним днём, не заботишься о собственной крыше над головой, о том, какой хлеб будешь завтра жевать, что наденешь, когда наступит зима. Занимаешься какой-то ерундой – то забор красишь и потолок белишь целый день вместо маляра, то номер выводишь на уличном фонаре. А вчера целый день тачки лимонадные расписывал на Кирочной. Что тебе заплатили? Ничего! Что? «Спасибо» сказали и «гаихаре»? А ведь за это время мог бы картину хорошую нарисовать, продать её подороже! В сто раз лучше меня мог бы жить!
– Если мы не будем работать над низшим, то как сумеем сделать высшее?» – ответил другу Пиросмани.
* * *
И опять, не имея собственного жилья, он возвращался «домой», на шумный вокзал. Тут часто перепадала случайная работа – вещи поднести, вагоны разгрузить. И место для сна всегда на лавках находилось. В здешних питейных погребах все знали «графа» Нико Пиросмани, все были ему рады: сапожники, рыбаки, городские борцы, паромщики. Они приглашали его к столу поесть и выпить стаканчик дешёвого вина за задушевной беседой, а взамен получали от него тут же сделанные рисунки и слушали интересные истории, которые он любил рассказывать, вдохновляясь собственными изложениями. Здесь, в духанах, простые люди обсуждали последние события, делились новостями, здесь кипела своя жизнь. Устраивались торжества – пили за рождение ребёнка, либо достойно поминали ушедшего, кто-то богател – пили за его успех, а кто-то, что было нередко, разорялся. Тогда его жалели, пили за то, чтобы удача благоволила к нему. Один тост добрее другого. Мудрые и глубокие. Но самый первый тост посвящали Богу – каждый грузин должен так поступать! И никак иначе. Каждому есть за что благодарить Создателя.
И всем им, собравшимся за одним столом, хотелось бы забыть о своих бедах, побыть рядом с хорошими людьми.
– Почему не женат, Никала? Давно уже пора.
– Мне свобода дороже. Не хочу быть птичкой в клетке.
– Значит и детей у тебя нету?
– Как это нету? Все дети в Тифлисе мои. Всех люблю! Знаете, сколько я им сахара раздал, когда в лавке торговал? Сколько игрушек подарил? Они меня больше любят, чем взрослые. И понимают. То есть, не понимают, а принимают своим простым, бесхитростным сердцем. Не будете, как дети, не попадёте в Царствие Небесное.
– Э-э-э, Никала, сам ты как большой ребёнок! И лицо у тебя детское, хоть и с усами пушистыми.
– Мы все рождаемся с детским лицом. А потом на нём жизнь оттенки свои пишет – где светлые, где тёмные…
– И глаза у тебя детские… Не сердись, как ребёнок, ей Богу! Лучше подумай, как жильё себе нажить. Не порядок это!
– Эх, если бы у меня было хоть сто рублей, оделся бы, нанял комнату и тогда бы писал… – говорил Нико в компании друзей. – Тогда я бы вам за месяц написал десять-пятнадцать картин, лучших, чем те, которые у меня есть… Но комнату подходящую снять трудно. Мне ведь свет нужен, друзья, чтобы рисовать. А если и попадается такая, так сами хозяева упрямятся: не хотят видеть мои краски, клеёнки, липкие кисти. Говорят, что краски мои, мол, плохо пахнут, что барахла у меня много всякого…
Временами он внезапно преображался, в глазах появлялась печаль, он переставал говорить, ни с кем не общался, ходил в одиночестве, в полной задумчивости, и рисовал одиноких людей, с тоской в глазах. А потом вновь становился прежним, и друзья обрадованно говорили: «Вот и вернулся наш Никала!»
Постоянно вращаясь в кругу ремесленников, он так и не стал одним из них. Однажды он даже сказал об этом:
– Я не такой как вы. Я – другой!
На что услышал:
– Это и видно. Ты, брат, даже одеваешься иначе. И отказываешься от одежды, которую мы тебе предлагаем. Ты вот, в отличие от нашей чохи, одет со вкусом в свой «русский» костюм. А за твою гордость и независимый тон «дарбаисели» все и зовут тебя «графом». Хочешь обижайся, а хочешь – нет…
Похоже, и дом свой был ему не очень нужен. Как не нужны были семья, имущество, стабильная служба… Жил он больше чувством, чем рассудком, ничего не взвешивал, ничего не решал и не делал выбора. Просто плыл по течению, не борясь с бушующими волнами.
Весь Тифлис стал ему домом. Не имея крова, приходилось ему ночевать и в подъездах, и в подвалах, и под лестницей. Столом ему служил старый перевёрнутый ящик, а нескольких досок на кирпичах хватало, чтобы лечь и поспать. Зато стены – все они в скором времени развешивались его картинами с оленями и ланями. «Люблю я писать животных – это друзья моего сердца», – сказал он как-то.
С других картин на него, с гордым достоинством, смотрят поэт Руставели и славная царица Тамар – зорко охраняют его сон! «Эх, вот бы пойти, отыскать их святые могилы. Разве царица Тамар – не мать Грузии, а Руставели – не величие Грузии? Я их не отделяю друг от друга…».
В летнюю душную ночь в глубоком подвале дома было прохладно, а вот зимой – не имея тёплой одежды, он замерзал, часто простуживался и кашлял, просыпались старые болезни, заработанные им на железной дороге. Что оставалось делать, кроме как свернуться калачом и, стуча зубами, дожидаться рассвета. Никто ведь не позволит топить под лестницей или в подвале.
Бывало, посреди ночи его будили и прогоняли метлой злые дворники, и тогда приходилось собирать краски, кисти, тряпочки, укладывать их в свой чемоданчик, на крышке которого он изобразил фигуру «джентльмена» в цилиндре, и уходить искать другое место. Не раз, ночуя на вокзале или в духане, попадал он под облаву на беспаспортных и бездомных, а больше – на вольнодумцев, с их «тайными собраниями», запрещёнными книжками о правах человека и пламенными воззваниями к свержению царя. Он просыпался от топота сапог и яркого света фонаря, бьющего в испуганное лицо, и сразу представлял себя закованным в кандалы узником Метехской тюрьмы, которого вот-вот погонят по этапу на пожизненную каторгу в сибирские рудники. Хозяин заведения, предоставивший Нико ночлег, всегда заступался за него, говорил, что «этот наивный человек» – его друг и художник, объяснял, что сам он никогда не даст приюта террористам, а если что и услышит или заметит антигосударственное в своём заведении – он будет первым, кто побежит в охранку с доносом на носителей вольнодумных идей, этих «проклятых мятежников и революционеров». При этом духанщик, для пущей убедительности, всё же подсовывал мзду полиции с улыбкой на лоснящемся лице, но после, чтобы возместить свои «потери», он «выжимал» из «графа» соки, заставляя разукрашивать весь духан за миску харчо…
Именно такой была его теперешняя жизнь – жизнь духанного живописца.
Глава 9. Сон в дождливую ночь
Была ночь. Кура тихо шелестела своими водами, а небо, тёмное от туч, казалось низким, как потолок его крохотной кладовки с пустыми бутылками из-под водки. Где-то за горизонтом блеснула яркая вспышка молнии, и из-за туч начали раздаваться глухие перекаты грома. Пошёл дождь, сначала мелким шорохом, и вот уже его тяжёлые капли барабанят по жестяной кровле духана, не давая спать. Нико оторвал голову от мутаки, поднялся со старой тахты и, обойдя полки с кистями, красками в пузырьках и известкой для штукатурки, подошёл к мутному окошку, в которое и днём-то еле пробивался свет. За окном уже лило как из ведра. Дождь и молния во мраке. Ещё молния. Ещё гром. А между ними – кромешная темнота и шум падающей сверху воды.
Как страшно оказаться в такой час на улице!
Он вздрогнул. Сейчас, когда ему уже много лет, он так же, как в детстве, боится громовых раскатов… боится грозы. Хорошо, что он в сей злобный час не под открытым небом.
Спасибо Бего Яксиеву, доброму человеку, благодетелю моему! Не знаю, чем я ему приглянулся, но он стал мне симпатизировать, приютил меня три года назад здесь, в своём духане на Песковской улице номер 40, что возле самого начала Цициановского подъема. Не знаю, может пожалел меня, но дал кров, а денег с меня никаких не берёт. Многим я ему обязан за его добро!
Конечно, как и всякий хозяин духана, он думает о своём «деле», чтобы посетители не переводились, чтобы продукты были свежими, еда – вкусной и вино – неразбавленным. Если много работы, Нико с радостью помогает ему, по дружбе. Оба надевают фартуки и, стоя бок о бок, вино разливают по кувшинам из бурдюков, что бесстыдно обнажили свои надутые пуза.
Но главным делом Нико же остаётся написание картин для Бего. Да, для него он готов на всё: будет рисовать и день, и ночь. И ничего, что хозяин ему не платит, зато кормит прилично, не хуже чем сам ест, поит, по пятницам водит в баню, и одежду покупает. В гости к себе приглашает по праздникам. И не тревожит его, когда он проводит вечера в маленьком садике за духаном, сидя неподвижно под ореховым деревом и о чём-то думая. В такие дни заботливый Бего присылает к нему духанного подавальщика с едой и чаркой доброго вина, такого же доброго, как и сам хозяин, который не хочет беспокоить его задумчивое одиночество.
Хороший он, этот Бего. Не командует им, не давит. Впервые, познакомившись с Нико, тот лишь спросил: «Сможешь хорошо нарисовать?», и он, Нико, улыбнувшись, ответил: «Какой же я мастер, если не смогу нарисовать? И тебя, и всю твою семью нарисую, если только будет беленькая водка… Дайте мне клеёнку или картон и немного красок, и я напишу кого хотите за два-три часа. Это мне не составит труда». Получив всё необходимое, он доставал кисти и тряпки из своего чемоданчика, раскручивал свернутую трубочкой клеёнку, набивал её на подрамник и приступал к работе…
Спокойно ему здесь. Не то, что в других местах. Эти духанщики – люди ведь неотёсанные, от искусства далёкие. Одни требуют, диктуют, как и что ему рисовать, другие – настырно просят, советуют «на пользу делу». Все картины ему портят! Приходится или уступать им, или грубить. Вот недавно, например, писал он для виноторговца Созашвили картину «Сбор винограда». Будто бы он, Нико, на луне родился, а не в Кахетии, не видел ртвели собственными глазами! Стал Созашвили рассказывать в подробностях, что именно должно происходить, а потом вмешивался в работу, стоял у него за спиной и не давал сделать ни одного мазка кистью без его одобрения. Нико не выдержал, нагрубил ему: «Что ты здесь торчишь, за спиной у меня? Уходи отсюда, что мне – на тебя смотреть или на картину?!» Но тот продолжал советовать: чтобы бурдюки были поменьше, чтобы быки были красного цвета, и так далее. Он долго это терпел, потом вдруг вскричал: «Какой у тебя может быть вкус? Ты торгаш, сиди за своим прилавком!» – и ушёл оттуда… И правильно сделал! Если такой умный – пусть берёт кисть и сам рисует себе картины! А то думает, что он и есть автор, раз поручил, что надо изобразить. А я тогда кто? Только исполнитель что-ли?
* * *
Но корил он себя нещадно за один поступок. Среди его приятелей был мясник по имени Шалва, любитель весёлых компаний. Там где стол и вино – везде этот Шалва! Он не раз просил Нико сделать его портрет, предлагал и деньги, и водку, но Нико всё было некогда, приходилось отказываться, откладывать это дело на другой раз, извиняться. И вдруг этот несчастный Шалва внезапно умирает. Его похоронили на Кукийском кладбище и на второй день пришли туда доброй компанией. Сделали всё как надо – зарезали барана, принесли сыр, зелень, хлеб, пили вино и звали приятеля: «Вставай, вставай, Шалва! Твои друзья пришли, вино принесли. Привели Никалу, он хочет рисовать твой портрет». Лили из рогов вино на могилу: «И ты отведай вкусного! Не горюй, и мы скоро там будем, посмотрим, как ты нас будешь встречать!» Тогда он, Нико, плакал сильнее всех: «Вай, бедная моя голова! Откуда мне было знать, что так рано умрёшь!»
Конечно, он чувствовал себя виноватым, места себе не находил. Через несколько дней он написал картину, и, на девятый день, когда кутилы пришли на могилу, они изумились, увидев, что на надгробном камне сидит сам Шалва с рогом для вина в руке, рядом с ним – музыканты, бараны и любимая собака покойного. А сам он смотрит на собравшихся, как бы спрашивая: «Рамбавия? Что случилось?».
Эх, не жалует смерть никого!
А здесь, у Бего, ему хорошо. Простодушный и весёлый он человек. Умеет приободрить другого, поддержать в ненастье, а, если надо, и песню свою затянет: «Всё на свете чепуха, выпьем!». Как каждый настоящий грузин, любовь и уважение к вину он впитал вместе с молоком матери. Но, увидев однажды утром, с каким воодушевлением Нико потребляет вино, он молвил:
– Что это ты, Никала, надумал на рассвете кровь свою подогреть добрым вином? В это время чай положено пить с сахаром вприкуску, да шоти горячий с сыром…
– Этот твой чай – хитрая китайская выдумка! Нет в нём души, Бего. Да и кушать не охота, еда в глотку не лезет. Хочу вот картину закончить. Только два кувшина с вином пририсовать осталось, и надпись сделать…
– Трудишься ты, конечно, как буйвол, но вижу я, что работаешь, ты, чтобы пить, и пьёшь, чтобы работать».
– Буду вино рисовать, Бего. Должен же я вспомнить его вкус!
В тот день Нико завершил свою картину и посвятил её своему благодетелю, назвав её «Компания Бего». Изобразил на ней семейный пикник: стол, за ним шесть человек. Позади – пейзаж с деревьями. С двух сторон картины – большие кувшины с вином. Еда разложена на столе и прямо на земле, перед столом. В синем небе рядом с летящими птицами надпись: «Да здравствует компания Бего. Бог да умножит всем добрую жизнь». Крайний слева – сам хозяин духана – Бего – разливает свое знаменитое вино, густое и тёмное. И о самом себе не Нико позабыл – изобразил себя в пиджаке и шляпе, с рыбой в руке…
Дождь всё не прекращался, продолжая настойчиво стучать по крыше. Нико никак не мог уснуть, то и дело вздрагивая и вздыхая от ночных шорохов. Он услышал, что пробежала мышь, тихонько скребя коготками по деревянному полу. Поднял голову и в лунном свете увидел крохотную мышку коричневого цвета с розовыми, тонкими, почти прозрачными ушками. Блестящие её глазки моргнули, она пискнула и юркнула в угол, под совок. Бедняжка, ты только не попадись на глаза Бего! Тот повсюду расставил мышеловки с кусочками бараньего курдюка, а он, Нико, жалея глупых грызунов, снимал приманку с крючка и, бывало, скармливал ею эти «Божьи создания».
Напрасно он ворочался с боку на бок на скрипучей тахте и старался ни о чём не думать. Сон бежал от его глаз, и они не смыкались. У его изголовья толпились люди, когда-то задевшие его жизнь, в голову лезли всякие ненужные мысли, а с его картин, висевших на стенах, на него взирали их персонажи.
Теснота делает вещи необычайно большими. Вот и сейчас, красочные его изображения казались ему много больше, чем были на самом деле…
Когда он наконец уснул, его навестил странный, удивительный сон.
Ему явился рыбак. Сошёл с картины и стоит вот так перед ним, большой и злой, с усами и соломенной шляпой на голове. Штаны закатаны, в руке – ведро жестяное, а с одежды вода капает. Сдвинул он брови, и говорит осуждающим голосом:
– Эй, Нико. Ты зачем меня в красной рубахе нарисовал? Где видел меня в красной рубахе? Нет у меня такой!
– Как это нет! Сам видел, как ты в ней рыбачил. Сома помал, бил тебя хвостом. Вот этими глазами видел. Была на тебе красная рубаха!
– Врёшь ты! – фыркнул тот недовольно. – Никогда не было! А была бы даже – всё равно не надел бы: только рыбу пугать. Ни один рыбак не надел бы!
– Эх, человек! На моей картине ты добрый, весёлый и черноусый. Улыбаешься наивно и открыто, как ребёнок. Знал бы я раньше, какой ты в жизни, изобразил бы тебя злым.
– А я спрашиваю, зачем неправду нарисовал? – мотнул головой рыбак и глаза его гневно засверкали. – Зачем людей обманываешь? Художник правду должен рисовать! Выходит, ты плохой художник…
И исчез так же внезапно, как и появился… Точно в реку канул, и поминай как звали. А-а, вот ты где – вернулся на своё место на стене, ну-ну!
Вдруг, словно из-под земли, перед ним расселись три князя, в чохах и папахах. Глаза блестят, по сторонам озираются.
– Эй, Нико, а ну-ка отвечай, почему назвал картину «Пир трёх князей»? – спрашивает первый, что держал в руке кувшин с вином.
– Как почему, благоверные князья? – простодушно говорит им Нико. – Потому что три князя сидят на траве и хотят выпить и закусить.
– Что значит «хотят»? – раздражённо спрашивает второй князь, раздувая ноздри. – Так и будем сидеть всю жизнь и хотеть выпить и закусить? Тоже мне: «Хотят»! Почему не нарисовал, что уже пьём?
– А что это на столе? Цыплёнок, два куска дыни – и всё? – сердито говорит третий кнзяь и недовольно косится на Нико.
– И пучок редиски… – добавил первый князь.
– Ещё три рыбки лежат на тарелке. – осторожно вставил Нико. – Чем пировали, то и нарисовал. Ничего не добавил от себя…
– Хорошо считать умеешь: три князя – три рыбки… Мне одному эта рыбёшка – на один зуб! Мог бы и шесть нарисовать, не обеднел бы! Не покумекал, что потомки о нас подумают? Нищие князья – вот что они подумают! Одна чоха, одна сабля, и один кувшин вина! Выходит, пожалел ты для нас еды, Нико! Ну спасибо тебе, удружил! Большой пир устроил нам. Эй, князь Геворг, скажи, хорошее хоть вино в кувшине, который держишь?
– А мне откуда мне знать, что за вино в этом кувшине? Сколько лет не могу наклонить голову и заглянуть в кувшин! – первый князь заглядывает в кувшин и трясет его. – Эй, Нико! Обманул, да? Пустой кувшин нарисовал!
– Почему плохо стол накрыл? Еду рисовать не умеешь? – ворчал третий, сердито зыркая в сторону Нико, а лицо его потемнело от недовольства.
– Умею, благоверные князья. Вы, наверно, не видели мои натюрморты?
– Видели, дорогой, видели. – хмурился первый. – Только вот зачем рисуешь еду отдельно, людей отдельно? Ты негостеприимный, да? В каком таком грузинском доме видел, чтоб еду от гостей прятали?
– Вы ничего не понимаете, светлейшие! Это натюрморт! – пытался объяснить им Нико. – Его нельзя соединять с людьми. Так все художники делают.
– Это кто не понимает? Мы не понимаем? Как ты смеешь дерзить князьям, сын батрака! И чушь нести!
– Никакой ты не художник, а простой маляр! – наперебой раскричались не на шутку рассерженные богачи, махая руками, засучивая рукава и тряся кулаками.
Нико хотел успокоить незваных гостей, но их и след простыл, как ветром с Алазанской долины их сдуло обратно, на стену.
Не успел он перевести дух, как появилась ОНА. Его ангел из ада души под названием «память»! Маргарита! Он застыл в оцепенении, а она, охваченная грустью, зашуршала своей юбкой и тихо присела на край его одинокой постели, обдав его всё тем же еле уловимым запахом духов, который когда-то довёл его до потери рассудка. Вдруг она заговорила. Заговорила, к его удивлению, на хорошем грузинском языке, лишь изредка вставляя французские словечки:
– Бонжур, Николя.
– Здравствуйте, Маргарита. – с благоговением произнёс он, не отводя от неё взгляда.
– Когда-то ты, Николя, с ума сходил по французской актрисе Маргарите. Даже лавку свою молочную продал. Цветы купил, чтобы покорить её. А теперь ты меня разлюбил, да? – она нервно теребила в руках свои перчатки.
Он хотел возразить, но она не дала ему этого сделать, закрыв своей ладонью его губы.
– Ну конечно, мон ами, ты не делаешь деньги, не гонишься за богатством и роскошью, не погрязаешь в пороках. Честно трудишься, искренне любить умеешь, и стоически переносишь все трудности жизни, а в голове твоей бесконечно витают идеи и образы. Твой патриархальный, глубоко человечный мир противостоит миру, в котором живу я, – в бесчеловечном Париже, символе жестокого прогресса цивилизации…
– Но, но почему вы решили, что я разлюбил вас, моя Маргарита?
– Потому что только разлюбивший человек может так изуродовать женщину! Лучше бы совсем меня не любил, Николя. Подарил бы букетик цветов, как другие, и всё.
– Не понимаю… Вы недовольны своим портретом?
– Да, недовольна. – надменно произнесла она. – Что есть портрет? Портрет – это повторение в линиях и красках живого лица. Он должен воспроизводить оригинал в точности, со всеми чертами внешности и характера. А что здесь? Ну разве я такая в жизни, как на этом рисунке? Или ты незрячий, что не разглядел мою красоту? У меня ножки стройные! – она вытянула вперёд свою ногу в изящной туфельке на босу ногу. – А ты натянул на них голландские чулки. Кто тебя просил? Они ведь меня полнят! В жизни не носила голландских чулок. Теперь вынуждена стоять на двух полосатых тумбах!
Нико молчал.
– А руки?.. – продолжала она. – Что ты с ними сделал? Зачем ты мне их так нелепо растопырил, Николя? Что это за поза такая, как у куклы? Будто я вывела двух бриаров на прогулку по Елисейским полям, и они тянут в разные стороны… один к парку Тюильри, другой – к Триумфальной арке… Губы капризно надуты и эта противная складка на шее. Откуда? Неужели я такая толстая? И потом, мне холодно! Слышишь? Мне просто холодно! Смотри, какой ветер ты нарисовал на траве! А плечи у меня совсем голые. Мог бы на них хоть шаль накинуть. Ни один француз не заставит женщину мёрзнуть в одиночестве. Ты это нарочно, Николя, да? Хотел мне отомстить?
Нико молчал, а она удивлённо вскинула бровь и гневно взглянула на этого невежу. Лицо её вытянулось, губы приоткрылись, улыбка исчезла.
– А в руке что? Пучок роз! Это те самые, с площади? Мог бы тогда получше их изобразить. А то торчат в руке как веник… К тому же, они белые. Цвет траура в моей стране. Я что. уже для тебя умерла? – она тяжело вздохнула и встала. – Ну всё. С меня хватит. Мне пора уезжать, Николя, пора уезжать. Зачем ты удерживаешь меня здесь своей несчастной, беспомощной и маленькой пленницей? В чулане этого дешёвого ресторана, среди пустых водочных склянок? Здесь полно отвратительных серых мышей, которых я до смерти боюсь! Дрожу от страха всю ночь, когда они скребутся в углу! И соседство у меня тоже мучительное. Справа этот месье с уловом, оттуда рыбой несёт. Слева – три князя. Взирают на меня лукаво, подмигивают, настойчиво к столу приглашают. Думают, раз я актриса, то со мной и пофлиртовать можно? Кто им позволил приставать, лезть в мою жизнь, нарушать моё право на собственную свободу? Тоже мне, князья. Не понимают, что это неприлично? Ни один французский маркиз, ни один наследный виконт или, тем более, шевалье не позволит себе такого отношения к мадемуазель…
Кажется, она шепнула «оревуар», он не разобрал. После чего растворилась в ночи, ушла в свою клеёнку, растопырив руки и оставив взамен себя гробовую тишину…
– Этого мне только не хватало на голову! Герои моих картин ополчились на меня, – возмущённо размышлял Нико.
Ему было досадно, нестерпимо больно, словно бунтарями были не один рыбак в красной рубахе, три пирующих князя и актриса Маргарита, а весь мир. Мир, который он, Пиросмани, мечтал избавить от зла.
– Им, видишь ли, не нравится, как я их написал! Это вместо благодарности за то, что я их породил и увековечил. Да что они понимают, бездельники? Висят себе на стенах, а тоже мне, недовольно гудят, ещё и оскорбляют! Да картине висеть на стене – всё равно что человеку иметь свой дом и свою тёплую постель. Валяйся себе сколько угодно! Что вам ещё нужно? Вы все пристроены! И пыли на вас нет.
Слышите, вы?
Будет лучше, если вы заткнётесь, а не то…
Ну? Что же вы приумолкли?
…Молчат! Испугались, видать, что под нож пойдут…
* * *
Какое-то время он лежал, уставившись в тёмное пространство. Потом заворочался на своей тахте, недовольно кряхтя и вздыхая. И, уткнувшись носом в стену, он наконец погрузился в долгожданный сон, но сквозь его белёсую пелену он расслышал тихий и знакомый голос:
– Эй, Николя! Salut! Ты спишь?
Он молчал, затаив дыхание. Голос принадлежал Маргарите.
– Я знаю, что ты не спишь, только притворяешься… Зачем же ты так несправедлив ко мне? Вспомни, кем ты был? Месяцы и годы ты кутил, пьянствовал, гонял ночи напролет по Тифлису на фаэтоне, шумел, плакал и смеялся, ссорился, сорил деньгами ради каких-то случайных собутыльников… Обижен ты на меня, Николя… А ведь я, актриса из кабаре, и есть твой ангел-хранитель. Твоя единственная любовь! Женщина, убившая в тебе торговца и сделавшая из тебя настоящего художника…
Глава 10. Скандальная известность
Осенью 1916 года на узких привокзальных улицах появились два молодых человека. То и дело, они останавливались у прилавков торговцев и лавок ремесленников, расспрашивая о чём-то погрязших в суете людей. Те в неведении пожимали плечами, отвечая по-разному: «Понятия не имею», «Да видели его недавно в Дидубе. Кто его знает, этого Пиросмани, где он шатается», «Вы на Пески поспрашивайте», или «Кацо, где ты был раньше? Вот только что ушел! Зайди завтра, может, появится».
– Не иначе как ищем иглу в стоге сена, Мишель, – сказал один путник другому. – Тифлис – большой город. Напрасно стараемся.
– Найдём, Кирилл, обязательно найдём, – ответил ему второй, после чего тихо добавил:
– Если он ещё жив… Не может быть, чтобы не нашли. Такой известный в городе художник – его каждый дворник, каждый духанщик знает…
…Недавно основанное общество грузинских художников наметило в конце декабря провести свое первое учредительное собрание. И поручило им, молодым художникам, разыскать в винных погребах Тифлиса Нико Пиросмани и, во-первых, вручить ему от имени общества небольшую сумму денег на еду и на краски, а во-вторых, убедить его присутствовать на предстоящем собрании, несмотря на то, что фигура Пиросмани среди тифлисских живописцев была довольно спорной: одни считали его гордостью грузинского искусства, другие же – свидетельством его деградации.
Почему именно им было поручено сие важное задание? Да потому, что они, братья Зданевичи, «открыли» живописца ещё несколько лет назад. Они: двадцатилетний художник Кирилл и восемнадцатилетний поэт и художник Илья, а также их друг и ровесник, художник, студент Академии художеств Мишель Ле-Дантю. Братья были тифлисцы, по отцу – поляки, по матери – грузины. В Тифлис они вместе с Ле-Дантю приехали на каникулы, но не только отдохнуть. Их твёрдым намерением было сделать некоторое открытие в этом удивительном городе, городе их детства. Молодые люди были уверены, что непременно найдут то, что обогатит мировую художественную культуру.
Тогда, на вокзальной площади, они почувствовали голод и зашли пообедать в духан «Варяг», над входом которого торчала вывеска, изображавшая крейсер «Варяг», несущийся по бурному морю, и палящему изо всех орудий.
Духан был наполовину пуст, лишь два стола были заняты. За одним сидела компания карачохели, они поднимали тосты – один краше другого. И пили за правду, за честь и дружбу. За обиженных судьбой, за вдов и сирот, за убогих – за всех, кто страдает в этой жизни.
За другим столом сидели три ремесленника, похожие на жестянщиков с Молоканского базара. Посетители эти были явно не в духе и выражали недовольство обедом:
– Эй, микитан, – позвали они буфетчика. – Ты говорил: «Ах, какое чахохбили! Пальчики съедите!». А какое же чахохбили без курицы? Где она?
– Как где, гости дорогие? В чахохбили…
– Ты вот это называешь курицей? Да это же воробушек!
– А про вино что говорил? – спрашивал буфетчика второй жестянщик. – Что «такое вино сам губернатор Воронцов не пробовал!». Не вино у тебя, а уксус!
– Если еда наша вам не нравится, вино не нравится, тогда зачем вы всё съели и выпили без остатка? – злился буфетчик. – Платите, а то околоточному доложу.
Взгляд Кирилла нечаянно упал на картины, украшавшие внутренние стены помещения: «Отшельник Гиоргий», «Портрет двух друзей», «Царица Тамар», «Трактирщик с приятелями в виноградной беседке», «Грузин с рогом для вина», «Охотник с ружьём», «Пастух в бурке», «Шота Руставели», «Ираклий II». На стёклах духана была роспись: вареная курица на тарелке, шашлык на шампуре, бутылки с вином.
Молодые люди, на своём веку успевшие повидать много произведений искусств, были потрясены увиденным.
– Да это же современный Джотто! – воскликнул тогда Ле-Дантю. – Это рисунки гениального мастера!
Они ходили от картины к картине, возвращаясь к некоторым по нескольку раз и сбивчиво выражая друг другу свои восторги.
Хозяин духана заметил их интерес к рисункам, и, уже привыкший давать пояснения новым посетителям, подошёл к ним с ослепительной улыбкой под пышными усами:
– Садитесь, гости дорогие. Да пошлёт вам Бог всякого добра. Сейчас шашлыка принесём вам, только с мангала сняли. Зелень, цицмат, болоки, киндзу принесём. Вино хорошее подадим. Вы на этих дураков не обращайте внимания. Вкусная у нас еда, свежая, никогда не залеживается!
– Что это? – перебил его Кирилл, показывая головой на картины.
– Это? – переспросил духанщик. – Это царица Тамар, – сказал он, и указал пальцем на картину. – Но если вам это мешает, можно пересесть за другой стол.
– Нет-нет, – успокоил его Кирилл. – Наоборот…
– А это Шота Руставели, наш великий поэт, он «Витязя в тигровой шкуре» написал, – продолжал объяснять духанщик. – А вот это, – он указывал пальцем на очередную картину, – это хозяин трактира в бурке и его двоюродный брат, они стоят в беседке, обвитой виноградом, и хотят выпить водки…
– Кто автор этих работ? – спросил духанщика Мишель. – Все картины подписаны неким Пиросманашвили. Кто это?
– Да, это наш Никала-маляр, Никала Пиросмани. Вы что, его не знаете? Все его знают. Это он все тифлисские духаны разрисовал. Все в шутку называют его «графом» за то, что ходит степенный, в русском костюме. Мало говорит. Только рисует. Рисует и пьёт, и опять – рисует и пьёт… Полгода, наверное, будет, господа, как был он у меня. Пришёл совсем бледный, весь дрожал. «Ещё умрёт», – подумал я, – «надо покормить!». Лобио дал ему, харчо горячий. Он три ложки лобио съел, больше не стал. Выпить попросил. А взамен предложил нарисовать что угодно и сколько угодно. Поселил я его на заднем дворе. А что, мне не жалко. Пусть живёт. Был он человеком усердного труда – работал с утра до ночи. Бывало часто, что и при свете лучины рисовал, так это дело любил!
– Как его найти? – не выдержал, спросил Зданевич. – Он нам очень нужен.
– Как вам сказать? Ходит себе по городу. Каким ветром его носит – никто не знает. Поищите в каком-нибудь из духанов.
– В Тифлисе сотни духанов, уважаемый…
– Начните с вокзала… найдёте его где-нибудь на левом берегу Куры: в Дидубе, Нахаловке, Авлабаре. У него и на Песках много друзей было. Вы сходите туда, вам скажут, где он и как… А зачем он вам?
– Мы хотели бы помочь ему…
– Как помочь? Чем? Деньги Никале не предлагайте. Были они у него, не дорожил он ими. Да он и не возьмёт. Гордый он очень…
– У вас есть ещё его картины?
– Есть. Конечно есть. У меня наверху ещё его «животные» есть.
«Наверху», над духаном, располагалось жилище духанщика. В нём молодые студенты, Кирилл и Мишель, увидели изображения ланей и оленя, но больше всего их внимание привлёк жираф, животное с человеческими глазами.
– Когда я увидел у него эту картину, – рассказывал духанщик, – я очень удивился. Это существо пристально смотрело на меня и знало всё, что творится у меня на душе. Я спросил Никалу: «Хм, разве бывает такой зверь, Никала?».
А он ответил: «Ещё как бывает, Автандил-генацвале. Это жираф. Видишь, какая у него шея длинная?»
А я ему: «А как он сюда попал, этот странный зверь, этот… жираф?»
«Пришёл из другой страны», – ответил Никала. – «Оттуда, где нет корысти и хитрости. Где есть уважение друг к другу…»… Ну что, молодые люди, нравятся вам картины?
– Очень. Если вы уступите, я могу купить, – заявил Кирилл.
– Отчего же не продать? – почесал голову духанщик. – Могу и продать, если с оплатой не поскупитесь…
Молодые люди были поражены лаконичностью рисунка и лёгкостью письма, простотой и искренностью работ доселе неизвестного им художника, многие из которых были выполнены на простой клеёнке.
– Это какой же виртуозностью, какой смелостью нужно обладать, чтобы писать на клеёнке, таком неблагодарном материале? – удивлялся Кирилл.
– Бедность… – отвечал ему Мишель. – Это она сделала его виртуозом…
Стремительные мазки кисти на картинах выдавали руку мастера – умелую и твёрдую, хотя и демонстрировали отсутствие академических навыков. Друзья не сомневались в том, что перед ними художник большого дарования и редкой самобытности.
– Ты только представь, Мишель, что было бы, если бы самородку Пиросманашвили дали настоящее художественное образование. Он мог бы, вероятно, превзойти Эль Греко или Тициана и выразить другое, гораздо более сложное и величественное содержание, чем то, которое выразил он… – восхищался Кирилл Зданевич.
Их энтузиазм крепчал день ото дня и было решено, что они продолжат поиски картин Пиросмани, а также непременно отыщут его самого и познакомятся с ним. Они скупали всё, что им попадалось в духанах и винных подвалах на Мейдане, у вокзала, в Нахаловке, в Сабуртало, в Ортачала, даже несмотря на то, что владели они небольшим личным заработком. Да и родители их были довольно бедны в то время. Однажды покупка двух картин посадила всю семью на хлеб и воду. Кроме того, приходилось пускать в ход всё своё красноречие, а подчас и хитрость, чтобы заставить какого-нибудь духанщика отказаться от вывески над своим заведением. Первое время те продавали вывески за гроши, но когда прошёл слух, что какие-то молодые художники скупают их якобы для заграницы, духанщики начинали набивать цену.
Очень скоро воодушевлённые молодые энтузиасты заставили газеты писать о художнике. Первая статья, написанная самим Зданевичем под заголовком «Художник-самородок», появилась в газете «Закавказская речь». Тогда же братья впервые и показали картины и вывески художника в Москве и Петербурге, где профессионалы сразу признали и оценили Пиросмани. Земля, как известно, слухами полнится. А люди творческие на одном месте топтаться не любят. Вот так слух о Пиросманашвили долетел до Парижа, и вот уже парижская газета, с подачи Ле Дантю, помещает о нём статью о художнике, в которой были следующие слова:
«…Оригинальный грузинский художник. Дитя народа… Бедняк-маляр… Не проходил никакой школы, а в то же время… Связь с грузинской фреской, древним орнаментом… Самобытен. Выработал собственную технику».
«…При очень большой наивности может поспорить с крупнейшими мастерами Европы. Темперамент национальный, гордый, переливающийся на солнце…»
«…Спиральная композиция в картине „Рыбак“, колорит ее, приемы письма напоминают лучшие вещи Дерена и Матисса, о которых грузинский самоучка и не слыхивал…»
«Натюрморты Пиросмани – маленькие шедевры. Портреты людей из народа… Реалистичен, как Сезанн…»
Статья была переведена с французского и облетела весь город. Среди творческой богемы началась активная полемика. Многих из этой братии ведь и хлебом не корми – дай поговорить. Обычно над его картинами просто смеялись, причем и равнодушие, и издевательства шли из среды интеллигенции, даже от художников, от которых, казалось бы, этого менее всего можно было ожидать.
Одни поддерживали Пиросмани, видя в нём природный талант, другие же говорили, что ему просто повезло. Вот так примерно выглядела дискуссия в художественной среде:
– Кто сказал, что Пиросмани – «примитивист»? – спрашивал один. – Это придумали те, кто считает народ примитивным. Но народ не примитивен. Он мудр! А Пиросмани – плоть от плоти народной. Не «дитя народа», как пишут французы, а мудрец!
– Не обидно ли вам, господа хорошие, – с язвительной усмешкой спрашивал второй, – что французы не нашли у нас другого «мастера живописи», кроме этого вывесочного маляра? Разве его работы можно считать за картины, ведь они написаны на обычных клеенках, и совсем не похожи на произведения, коими мы любуемся в музеях и на выставках. А эти – находятся в низших увеселительных заведениях. Сказали тоже, Матисс и Сезанн! Бред какой-то! У французов явно деградирует художественный вкус!
Ему вторил третий голос:
– Ха-ха, интересно, как же это перевели на французский язык слова «Да здравствует хеба солнаго человека»?
– Неучи! – искренне возмущался Зданевич, и делал это дерзко и без особых церемоний, как истинный футурист. – Шакалы, питающиеся падалью европейского рынка. Вы уверены, что искусство обитает в театрах, и превозносите художников, питающихся отбросами импрессионизма. Многие из вас, критики и профессора, молодые и старые, не стоят сантиметра его клеенок. Грузинский народный художник оценен Европой. Это вызывает у меня гордость. Гордость за наш талантливый народ!
Cпустя несколько месяцев после выхода статьи, здесь, в Тифлисе, Илья Зданевич устроил у себя на квартире в Кирпичном переулке первую выставку картин художника Пиросманашвили. По всем правилам он отпечатал приглашения для всего города, организовал статьи в газетах. Выставка была открыта с полудня до шестнадцати часов, но ее успело увидеть около восьмидесяти человек. Пресса разразилась восторженными отзывами. О Нико писали как о выдающемся явлении грузинской культуры, а о его «Натюрморте» отзывались как о произведении, которое «сделало бы честь самому Сезанну». Всё это вызвало немалый шум. Теперь это событие точно не забудется, а десятки чудесных картин Пиросмани не пропадут! А потомки будут славить его имя и вспоминать с благодарностью тех, кто спас его от забвения и сохранил для людей.
Постепенно уже не только русские авангардисты увлекались искусством Пиросмани, в этот процесс включилась и грузинская творческая молодежь. Заметки и статьи о нём появлялись не только в русских, но и в грузинских, и в армянских газетах. Возникло слово «пиросманисты» – так окрестили его приверженцев.
* * *
Но картины картинами. А кто же он, их удивительный автор? О нём почти ничего не знали. Он существовал «где-то в Дидубе». Ну не мог же он сквозь землю провалиться? Поговаривали, что он спился и бросил живопись, что он уехал на родину в Кахетию или вообще умер.
Одно утешало молодых людей: многие вещи его они уже спасли и, даст Бог, ещё найдут их немало и ещё спасут, а что касается его самого… Что они могут сделать, если он сам бежит от людей? Живёт как может, как умеет. Сам выбирает свою дорогу. Или небеса за него решают его судьбу…
Но нельзя опускать руки. Надо его разыскать! Непременно разыскать, чего бы это им ни стоило!
На Авлабаре художника не оказалось. Саркис, известный в округе своей честностью виноторговец сказал им, поглаживая усы:
– Нет, господа хорошие! Нет его здесь. Не ищите его в Авлабаре. Здесь его уже давно не видел никто… Было время, когда он жил здесь. Жил и у меня. Он написал тогда, как я разливаю вино. Замечательно написал! И я настоящий, и вино настоящее. Но это было давно…
– Где же его искать?
– Чего не знаю – того не знаю, молодые люди. В Сололаки точно не ищите, там богатые люди живут. Там его уже и не знают. В Ортачала тоже не ищите… Когда-то он часто там бывал… И кутил, и знакомство у него там было, говорят. Но вот – война началась, все весёлые дома прикрыли. Это у «них» называется «сухой закон». Не то, что в былые времена! Эх, какая же это торговля сейчас? Горе одно, а не торговля… – вздохнул духанщик. – Кому Никала теперь нужен? Кто его будет кормить? Торговля умерла. Не до картин нынче никому. А когда его рисунки здесь висели – народ ко мне валом валил, всегда шумно было, весело было…
– Что же нам делать, милейший? – повторил свой вопрос Кирилл, но прославленный духанщик не ответил, лишь вздыхал:
– Ах, Никала, Никала! Святой он человек. Слишком людей любит. Всё повторял, «сердиться, мол, каждый дурак может. А любить всех – это от Бога!» А за что, скажите на милость, их так любить? Я вам вот что скажу, молодые люди: не стоят они того, чтобы их так любить…
* * *
Действительно, в Грузии с 1910 года начался усиленный рост революционного движения. В 1913 году по стране прокатились мощные волны рабочих и крестьянских выступлений. Бастовали рабочие Чиатурских рудников, к ним присоединились рабочие Поти, Батуми, Зестафони, занятые вывозкой чиатурского марганца. Их число превысило 10 тысяч человек. Забастовщики требовали сокращения рабочего дня и увеличения заработной платы, улучшения условий труда и жизни. Эта борьба закончилась победой рабочих. Увидев успех, волнения начали рабочие ткибульских угольных копей, результатом чего стало введение 9-часового рабочего дня и увеличение заработной платы на 20 процентов. Таких же побед добились работники тифлисского городского транспорта.
Революционное движение набирало обороты, вовлекая в свой водоворот и крестьянство, чьё положение было усугублено безземельем и многочисленными податями и налогами. 1914 год был отмечен мощными Первомайскими забастовками почти во всех промышленных центрах Грузии. Но они был прерваны войной.
Германия объявила войну России. Союзники последней требовали пушечного мяса и Российская армия, будучи неподготовленной к боевым действиям, очень скоро начала терпеть поражение за поражением. Особенно тяжёлое положение наблюдалось на Кавказском фронте, где распространялись эпидемии тифа, холеры и чумы. Война вырвала из обычной жизни 200 тысяч человек. Обритые наголо и облачённые в папахи и фуражки, они мрачной солдатской рекой, через узкое горло железнодорожного вокзала, через вопли матерей и свистки паровозов, отправлялись на бойню, прямиком – во чрево войны. Тифлис опустел. Куда-то исчезли празднества, гуляющие парочки на Головинском проспекте, фаэтоны.
В сентябре в газетах начали публиковать фотографии раненых и убитых. В городе показались первые раненые – худые, измождённые и молчаливые, они походили на пришельцев с того света. В их глазах стояло недоумение. Дела шли хуже и хуже, и становилось ясно, что дальше будет ещё хуже.
Ряд отраслей промышленности стал работать на военные нужды. Большевики призывали к забастовкам, которые прошли на тифлисских табачных фабриках, мыловаренном заводе, в типографиях. Сильные волнения начались и среди рабочих Тифлисских Главных мастерских Закавказской железной дороги и других предприятиях. В ряде сёл имели место вооружённые столкновения крестьян с воинскими частями. Главнокомандующий Кавказской армией издал приказ, в котором грозил отправкой на фронт рабочим оборонной промышленности, если те посмеют забастовать. Назревала неотвратимая революция…
Но Тифлис есть Тифлис. Несмотря на кровопролитную войну, духаны и погреба здесь всё же не пустовали – ни днём, ни по вечерам: лишить трудового тифлисского человека веками освященного стакана вина всё равно, что лишить его воздуха, и никакие строжайшие и наистрожайшие запреты начальства ничего с этим сделать не могли. Люди твёрдо верили в веками выверенные законы жизни и в то, что война – не война, а рано или поздно всё на свете опять возвратится на круги своя.
* * *
– Так вы что, молодые люди, Никалу нашего ищете? Трудно его теперь найти. Трудно! Не знаю, что и посоветовать вам, – осторожно вымолвил Арчил, толстый, плутоватого вида духанщик, подозрительно рассматривая молодых студентов, словно они были террористами, или, что хуже – турецкими или германскими агентами. – Конечно, я его знал. Ещё как знал! Он был мне друг. Я его поил, я его кормил, краски ему покупал, клеёнки, а он здесь жил. Там вон, в углу, за большими бочками, – там он жил и там же рисовал… Очень быстро рисовал. Пока люди стаканами чокались, мог льва нарисовать! Ни на что не обращал внимание – ни на звон посуды, ни на пение или пьяные крики. Скажешь ему: «Никала! Нарисуй оленя». Пожалуйста, нарисует оленя. Или скажешь ему: «Нико! Нарисуй светлое Христово Воскресенье», – нарисует, много людей нарисует, и церковь, и праздник, и шарманку, и вино в бочонках. И ещё напишет, чтобы всем понятно было: «Слава Богу, что дожили до Пасхи». Мне хорошо, гостям хорошо. И ему хорошо… Бывало, конечно, что и заупрямится: не хочу рисовать это, не хочу рисовать то… потому что, мол, за спиной стоишь, советами своими дурацкими отвлекаешь. Но хороший, отзывчивый был человек. Объяснишь ему, нальешь стаканчик вина, ещё нальешь… Пообижается немного, но обязательно сделает. А когда выпьет – отломит от хлеба кусочек, пожует и ничего больше не ест… Никогда не отказывал никому, разве что только в похмелье…
– А где у вас его картины? – спросил Мишель.
– Ах, грешный я человек! Продал я его картины. Всё, что было, продал. Деньги были нужны, новое дело хотел открыть, большое дело, а тут война, будь она трижды проклята! Сам теперь жалею, что продал. Был у меня друг Нико. Нет у меня теперь друга Нико. Пусто стало в духане. Но где его теперь найдёшь? Ушел он отсюда. А куда – кто же его знает, куда? Он всегда так: когда хотел, тогда и уходил, когда хотел, тогда и приходил… Вольный был, как птица. Ни дома, ни семьи, ни забот. Ходил как граф. Один ящик с кистями имел да помятый костюм со шляпой… Ничего, ничего, вот кончится война, пойдут дела в гору – обязательно назад все откуплю, что продал, – проговорил духанщик. – Сниму самый большой в Тифлисе подвал, открою такой духан… самый лучший в мире духан! И весь подвал, все стены в нём будут Нико, один Нико. И духан так и назову: «У Нико»… Милости просим тогда, дорогие друзья! Всех приглашаю. Ко мне в гости, к Нико в гости – всех!… Но что же вы стоите, молодые люди? Присаживайтесь, прошу! Хотите к этому столу, хотите к другому. Сейчас вино чёрное из погреба подымем, оно специально припрятано для достойных людей. И шашлык на вертеле поднесём…
– Вы думаете, он… Он уже умер?
– Не знаю, молодые люди. Не знаю. Может быть, и умер. Болел он последние годы. Очень болел. Как закашляется, так с полчаса отойти не может. Худой, бледный, глаза горят. Думаю, что чахотка у него. А может, и не она. Может, ещё что, кто знает?
В углу заныла старенькая шарманка, тяжело хлопала входная дверь, впуская и выпуская посетителей, трещали дрова в очаге, пахло мясом, вином, опилками, плотным слоем насыпанными на полу… На улице сгущались сумерки, шёл снег с дождём, а в духане потемнело, и буфетчик зажёг керосиновые лампы.
Когда они выбрались наружу, над городом уже горели газовые фонари. На прощание Арчил дал им адреса нескольких питейных заведений по соседству, где раньше обыкновенно бывал Нико и где могли что-нибудь знать о нём.
Часа два, наверное, не меньше, они кружили по улицам и переулкам, переходя от вывески к вывеске, от двери к двери и повсюду спрашивая про Нико. Везде кто-нибудь что-нибудь знал о Никалу, но никто не знал, где он сейчас, что с ним и жив ли он вообще.
Той ночью их фаэтон оказался в Сабуртало. Войдя в первый попавшийся на глаза духан, молодые люди ощутили запахи горячего хлеба и крепко заваренного кофе. Внезапно они увидели на стенах этого заведения картины…
– Это он! Смотри – Нико Пиросмани! – воскликнул Мишель. Со стен на них смотрели человеческие глаза двух ланей и оленя.
– Картины продадите? – спросил Кирилл у духанщика.
– Нет. Не продаю. С чего взяли, что продаю? – взгляд торговца стал пристальным и настороженным. – Зачем вам? Вы кто такие пожаловали? Перекупщики?
– Нет, батоно, мы не перекупщики. Мы художники. Но если бы вы продавали, мы бы купили.
– Ага, купили бы, значит. Дали бы мне по десятке, а продали бы по сотне… Убирайтесь-ка вы отсюда подобру-поздорову, пока целы. Нашли дурака. Не вы первые. Шастают тут всякие.
– Вы нас не так поняли… – постарался успокоить его Кирилл. Не хотите продавать – не надо. Дело ваше… Мы здесь не за этим. Мы самого Пиросмани ищем. Деньги ему передать должны. От общества художников… Мы знаем – плохо ему. Может быть, он с голоду помирает. А где он – мы не знаем. С самого утра по всему Тифлису ищем…
– Да? Это правда? Тогда так бы и сказали. А то – продай и всё тут! Кто вас знает?.. Всё теперь смешалось, ничего не поймешь. Смотришь: по виду вроде приличные господа, а потом вдруг оказывается – мошенники, перекупщики, а то и – скрытые шпионы-диверсанты…
– Так где он сейчас, батоно? Будьте добры, подскажите, где его искать?
– Знаю, что он жив, молодые люди… Угол снимает где-то в Дидубе. Знаю, что болел он недавно. И пил много. Хотя он всегда много пил… Жил он у меня раньше. Долго жил, а до меня – у Бего жил, почти 5 лет, в чулане при духане. Но ни я, ни Бего так и не смогли его удержать. А предлагали ведь остаться, жить в тепле и сытости, спокойно думать, спокойно работать, добиваться известности, двигаться вперед… Нет, ушёл он… Взял свой чемодан и ушёл. Сам захотел… Так ему, наверное, судьба его говорила: иди, Нико, иди! Тебе нельзя жить, как все нормальные люди живут. Ты Божий человек… А картины его у меня! И будут у меня, пока я жив. В гроб с собой велю положить! Или в какой-нибудь монастырь отдам, чтобы вечно поминали люди божьего человека Нико… Чтобы всякий, у кого душа болит, кому жить больше сил нет никаких, мог помолиться ему, Нико… Попросить у него заступничества, пожаловаться ему. Продать картины – нет, никогда! Этого греха я на душу никогда не возьму…
Он отошёл к своей стойке, налил себе водки в граненый стаканчик и, вернувшись, тяжело опустился на стул рядом с ними.
– За здоровье Пиросмани, господа! За моего друга Нико и за всех, кто его любит…
* * *
Через несколько дней молодым искателям наконец посчастливилось. Кто-то сказал, что Пиросмани сейчас пишет вывеску молочной лавки в конце Молоканской. Они кинулись туда.
На лестнице, прислонённой к белой стене лавки немца Цуккермана, владельца четырёх молочных, стоял высокий худой человек в чёрном поношенном пиджаке и мягкой фетровой шляпе, и выводил на стене большие буквы слова «Молочная».
Это был ОН!
– Вы, батоно, художник Николай Асланович Пиросманашвили? – обратился к нему один из молодых людей. Его охрипший от холода голос насторожил Нико, и он медлил с ответом, раздумывая, назвать ли ему себя. Лишь разглядывал пришедших, вполне приличных на вид людей в шляпах. Один был с виду грубоват, но мысли сверкали в глубоких его глазах, а на лице играла умная усмешка настоящего критика. Второй был щёголем, с серебряными бакенбардами. Такие, верно, носят лишь в образованном Петербурге или изысканном Париже. На носу его уютно сидело пенсне на ленточке, которое он, волнуясь, поправлял своими белыми, барскими ручками.
– Да, это я Пиросманашвили, – наконец, произнёс он, опустив кисть. – А вы кто? Что вам нужно от меня?
– Мы тоже художники, Николай Асланович… Я – Кирилл Зданевич. А это – мой друг Мишель Ле-Дантю. Мы пришли повидаться с вами, поговорить…
– Вы… Вы пришли как друзья? Или как враги?
– Николай Асланович, мы художники.
– Значит, вы тоже кистью зарабатываете свой хлеб?
– Да, Николай Асланович, да, – сказал один из них. – Мы профессиональные художники… Правда, мы толком ещё не выставлялись…
– Мы хотим вам помочь, Николай Асланович, – поддержал друга второй. – Мы пришли как друзья, не как враги…
– Мне никто уже не может помочь, молодые люди. Поздно. Мне уже пора умирать… – он вновь повернул голову к вывеске и стал выводить последнюю букву.
Работал он быстро, торопясь, видимо, поскорее сдать заказ. И подложив левую руку под правую, чтобы та не дрожала. И думал, о чём то сосредоточенно думал. С самого начала ему казалось, что «упавшие с неба» молодые люди пришли сюда, чтобы просто посмеяться над ним. Потом он решил, что они просто заблуждаются насчёт него. Но вид их был настолько открытый и искренний, а говорили они так горячо и с неподдельным чувством, что он решил дать волю случаю.
Закончив с вывеской, он не взял рассчёт, лишь махнул немцу рукой на прощание.
– Вы сказали, у вас ко мне дело? – переспросил он незнакомцев, вытирая руки тряпкой. – Ну что ж, тогда идите за мной.
Втроём они прошли не более двухсот шагов и вошли за хозяином в крохотную комнатку, расположенную под лестницей.
– Прошу вас, проходите, господа. – гостеприимно произнёс Нико. – Извините меня, здесь у меня не очень уютно, я живу один. Но зато здесь тихо. И мы сможем с вами спокойно посидеть, поговорить.
Им в нос ввалился тяжкий запах этого жилища, а то, что они увидели, заставило их содрогнуться. Такой ужасной нищеты видеть им не доводилось никогда. Пустота, рваное тряпье, ссохшаяся корка хлеба на подоконнике и кувшин воды в углу. Неужели это всё, что нашлось у Бога и у людей для человека, прожившего и протрудившегося на земле больше, чем полсотни лет?
– И вы… Вы здесь живете?! Ну и ну… – вырвалось у Кирилла.
Более уравновешенный и спокойный, Мишель дёрнул его за рукав, но было поздно. Губы Нико сжались, и в глазах вспыхнул гнев. Он вскинул голову и распрямился, но и эта гордость была уже теперь ему не по силам. Прошло мгновение, и глаза его опять потухли, плечи поникли, седая голова свесилась на грудь, и, вздохнув, он тяжело и безразлично опустился на свою тахту.
– Да, это мой дом. Здесь я живу. И если вам здесь так не нравится, молодые люди, то я вас не звал…
– Нет, батоно, нет! Дело не в этом… – попытался исправить неловкость своего друга Мишель. – Просто трудно понять, как вы здесь работаете. Вы ведь пишете здесь, не в другом месте?
– Да, я пишу здесь… Я всегда писал там, где я жил. И у меня никогда не было мастерской… Но я привык. Была бы клеенка, был бы картон, краски… Был бы стакан водки. А писать я могу всегда и везде. Хотите, я сейчас здесь что-нибудь напишу для вас? Я с удовольствием напишу. Только тогда кому-нибудь из вас надо будет сходить в духан… Это недалеко, здесь за углом. Принести немного выпить для меня… Но вы кажется по делу пришли? Какое дело у вас ко мне? Разве там, в городе, кто-нибудь ещё помнит обо мне? – непередаваемая у него была улыбка – что-то по-детски чистое чувствовалось в глазах и облике художника.
– Помнят, Николай Асланович, помнят! И хотят вам помочь… Ваша живопись замечательна, а вы – великий мастер!
– Я не великий… Вот Шота Руставели – он великий. О нём песни поют, ему поклоняются. А я просто художник. Люди любят смотреть на мои картины. Здороваются со мной, приглашают к столу, угощают. Спрашивают о здоровье, спрашивают, где я пропадал. Но я не великий… У великих должны быть ученики, а у меня их никогда не было. Потому что учитель прежде всего сам должен знать, как надо и как не надо. А я не знаю, как надо. Я знаю только, что так я могу, а так – не могу, что так хорошо, а так нехорошо… Не знаю, что правильно и что неправильно. Если нравится мне, значит, хорошо. Вот вы пришли ко мне, значит вам нравится, что я делаю, вы вспомнили обо мне – чего же ещё мне хотеть? И раньше тоже люди приходили, благодарили меня… Говорят, что и в Москве, и даже в Париже теперь обо мне знают… Это очень хорошо, что знают. Как подумаешь об этом – легче умирать. И не такой уж пропащей кажется жизнь…
– А у кого вы учились рисованию? – поинтересовался Зданевич.
– У странствующих художников, молодой человек, расписывавших вывески разных лавок.
– Вы пишете на клеёнке? Почему не на холсте?
– На ней удобнее: клеёнка без труда прикрепляется к подрамнику, легко режется и хорошо скатывается в трубку.
– Говорят, вы снимаете её прямо со столов духанов и расписываете на глазах изумленной публики?
– Чего только эти духанщики не выдумают, – грустно усмехнулся Нико. – Нет, клеёнку я покупаю. И не столовую, а особую техническую, на парусиновой основе – из неё шьют верх для фаэтонов. Эта клеёнка плотная, однородная, краска отлично на неё ложится.
– Может быть, вы знаете, Николай Асланович, что у нас образовалось общество грузинских художников. Будем друг друга поддерживать, друг другу помогать… Общество поручило нам разыскать вас и передать вот этот конверт. Здесь немного денег для вас. На одежду, на краски…
– И на хлеб, – деликатно вставил Мишель.
– Да, и на хлеб тоже… Мы понимаем, вам ведь сейчас нелегко. Но ведь не вечно же так будет продолжаться! Вы поправитесь, опять начнёте много работать…
– Спасибо, молодые люди, спасибо вам за всё… – на его глазах выступили слезы. – Я обязательно куплю на эти деньги краски. И, конечно, клеёнку, если повезет её найти. Спасибо вам. Господь непременно воздаст вам за вашу доброту… О, так значит, у меня сегодня праздник? В моем доме друзья, которые пришли меня навестить, справиться о моих делах, о моем здоровье… Это большой праздник! Только чем же мне вас угостить? – он засуетился и посмотрел по сторонам своей пустой каморки. – Я совсем не готов к такому празднику. Я просто не думал, что ко мне может кто-нибудь прийти. И у меня нет ни вина, ни лимонада… Хотите воды? У нас здесь прекрасная вода. Великолепная вода! Чистая, прозрачная. Такой в Тифлисе больше уже нет нигде…
– Спасибо, Николай Асланович. Не тревожьтесь, не стоит.
– Вижу, вам холодно, молодые люди… Я сейчас поднимусь к хозяевам, они мне отсыпят углей. Я скажу им, что у меня гости, уважаемые люди, что у меня здесь холодно… Вы посидите тут немного без меня, я скоро вернусь. И у нас опять будет тепло… Ах, глоток бы водки сейчас… Вы только не уходите, хорошо? Мне очень хочется с вами посидеть, поговорить… Мы еще долго будем разговаривать. Вы мне расскажете про себя, я вам про себя. И ещё мы поговорим об искусстве. Я давно не говорил ни с кем об искусстве. Да и не с кем мне здесь говорить. Все молчу, молчу…
– Ваша жизнь – святая жизнь…
– Нет-нет, я тоже грешный человек, многих хороших людей в своей жизни обидел ни за что… А вот молиться я не умел. Никогда не умел. И в церкви я тоже уже не помню, когда был… Но иногда мне кажется… что картины мои – это и есть моя молитва. Одна и та же молитва с того самого дня, когда я впервые взял в руки кисть…
Он увлекся, стал вспоминать то, что его волновало и беспокоило, то, о чем не стал бы рассказывать совершенно чужим людям, потому что почувствовал, что эти молодые люди понимают его заботы, и, наконец, ощутил их близкими, ощутил, что и он, и они – братья по ремеслу, несмотря на всё, что разделяет их.
– Пожалуйста, приходите завтра на наше собрание. Вас там очень ждут. Многие ждут… Мы, художники, должны объединиться, должны помогать друг другу. У нас будет союз, будет кому защищать наши интересы. Мы очень просим вас, Николай Асланович…
– Собрание… Это значит будет много людей… – размышлял он. – Там будет много людей?
– Много. Уверен, что много. Это же первое учредительное заседание нашего общества. Я думаю, все придут.
– Я не знаю, молодые люди. Я боюсь, когда много людей… Не умею я красиво говорить…
– Зачем же бояться, Николай Асланович? Это все художники, скульпторы, критики. Они все знают вас. Положитесь на нас – мы никому не позволим вас обижать… И нам очень нужно, чтобы вы пришли.
– Наверное, это будет большое торжество. Все будут хорошо одеты, будут сидеть в креслах, в большом светлом зале… А у меня нет приличного костюма, рубашки… Выгляжу как оборванец. Мне будет неловко за себя…
– Кому какое дело, как вы одеты? Вы великий художник, и при чем тут старый костюм? Это им должно быть стыдно, что гордость Тифлиса живет у них на глазах в такой бедности. Важно, чтобы вы пришли, чтобы люди видели вас. Ну, так как? Придёте?
Он колебался в нерешительности. С одной стороны, ему хотелось познакомиться с художниками, и, если повезёт, когда-нибудь побывать в их студиях. Его всегда тянуло к образованным людям, точно как голодного тянуло к богатой пище, сердцем манило к мудрым и знающим, к умеющим толково говорить и остро спорить. Но перевесила его стеснительность и он тихо ответил:
– Не знаю… Может быть, приду. Хотя не хочется мне приходить. Я боюсь людей. Слишком я от них отвык…
* * *
…Наступил долгожданный вечер – холодный, с декабрьской слякотью. У одного из зданий на Головинском наблюдалось оживление. Гости, нарядно одетые, кто в богатых шубах и пальто, кто – в чохе, а дамы – в шляпках и с зонтами, минуя швейцара, входили в помещение и поднимались вверх по мраморной лестнице, покрытой ворсистым ковром, мимо бронзовых канделябров, в зал, где горели люстры, повторяясь в высоких зеркалах. На пороге гостей встречал седой господин, галантно кивая им головой. Зал поражал воображение своей лепниной и позолоченными статуями в углах. А в его центре были расставлены мягкие кресла, перед которыми, на некотором пьедестале, прямо под портретом императора-самодержца Николая, стоял стол, покрытый сукном и украшенный цветами. Перед ним была установлена трибуна с лампой под зелёным абажуром.
Несмотря на условия военного времени, а также неверие некоторых представителей тифлисской художественной богемы, работа по организации учредительного собрания оказалась на удивление успешной. Ну вот, наконец-то теперь разобщенные, привыкшие жить и действовать на свой страх и риск грузинские художники получат столь остро необходимую им общественную защиту в лице собственной организации, способной заставить всех считаться с собой и со своими интересами.
Тот самый представительный господин, который встречал гостей у входа, уже почти заканчивал свой доклад на трибуне, когда в зале появился Нико Пиросмани. Он опоздал, греясь в первых попавшихся по пути духанах своим любимым снадобьем, помогавшим и беде, и в радости… Ах, как же не хотелось ему идти сюда! Но он обещал, обещал хорошим людям. И сдержал слово, пришёл – сутулый и бледный, но красивый, с седой бородкой и усами, в пальто и чёрной шляпе, с шарфом на шее, и с тростью в руках. Его появление вызвало некоторое оживление, люди поворачивали головы – ведь о нём много слышали, о его творчестве спорили. Кое-кто, по профессиональному своему обыкновению, стал карандашом зарисовывать его портрет в свой блокнот.
Он сел и стал потихоньку осматриваться по сторонам. «Неужели в Тифлисе столько художников? Наверное, меня знают, раз не отводят глаз», – думал он. – «А я то никого из них не знаю!». Но радостная теплота разлилась по его телу, когда он увидел лица своих друзей, братьев Зданевичей – Кирилла и Ильи. Те смотрели на него и очень приветливо кивали головой.
Весь вечер он просидел, скрестив руки на груди и слушал. Слушал с огромным вниманием. А в глазах его блестел свет необъяснимой радости.
После доклада начались прения. Выступающие говорили о необходимости объединиться, о связи искусства с народной жизнью, о материальных и других нуждах творческих работников. Так продолжалось достаточно долго, пока на трибуну не вышел чванливый юнец, и попытался пронести свои анархистские лозунги об «очистительной роли искусства», о великой радости разрушения и о необходимости вышвырнуть на свалку истории весь этот старый хлам отживших свой век идей и предрассудков. «Кому сейчас, сегодня нужен Леонардо да Винчи? Скажите, кому?» – кричал он, размахивая кулаками и брызгая слюной. – «Только людям ограниченным, лишённым воображения!»
Народ неодобрительно затопал ногами и «оратора» без труда спихнули с трибуны. Но художники шумели, и председателю пришлось терпеливо звонить в свой колокольчик, чтобы наконец вновь установилась тишина.
В завершение всего, вдруг громогласно, на весь зал, раздалось совершенно неожиданное:
– Пиросмани, слово!
– Кому? – захваченный врасплох, переспросил председатель. Заявленного докладчика явно не было у него в программе.
– Пиросмани! Пусть скажет Пиросмани! Мы хотим, чтобы он тоже что-нибудь сказал… – раздавалось множество других, требовательных голосов.
Переглянувшись с членами президиума, председатель развел руками, как бы давая понять, что он вынужден подчиниться давлению общественности, и объявил:
– По просьбе присутствующих, и по настоятельной рекомендации художников Зданевичей, слово предоставляется господину Пиросманашвили, живописцу, живущему в нашем городе. К сожалению, многим из нас он до сих пор не известен, хотя о нём писали в петербургской и парижской прессе. Его творчество весьма разнообразно. Им разрисовано множество тифлисских духанов, подвалов и трактиров. На их стенах мы можем увидеть Кахетию, охоту, праздники, сам Тифлис и историю Грузии, царицу Тамар, Гиоргия Саакадзе, Шота Руставели. Особенно художнику удаются животные, звери и птицы, из которых хочется отметить «Оленя», «Льва» и «Жирафа». Господа Зданевичи считают, что его творчество заслуживает внимания… Итак, просим Николая Аслановича пожаловать сюда, к трибуне для выступающих…
Опираясь на трость, он медленно поднялся со своего кресла и выпрямившись, оглядел аплодирующий ему зал своими печальными глазами.
– Глупая привычка – хлопать в ладоши. – думал он, удивлённо оглядывая присутствующих. – Зачем? Зачем одна рука бьёт другую? За что? Что одна сделала другой? – недоумевал он. – Чтобы кому-то одному, то есть мне, раз я стою, а все они сидят, было приятно от этого шума? Нет! Благодарностью должна быть тишина. Только молчание может быть настоящим благодарением. А когда рука бьёт руку в твою честь, она может потом и тебя ударить. Сначала люди тебе хлопают, а потом они хлопнут и тебя самого…
Наконец наступила могильная тишина. Преодолев охватившее его сильнейшее волнение, он вытер капельки холодного пота и произнёс слабым голосом:
– Братья… Мне кажется… Мне кажется, что все мы сегодня говорим не о том… Вы спрашиваете, братья, что нам нужно – каждому из нас. Я вам скажу – что, потому что я много думал над этим… И раньше думал, и сегодня, когда сидел вот тут в углу… Братья! Посреди города, чтобы всем было близко, нам нужно построить большой деревянный дом, где бы мы могли собираться. Купим большой стол, большой самовар…
– Что это? О чём он толкует? О каком таком самоваре? – тихим шёпотом пронеслось по залу.
– Большой стол, большой самовар, – продолжал он задумчиво. – Будем пить чай, говорить о живописи, об искусстве… А то, как оно бывает сейчас? Написал художник картину, торговец продал, кто-то купил и повесил у себя. И конец. И никто не знает о ней. Обязательно нужно художникам собираться. Но только этого надо очень захотеть, братья… А вам… А вам всем, похоже, этого ещё не хочется пока… Пока вы все говорите о другом… И боюсь, что вы ещё долго будете говорить о другом…
Это выступление вызвало недоумение у собравшихся. Они ожидали услышать из уст хвалёного живописца что-то выдающееся и истинно мудрое, а взамен получили идею про какой-то самовар… Чушь какая-то! Но когда кое-кто из участников потребовал слова, чтобы дать отпор столь неуместному выступлению, обнаружилось, что «возмутителя спокойствия» в зале уже нет. Он исчез, и никто не заметил, как это произошло…
Глава 11. Агнец Божий
Прошёл год, как Пиросмани пропал. Никто не слышал о нём ничего. Кто-то говорил, что он избегает художников, а кто-то утверждал, что он давно умер.
Но он был жив, хотя и пропадал неизвестно где, ни с кем не попрощавшись перед исчезновением, никому не посылая вестей. Сильно его обидела анонимная карикатура в газете «Сахалхо Пурцели», где он был изображён в одной длинной рубахе с голыми ногами, и с бутылкой в кармане, стоявшим перед мольбертом с «Жирафом». А рядом с ним искусствовед, который говорит ему: «Тебе нужно учиться, братец. Лет через 20 из тебя может выйти хороший художник, вот тогда мы пошлем тебя на выставку молодых».
– Значит, считают, что рисовать не умею «по-закону»! – в сердцах сказал он. – На смех меня подняли? Считают меня маляром, не художником. Ну что ж, маляр – так маляр. Хороший маляр тоже раз в сто лет рождается! Одного не понимаю я, чем я им помешал? Что им не нравится во мне? Разве я у них что-то просил? Это ОНИ сулили мне «золотые горы». – сокрушался он. Потом взгляд его стал твёрже, и он упрямо произнёс:
– Как до сих пор я пахал и сеял, так и буду продолжать! Никогда надо мной хозяев не было, и не будет! Негодяи! Рисовалось мне – и я рисовал! Сам Святой Гиоргий с плетью стоял надо мной, твердил: «Рисуй, Никала, рисуй!». Разве не так это было?
Какое вам дело до меня? Писал я, как хотел, как чувствовал, писал не как видели мои глаза, а как видело сердце…
…Новый 1918 год ознаменовался суровой зимой. Мокрый снег чередовался холодными дождями, но даже когда они ненадолго прекращались, погода оставалась мрачной, холодной и пасмурной. Ветер нёс рваные облака по тёмным улицам. В сумерках они казались парусами, словно эскадры неведомых завоевателей сходились к Тифлису, становясь на рейд за темнеющими горами. Всё перевернулось в этом мире за прошедший год. В феврале семнадцатого рабочие и солдаты Петербурга свергли царское самодержавие. В стране победила революция. Меньшевики поддержали Временное буржуазное правительство. Солдаты всё еще стояли на опутавших земной шар фронтах – друг напротив друга.
Где ты, мой старый Тифлис – весёлый и пёстрый, шумный и деловой? Неужели ты умер, канул в прошлое? Не стало никакой работы. И не было мира. Его место заняли стон и протяжные вопли матерей над телами свои убитых сыновей и мужей. Не хватало хлеба. На смену ему пришли болезни, голод, мор от испанки, и угрюмые длинные очереди в ночную стужу перед пустыми продовольственными магазинами. Утром полиция будет подбирать скрюченные тела тех, кто, не дождавшись хлеба, намертво замёрз этой ночью. На улицах тьма. Не жгут газовых фонарей. В котловине – Тифлис, точно врытое в горы гнездо. Откуда оно – это злое ненастье?
На фоне трагического упадка наблюдался рост большевистского влияния и устраивались вооруженные восстания по всему Южному Кавказу. Созданный меньшевиками Закавказский Сейм не принял участия в Брестских мирных переговорах с Германией, и попытался сам заключить с Турцией сепаратный мирный договор. Но из этого ничего не вышло – турки прервали переговоры, перешли в наступление и вторглись в Грузию, заняли Батуми, Озургети и грозили захватом Тифлиса. Яркая жизнь, что некогда здесь процветала, преобразилась до неузнаваемости. Наступили смутные, беспокойные времена, всё рушилось и летело в тартарары. Тифлис оказался в тисках разрухи и голода. Днём по Головинскому, главному проспекту города, теперь браво маршируют иностранные солдаты: британцы, немцы и шотландцы. Последних легко отличить – странные они, эти мужчины, на них юбки в клеточку. Что они делают в моей несчастной стране? Кто их сюда позвал? По ночам горожане просыпаются от грозных окриков, от стука оружейных прикладов и матерной брани. Город не в силах бороться с бандами разбойников, стрелявших с фаэтонов. Не вместить ему беженцев с севера. И цены на жилье подскочили до невиданных размеров.
Тогда, в начале 1918 года, никому не было дела до Пиросмани.
Одни духанщики закрыли свои заведения и скрылись в деревне до лучших времен, другим было не до обновления вывесок. Они, когда-то с любовью и старанием разрисованные художником, пошли на жестяные трубы для печек – «буржуек». И долго ещё сквозь копоть проступала на такой трубе гроздь спелого винограда.
А он, Нио, всё ещё находил в себе силы блуждать по обессилевшему городу в поисках жилья и работы, но каждый новый день повторял предыдущий. Безнадёжно уставший. Тифлис жил воспоминаниями. Настоящее было так на него не похоже…
Жить художнику было негде. Работы никакой. Но ведь он должен писать – писать каждый день, превозмогая боль в груди, боль в пояснице, превозмогая лихорадку и этот страшный кашель, раздирающий в куски его легкие, писать, несмотря на слабость в руках, на голод и холод, несмотря даже на эту нарастающую темноту в глазах… А чем же ещё ему жить, если не писать?
И он упорно продолжал ходить по знакомым, тысячи раз исхоженным местам – робко стучал в двери, спускался в заколоченные подвалы, заглядывал в пустые лавки, пересекал весь город от Дидубе до Ортачала… Когда-то здесь были «весёлые» сады, здесь лилась завораживающая душу музыка, звучало многоголосое пение. Здесь сперва выбирали тамаду, потом назначали его помощника, потом, с буйволиными рогами в руках произносились мудрые и глубокие тосты во здравие собравшейся здесь почтенной компании, один тост добрее другого, и люди пили, тихо и достойно, а столы ломились от вкусной еды и янтарного вина…
Только ранней холодной весной о Пиросмани всё же вспомнили. Общество художников Грузии, подталкиваемое усилиями братьев Зданевичей, издало постановление:
«Если жив Пиросманашвили Николай Асланович, – узнать, где проживает, и оказать ему денежную помощь». Посланцу общества художников, молодому Ладо Гудиаашвили удалось невообразимое – он раздобыл адрес, по которому якобы мог находиться бедный художник… где-то в Дидубе, в подвале на Потийской улице. Дверь рядом с мусорным ящиком.
…Он смиренно лежал на давно отжившей свой век поломанной лежанке, укрытый старым пальто, и стучал зубами от холода. Рассвет тусклым светом потихоньку просачивался в его крохотное, всё в трещинах, окно, осветив пустой ящик из-под фруктов, поставленный вертикально и служивший ему столом, и другой – точно такой же, но уложенный горизонтально, что был ему стулом. Слабый и болезненный лучик весеннего света перепрыгнул на его лицо, обнажив очертания его тела, вокруг которого разбросана груда разного ненужного тряпья. А перед самой лежанкой, у стены, стоял подрамник, на котором был закреплён большой чёрный кусок картона, загрунтованный ещё вчера, а рядом лежали кисти, тюбики краски и банка с водой. Всё это скудное «имущество», окружённое могильным холодом, помещалось в узкой, похожей на гроб, лачуге со скошенным потолком, который на самом деле был не потолком, а лестницей, ведущей на второй этаж деревянного дома, затерянного на одной из самых грязных, самых глухих улиц тифлисского предместья Дидубе. Кто этот могущественный злодей, что, сердясь, загнал его сюда для того, чтобы окончательно убить безрассудно сопротивляющуюся его воле жизнь?
Его стон нарушил утреннее безмолвие. Из под пальто высунулась седая голова с ещё закрытыми глазами. За ней вылезла худая рука и стала вслепую искать кувшин с водой на поверхности ящика. Глубоко кашляя и издавая тихие стоны в этой сырой полутьме, человек присел на своём ложе, боясь опустить на булыжный пол свои закоченевшие ступни. Ощущая боль во всём теле, он прислонился к стене и, стуча зубами от утреннего холода, опустошил весь кувшин, пролив на себя половину его содержимого. После чего тело его неслышно сползло под пальто и затихло, оставив своего хозяина наедине с самим собой. Спи, Нико, пока спится… Спи и не думай ни о чем…
Но заснуть не удавалось.
Понемногу дом наполнялся голосами: недовольно скрипели открываемые кем-то ворота, противно лязгала цепь от ведра, брошенного в колодец, стучали каблуки по лестнице у него над головой… Вот встанет он сейчас, выйдет во двор, а дети, которым невдомёк, что идёт война, что сейчас не до озорных игр, опять начнут его незлобно дразнить, приговаривая:
«Николай-Николай,
Сиди дома – не гуляй.
А то бырышня придёт,
Поцелует и уйдёт…»
Да, но откуда этот стук? Как палкой по голове. Кто это? Хозяин? Или полиция? Опять будут приставать, спрашивать у него паспорт, а где он его возьмет? А может быть, это не хозяин и не полиция, может быть, это хозяйские дети, выдумавшие теперь новую игру – бросаться камнями и стучать к нему не в стену, а в дверь? О, Господи… Нет покоя человеку на земле. И здесь, в этой берлоге, ему не отсидеться и не скрыться от людей… Надо вставать и идти отпирать засов… Благо, далеко идти не надо – до двери всего полтора шага.
Он, придерживаясь рукой за косяк, толчком открывает скрипучую дверь своей каморки, дневной свет со двора на мгновение ослепляет его. На пороге стоит фигура молодого человека, но против света его больные, привыкшие к полутьме глаза, долго не могут разобрать лица стучавшего. Что-то зловещее чудится ему и, пугаясь, он отступает назад.
– Кто вы? – спрашивает он. – Кого вам нужно?
– Мне надо господина Пиросманашвили. Меня зовут Гудиашвили, – отвечает фигура. – Я художник. Вы помните меня? Я рядом с вами сидел на собрании, вы ещё с вопросом обратились ко мне…
– Вас я, кажется, помню… Но если не помню – вы не обижайтесь на меня. Я стал совсем стар. И, кроме того, я нездоров. Давно нездоров. – сказал Пиросмани. И с грустью продолжил. – В жизни бывают минуты светлые и горькие. Мне больше досталось горьких… Но прошу вас, проходите, господин Гудиашвили, будьте гостем. Садитесь вон туда, – он засуетился, показал гостю на ящик, а сам уселся на перевёрнутом ведре. – Вот тут я и живу… Чем же вас угостить? Есть немного хлеба – могу угостить. Вот! – с этими словами он достал из самодельного шкафчика кусок чёрствого хлеба. Потом извинился, что «нет лимонада», и налил из глиняного кувшина стакан воды.
– Не беспокойтесь, господин Пиросманашвили, – заволновался хорошо воспитанный молодой человек. – Не вставайте, пожалуйста.
– Помните, я что был у вас, у художников? До сих пор не могу понять, хвалили вы меня тогда или ругали? Должно быть, ругали, раз осмеяли в газете. Только не подумайте, что я злопамятный. Честно говоря, я давно забыл об этом.
– А мы о вас не забыли, господин Пиросманашвили. Я вас долго искал, и, слава Богу, наконец нашёл!
– Вот вы говорите, меня ещё помнят… Может быть, даже и любят… Почему бы меня не любить? Я ведь никому не сделал ничего плохого! Они художники, но ведь и я художник. Все духаны Тифлиса мной расписаны. Разве может один художник помешать другому? Я люблю восход солнца – он меня радует. Лунный свет – всегда печалит. Нет, – вздохнул он, – я никогда не пойму тех художников, на собрании, они о чём-то другом говорили… Вас зовут Ладо, да?
– Да, Ладо… – гость, улучив момент, достал из кармана сто пятьдесят рублей и вручил их Нико, сказав:
– От имени общества грузинских художников. От ваших друзей. Примите это. Правда, здесь немного, но вам они пригодятся. Купите себе хлеба, краски. Это ещё не всё. Постараемся со временем помочь ещё. Работайте, господин Пиросманашвили, и вы продержитесь. Не вечно же длиться войне?
Тот не вымолвил ни слова. Только смотрел на гостя поражённым от удивления лицом. Потом медленно взял деньги и дрожащей рукой положил в нагрудный карман. Его сухие губы беззвучно шевелились, глаза расширились, в них Ладо Гудиашвили заметил влагу.
– Мне? От друзей? – недоверчиво вымолвил Пиросмани. – Мне? Значит, и правда помнят меня…
Тот встал со своего ящика:
– Мне пора уходить, господин Пиросманашвили…
– Зачем же вы уходите, Ладо? Как жаль, что пробыли так мало…
– Извините меня. Меня дома ждут. Семья…
– Конечно, конечно, Ладо. Не стоит извиняться. Я понимаю. У всех есть дела, всем надо спешить. И кроме того, здесь холодно, неуютно, сидит какой-то старик, кашляет, вздыхает, что-то там бормочет себе под нос. Жалко, что вам нужно уходить. А то я думал, я схожу, принесу немного водки. У нас же теперь есть деньги, и это совсем недалеко.
– Не надо, Николай Асланович. Не надо водки. Я не пью…
– Совсем?
– Совсем. И вино тоже не пью…
– Вам нельзя? У вас слабое здоровье?
– Да нет, здоровье не слабое… Просто я как-то решил, что не буду пить. Все это знают. И друзья мои тоже знают…
– Наверное, это хорошо. Наверное, это очень хорошо – не пить. Вы молодой, Ладо. Вам можно не пить. А мне уже нельзя… Если я не выпью, я работать не могу. Пальцы не слушаются, и на глазах пелена. А выпью – легче становится. Когда я выпью, я думаю: ещё не конец, Нико, ещё поживем! Ещё сделаем что-нибудь стоящее. Я ведь, Ладо, ещё не все написал, что хотел. Не хочется умирать, Ладо! Ах, как не хочется, если бы кто знал…
– Вам нельзя умирать, Николай Асланович, вы – наша надежда. Молодежь любит вас… Верит в вас, батоно! Мы теперь все ваши ученики…
На прощание Пиросмани крепко пожал руку молодого человека и спросил:
– Так как же? Будем строить НАШ ДОМ?
* * *
…Спустя несколько дней Абашидзе, хозяин одного из духанов на Молоканской улице, дал ему работу:
– Эй, Никала, надо срочно пасхального ягнёнка нарисовать. Ты должен успеть…
– Боюсь. не гожусь я уже для работы, брат… Рука не подчиняется, глаза не видят…
– А ты не бойся, успеешь. До Пасхи ещё неделя осталась. Всё, что для работы нужно, лежит в углу: кисти, клеёнка, краски. – он запер художника в чулане. – Пока не нарисуешь, Никала, тебя отсюда не выпустим. А если что-то захочешь, ты кричи – подадим с окна.
Нико услышал, как лязгнул холодный железный замок с обратной стороны двери и сердце его тоскливо дрогнуло, как у птицы в неволе… Он ощутил себя узником…
Крохотная сырая лачуга в полторы квадратные сажени. Булыжный пол. Обломки каких-то старых кирпичей в углу, отсыревшие щепки и горстка угля, ржавый и дырявый мангал.
Чем не мрачная темница в Метехской крепости? За что с ним так? Чем он не угодил людям? Разве может человек жить в клетке и смотреть на синее небо из-за решётки?
Ночью, когда становилось невыносимо холодно, он разжигал мангал и ложился на торчащие из пола камни, и всё кашлял и кашлял от дыма, разъедавшего глаза и лёгкие…
В те дни в городе царила полнейшая сумятица и неразбериха. Нико, припав к узкому окну, видел, как какие-то вытянутые, зловещие тени в военных бушлатах и сапогах кого-то тянули, тащили. Ноги бедняги в грубых рабочих башмаках отказывались подчиняться властям и отчаянно сопротивлялись. Раздались одиночные выстрелы. Громкий женский вопль пронзил ночное небо…
О Пиросмани забыли на несколько дней. Никто не вспомнил о нём за это время, не заглянул к нему, не принёс глотка воды или крохи хлеба.
Ранним утром, спустя три дня, в Страстную пятницу, дверь его «каземата» тяжело заскрипела и отворилась. Вошёл духанщик с зажжённой свечой в руках. Волновался, говорить даже не мог, только вытирал перепуганное лицо платком. Просил прощения, что не приходил. Рассказал, что скрыться им пришлось в деревне всей семьёй, что в городе шли облавы на духаны, потому что там, якобы, укрывают врагов Родины…
Потом взгляд духанщика упал на стену – прислонённая к ней, там лежала картина. «Пасхальный ягнёнок». И надпись на ней: «Слава Богу, что дожили до Пасхи. Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»
Просто молодой белый барашек с пышным розовым бантом на шее, глядящий на мир грустными глазами. Здесь и пасхальный кулич, и крашенные яйца, и чёрные птички, слетающие с небес. Ягнёнок, пьющий воду из ручья, хочет жить, но птички уже прилетели за ним, и всё готово к празднеству людей… За несколько дней до Пасхи привели его во двор, украшали и всячески ублажали его, дети расчёсывали его шёрстку и повязывали бантики вокруг шеи. В Пасху взрослые заколят его к праздничному столу, наивно полагая, что это обряд задобрит Бога, что кровь невиного барашка смоет их собственные грехи, без покаяния…
Глупые, глупые люди! Они думают, что ягнёнок не знает своего конца, не знает, что его поведут на Голгофу? Нет, знает, прекрасно знает! Потому-то и глаза его полны такой тоски и обречённости – всё он знает и понимает. И всё-таки идёт. Идёт, потому что нет иного способа донести земную печаль до Того, чьё милосердие испокон веков было последним прибежищем для измученной одиночеством и страданиями человеческой души…
В этом маленьком тельце пасхального ягнёнка поместилась огромная душа, наивная и открытая душа самого Нико Пиросмани…
* * *
Медленно перед глазами опускается что-то страшное и огромное. Запах смерти, витавший под низкими сводами подвала, въедается в кровь и лёгкие. Он явственно ощущал его сладковатое и удушливое присутствие. И холод, этот страшный холод подземного мира.
О чем сейчас думается ему, тяжело больному человеку, в жутком одиночестве, в эти длинные, тягучие часы предрассветной мглы, в этой зловещей тишине, нарушаемой лишь его собственным кашлем да звоном падающих капель воды?
Что может ощущать он, кроме усталости от жизни, и чувствующий дыхание уже неотвратимо надвигающегося конца?
Эх, единственным его желанием является не выздоровление, не даже сама жизнь, наконец. Он за неё не цепляется. Сколько ещё ему жить? Разве он не устал? Всего лишь глоток, один глоток водки, – вот что ему нужно, чтобы только унять эту дрожь во всём теле, чтобы потушить этот адский, безжалостный огонь, сжигающий его изнутри.
Всю свою жизнь он жил чем угодно, но только не головой. Но не молчал, он многое успел сказать в сотнях своих больших и малых картин и тысячах вывесок. Кахетия подарила ему краски земли и неба, а он клал их на свои картины. Он – Нико Пиросмани, художник, которого мир почти не знал и не замечал, пока он жил, но перед которым он склонится в низком земном поклоне, когда поймёт наконец, что он совершил для человечества…
А пока его одолевали вопросы. Одни вопросы.
Почему еще в далёкой, ранней юности он бросил родную кахетинскую землю, и оказался в шумном городе? Почему, живя в семье Калантаровых, благожелательных и отзывчивых людей, относившихся к нему, как к сыну, он, будучи уже в достаточно сознательном возрасте, не позаботился о том, чтобы приобрести хоть какую-нибудь профессию, которая могла бы его прокормить?
Почему он в тридцать лет поступил на железную дорогу и почему ушёл с неё?
Почему он с таким азартом занялся молочной торговлей и почему бросил её как раз тогда, когда дело его начало процветать?
Зачем он потом месяцы и годы пил и кутил, гонял по Тифлису на фаэтоне и сорил деньгами со случайными попутчиками жизни, деля с ними радость и печаль? Зачем звал зурначей на свадьбу?
Ах да, душа ведь пить и веселиться просила…
Почему он так никогда и не попытался завести свою семью, свой дом, свой очаг, где бы мог спрятаться от жизни и немного передохнуть, а остался под старость один, как перст? Почему заявил однажды, что одиноким пришёл он в этот мир – одиноким и уйдёт?
Почему, открыв в себе талант, он никогда не требовал за свои работы ничего больше, чем стакан водки и кусок хлеба да подстилку в каком-нибудь затхлом углу? Почему терпел унижения – одно за другим? Ведь жизнь итак коротка, чтобы всё время терпеть!
Почему он всегда уходил от всех, даже от самых искренних своих друзей? Почему он ни разу не принял ни от кого предложения остаться, чтобы жить в тепле и сытости?
Почему он не ухватился за почитателей своего таланта, чтобы заявить о себе всему миру, потребовать от него то, на что он имел право, данное ему свыше?
И по какой необъяснимой логике жизни он оказался сейчас здесь, в этом тёмном, сыром подвале, без денег, без хлеба, без друзей, оборванный и больной, почти потерявший рассудок, превратившийся уже в тень, в жалкое подобие человека, которого всё ещё удерживают на земле неведомые, но прочные корни?
Почему? почему?.. На эти вопросы не было ответа…
Темнеет его сознание, погружаясь в небытие. Прошедшее мешается с настоящим, и уже он не в силах разделить, что только кажется, и что есть на самом деле… Но разум и восприятие его легки, свободны, и парят над ним, как сон. Никала ждёт его, как ребёнок, и радуется ему, ведь снится ему запах сена и свежего молока. Снится покойная мать, он ощущает её руку на своей голове. Чувствует запах молодого вина из марани, ароматной киндзы и толчёных орехов, слышит весёлый собачий лай, блеяние коз и задорное кукареканье их петуха Мамало…
Он молод, и дух его парит над землей. И в снах он не изгой – нет, он полон жизни на этом вечном празднике, ведь без него не произойдёт ни одного застолья ни на земле, ни на небесах. Он и есть творец этого праздника, и по мановению его кисти, крепко зажатой в руке, обретают жизнь величественные Кавказские горы, стада тучных овец на их покатых склонах, стройная церковь с крестом на куполе, толпа крестьян и пышная свадьба, скачки на лошадях, и праздничный стол с едой и музыкантами… Как же прекрасен этот мир, и как мало в нём зла, и в каком единении и любви живут в его снах и горы, и земля, и люди, и всякая другая божья тварь! И слёзы текут тогда у него по лицу, и душа его содрогается от счастья и любви к людям, и он улыбается во сне самой лучшей, самой застенчивой и кроткой из своих улыбок…
Каждый грузин немножко ребёнок, но мало кто встречал 56-ти летнего мужчину с такой улыбкой и детской душой… От полного отчаяния его спасала только кисть и вера, очень простодушная и наивная вера, искренняя и преданная.
– Никала, – донеслось до него. – Никала! Это я, твой Гиоргий. – Пиросмани приоткрыл глаза. Над ним стоял сам Святой. Он пришёл к нему, в подвал, где он лежал, никому не нужный и всеми покинутый. Святой Гиоргий обнял его и заплакал.
– Не говори ничего, Никала… Я видел, как ты страдал, сколько перенёс бед. Люди не поняли тебя. Уж если Христа не поняли, тогда… А ты просто другой, Никала. Ты родился не для того, чтобы смотреть на землю. Ты смотрел вверх, а они думали, что ты гордый, задрал голову, «графом» дразнили. Люди то любили твою наивность, то она их раздражала. Но это не важно – главное, ТЫ их любил!
Добрый ты… Даже сейчас, умирая, не сердишься ни на кого. Всех любишь. Тяжело это. Любовь – это всегда крест. Чем сильнее любишь, тем тяжелее крест.
Вижу я, Никала, легко тебе уходить – камня нет на сердце.
Слышишь стук за порогом? Знаешь, кто это? Это старуха пришла, голодная и с косой, заждалась она тебя, неутомимая.
Но ты не бойся, Никала. Я ведь с тобой!
Проси же сейчас у Смерти Бессмертия! Только так ты останешься в памяти поколений…
…Аминь! Свершено…
Осталось немного, и вылетит птичка и полетит свободно в мои чертоги. Маленькая лёгкая птичка – твоя душа.
Не жалеешь ты о жизни своей тяжелой?
– Нет! – прошептал Нико.
– Это свойство благородных людей…
…Ну пойдём уже домой, Никала. Здесь ты был лишь в гостях. Улыбнись теперь. Умирать нужно с улыбкой. К Богу ведь идёшь, порадуй Его улыбкой своей. Смотри вверх. Ты – НИКО ПИРОСМАНИ! Ободрись! Всё только начинается – самое доброе…
* * *
…По прошествии субботы, ночью, на третий день после Своих страданий и смерти, Он силою Своего Божества ожил, воскрес из мёртвых. Свершился Его переход от смерти к жизни, от земли к небу.
Радостный звон с колоколен церквей плыл над православной Грузией. Хор не смолкал ни на минуту, а внутри храмов было полно света и благоухания. Люди… они, с надеждой на светлое будущее, были одеты празднично, на их лицах сияли улыбки, а в руках они трепетно держали красные пасхальные свечи и куличи.
По улицам Тифлиса, в лёгком сумраке весенней ночи, беззвучно плыли тысячи маленьких огоньков. Это прихожане возвращались от Светлой заутрени, прикрывая рукой трепещущее пламя свечей. Они несли эти дрожащие огоньки до дома, где зажигали от Святого Огня свои лампады перед образами. Теперь они, озарённые праздником, смотрели на мир с улыбкой и верой. Верой в то, что после Пасхи все станут лучше. Потому что ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Эпилог
Нико Пиросмани нашёл свой последний приют в сыром подвале дома номер 29, что на Молоканской улице…
4 апреля 1918 года, уже под вечер, он пришёл сюда. До этого, по случаю праздника Пасхи, кто-то напоил его вином. Он лёг на пол и пролежал так двое суток. Вокруг безмолвно стояли его картины, в ящике лежали кисти и краски. Город праздновал Светлое Христово Воскресение. О Пиросмани же было некому вспомнить, кроме одного Господа Бога…
7 апреля, сосед Нико – сапожник Арчил Майсурадзе – заглянул в подвал. Из полумрака подземелья доносился стон.
– Это ты, Никала? – спросил Арчил.
– Это я. Мне плохо. Я не могу встать. – еле слышно ответил Нико…
В его руке была крепко зажата кисть.
На фаэтоне Арчил, в сопровождении милиционера, доставил Нико в Михайловскую больницу. На всём протяжении дороги, по обе её стороны, привязанные к деревьям, жалобно блеяли украшенные разноцветными бантами пасхальные ягнята…
ХРОНИКА.
Выписка из больничной книги:
«7 апреля 1918 года доставлен в приёмный покой неизвестный мужчина, неизвестного звания, бедняк, на вид лет 60. Доставил милиционер Иван Чанадирадзе с Антоновской улицы… В тяжёлом состоянии, с отёками всего тела, со слабым пульсом, без сознания, и через несколько часов, не приходя в сознание, скончался. Дежурный врач Гвелесиани.»
Белый Пасхальный Ягненок, Агнец Божий Пиросмани умер в Пасху…
Тело его было погребено на Кукийском кладбище Св. Нины, в дальнем углу с общими могилами, отведёнными для бездомных и безродных…
* * *
Живописца не стало, а его картины оставались разбросаны по духанам Тифлиса. Братья Зданевичи, несмотря на нужду, продолжали их собирать и пропагандировать миру творчество открытого ими гениального самоучки.
Из почти двух тысяч работ Пиросмани сохранилось не более трёхсот. Не уцелело ни одной его стенной росписи – все они погибли в огнедышащем жерле войн, революций и нещадного времени.
За признание творчества грузинского мастера еще в 20–30-х годах двадцатого столетия боролись лучшие представители европейской культуры: Константин Паустовский, Владимир Маяковский, Луи Арагон, сестры Эльза Триоле и Лиля Брик, Зига Валишевский, Колау Чернявский и другие.
Двадцатишестилетний прапорщик Чердынского полка Мишель Ле-Дантю погиб в Первую мировую войну. В августе 1917 года он сорвался со ступеньки и попал под поезд при катастрофе воинского эшелона.
Илья Зданевич в 1920 году уехал во Францию, работал в модном Доме Коко Шанель, занимался издательским делом, дружил с Пикассо и Матиссом. Его брат Кирилл остался в Грузии, стал известным художником и написал книгу о Пиросмани. Илья был страшно зол на него за то, что тот передал в дар музею Грузии большую часть работ Пиросмани. Живя в Париже, он не мог понять, как можно подарить государству картины, купленные зачастую на последние деньги. Тогда как старший брат прекрасно сознавал: коллекцию всё равно отберут, а так семье позволят оставить себе хотя бы крохи. И он оказался прав: когда в 1949 году Кирилла арестовали и сослали в Воркуту, выжить семье помог именно Пиросмани.
Выставки Пиросмани с триумфом прошли в разных странах мира. В 1962 году журнал «Курьер ЮНЕСКО» писал: «Значение этого художника выходит за пределы Грузии. Благодаря таланту Пиросмани принадлежит всему человечеству».
В конце марта 1969 года улицы Парижа украшали рекламные плакаты, на которых была изображена девочка в жёлтой шляпе и с красным шариком в руке с надписью «Нико Пиросманашвили». Шестого апреля открывалась персональная выставка грузинского гения. Было море людей и восхищение парижан.
Выставку открыл министр культуры Франции Андре Мальро. Он заявил: «Выставка Пиросмани в Париже – это событие в жизни современного европейского искусства». На открытии присутствовали министр иностранных дел Франции Мишель Дебри, Луи Арагон, Эльза Триоле, Жак Превери, Арман Лану, министр иностранных дел СССР Николай Громыко и другие. Французская пресса в течение двух месяцев широко освещала эту выставку. Пиросмани сравнивали с Джотто, с именем которого связано начало Ренессанса в Италии, его ставили выше французского примитивиста Анри Руссо.
Среди посетителей Лувра привлекал внимание элегантный пожилой господин, который долго и сосредоточенно осматривал все восемьдесят пять «примитивных» шедевров Пиросмани и недовольно ворчал по-русски: «Моя картина, и эта моя, и эта – тоже моя». Это был Илья Зданевич, так и не простивший брату потери их собрания.
Служители знаменитого музея заметили также, что около портрета «Актриса Маргарита» ежедневно подолгу простаивает совсем старая женщина со следами былой красоты. Приглядевшись, они заметили поразительное сходство её глаз с теми, что были на картине. «Я и есть Маргарита де Севр», – скромно призналась посетительница перед закрытием выставки. И позволила себя сфотографировать на фоне работы Пиросмани.
В 1972 году, в возрасте 91 года, влюбленный в Пиросмани Пабло Пикассо создал портрет своего собрата по кисти, с которым ему не довелось встретиться при жизни. Портрет исполнен своеобразными штрихами, свойственными лишь Пикассо.
Спустя годы бродячий художник обрёл настоящую славу. Его работы, написанные дешёвыми красками на простой клеёнке, выставляются на престижных аукционах и оцениваются в миллионы долларов. Так, картина «Арсенальная гора ночью» стала самым дорогим лотом «русских торгов», проведенных в британской столице аукционным домом Christie’s в 2015 году: её купили за полтора миллиона долларов.
Отыскать могилу Пиросмани не удалось и по сей день. А символическое захоронение – кенотаф в виде строгого серого камня – находится в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии на Святой горе Мтацминда, в столице страны, являющейся Уделом Пресвятой Богородицы и существующей под небесным покровительством Святого Гиоргия…
Слова благодарности от автора
Весь свой жизненный опыт, здравый смысл, любовь к земле, на которой родился, к её истории и культуре – всё вложено в эту книгу, отдано всем добрым людям. Не знаю, осталось ли у меня что-то ещё, о чём хотелось бы сказать…
Работая с архивными материалами того времени, обнаруживались огромные пласты неизученного. Хотелось написать обо всём, но, увы, невозможно «объять необъятное». Затем я пытался подобрать нужные слова повествования и найти для них «упаковку», которая, как мне казалось, должна была бы понравиться читателю. Ведь создание книги во многом сродни подготовке подарка. Я искренне надеюсь, что чтение этого романа доставило вам такое же удовольствие, какое доставило мне его написание.
Я бы хотел разделить с вами признательность, которую испытываю к тем людям, благодаря которым книга увидела свет. Я благодарен своим друзьям, родным и коллегам, которые верили в меня, вдохновляли, делились со мной идеями, и терпели долгие периоды моего молчания, кто знакомился с этой книгой по главам, в нелёгком процессе её создания. Я, скорее всего, никогда не смогу выразить в полной мере, насколько их содействие, одобрительные слова или даже критика были для меня ценны во время работы. Без их поддержки и понимания мне было бы сложнее воплотить свои идеи и мысли.
Но наибольшую благодарность я выражаю каждому читателю, который взял в руки эту книгу – одну из миллионов других – и нашёл время дочитать её до конца, побывав в старом Тифлисе и сопереживая главному герою. Я скромно надеюсь, эта книга займёт место на их «золотой полке», той самой, где «живут» самые любимые литературные произведения. И мне искренне жаль тех, кто никогда не узнает о её существовании…
И, наконец, я многим обязан авторам следующих книг за их взгляд на жизнь и творчество Нико Пиросмани.
БИБЛИОГРАФИЯ:
Зданевич К. Н. Пиросманашвили. – М.: Иск., 1964.
Канделаки Р. Бродил художник по городу. – М.: ДЛ, 1979.
Кузнецов Э. Пиросмани. – Л.: Иск., 1975.
Паустовский К. Близкие и далекие. – М.: МГ, 1967.
Гришашвили И. Литературная богема старого Тбилиси. – Тб: Мерани. 1977.
Коростылев В. Праздник одиночества. – М.: Иск., 1979.
Шмелёв Н. Деяния апостолов. М.: РП, 2001.
Микава Н. Легенда о Руставели.

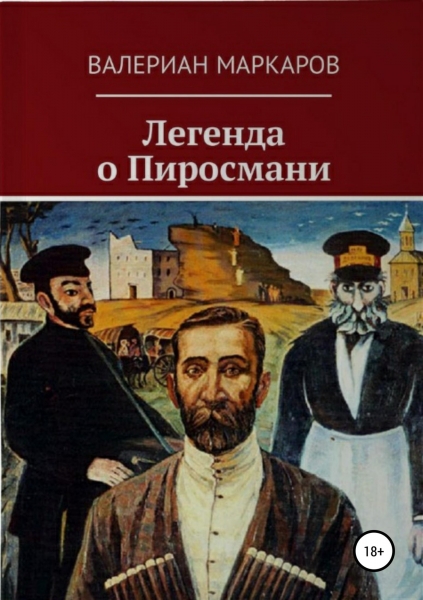
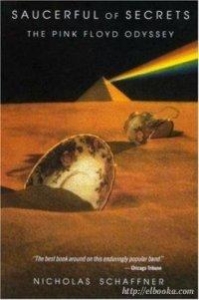




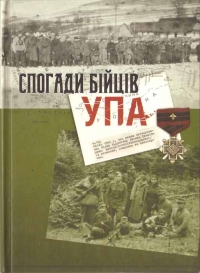
Комментарии к книге «Легенда о Пиросмани», Валериан Маркаров
Всего 0 комментариев