Юрий Асланьян ТЕРРИТОРИЯ БОГА Роман-расследование ПРОЛОМ Автобиографическое повествование
Издание осуществлено при поддержке
министерства культуры и массовых
коммуникаций Пермского края
Запретная зона сердца
Два самых не освоенных человеком места на Земле — это Северный Урал и Гималаи. Так утверждает автор романа «Территория Бога». Северный Урал — это наш Пермский край: Красновишерск, Ныроб, Чердынь. Это та страница пермского текста, без которой он неполон, неточен и непредставим. Большая смелость и внутренняя сосредоточенность понадобились Юрию Асланьяну, чтобы приоткрыть нам землю, которую «еще никто не покорил». Если спросить на севере от Лыпьи, а кто и что есть еще дальше, то придется ответить: «одиночки, разбросанные во Вселенной, будто туманные галактики».
И угол этот, весь Красновишерский край, — тема не только мало исследованная, но и, как убедит автор, наиболее важная и значимая с точки зрения глубины прочтения пермского текста, открытия в нем и через него сущностных, корневых смыслов пермистики.
В объемную метафору развернута в романе тема и символика Бога. Это прежде всего древние языческие деревянные боги Илюша и Андрюша, стоящие «прямо под ужасом и восторгом звезд», с суровыми лицами, «иссеченными дождем и бесконечным североуральским снегом». Это и сам край — «божья благодать». Это и забытый Богом уральский погост. Это и старинный колокол, издающий звуки Божьего гласа. Это и лик, к которому обращаются с молитвой, и вера, что любой человек может стать богом. Это и живая связь мира одиноких существ, ибо «Бог — это самый великий из одиночек, отмечающий свою территорию светом истины».
Природа края, его зубчатые скалы «стоят в багровом небе будто сторожевые башни Господа Бога». Автор мощными мазками рисует этот край — край земли. «Там люди и машины встречаются очень редко — реже кедров». Там естественны северные олени и рыси, останцы, гольцы и водопады, брусничные россыпи на моховых коврах гранитных плит. Территория Бога — место символическое: она начинается у подножия Полюда, тянется к останцам Помянённого, «образуя основание треугольника, похожего на стилет». Здесь все дышит суровостью и природной силой: Камень Помянённый, который обо всех помнит и обо всем молчит; мрачный, безлюдный Ишерим; самая северная вершина Саклаимсори-Чахль, где установлен знак «Европа — Азия»… Эта гора — водораздел трех самых великих рек России: Волги, Оби и Печоры. Край неласковый и нетеплый, но суровость его и мрачное величие в избытке компенсированы несметными природными сокровищами. Здесь леса, одни из немногих в мире соответствующие статусу эталонных. Здесь живут бобры и медведи, утки и боровая птица. Автор с гордостью пишет: «Это территория, о которой нельзя не мечтать, потому что там есть золото, алмазы, серебро, вольфрам, свинец, горный хрусталь, в том числе золотистый цитрин и дымчатый морион, фисташково-зеленовато-серый офиокальцит и цветные мраморы… Возникает такое ощущение, будто Вишера — сказочная шкатулка, инкрустированная всеми драгоценностями мира…»
Но именно там, на этой территории, «сосредоточено самое большое количество заключенных, именно там все наши зоны». Юрий Асланьян рассказал о совсем не сказочной истории этого сказочного края, истории, «инкрустированной» тюрьмами, лагерями, смертью, преступлениями против человеческой личности, убийствами, алчностью одних и беспросветной нуждой других, горем и тоской. Если свернуть в формулу судьбу этого края, то главными в ней будут слова «депортации», «оккупации», «переселения», «миграции». Вишерский край, скажет автор, это место жизни и смерти опальных граждан великой страны. Здесь, в одном бараке, избывали свою судьбу бывшие донские и кубанские казаки, столичные аристократы, поволжские немцы, крымские татары, греки, армяне и болгары… Кроме великих — еврея Осипа Мандельштама, видевшего из Чердыни гору Полюд, русского Варлама Шаламова, тянувшего срок под этой самой горой, эстонца Ахто Леви, ушедшего по вишерской тайге в свой последний побег, здесь кого только не было. Найдутся в этом огромном списке имена известных пермяков: Иван Абатуров, Евгений Матвеев, Сергей Бердичевский, Александр Сумишевский, сам Юрий Асланьян. Есть у автора право сказать: «Вишера — это котел». И у автора вовсе не ложное ощущение, что он знает в лицо и помнит всех, кто побывал в котле, «всех этих родных, добрых, прошедших лагеря, ссылки, унижения, кровь, зубодробительную любовь родины». И сегодня еще на Вишере сохранились бараки мужского отделения бывшего лагеря, где до сих пор живут люди — никому не нужные, ни Богу, ни народу, ни правительству, честно отработавшие свое старухи. «Ни звезд, ни алмазов не досталось героям тыла, доживающим свой век в камерах жестокого прошлого».
Глубоким символом становится название книги. Вся эта какофония лагерей и войн, репрессий и геноцидов творила новый русский Вавилон XX века, где сошлись языки мира и пересеклись судьбы народов и наций, где не было закона, но было право силы, власти и преступления. Человек там остается один, как кедр на велсовской скале. Все возможно и ничто не исключено на этой территории, в том числе и убийство.
Действие романа происходит на территории заповедника «Вишерский». Инспектор Василий Зеленин убивает директора Рафаэля Идрисова. Казалось бы, расследовать особенно нечего: убийца не скрылся, «не убрал» единственного свидетеля, зная, что он-то и донесет, не отрицал содеянного, пошел под суд и получил десять лет строгого режима. Но Юрий Асланьян пишет роман-расследование и по законам жанра погружает читателя в нелегкие и неоднозначные размышления. Факт убийства становится внешним поводом, толчком к разговору о времени и о себе, об уроках нашей истории, о памяти и предательстве, о людях и нелюдях, о Добре и Зле. Автор не судит убийцу и не оправдывает, не казнит и не щадит. Он хочет понять, что же и почему случилось, поэтому в книге много вопросов, а ответом на них является весь роман — его сюжетный, идейный, философский и даже метафизический смысл.
Психологические мотивы преступления понятны и объяснимы. Идрисов — выродок, насильник и мракобес, которому доставляло удовольствие глумиться над бедными. Он творил мерзости ради мерзости. За это люди называли его «вишерским ханом» и страстно ненавидели. Убить его намеревались многие — «идея расстрела уже появилась на заповедной территории». А инспектор Зеленин — человек из породы свободных егерей, неторопливых одиночек, молчаливый, сосредоточенный, думающий. Ему чужда суета современного мира, и он выбрал таежный кордон: «чистая вода, шевелящаяся от хариуса, зеленовато-серые гольцы хребтов». Свой замысел он осуществляет спокойно и сознательно, и после убийства у него «не было ни раскаяния, ни торжества, а только гадливое чувство исполненного долга». Автор мог бы напомнить, что насилие порождает насилие, и на этом закрыть расследование. Правда, есть еще мистическая составляющая: незадолго до убийства Зеленин нашел в тайге ружье — и «значит, Бог послал этот ствол Зеленину, чтобы он нарушил заповедь». Миссию мстителя герой не отвергает, ведь за многие годы ни местная, ни областная, ни федеральная власти не защитили этот народ, эту территорию от беспредела наглых «захватчиков», готовых продавать оптом и в розницу богатства этой земли любым жадным и беспардонным пришельцам, озабоченным лишь быстрой наживой. Инспектор Зеленин в одиночку совершает возмездие. Но автор идет дальше и ставит вопрос ребром: так кто же он — просто убийца или жертва тоже? Нет, конечно, не просто убийца. В книге есть эпизод, когда Зеленин, уже осужденный, вспоминает об Идрисове, который жил на Камчатке и очень любил свою собаку Топу. Она бесстрашно бросалась на камчатских медведей и ловила рыбу в горных речках. И Зеленин пишет: «Сейчас меня мучает вопрос: совсем ли умер в нем тот человек, рассказавший о камчатской лайке, или мог еще воскреснуть? А вдруг я убил уже не того монстра, которого все знали… И как мне жить с таким вопросом в душе?»
Тут уже звучит тема Раскольникова, но Юрий Асланьян ищет ответ на других путях. Вот его ответ: «Зеленин потому посягнул на Христову заповедь, что три года жил в самом центре заповедника преступлений». Эта ключевая мысль о заповеднике преступлений дает автору возможность расширить смысловое пространство книги и, оставаясь в рамках романа-расследования, поднять и оживить документы и хроники давних исторических времен, рассказать о судьбах людей и целых народов, задуматься о причинах и следствиях событий, происходящих на территории Бога.
Сегодняшнее вишерское шоссе лежит на скелетах репрессированных, утопленных в болотах, закопанных в песке русских, украинцев, греков, цыган, болгар, татар, немцев, поляков, армян… Автор называет эту территорию «запретной зоной сердца». И Бог там — не спаситель, ибо он «так же одинок во Вселенной, как бетонщик Олег Гостюхин, как бывший капитан ракетных войск, беспробудно пьющий в чепке, как человек с нераскрывшимся парашютом…». Бог плачет, когда не может прийти на выручку. Но есть одиночки, которые восстанавливают справедливость, ибо «без высшей справедливости жизнь не имеет смысла, даже в Капской пещере». Брошенные и забытые Богом об этом помнят.
Выстрелы Василия Зеленина прозвучали на Вишере, будто эхо Камня Говорливого. «А эхо — оно ведь того, долгое…» В этих словах — не оправдание преступления, а понимание его силы и слабости, корней и сердцевины.
Юрий Асланьян нашел убедительные слова и яркие краски и с их помощью показал, что территория Бога — это территория человеческой беды, беспросветного отчаяния, одиночества и брошенности, это территория зла и безнаказанности. Отсюда — трагический иск к Богу из края тоски и погибели. Но территория Бога — это в то же время прорыв тех, кто выжил и был спасен, торжество Жизни и вызов закону бесчеловечности. Это богоборчество и одновременно смирение перед Богом. Лишь они и делают эту территорию равной Космосу, частью великой и неисследованной Вселенной. И не отторжение от них, а молитва завершает этот роман-расследование: «Я вдыхаю запах багульника, я стою на коленях и шепчу, проговариваю, высказываю тягучие, горькие, старинные слова моему деревянному идолу: Господи, сохрани эту землю и этих людей, не допусти предательства и братоубийства, убереги от чумы и холеры, не дай, не позволь погибнуть этой княжеской красоте… Умоляю тебя, Всевышний!»
Книга Юрия Асланьяна удивительно цельная, хотя в ней есть и вставные эпизоды, и отступления, и приложения в виде автобиографического повествования. Возможно, читатель будет спотыкаться о неровности композиции, о причуды языка. В речи автора много различных слоев: рядом, тесня друг друга, оказываются закрученная афористичность и пронзительный лиризм, газетная хроника и философский трактат, высокая патетика и сарказм, эпическое спокойствие и нервная пульсация, четкая логика и неуправляемая рефлексия. Однако это языковое нагромождение не просто оправданно, но и неизбежно. Как будто некий интуитивный ход авторской мысли подсказывал ему, что необходим языковой эквивалент для рассказа о территории Бога. Отшлифованная гладкопись исключалась самой темой романа, тут нужна речь почвы, создающая впечатление, что автор грубым плугом срезает верхний слой земли, а там, на невидимых глубинах, «шумит, гудит, трубит подземными реками территория твоего Бога».
Архитектоника романа, его языковые и композиционные глыбы, соответствует «Вавилону» смыслов и идей. Нет никаких сомнений, что автор вписал новую, весомую и значительную, страницу в пермский текст, в его историю и сегодняшний день.
Нина Васильева
ТЕРРИТОРИЯ БОГА Роман-расследование
Памяти моей матери
Прасковьи Павловны Кичигиной
Предисловие
Я сидел за большим, будто взлетная полоса пермского аэропорта Савино, письменным столом. И таким же пустынным. Если не считать последнего номера газеты «Пармские новости» с моей статьей о событиях гражданской войны в далеком Крыму, которую я только что начал быстро перечитывать, одновременно беседуя с друзьями и коллегами — конечно, о французском экзистенциализме. Друзья и коллеги — это Андрюша Матлин с женой Светланой, которая не доверяла близорукой судьбе и сама следила за тем, чтобы мы не вздумали отпраздновать завершение рабочего дня по программе конца недели.
За темными стеклами двух больших окон, почти доходящих до пола, лежал первый октябрьский снег.
Напротив светилось огнями беломраморное здание администрации, в том числе и губернаторский кабинет на третьем этаже. А, лучше белый мрамор, чем Беломорский канал… Вы никогда не курили эти папиросы?
Примерно в семь часов вечера раздался телефонный звонок, редкий для такого позднего времени. На всякий случай я содрогнулся: неужели кто-то надумал достать меня, нашел какой-нибудь повод, более весомый, чем конец дня?
— Мне Асланьяна!
— Слушаю, — привычно ответил я, уже готовый отказаться от любой, самой качественной выпивки.
— Так это ты писал о заповеднике? — удивил меня наглостью незнакомый голос.
— Я…
— Готовь гроб, сука! — быстро приказал звонивший и тут же повесил трубку.
— Что случилось? — спросил Андрей Матлин, сидевший по другую сторону стола.
Похоже, моя физиономия перестала быть радостной.
— Убить пообещали, — ответил я тихим и робким голосом.
— Что?! — подалась вперед Светка, но я был не в состоянии реагировать на девичьи вопросы. Я быстро перелистывал в уме последние дни и никак не мог ответить на другой, более важный вопрос: почему это моя биография должна стать такой короткой? Я, можно сказать, только начинаю жить по-настоящему… Вот и ботинки новые купил недавно, зимние.
— Спросили, не я ли писал о заповеднике.
— Ну вот, а ты говоришь — столетняя гражданская война завершилась, — вздохнул Матлин.
Сволочь. Вообще циник. Это он вышел из мавзолея и сказал: «Господа, я Ленина видел! И вы знаете где?»
Жить почему-то всегда хотелось — даже на эту зарплату. Да что я, блин, им такого сделал?!
И тут я шкурой почувствовал, что окно за спиной слишком широкое. Но зашторивать смысла вообще не имело — не будут же стрелять с крыши областной администрации. У звонивших, надо думать, была другая крыша, более надежная. Может, дело в последнем материале? Ну, это вряд ли… И все-таки.
И зачем я полетел тогда на север — туда, откуда привез свой первый газетный материал на тему заповедной жизни? Полетел, полетал сокол, а теперь умирай вот… сокол-балобан. Еще какой балобан. Зачем полетел? Господи, зачем вообще родился там? Чтобы умереть здесь ради золотой звезды героя капиталистических республик? О, я уже начал думать о посмертных наградах — это опасно для психики.
Я закурил прямо в рабочем помещении — просторной комнате на пять человек. На пять сотрудников отдела социальных проблем газеты «Пармские новости», одним из которых являлся я. Оружия у меня не было, машины не было, более того — не было денег. А жить все равно хотелось. Странно… Андрей тоже курил и, похоже, мысленно провожал меня на Северное кладбище. Я уже видел по жалостливым глазам, как он возлагает венок на желтый холмик звонкой, мерзлой земли. Я уже слышал его робкий голос, постепенно обретающий пафос социалистического реализма: «Друзья мои! Вы, конечно, помните, как хорошо сказал Горький: „Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером…“» Не хотелось прерывать блаженное состояние коллеги, но не подыхать же из-за подонка!
— Вспомни, какие конфликты у тебя были по этим материалам, — посоветовала практичная Светка.
Конфликты… Конфликты — куда без них на такой работе? Но сегодня, кажется, конфликты не должны иметь такого значения, потому что того человека, с которым я выяснял отношения в последнее время, недавно самого убили. Кому, черт возьми, может быть интересна моя смерть?
Андрей и Светка взялись проводить меня до дому, но я отказался. Скорее всего, сегодня колоть-резать-стрелять не будут… Нельзя сказать, что мне стало сильно страшно, но на всякий случай я решил изменить привычный маршрут возвращения домой: не пошел налево, к троллейбусной остановке, а свернул направо — к трамвайной. И двинулся параллельно линии по городской эспланаде, напоминавшей размерами космодром на каком-нибудь Марсе. Я шел и представлял себя со стороны: черная точка медленно передвигается на фоне первого октябрьского снега, потом останавливается и стоит, ждет чего-то, будто десятка в мишени.
Уставился в заднее стекло трамвая. Прочитал свежую надпись, выцарапанную, похоже, ногтем на побелевшем от первого холода стекле: «Трамвай тухлый. Продаю героин. Оптом. Круглосуточно. Звоните: 65-34-26». Сзади пьяный мужик в кожаной куртке и танкистском шлеме, широкомордый, со вставными зубами, сидел, смеялся и говорил соседу: «Это роман! Да нет — повесть! Больше — целый рассказ!» Будто о короткой истории моей жизни.
Я прошел по вагону и сел на свободное место. Рядом сидела молодая женщина с маленьким мальчиком на коленях. Мальчик пристально смотрел за окно, где то и дело вспыхивали зарницы автомобильных фар. «Мама-а, — пропел он, — а ма-ашины темноты боятся?» «Милый мой, — подумал я, — темноты, наверное, боятся все…»
И только когда мне удалось миновать темный и холодный подъезд, я понял, что сутки еще проживу, может быть даже двое. А если хорошо выпить, то есть вероятность стать вечно живым, бронзовым или гранитным, как вождь и учитель.
В первую очередь надо все хорошенько вспомнить — в моей голове должна находиться одна точка, мерцающая звездочка Вселенной, имеющая неповторимый ракурс истинного света. Надо закрыть глаза и в абсолютной темноте искать эту серебряную точку. Через час показалось, что я уже вижу мерцающий светлячок сквозь какой-то безнадежный осенний дождь. Да, наверное, мне показалось.
Мы пили с Раисом. В Красновишерске, как всегда.
— Хочу в заповедник, — сказал я после третьего стакана. — Туда трудно добраться?
После третьего стакана я всегда глупости говорю. Водка все-таки.
— Да нет, — ответил флегматичный друг детства. — Автобусом доедешь до Ваи. Это сто километров. Потом попуткой до Велса — если, конечно, найдешь такую машину. Сейчас там все гаражи разграблены. Еще километров семьдесят. Потом на лодке километров сто, если найдешь такую лодку — с мотором, бензином и трезвым капитаном. Да такого дурака, который тебя повезет. Понятно, все твои отпускные уйдут на топливо. У тебя большие отпускные? Два-три дня — и ты на месте, если лодка не перевернется.
— А проще нельзя? — спросил я, даже в пьяном виде следуя своему неписаному правилу — чураться всяких социалистических трудностей. Которые можно избежать.
— Проще? — ответил Раис. — Надо сходить к председателю районного комитета по охране природы, достать редакционное удостоверение — и тебя забросят в самый центр заповедника за полтора часа. На вертолете.
После этого мы разлили по четвертой, чтобы не потерять вкус к жизни. Который так и не смогли потерять — до самого утра.
Так это начиналось. Или не так? Когда жена и сын уснули, я прикрыл дверь в их комнату, достал с книжной полки архивную папку со своими газетными материалами и нашел нужный текст. О, гулкая вогульская земля, полная подземных рек…
Вогульская земля
Все чаще стали появляться вершины, одиноко поднимающиеся над тайгой наподобие замков. Это останцы, каменные куски сохранившихся от разрушения временем, водой и ветром Уральских гор. По правую руку, восточнее, сквозь легкую облачность пробивались силуэты двух вершин, поднимающихся над плоскогорьем Кваркуш. И вскоре пошла синяя волна хребта Чувальский Камень. Вишерский заповедник.
Через несколько минут вертолет стремительно вошел в воздушное пространство, замкнутое горными хребтами. И потом с креном разворота начал, будто ритуальный, спиральный спуск. Вершины гор и деревьев завертелись вокруг, а когда замерли перед посадкой, вращаемый винтом воздух поднял с земли и стремительно повел по строгим кривым праздничного танца тысячи красных, желтых и еще зеленых листьев. Вертолет уже ушел на север, а листья эти еще падали в холодную, быструю, темную, но прозрачную воду каменистой речки Ольховки.
Как-то в августе неизвестные поставили здесь сеть. Мой проводник Яков рассказывал, что они — трое инспекторов по охране заповедника «Вишерский» — преследовали браконьеров через Пут-Тумпский хребет до Сибирёвского прииска. Там золотодобытчики сказали, что неизвестные действительно находятся в поселке. Но те услышали о приходе инспекторов и успели исчезнуть в ночной темноте.
Мы стояли в центре южной, самой высокой части государственного природного заповедника «Вишерский», у избушки на берегу Ольховки. На западе горизонт полностью перекрывал Тулымский хребет — гольцы, сплошной голый камень, покрытый мхом, будто медь патиной, на солнце — цельный светло-зеленый, стальной, при облаках — серый. И только в бинокль я разглядел, что хребет не монолитный, что он состоит из отдельных камней, из тысяч глыб, разных цветов и оттенков. Тулым… А вогульское название — Лув-Нёр, переводится как «Хребет лошади» (1469 метров над уровнем моря). Прямо напротив нас поднималась такая же голая вершина Ишерима, а справа, если стоять лицом к северу, — хребет Ольховочный. Мы прибыли сюда с Яковом Югриновым, сорокалетним инспектором заповедника, высоким, стройным и сильным.
Белые стволы, желтые листья берез, горящие узкие листья рябин, зеленые, темные кедры. Эти леса — одни из немногих в мире, что соответствуют статусу эталонных; эти реки — нерестилища самой крупной в области популяции хариуса. Здесь живут бобры и медведи, утки и боровая птица.
В просторной избушке тепло. Запах дерева, хвойного лапника, дыма и чая. Шумит, как непрерывный эфир Вселенной, вода Ольховки. Я вспомнил: один местный житель рассказывал, что своими глазами видел, как появлялись здесь самолеты со стороны Свердловской области — сбрасывали на парашютах продукты и снаряжение для тех, кто сами себя называют «бандами» и живут по законам беспардонных добытчиков зверя, дичи, рыбы и минералов (последние называют себя «хита»). Приходят они из-за Уральских гор. На вертолетах прилетают. «Недавно видели один такой борт — не разглядели номера». Яков вел тогда художников и уже вне заповедника встретил четырех охотников. «Ребята, вам не стоит соваться туда — там инспектора, они могут конфисковать ваши ружья». И сразу же получил ответ: «А мы стрелять умеем». — «Только не забывайте, инспектора тоже стрелять умеют, а кроме того, закон на их стороне, что будет учитываться в зале суда».
На стене у столика висит на шнурке тетрадь — книга учета посещений урочища «Ц». Читаю последнюю запись, сделанную за два дня до нашего появления: «Бродяга Альфа с матерым компаньоном. Нарушители, но, конечно, таковыми себя не считаем. В избе постарались оставить порядок. Урон заповеднику нанесен в виде человеческого запаха и следов, но это все выветривается и смывается. Почистили тайгу от валежника, съели пять грибов, немного черники и голубики. Просим прощения у закона, у кодекса…» И подпись. Ниже прочитал еще один текст с подписью: «Финнэ, художник». И еще: «Этническо-экологическая группа. П. Оралов. А. Жданов. Идем восьмой день — от манси, с Вижая. Были у всех Бахтияровых. Сегодня ночевали на метеорологической станции. Попытаемся перейти на Свинимское плёсо. Пропуск № 3-95 г.».
Утром мы снова прочесывали склон хребта. А нарушитель пришел сам: когда мы вернулись, он сидел у избушки, курил сигареты «Кэмел», щелкал дорогим итальянским фотоаппаратом. Высокий и, видимо, сильный, симпатичный, с копной пшеничных волос и полным боекомплектом зубов.
— Да, я нарушитель, документов нет. И штраф с меня не возьмете, поскольку безработный, да…
— Кажется, мы уже встречались — на Сибирёвском прииске, — сказал Яков. — Тогда я записал ваши данные и предупредил. Сейчас вызовем вертолет, и полет будете оплачивать сами.
Паспорт сразу же нашелся. Человек бывал в Якутии, в Забайкалье, на Приполярном Урале. Живет в Екатеринбурге. Утверждает, что занимается заготовкой шкур крупного рогатого скота. И свои дела откровенно называет «шкурными». Все это весьма сомнительно — при наличии геологического образования и подробного знакомства с минералогической картой. Вогулов снисходительно называет «мансюками» и «индейцами».
Пока Яков выходил на связь, мы отошли в сторону. Анатолий К. спросил о зарплате журналистов и покачал головой: «Если я имею меньше двух миллионов в месяц, то уже думаю, как концы с концами свести».
Он хорошо знает, как надо работать в заповеднике: лучше летать на небольшом вертолете, чтобы на головы «падать с верхушек деревьев», а со стороны Свердловской области поставить кордон, чтобы люди могли приходить и покупать пропуска. Правильно говорит. И еще, наверное, знает, что денег на это у заповедника нет.
Перед отъездом я разговаривал с Рафаэлем Камильевичем Идрисовым, директором заповедной территории. Он окончил лесной техникум, лесохозяйственный институт и биологический факультет Алма-Атинского университета. Имеет пятнадцатилетний опыт работы на охраняемых землях. И сразу чувствуется, что человек этот — на своем месте.
— В нынешнем году сумма финансирования заповедника составила всего пятнадцать процентов от той, которая нам необходима. Едва-едва хватает на зарплату сотрудникам. В настоящее время начинаем прокладывать экологические тропы, экскурсионные маршруты. Сейчас хочу пробить лицензионный лов рыбы — на удочку. Ведь было время, на Вишере и притоках добывали до восьмисот центнеров рыбы в год. А кто не хочет подышать кедровым воздухом, попить хрустальной водички, подзарядиться горной энергетикой?
Это верно сказал Рафаэль Камильевич. Когда на следующий день мы с Югриновым достигли стоянки «Урочище Ольховское» и перед сном вышли из избы подышать ночным воздухом, тогда открылась перед нами та самая бездна: «звездам числа нет, бездне — дна».
— В Карпатах бывал, в Саянах, на Кавказские горы поднимался, а такого не видел, — произнес Яков, разглядывая звезды и созвездия, между которыми, казалось, иголку трудно просунуть: Большая Медведица, Кассиопея…
«Звездный ветер с Альдебарана…» — вспомнилась строчка поэта Владислава Дрожащих.
Как оказалось, в эту ночь звездное небо над Тулымским хребтом наблюдал еще один человек. На следующий день он оставил рюкзак на крыльце и вошел в избу. «Бахтияров!» — сразу догадался я. «Алексей», — представился он.
Гогуличи, вогуличи, вогулы — манси, одним словом. На карте пятидесятилетней давности стоит знак «Чум Бахтиярова». Известное семейство. В личном стаде семьи было сорок оленей. В лучшие годы доходило до ста. Часть вырезали волки, часть погибла от копытки — неизлечимой болезни, когда начинают гноиться пораненные о камни ноги животных.
У Алексея Бахтиярова печальная железная улыбка — вставная. Он семь лет проработал лесником, два года — на метеостанции (в заповедной территории). Кочует с семьей по горной тундре, пасет стадо. Трое детей учатся в поселке Полуночное за Уральским хребтом.
Бахтияров принес к обеду хариусов (вогулам, как местным жителям, разрешается здесь рыбачить и охотиться). Ночь он провел у речки, в полутора километрах от избы: «лежал у костра, смотрел на звезды, как спутники туда-сюда летают». Рюкзак у Алексея — станок, удочка — телескопическая, винтовка.
— С тридцати метров в рябчика попадете? — спрашиваю.
— Со ста, — отвечает, — да нет, со ста пятидесяти. — Посидел, помолчал. — И с двухсот смогу, наверное.
Через день мы с проводником поднялись на хребет Чувальский Камень, пройдя по бурелому, болотам, по траве и ягелю горной тундры двадцать пять километров.
— Сейчас нам очень нужны инспектора, честные и подготовленные кадры, фанатики, — говорил Рафаэль Идрисов. — К нам приезжают люди из Москвы, Санкт-Петербурга…
С Чувала мы спускались по старой французской дороге, названной так в честь совместного предприятия по добыче руды, созданного еще в начале века. Впереди, не сворачивая, шли свежие медвежьи следы. На случай обороны Яков приготовил оружие. Но только глухари тревожили первобытную тишину тайги, разгоняя воздух широкими крыльями.
Ничего подозрительного в своем тексте двухлетней давности я не обнаружил. Хита — это не та компания, которая вспоминает о тебе через такое время. Да и кому нужны эти камешки…
Я лежал на кровати и в тысячный раз рассматривал золотые корешки словаря Даля, энциклопедий и поэтических антологий, стоявших передо мной на полках, от пола до потолка. Ничему эти книги меня не научили.
Конечно, не все случившееся в тайге и достойное золотого пера я вспомнил в газетном очерке. Например, ничего не сказал о пяти оставшихся сухарях.
О том, что продукты кончились, мы догадались утром, во время завтрака. На равнине, по старой французской дороге, по скользкой тропе, идущей по прямой просеке, Яков двигался впереди с так называемым оружием — ракетницей, в ствол которой был вставлен патрон двенадцатого калибра, державшийся с помощью свитка бересты. Патронов было два — и ровно два раза Яков пытался подстрелить вспугнутых нами глухарей, которые, шумя широкими крыльями, взлетали из низких черничников. Но ракетница не ружье, поэтому мы молча готовили себя к голодной смерти.
К Вишере вышли часам к четырем. Разглядели на другом берегу уазик и пятерых пьяных мужиков. Они жарили на костре рыбу, наверное хариуса, пили водку и демонстративно не обращали на нас никакого внимания. Не прошло и пяти минут, как Югринов пожалел о том, что израсходовал последний патрон. Я кричал, но вскоре появилось такое ощущение, будто рыбаки уже не могли не только поднять головы, но и повернуть их. Что делать, мы раскатали болотники до самого достоинства и пошли вброд — Яков знал место, где глубина позволяла. И только тогда один из рыбаков поднялся, потом спустился к воде и сел в небольшую деревянную лодку с экспонатом местного музея на корме, напоминавшим подвесной мотор.
Откуда у приезжих лодка, я понял потом: старик, приплывший за нами, оказался из местных — поднялся до 71-го квартала от Ваи.
Вечером я сидел с ним, когда остальные спали прямо на земле, разбросанные вокруг костра будто взрывом гранаты. Я выпил всего кружку водки, а рыбаки черпали ее алюминиевыми ковшами. Лодка, водка и молодка… Старик, Николай Михайлович, проработал всю жизнь на лесоповале, поэтому, естественно, в разговоре дошли и до репрессированных.
— Я слышал тут одну историю, — старик прищурился — от дыма костра или только что прикуренной «примы» то ли еще от чего. — Одни говорят, дело на Шудье было, где мраморы цветные, другие — мол, у Тулыма. Мне ее рассказал бывалый мужик, он в сороковых-пятидесятых лесником был на Белее, в верховьях. А в поселке до сих пор живет его приемный сын… В общем, осенью, в тридцать четвертом, на один кордон забросили семью донских казаков, с тремя малолетками. Без оружия и припасов. А попали они в страшную зиму — все заболели. Дорогу замело, а других дорог они не знали, лыж не было… Южные люди, к тайге не приспособленные. Тут местные не выдерживают, а эти… Женщина умерла — муж похоронил ее…
Старик замолчал, затянулся крепкой сигареткой. Заметно слезившимися глазами он смотрел мимо меня, куда-то левее и вверх, на звездное небо.
— Месяц он кормил детей мясом, человеческим, понемногу, говорил им, что ловил капканами зайцев… Такая вот история…
Я курил и тоже наблюдал, как искры от костра улетают к далеким, теплым бахтияровским звездам. Я даже не пытался шевельнуть мозгами, чтобы понять планету, обитаемый остров, на который меня случайно занесло во время девятибалльного шторма в космосе, разбившего наш корабль о прибрежные скалы. Я не пытался сделать то, чего не мог сделать по своей природе, чужеродной этой ненавистной мне, мерзкой планете.
Думать оказался способен только на следующий день. Ходить по улицам в ожидании собственной смерти не очень хотелось, поэтому остаток жизни я продолжал посвящать вычислению тех, кто с редакторской амбицией решил значительно сократить текст великолепной рукописи из бессмертной серии «Жизнь замечательных людей». Сначала вычислить, а потом действовать. Самому. Мои мобильные друзья, которым на подъеме тормозить нельзя — по правилам дорожного движения, заняты оптовыми закупками зерна в Казахстане. А демократы — подозрительные лица… Деморализованный народ уже давно не в счет. Остается надеяться на пособие для анонимного лечения. Не спешить — сначала вычислить… Как-то я спросил у отца, сидя в кабине его грузовика, почему он, шофер первого класса с сорокалетним стажем, награжденный почетным знаком «За безаварийность», позволяет обгонять себя на дороге молодым наглецам. И ответ отца запомнил на всю жизнь: «Я слишком много мозгов в кюветах видел…»
Первое: надо думать, что эти люди появлялись в поле моего зрения. Второе: каким-то образом я покушаюсь на интересы злодеев. Третье: они способны на убийство — почитай криминальную хронику, если осталась у тебя блажь, непорочное чувство любви к российскому человеку.
Кто был с тобой на пути к заповеднику?
В то летнее, немного прохладное утро я долго гулял вокруг высокого черного барака, в котором находилась контора «Вишерского». Яков Югринов сказал: мы ожидаем машину — автомобиль, а не просто маршируем по плацу. Чтобы ехать на взлетную полосу. Когда уазик пришел, я был уже чуточку злым, поэтому разговаривать не хотелось. Еще меньше захотелось разговаривать после того, как машина три раза свернула к каким-то домам, гаражам, сараям, где в багажник загружались мешки, коробки, ящики со всякими полезными, похоже, вещами. Мне не хотелось разговаривать с энергичным мужчиной, который сидел рядом с шофером, иногда поворачивая ко мне свое костистое лицо, украшенное линзами с оптическим прицелом. Мужчина быстро и деловито рассуждал о подозрительных сверхконцентрациях денег и экспансии зарубежного овощеводства. А когда вырвались на асфальт за городом, повернулся ко мне окончательно и говорил уже до самой взлетной полосы разрушенного аэропорта.
— Понимаете, если заповедник останется закрытой территорией, наши дети будут лишены той самой красоты, которая спасет мир. Помните Достоевского? Уже сегодня необходимо прокладывать там экологические и туристские тропы, оборудовать стоянки…
Я помнил Фёдора Михайловича, не забывал о тех богатствах, что лежали за спинкой сиденья, и профессионально делал вид, что слушаю, а сам все пытался вспомнить, где же я его видел. Определенно видел, более того — возможно, мы с ним знакомы. И я вспомнил!
В тот августовский день своего отпуска я вернулся из леса, где собирал чернику. Во дворе, на лавочке, сидел мой отец — шестидесятилетний лев, бугристый от мускулатуры, пахнувший одеколоном.
— В парикмахерской был, — похвастался старый армянин и провел ладонью по лысой голове.
— Постригся? — спросил я.
— Да, — ответил он, — у меня прическа такая: на тебе два рубля — и отвали, моя черешня!
Рядом с ним курил друг моего детства, татарин Раис.
— Юра, в Москве переворот, — произнес он тихо.
Я как стоял с растопыренными руками, так и остался стоять. Руки-то были липкими, сладкими, фиолетовыми от ягод…
Это было 19 августа 1991 года. Появилось такое ощущение, что сейчас меня вырвет. Какая-то болезненная слабость. Надо было отмывать руки, измазанные сладким, липким, чернильным соком ягоды.
— Раис, будь другом, достань где-нибудь водки…
«Помаши нам рукой, помаши нам, мы уже на другом берегу, мы расселись по нашим машинам — и колеса визжат на снегу…» — злобно напевал я песенку, которую сам написал когда-то в армии. Напевал и тщательно отмывал липкие чернильные руки. Как хирург перед операцией. Потому что большое скопление народа требует от личности стерильной чистоплотности — в больнице, казарме, лагере, в Советском Союзе…
Мы пили с отцом и Раисом. В то время спиртное народу свободно не продавалось: водка отпускалась под трехчасовыми очередями милицейских глаз, которые вообще не смыкаются. Не смыкаются — наблюдают, что в результате получится. Не забуду рассказ одного друга, как он признался в любви женщине: «Знаешь, милая, ты лучше столичной водки!» Раис нашел бутылку какого-то коньячного напитка, и мы засели в квартире моих родителей. Звук у телевизора выключили — крутили ручку радио. Но узнать удалось немногое. Потом пошли к Алексею Копытову, имевшему более мощный приемник, из которого нам сообщили, что в Каспийское море впадает Волга… «Ну, это еще вилами по воде писано», — подумал я. И только одно было ясно: столичные козлы пытаются взять реванш. Очень хотелось поймать Горбачёва за лацканы и дерзко бросить ему в лицо: «Ты же честное слово пацана давал!»
Отец, я и Раис, после того как прикончили выпивку, решили создать партизанский отряд и уйти в Уральские горы. Благо мой папа был участником партизанского движения во время Великой Отечественной войны в Крыму. Опыт имелся: в пятнадцать лет он уже ходил и ползал по крымской яйле с тяжелым ППШ за плечом.
Да, отец все знает — ему трудно рассказать что-либо об этой жизни. Или смерти.
Однажды, после университета, когда водка шла мощно, будто вода из артезианской скважины у Ветлана, я долго жаловался на жизнь, пока отцу не обрыдло слушать мычание пьяного теленка.
— Хорошо, представь себе: у тебя есть кооперативная квартира, интересная работа и даже то, чего в принципе быть не может, — много-много совершенно честных денег. Скажи, ты был бы умнее или глупее, чем сейчас?
— Да наверно, глупее, — с нетрезвой улыбкой ответил я.
— Так о чем же ты жалеешь? — подытожил мой лысый армянин и добавил в наши топливные баки белого горючего.
Поэтому я смотрю на свою жизнь и плачу — и со слезами на глазах чувствую, что с каждым днем становлюсь все умнее и умнее. Если так пойдет дальше, то скоро из меня просто попрет немыслимая армянская мудрость.
Если человек стал коммунистом при жизни, то помереть способен кем угодно. Не считая тех, которые писали: «Считайте меня…» Но коммунистов было столько, что не сосчитать. От партийных тошнило, как от зеленого азербайджанского портвейна. Белобрысые убийцы с настойчивыми глазами, какие-то мотовилихинские губошлепы, ординарцы из Губчека… И этот особенный аромат межличностных отношений и трудовой микроклимат — вы когда-нибудь бывали в мужском туалете на Соликамском автовокзале? Рекомендую — в качестве эффективного рвотного…
— Ха-ха-ЧП! — дразнился мой трехлетний сын, бегая по квартире своего деда-крымчанина.
Помнится, мы говорили с отцом и Раисом о том, что в Крыму блокирован президент страны — в Форосе. Мать слушала вполуха, а потом сказала:
— Там, на юге, вообще одна шпана!
Мы расхохотались. Тридцать лет назад наша семья переехала на Урал из Крыма. У мамы были конкретные воспоминания о южном полуострове, родине отца. Очень конкретные. О шпане.
А потом мы курили и все трое — казанский татарин, крымский армянин и его сын, вишерский чалдон, напевали песенку: «Я иду по яйле, с автоматом, в тельняшке. Мне пятнадцать — вся жизнь впереди! Может быть — впереди. Может быть — позади. А в какой-то стране через тысячу, может быть, лет сон пронзит до костей пацана. Может быть — не меня. Может быть — не меня. И приснится ему, что идет он по крымской яйле с автоматом — на скорую смерть! Может, песню запеть? Или лучше не петь… Я иду по траве, по курумам, орешникам… Ветер с моря. И хочется пить. Может быть, закурить? Может быть — и не быть. А немецкая часть рвется к горному плато на смерть. Не погибни, отец, пожалей пацана. Понимаю — война! Может — да, может — нет…»
А на следующий день Александр Яковлев, идеолог перестройки, заявил по телевизору, что «президента окружала одна шпана».
В тот день я умылся, позавтракал, погладил брюки и решил выполнить свой последний профессиональный долг — «жила бы страна родная, и нету других забот». Все-таки я журналист, хотя и в отпуске. Только я пропел одну советскую строчку, как похмельный Раис напомнил мне другую, из детской песенки: «Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья…» Я взял удостоверение, блокнот, ручку и направился в приемную местного Совета народных депутатов. Я должен был написать хороший материал — такой, от которого редакция не в силах будет отказаться.
Председатель совета, молодой юрист, известный демократическими взглядами, тотчас принял меня.
— На Вишере появилась идея проведения бессрочной забастовки, — сказал я демократу.
— Я вообще против забастовки как метода борьбы, — быстро ответил Соколов.
— Понятно, — кивнул я, стараясь скрыть удивление. — Владимир Николаевич, а скажите, как вы относитесь к балету «Лебединое озеро»? Вы признаете его легитимность?
— Не понял… А! — улыбнулся он озабоченно.
Я внимательно разглядывал аккуратный светло-серый костюм председателя и ждал, когда он проявит свою безукоризненную гражданскую позицию. Но товарищ Соколов не торопился что-либо проявлять. Он думал. Ну а я молчал. Вообще, это было не молчание, даже не балет Чайковского, а какой-то пермский звериный стиль, медная бляха-муха, немыслимая свобода интерпретации.
— Вы знаете, — наконец-то начал он, — вчера, 19 августа, в Березниках собрались руководители северных районов области — Красновишерского, Чердынского, Соликамского, Усольского, города Березники. И пришли к выводу, что необходима правовая оценка факта, которую должен дать Верховный совет республики. В адрес Верховного Совета СССР была отправлена телеграмма с требованием немедленного проведения съезда Советов. А до того решено было ничего не предпринимать.
— Я спрашиваю не об этом. Как вы сами относитесь к Чайковскому?
— Я — никак, — быстро ответил он. — Я юрист, мне нужна правовая оценка событий. Наше государство нельзя назвать правовым — законы нарушаются сверху донизу. И последнее событие тому пример!
— Да я не об этом, я о том, как человек по фамилии Соколов относится к перевороту в Москве.
— Я не человек, я юрист… — начал было говорить председатель, но, видимо, понял, что сморозил немыслимое.
«Господи, пощади нас!» — взмолился я и встал, закрывая блокнот.
— Всего хорошего, — попрощался я и вышел на свет божий. Оглянулся вокруг, прикидывая, что можно сделать еще, — и вспомнил о коммунистах. И чего это вдруг?
В новом здании райкома партии было пусто, будто в заброшенном самарском бункере Сталина. Я поднялся на второй этаж, дошел до приемной и не встретил ни одного большевика, не говоря о нормальных людях. Неужели в суровый час испытаний большевики не встали на защиту родной партии? Члены не встали. Партия импотентов не только не смогла проявить свою власть, но и просто взять ее в руки — не смогла. Взять в руки и хотя бы немного подержать.
Без пятнадцати восемь — поматросим и бросим: в приемной у зеркала стояла какая-то морковка, высокая, семиколенная, и мазала губы так щедро, будто голенища капитанских сапог. И грудь — суперобложка, а на ней еще одна золотая цепь рифмованных ассоциаций: дивная дива, две бутылки пива и три презерватива. Но политическая обстановка в стране была столь серьезной, что я не стал более тратить время на ознакомительную экскурсию. Правда, мне в голову пришла мысль о том, что красота не главное, главное — фигура.
— Корреспондент из Перми, — представился я, раскрывая удостоверение.
— Подождите, пожалуйста, — ответила она и зашла в кабинет шефа. Через три секунды вышла: — Проходите.
В кабинете первого секретаря было чисто, светло и бесконечно одиноко. Будто в монгольской пустыне Гоби. Та же самая история: звук у телевизора выключен, а на столе стоит транзисторный приемник. Поздоровались. Я протянул визитку.
— Вы знаете, на какой волне работает радиостанция Белого дома? — печально как-то спросил секретарь.
— Нет, — искренне ответил я, поскольку мы шарили в эфире наугад, прослушивая все, что удавалось найти.
— Тогда записывайте.
Конечно, я задал ему несколько обязательных вопросов. И запомнил все ответы будто один: «Мы читали про времена сталинские. А брежневские знаем сами — до сих пор стыдно… Так неужели снова? Пока не поздно, надо действовать… Даже собаки академика Павлова реагировали! Прежде всего необходимы выступления президента Горбачёва и Ельцина по телевидению…»
— Что вы будете делать, если завтра ГКЧП победит?
— Я заколочу райкомовские двери досками, крест-накрест, и снова уйду в тайгу. Я ведь по специальности геодезист — до недавнего времени возглавлял партию, геодезическую. Да, хорошее они времечко выбрали — страду! Нельзя допустить голода в стране.
Так получилось, что 20 августа 1991 года, в день краха величайшей в истории человечества империи, я разговаривал с молодым демократом и зрелым ренегатом. И так я сразу понял, что между ними нет никакой разницы — плюс-минус предательство. Такая вот, блин, Мойва, бобровая река…
Славка, что из нашего отдела, рассказывал, как чисто случайно проснулся в постели знакомой, которая сама ушла на работу и обещала отпроситься. Вдруг звук ключа, голова в двери — в комнату заглядывала мамаша подруги. Славка замер, а затем повернул голову к стулу, где лежали плавки, женщина — тоже… Дверь закрылась. «Вставайте! Одевайтесь!» Он встал, оделся. Вышел. «Сходите за пивом! Да тут надо бы шкаф подремонтировать…» Он сходил, подремонтировал. И только потом узнал, почему мамаша оказалась такой ласковой. Когда женщина зашла в прихожую, увидела мужской пиджак. Из кармана торчала сберегательная книжка. Она со страхом достала и торопливо просмотрела ее. Да, поэтому позднее стала приставать к дочери: выходи за него замуж — и всё. Он, дескать, богатый… Это в спешке она приняла «30.00 руб.» за тридцать тысяч. Так и с демократами: на поверку российские коммерсанты оказались комсомольцами.
Губошлепами они оказались. Им следовало прежде всего отменить сухой закон и напоить страну до такой степени, чтобы у всех сели батарейки, аккумуляторы и другие элементы питания, поддерживающие боеспособность национального сознания. Тогда этот ГКЧП по пути из чепка ни один человек не заметил бы. Ни на что не способны! А демократы — надо отдать должное молодым — так и сделали: полиэтиленовыми пакетами с «Кристаллом» вытравили у людей последний рассудок и наштамповали рабов безо всякого массового зомбирования. Обошлись без Анатолия Кашпировского.
О, наконец я вспомнил его — бывшего партийного секретаря, когда мы стояли на нагретой солнцем взлетной полосе. Остался только этот бетон. Маленькое здание и метеостанция были стерты с лица земли мощным юго-западным ветром. В пятидесятых годах, когда шло строительство вишерского аэродрома, мой отец возил сюда на самосвале песок откуда-то из-под Помянённого Камня. Я помню, как еще в шестидесятых над городом проходили мрачные, похожие на бомбардировщики, двухмоторные американские «дугласы», известные у нас как Ли-2. Ага, «негритенок мальчик Ли».
От машины в нашу сторону направился мужик в штормовке, который тоже приехал с нами. Точнее, это я приехал с ними. В руках он тащил какой-то пакет — как оказалось, с импортным пивом.
— Угощайтесь! — кивнул он на американские банки и приступил к делу первым.
Я без особого удовольствия глотал теплое пиво, исподтишка разглядывая лицо незнакомца — загорелое, мужественное, с аккуратной квадратной челюстью. Нет, это лицо вроде бы незнакомо мне.
— Юра, корреспондент «Пармских новостей», — представился я с расчетом на ответную вежливость.
— Виктор, — он пожал мне руку.
На этом наш разговор закончился. По обеим сторонам длинной бетонной полосы, будто в пустыне, лежали барханы желтого песка, за которыми начинался молодой сосновый лес. Вскоре где-то в бескрайнем небе раздался долгожданный звук, и мы повернули головы на юго-запад, пытаясь высмотреть летящую точку. И она проявилась из голубой воды — невероятно, что Ми-8 может выглядеть точкой в пространстве. В звуке работающих винтов послышались почти незаметные хлопки — машина начала сбрасывать обороты.
Через полтора часа лёта мы прошли Чувальский хребет, повернули направо и, сделав круг, зависли над каким-то болотом. Я посмотрел вниз: вертолет снижался над ворсистым ковром, похожим на трясину. И только потом я заметил четыре белых флажка, обозначавшие квадрат для посадки — похоже, там была притоплена бревенчатая стлань. Летчики осторожно посадили машину, и бывший секретарь с товарищем по рыбалке начали выбрасывать наружу многочисленные тюки. Все это напоминало десант: машина не вырубала винтов и через минуту мы уже поднялись в воздух над заповедной территорией.
— А кто этот, в армейской панаме? — прокричал я на ухо Якову Югринову.
— Начальник районной милиции, — усмехнулся инспектор, — по фамилии Волк.
Да, с ним я действительно не встречался, но писал, да, было, было — писал. Не стихи, правда, но что-то близкое к сибирскому верлибру. А за такие пустяки теперь не убивают, поэтому «с каждым днем все радостнее жить». Теперь убивают за другое.
Да, эти, бывает, тоже ходят в штормовках. Что-то в этом есть. Я тоже не беру пример с премьер-министров. И с министров МВД я не беру пример — да, мне не нравится их форма: фашистская тулья и кирзовые сапоги. Возникает такое ощущение, будто гражданская война в России никогда не кончалась, менялась только форма — мундиры, ромбы, погоны… Мне вообще не по душе знаки принадлежности к стае — золотые звезды, цепи, кожаные куртки с комиссарского плеча, пистолеты Маузера, Макарова, Шпагина, Стечкина…
Золотые звезды, зараза… Другое дело — Золотое урочище!
А кто видел Золотой Камень и его продолжение — Золотые Гребешки, скалистые утесы из красноватого кварцевого песчаника? Вот ради чего стоит жить. Я не о золоте. Правда, кто-то из местных утверждал, что там месторождение желтого металла, кто-то — что чудские клады, охраняемые нечистой силой. Я читал, что покрывающие камень желтые лишайники «на солнечном закате придают вершине необычный золотистый цвет».
Когда я был там в последний раз, я наблюдал только желтую рысь, прыгнувшую мне на плечи. Или желтый дождь. Не помню. Застят память табуны вогульских туманов, идущие по тундре плоскогорья со скоростью облаков. Потому что самое дорогое — не золотое, а последнее. Да, может быть, кто-то не согласен с этим. Кто-то надеется, что никогда не наступит конец золотой лихорадке, порожденной болотной сыростью.
Золотая лихорадка
Плоскогорье Кваркуш — уникальное место Северного Урала: субальпийские луга, водопады, олени, куропатки, морошка. И еще там есть родиола розовая…
В районном комитете по охране природы раздался звонок. Из таежного поселка звонили туристы, которые в высокогорной тундре встретили энергичных людей, пришедших из-за Уральского хребта.
Валентина Павловна Листьева, председатель комитета, тотчас приступила к делу, как хороший оперативник. И уже на следующий день в сторону плоскогорья вылетел вертолет, в котором находились начальник райотдела внутренних дел Виктор Николаевич Волк, милиционер Александр Васильевич Мещеряков, председатель комиссии по природным ресурсам Павел Петрович Оралов, заместитель председателя районного общества охраны природы Магдалина Камильевна Иванова. И конечно, сама Листьева, организатор полета.
Примерно через час, оставив позади тайгу и стремительно пролетев над тундрой плоскогорья, вертолет пошел на посадку неподалеку от двухсотметровой каменистой сопки, у домика оленеводов. Те несколько человек, что стояли внизу, отнеслись к появлению вертолета спокойно, как потом оказалось, приняв его за свой, который улетел на заправку в Ныроб. И только когда разглядели милицейские фуражки, двое бросились бежать с бумажными мешками в руках. Трое остались на месте.
Павел Оралов, бывший геолог, и Александр Мещеряков, милиционер с автоматом Калашникова в руках, начали преследовать убегавших вдоль подножия сопки, по горной тундре космодромного плоскогорья Кваркуш. Через полкилометра головы бракошей замелькали и исчезли в зарослях карликового ивняка.
— Заходи слева, я — справа! — крикнул Оралову Мещеряков и минуты через три точно вышел на притаившихся в серебристых листьях мужиков. — Выходите!
Брошенные бумажные мешки подобрали на обратном пути. Четверо из пятерых оказались работниками Сылвенской гидрогеологической партии, совершавшими контрольный облет истоков северных рек. Двое из них и пятый, бывший там, заявили о своей непричастности к незаконной добыче родиолы розовой. Интересно, что этот пятый оказался заместителем председателя комитета по охране природы Пермского облисполкома Валерием Дмитриевичем Шараповым. Того самого исполкома, который запретил добычу дорогого лекарственного растения на территории области. Да о чем речь, состава преступления не обнаружилось — всего около семи килограммов золотого корня. Одни намерения — уголовного дела заводить не стали.
Родиола розовая — многолетнее двудомное растение, травянистое, с толстым корневищем. Растет в высокогорных и северных районах. Используется как средство повышения физической и умственной работоспособности, при гипотонии и понижении слуха. Действие препаратов золотого корня приравнивается к действию традиционных стимулирующих и тонизирующих растений — женьшеня и элеутерококка. Рыночная цена одного килограмма золотого корня — вполне золотая.
Искали свердловчан, а нашли пермяков и следы тех, кого искали. На чердаке домика было обнаружено сорок пустых мешков — надо полагать, тара. И полевая сумка с фирменными бланками свердловского кооператива «Конвур», среди которых и поручение на заготовку лекарственных трав в районе Денежкина Камня…
Золотая лихорадка по добыче дорогостоящего корня идет уже не первый год. Со стороны Свердловской области, бывало, приходило по тридцать-пятьдесят машин в день. Однажды на плоскогорье вылезли три трактора с людьми из Соликамского района. Все они попали в поле зрения поста Вишерского межлесхоза: на плоскогорье постоянно дежурят несколько человек оттуда. Строится второй пост. К этим решительным мерам вишерское руководство вынуждено было прибегнуть тогда, когда стало ясно, что иначе собственность района не уберечь — не выловить всех добытчиков, не остановить всех энергичных людей, идущих из-за Уральских гор. Организация дела у браконьеров серьезная: родиолу розовую вывозят с плоскогорья на оленях. Павел Оралов высказал свою версию. Около Денежкина Камня, где промышляет кооператив «Конвур», находится Сольва — поселок, рядом с которым во время войны добывалась платина. Ныне это туристская Мекка. В поселке живут пастухи-вогулы, они, вероятно, и привели на плоскогорье кооператоров. Три дня пути. Если судить по количеству мешков, навар добытчиков мог измеряться десятками тысяч рублей. И не догадываются посетители свердловского фитобара, какими путями пришел в их город золотой корень.
Но похоже, что незаконной добыче лекарственного растения наступил конец. Работа не ограничилась организацией охраны плоскогорья — золотой корень действительно нужен людям, больным и здоровым. Поэтому решением вишерского исполкома была разрешена лицензионная заготовка золотого корня. Десять процентов дохода пошло в казну местной власти. Кроме того, межлесхоз наладил воспроизводство растения, обеспечивая тем самым «розовую» перспективу. Во время создания кадастра заповедных территорий обследовался весь Кваркуш, были подсчитаны запасы родиолы розовой. Теперь заготовка корня станет носить цивилизованный характер — без тотальной копки высокогорной тундры. И местная власть будет иметь навар еще от одной «золотой» жилы Северного Урала.
Кваркуш является и медоносной зоной Урала. Может быть, здесь удастся возродить вишерскую пчелу.
Я перечитал свой материал семилетней давности и подумал, что с помощью спектрального анализа этого текста можно поставить диагноз: синдром Кандинского, слуховые галлюцинации — как же, заготовка, цивилизованный характер, власть будет иметь… Впрочем, власть имеет, точнее, конкретные представители власти имеют — возможно, прямо в кабинете.
…Я смотрел в вертолетный иллюминатор на двух крохотных людей. Они медленно передвигались по болоту, перетаскивая груз, будто муравьи. Борцы с большевиками и браконьерами, они были симпатичны мне, близки, будто родные, живущие в черном вишерском бараке. Бывший секретарь, ставший главой администрации, и начальник местной милиции.
Так что же я такого сделал, что меня собираются убить? Оказалось, что ничего я сделать еще не успел. Потому что на следующий день раздался второй звонок.
— Не надо писать про убийство Идрисова, — посоветовал тот же хрипловатый голос.
Понятно, что звонили из автомата. Из автомата… А из чего стреляют, интересно? Наверное, из пистолета Стечкина, тоже автоматического. Нежданный советчик оказался человеком опытным, или умным, что не исключает первого, — знал, что разговор должен быть коротким. Да, разговор у них короткий.
Чтобы сильно не скучать, я начал развлекаться интеллектуальным разговором со Славой Речкаловым, молодым корреспондентом нашего отдела, тем самым, у которого на книжке до путча было тридцать рублей.
— Пойдем со мной в гости, — неожиданно для себя предложил я, — выпьем чего-нибудь, будет интересно…
— Я подозреваю, — ответил Слава.
— Зря подозреваешь, молокосос.
— Мне нельзя пить, — попытался извиниться он. — И молоко сосать тоже.
— Почему? — удивился я.
— Я начинаю учить женщин глупостям.
— Каким?
— Самым разнообразным.
— В гости ходят не только к женщинам. Кстати, о географии путешествий. Я тебя понимаю, ты человек духовный. Но с другой стороны, еженощное нравственное самосовершенствование может привести к импотенции. Ты знаешь, что такое импотенция?
— Знаю.
— Ты не знаешь, что такое импотенция. Ты читал об этом или слышал от старших, более опытных товарищей.
— Да я своим опытом любой покрою! — нагло улыбнулся Слава.
— Опыт не корова.
— Да ты не обижайся.
— Обижаются в твоем возрасте, а в моем делают выводы.
Я посмотрел на узковатое лицо Славы, и мне на миг показалось, что оно сделано из грузинского кожзаменителя. Да, молодость — это иллюзия бессмертия, вызванная полнотой чувств и отсутствием жизненного стажа в трудовой книжке.
Впрочем, что толку в этой самой художественной книжке? В редакции «ПН» я был похож на машину: портрет героя капиталистического труда — вперед; очередная забастовка на электротехническом заводе — полный вперед; убийство на улице возле городского морга — святое дело; а между делом — рекламные и заказные материалы всех уровней и направлений. Только газеты на тротуарах не продавал, и то потому, что бляхи не было. Правда, была бляха-муха, но маленькая, как зарплата корреспондента отдела социальных проблем. Больше всего этих проблем было у меня лично.
Надо ехать на Вишеру. В любом случае только там я найду концы, которые кто-то пытается спрятать в бурую воду согры. Движение нужно начинать с любой точки в пространстве и времени. В августе там уже бывает холодно, идут осенние дожди — в двухстах пятидесяти километрах севернее, между Красновишерским и Соликамским районами, проходит граница Среднего и Северного Урала. Когда в Перми минус двадцать, в Красновишерске — минус тридцать, в заповеднике — минус сорок. Случается, уже в конце августа Тулым наполовину покрыт снегом, торжественной попоной. Тамошние мужики ходят на лыжах до середины мая, а в церкви вообще не бывают. Они и так ежедневно пропадают в тайге, где кедровые колокольни, полные золотых орехов. Знал бы я тогда, что именно кедры завершат это расследование и сильно изменят мое мировоззрение…
Государственный природный заповедник «Вишерский» по площади, 2412 квадратных километров, занимает четвертое место в Европе. Это территория, о которой нельзя не мечтать, потому что здесь есть золото, алмазы, серебро, вольфрам, свинец, горный хрусталь, в том числе золотистый цитрин и дымчатый морион, фисташково-зеленовато-серый офиокальцит и цветные мраморы. Рассказывая мне все это, геолог Попов между прочим заметил, что строматолитовым мраморам мойвинской свиты около миллиарда лет. «Ну, это уже слишком! — возмутился я. — И за миллиард лет до них никто не добрался?!» — «Я, — ответил он, — а еще раньше, в XV веке, пелымские князья делали набеги на Пермь Великую из-за Уральских гор. Пока дружина князя Курбского не перешла в Азию по Вишере — судовой ратью. Что там было и чего не было! Давно все это началось, может, и миллиард годов прошел. А ты тут со своими статьями…»
Но разговор этот состоялся значительно позже осени девяносто седьмого.
Там, на горе Саклаимсори-Чахль, сходятся водоразделы трех великих российских рек — Печоры, Оби и Волги. Правда, знаменитый геолог Валера Демаков утверждает, что русло Вишеры в устье более глубокое, чем у Камы, наносы рыхлых отложений, аллювиальных, значительно древнее. Ну и объем воды значительно больше. Но самое интересное не в этом, а в том, что та же история повторяется в устье Камы. Значит, мы можем утверждать, что великой русской рекой является не Волга, а Вишера! Молодец Демаков — что значит любовь к родной земле. Конечно, Вишера — я в этом никогда не сомневался. А как можно сомневаться, когда на берегу Вишеры для меня началась эта самая жизнь, а весь остальной мир был школьной контурной географической картой. Эта самая жизнь, которой меня пообещали лишить…
Отец рассказывал, в 1956 году на Вишере свирепствовала такая жара, что на свалке выросли арбузы. Невероятная редкость для наших широт. Проросли семечки тех гнилых кавунов, которые туда свозили из магазинов и с овощных баз. В тот год отца реабилитировали.
Тулым всего на двести километров севернее города. Последние заморозки там были 20 июня, а первые — 20 июля, между заморозками — лето. Если в Красновишерск везут помидоры из Астрахани, то берут зеленые — за дорогу зреют. А доставляют по великой русской реке Вишере баржами.
Кстати, о баржах. Мой дядя, Армянак Давидович, рассказывал, что в пятидесятых годах отправили двух безграмотных мужиков сопровождать баржу с алкоголем из Перми в Красновишерск. Представляете, месяц плыть? Понятно, они стали выбирать подходящий по цене ящик — красного цвета, чтоб не слишком накладно вышло. Они знали только два цвета — белый и красный. Белый был дорогим. Вот, а потом им предъявили счет за коньяк. Так и спиваемся — по безграмотности, конечно.
Мой дядя трудился начальником ОРСа — отдела рабочего снабжения — у геологов. Понятно — армянин. Однажды к нему приехал начальник какого-то участка и говорит: «Армянак Давидович, ты в мой поселок водку не завози, ладно? А то я своих после получки по три дня собираю!» — «Ладно», — сказал дядя. Через пару месяцев этот начальник появляется снова, поникший и мудрый: «Армянак Давидович, ты водку-то завози, а то я людей теперь по десять дней собираю: они поднимаются всем поселком и уходят на соседние участки».
Мы думали, что поедем на машине, а подвернулся вертолет. Искали нарушителя на хребте — сам пришел к избушке. Мечтали поймать хариуса — Бахтияров принес рыбу. Пошли за грибами — в пяти шагах нашли ведро опят. Ну как к этому относиться? Как к кредиту. Наверное, так. Нет, когда делаешь правильно, все получается.
Что-то тут не так, когда все тип-топ, а потом бум-бум — какой-то гремучий студень.
Я достал еще один материал, написанный через полгода после «Вогульской земли». Где-то должна проявиться эта мерцающая точка, звездочка во Вселенной, известная под именем истины. Какая-нибудь лягушка в желудке хариуса.
Лягушка в желудке хариуса
В заповеднике «Вишерский» мне довелось беседовать с одним из местных жителей, вогулом. «Посторонние залетают?» — поинтересовался я. «Был тут один, — ответил он и махнул в сторону горы, — за Ишеримом. Представился министром обороны Пермской области». — «Чего-чего? Такой должности в природе не существует, — привстал я. — Как он выглядел? Высокий такой, красивый?» — «Нет, — ответил представитель племени манси, — невысокий, черный». — «А имя?» — спросил я. Вогул назвал известную всему Прикамью фамилию: Мамаев. «О-о…» — протянул я. «Во-во», — согласно кивнул вогул.
Чего только не вспомнишь, читая докладные сотрудников заповедника в Минприроды РФ. Возьмем эту, например: «Доводим до вашего сведения, что 10 октября 1995 года, когда мы с целью ознакомления залетели в заповедник, нами было отмечено следующее. При посадке в верховье Большой Мойвы в вертолет сели сотрудники милиции и управления разведочного бурения. При них были ружья, рыболовные снасти, две деревянные лодки, три фляги и другие емкости с рыбой, собаки…» Подписана докладная Тамарой Гордиенко и Верой Ситниковой.
«В заповеднике (вот в каком — забыл) жил да был козел отпущения…» — помните Высоцкого? Через двадцать дней, в том же ноябре, Вера Ситникова, технический секретарь директора, напишет начальнику департамента заповедного дела о своем непосредственном шефе: «Он часто кричал на меня, доводил до слез, унижал. По отношению к сотрудникам применял выражения „корова“, „тупица безмозглая“, „совсем в аварии рехнулась“… После общего собрания стало известно, что я поддерживаю мнение научных сотрудников о нашем директоре. Вскоре он снял меня с должности радиста, которую я занимала по совместительству».
А потом Ситниковой пришлось оставить и свою основную работу. Оказалось, что секретарша выкрала из сейфа папку с документами, а также собственную трудовую книжку. Вероятно, этого показалось мало, а потому она прихватила с собой и второй ключ от сейфа (наверное, чтобы совершить повторную кражу).
Заявление в милицию написал сам директор, Рафаэль Камильевич Идрисов, стремительный, уверенный в себе мужчина. В комнате Ситниковой проводили обыск. Девушку допрашивали. Не знаю, пытали или нет. Скорее, все-таки нет. Но допытывались (если каждый будет сообщать в Москву, где милиция рыбачит, что получится?). Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. В результате ни документов, ни трудовой книжки, ни ключа найти не удалось. А какая статья светила! Из УК, конечно, не из газеты.
Еще одна докладная: «Не считаю, что я отличный работник, но раньше был начальником цеха и имею представление о том, как должен вести себя руководитель. Наш директор представляет себя кем-то вроде шаха или хана».
Пожалуй, хватит.
Управленческий стиль Рафаэля Камильевича действительно является авторитарным, подавляющим. Он этого не отрицает.
— В прошлом году трое инспекторов охраны отстреляли нескольких лосей. Один вообще убил человека… А как быть? Где взять других людей? Кто из настоящих мужиков, знающих тайгу, согласится на такую зарплату? Научные сотрудники демонстративно заявляют: будем выходить на работу, когда захотим! Эгоисты от науки. Годами пишут свои диссертации — о каких-нибудь птицах. Их не интересует, что этих пернатых через пять лет просто не будет: браконьеры перестреляют. Ведь наука ничего не дает заповеднику, в то время как нам нужен жесткий практический результат. Кто пьет, кто браконьерствует, кто нарушает дисциплину, а кто воспринимает заповедник через экран компьютера. В этой ситуации мне приходится говорить, точнее, утверждать: да, я директор, да, я вынужден принимать суровые решения.
Хорошо сказано. А как говорят другие? Основным объектом охраны рыболовства на заповедной территории является хариус, строгое ограничение места и объема вылова которого было рекомендовано учеными Пермского университета после исследований 1994 года. По причине ухудшающегося состояния уникальной популяции.
Инспектор Анвар Зинатуллин рассказывает:
— Пока у нас было топливо, сделано более десяти задержаний за месяц, обнаружены капканы. Как только не стало топлива, не стало и задержаний. А туристы толпами спускались с верховьев Вишеры. Вертолеты летали туда один за другим, забрасывая новые и новые партии любителей рыбалки. Тем временем мы выслушивали по радио слова Идрисова о нашей несостоятельности как инспекторов. Когда осуществляли обход территории, в устье реки Малая Мойва дожидались вертолета работники УРБ с заготовленными кедровыми орехами, ягодами и рыбой. Директор играл при группе роль расторопного фоторепортера.
И что говорит Идрисов в ответ? Последние три месяца заповедник сидит на картотеке. Всё съела зарплата. Пришлось продать трактор, чтобы выдать людям аванс. На организацию охраны территории в минувшем году (не считая зарплаты инспекторам) требовалось триста миллионов, а выделено было три миллиона, то есть один процент. Нет горючего. Нет вертолета. В то время как браконьеры используют все, вплоть до малой авиации и парашютов.
В этой ситуации, когда государство просто не дает денег, заповедник вынужден искать собственный вариант выживания.
В 1995 году «Вишерский» получил от тридцати до сорока миллионов — рублями, топливом, строительными материалами. От частных предпринимателей и руководителей предприятий, организаций, согласившихся помочь заповеднику. Милиция дает то топливо, то транспорт. Помогает.
Как это можно назвать? Конечно, это дар. От всего сердца. Бескорыстный. Правда, неформальность общения предполагает, что на вопрос, можно ли туда слетать отдохнуть, будет получен положительный ответ.
Научные сотрудники считают, что лучше быть нищими, но честными! А директор думает, как выдать зарплату и обеспечить охрану территории.
Ученые объявляют забастовку-директор говорит: «Хорошо, я тоже устрою дурдом!»
— Да, иногда прилетают спонсоры — за свой счет, на своих вертолетах. Попьют водки в избушке, попоют песни под гитару, закинут пару раз удочку, скажут, глядя на Тулымский хребет: «Красота-то какая!» — и улетают.
— А мусор закапывают?
— Нет, — отвечает директор, — забирают с собой, в вертолет.
— Получается, что эта территория доступна только для богатых?
— Нет, сюда может приехать любой, я никому не отказываю. Пусть поможет: тропу проложить, аншлаг поставить. При соблюдении правил заповедного режима, конечно. Мы регулярно составляем протоколы, конфискуем ружья. На два миллиона оштрафовали работников алмазного прииска. Попадались поселковые и районные руководители.
Василий Анфимович Колбин, заместитель директора по науке, объяснил ситуацию так:
— Организация так называемого туризма, точнее, рыбалок для разного рода начальства и просто богатеньких буратино. Помнится, после одной рыбалки директор сказал, что они нашли лягушку в желудке хариуса. Представляете, сколько надо выловить рыбы, чтобы найти лягушку в желудке хариуса? Как биолог знаю — редчайший факт. Во-вторых, посадка вертолетов на гольцах, где лишайниковая тундра, на Ишериме например. Там куча эндемиков, очень редких видов. Нельзя этого делать! А потом богатые могут быстро спуститься на рыбалку и вернуться на вершину — чувствуете размах полета?
Да, можно сказать, что Рафаэль Камильевич Идрисов, который подчиняется только Москве — Госкомэкологии России, пользуется своей властью в полной мере, не скупясь на приказы и аргументы. В результате конфликт между ним и научным отделом зашел так далеко, что принял разрушительный центробежный характер.
Может быть, все-таки стоит продумать хозяйственную, платную и бесплатную экскурсионную деятельность настолько, чтобы она приносила деньги, необходимые для организации охраны заповедника? Я сам видел многочисленные свежие шурфы на склоне хребта, шурфы, стенки которых сверкали после дождя гранями горного хрусталя. Регулярно работает кто-то.
В этом материале я не стал писать о совсем фантасмагорических вещах, а теперь вот вспомнил. Колбин рассказывал, будто у него есть персидский кот по прозвищу Чёрный Абдулла, который «подрабатывал» — с тихим азартом истреблял вишерских мышей и крыс. Но вскоре после начала конфликта между директором Идрисовым и научным сотрудником первый издал приказ, который был вывешен на всеобщее обозрение: «Всем членам коллектива запрещается впускать в здание конторы черного кота Абдуллу…» Ответственной за исполнение была назначена кладовщица, рабочее помещение которой находилось рядом со входом в барак. Дверь в кладовую держалась открытой настежь, а кладовщица вынуждена была бдить, чтобы пресечь поползновения черного перса. И какой-то гад-контрреволюционер авторучкой процитировал на приказе классику: «Вчера котов душили-душили, душили-душили…»
Ну, звери-животные — это вообще зоопарк. Точнее, живой уголок. Колбин создал в конторе живой уголок на деньги какого-то международного фонда. На рыбок, птичек, питона, хонорика и прочую экзотическую тварь приходила дивиться вся любознательная Вишера. Так Идрисов приказал Малинину, своему заместителю по хозяйственной части, отключить уголку электрический свет, что для многих его обитателей стало бы смертным приговором. Кто в городе не знает Малинина? Маму бесплатно не поцелует. Колбин слышал ответ заместителя: «Ты, Рафик, уже сделал меня подлецом, но зверюшек беспомощных я убить не могу!» — и хлопнул дверью. Кто бы поверил…
Странный человек директор Идрисов. Да, тут я сразу вспомнил не только этих зверей, но и те материалы, которые не вошли в мою первую статью. Что значит лак, тушь и прочая косметика с бижутерией.
В августе инспектора нашли палатку со штампом Свердловской геолого-съемочной партии и ведро горного хрусталя ювелирного качества. Вероятно, оставила группа из тех людей, которые всегда доходят до нужного места. До золотого корня или чайного цитрина, родиолы розовой или папской короны.
Это хита, добывающая минералы. А браконьеры отравили Ольховку хлоркой — килограммов десять сбросили. До этого, в июле, помнится, была борная кислота — фиксаж. На берегу инспектора нашли пустые упаковки. Фотозакрепитель — закрепили, называется, отражения собственных рож в горной воде. Потом бракоши становятся ниже по течению и вынимают сетями мертвую серебристую рыбу.
Я положил архивную папку на место и пошел на коммунальную кухню покурить. И тихо вспомнил последнюю шахматную позицию. То ли крабом, то ли раком выкарабкались мы из черного барака… Так всегда: когда злюсь на себя — начинаю говорить стихами… Заклинивает. Мы не рабы, конечно, — рабы немы… А мы проживаем на заповедной территории, на кордоне Цитрины — в самом центре неограниченной свободы личности! В третьем тысячелетии нам придется вести географическую, демографическую, экономическую войну с теми ордами, которые собирают свои силы на наших южных границах. Россия в кольце фронтов. Мы не рабы, поэтому нас все больше интересует индийская философия и китайские единоборства. Подсознательно готовимся к первой ступени адаптации. Скоро начнем изучать иероглифы, чтобы расписываться в бухгалтерской ведомости за получение зарплаты посудомойщика в китайском ресторане. Какой-то длинный, полутемный коммунальный коридор: русский народ спивается и продается своими президентами за гроши, за упаковки спиртосодержащей жидкости «Кристалл» для мытья оконных стекол. Ну не мытьем, так катаньем…
Прошло три дня после публикации второго материала о заповеднике. Я, честное слово, не ожидал, что Идрисов появится в редакции. Но он вошел — в синей куртке с капюшоном, с суровым лицом казахского воина.
— Кто заказал материал? — спросил он, сев за свободный стол напротив меня.
— Никто, — ответил я.
— Этого не может быть, — он сложил перед собой худые, спокойные руки.
— Может, вы не представляете себе, что еще может быть…
— Я все равно выясню, кто это заказал!
Это был разговор азиата с европейцем. Идрисов ушел выяснять — человек, трагедия которого заключалась в том, что на самоутверждение он тратил гораздо больше времени, чем на самопознание. Так мне показалось. И я пошел в буфет, чтобы выпить водочки, а то чувствовалось, что кровь в жилах вот-вот остановится от этой предзимней тоски.
Говорят, что угроза всегда страшнее того, что может быть на самом деле: если обещали убить — значит, слава богу, только покалечат, если избить — то, как минимум, поставят кружку пива. Или две кружки. После поминок, естественно, на следующий день. Всегда страшнее? Не скажите. У нас тут во дворе одного зарезали прошлым летом — вообще не предупредили. Сзади подошли и насквозь проткнули, до самого пейджера. Поэтому я больше ста рублей взаймы не беру, чтоб не отдавать с такими процентами.
Или вот еще — один знакомый еврей-массажист, родственники которого уехали в Израиль, рассказывал за водкой. Вызывают его в КГБ и спрашивают: «У вас родственники за границей есть?» — «Нету, — отвечает, — они все на родине. Это я за границей!» А потом идет как-то мимо ресторана «Турист», там пьяная компания со словами «Жидовская морда!» мочалит мужика. Самый здоровый подошел к нашему еврею, посмотрел в глаза, обнял за плечи и, потрепав по щеке, громко сказал: «Вот оно — настоящее славянское лицо!»
В общем, жить мне по-прежнему хотелось. Поэтому я решил сходить к своему главному редактору — посоветоваться, как не умереть и получить поддержку, в крайнем случае пистолет, подаренный редакции генералом по фамилии Полковников, возглавлявшим управление внутренних дел. Правда, пистолет был газовый, но похож на настоящий. Да и вообще, разве в этом дело?
Я объяснил Олегу Владимировичу, в чем оно. Редактор долго молчал, глядя большими, черными, холодноватыми глазами в окно — на эспланаду и драматический театр. Худой, невысокий, длинноволосый, он был похож на батьку Махно, каким героя Гражданской войны изображали в кино. Недаром Чечню и другие «горячие точки» страны Олег Владимирович Пантелеев прошел тогда, когда нижняя палата парламента еще не увеличила суммы пособия на погребение. Правда, я всегда считал, что самая горячая — это точка зрения, попадающая в прицел…
— Не пойму, что там — заповедная территория или террористическая? Тебе не следует заниматься этой темой, — наконец-то высказался редактор. — Не стоит рисковать жизнью из-за того, что кто-то не поделил какой-нибудь алмазный куш.
Я был настолько согласен с редактором, что испытал к нему легкое чувство благодарности, детской приязни. Я помнил: жизнь дается один раз, а самое дорогое — не золотое, а последнее. Конечно, ведь я родился в двухстах метрах от того места, где расстреляли моего деда. Но во мне течет угорская и русская кровь, а также древняя армянская и греческая — первой группы. Кровь, которая шевелится, бьется, рвется в каменистом северном русле Вишеры.
Я шел по длинному коридору и тихо матерился, про себя понятно, чтобы никто не слышал. Поскольку редактор сделал трансграничный перенос — и оказался за пределами личной ответственности. Я остался один — без друзей и даже газового оружия. Да, пистолет редактор не достал, а мог бы сделать чисто символический жест в мою сторону, в качестве моральной поддержки. Да, даже плохие книги всегда лучше своих авторов.
Я шел по бесконечно длинному коридору десятиэтажного здания Законодательного собрания области, на втором этаже которого располагалась редакция газеты «Пармские новости». В редакции работали герои нашего времени. Я шел будто по туннелю: опять я был я — без друзей, сподвижников, команды, без того человека, который пошел бы рядом. Я шел будто одинокий старик, заблудившийся в тайге, во времени и пространстве. Так жить — это все равно что идти вверх по течению «упором» — на шестах.
Да, кстати, парма — это тайга по-пермяцки.
И тут я почувствовал — что-то понял, засек, как вспышку молнии, боковым зрением, остановился, проговорил словами: так лучше, конечно лучше, а то жизнь проживешь и не заметишь — с кем.
Я зашел в комнату своего отдела и сильно задумался: да где же ты, источник радости и знаний? Все мы пьем из промстока — промышленного стока, тяжелого от редких металлов. Или еще что-то будет? Радиация, например.
— Как дела? — приветствовал я малочисленную аудиторию.
— Дела у деловых, — ответил Матлин, — а у нас работа! Сам видишь, компьютер не лифт, тут кнопочек больше. Кофе будешь?
— Нет.
— Почему?
— Для сердца вредно.
— Что-о? А ты забыл, что ли, как на прошлой неделе в подъезде две бутылки водки выжрал из горла, стоя у стенки?
— Да, пойдем-ка, Андрюша, выпьем водочки, — неожиданно согласился я, — оставь работу — компьютер должен знать свое место.
— Мне материал надо писать, — больно быстро отозвался боевой товарищ.
— Материалист, падла, — заметил по этому поводу Саша Корабельников. — Я согласен с тобой выпить, впрочем, и без тебя тоже.
Бывалый воин воздушно-десантных войск встал — ноги по циркулю, поковылял в сторону буфета. Ногу он поломал во время неудачного приземления с парашютом. По застекленному переходу прошли на второй этаж корпуса «б», где находился актовый зал Законодательного собрания области. Выпили по сто. А выпить Саша любил, поэтому первой телефонной фразой его всегда была: «Старик, не радуйся, это я…»
Он любил выпить, а все остальные любили его. Можно сказать, Корабельников — это корабль, который приплыл на мой необитаемый остров. И после небольшого количества ритуальных тостов я рассказал ему, как тяжело живется российскому журналисту перед смертью. Сашка всплакнул, и мы решили, что тот умный прав, который сказал: «Принципиальность в мелочах — признак обывательства». Поэтому взяли на всё оставшееся бутылку водки, чтобы не мелочиться больше: нет денег — нет вопросов, и за полчаса насосались по самые зенки, до зеленых соплей, как инопланетяне.
Я рассказал Саше про остров своего одиночества, расположенный в Мировом океане.
— Фигня, — сказал Саша, — вот в Аральском море есть остров Возрождения — биополигон, зараженный сибирской язвой. Представляешь — остров Возрождения! Российский Ренессанс! А ты тут со своим островом. Помнишь «Остров Рено» Александра Грина? «И он стряхивал с себя бремя земли, которую называют коротким и жестоким словом „родина“, не понимая, что слово это должно означать место, где родился человек, и более ничего».
— Побойся Бога, сволочь! Когда ты бросишь пить? — укорил я товарища, чтобы отомстить за свой остров.
— Бутылка одна, поэтому не надейся — не раньше, чем ты, — улыбнулся Саша двумя передними зубами — остальных все равно не было. — А про Бога… Все, что я о нем забыл, даже вспомнить не берусь. И заметь, когда мужчина достигает вершины, где лишается недостатков, он начинает активно вымещать свое совершенство на женщине. Например, бросает пить, курить — и начинает ежедневно копить деньги, экономить на медной мелочи. И тут у жены появляется серьезный вопрос: а что хуже?
— Какой вопрос! — подхватил горячую тему я, корреспондент отдела социальных проблем. — У наших женщин ума хватает только на то, чтобы разделить мужчин на пьющих и непьющих, и всё, поскольку мозговой ресурс ограничен, лимит!
— Ума у них мало, — согласился Корабельников, доставая из кармана мелочь, — а разума вообще ни копейки! Говорю это тебе как старый финансист.
— Послушай, банкир, больше не будем — у меня деньги кончились.
— Ладно. Короче, ты хочешь, чтобы я связался со своими легавыми? — спросил он.
— Твои интеллектуальные способности удивляют даже меня.
— Ладно, — снова кивнул Корабельников бритой наголо головой, — я поговорю с полковником Макаровым, думаю, проблем не будет. Недавно встретил майора Орлова на банкете, спросил его, почему ездит на бандитские презентации. Знаешь, что он мне ответил? «Сегодня мы за их столом, а завтра они — за нашим». Разведчики!
Он всегда подчеркивал разницу между ментами и легавыми, с которыми давно дружил. «Вот идет сотрудник УР — вечно пьян и вечно хмур…» УР — это такой Уголовный Розыгрыш. В молодости Саша носил широкополую шляпу и шерстяные костюмы с галстуком, дарил дамам розы и флаконы с духами «Наташа». Поэтому — только по привычке — в дверях он резко приостановился и отступил в сторону, пропуская в буфет девушку нервного поведения.
— Какой вы любезный! — пропела та.
— Да, я сегодня трезвый, — согласился Корабельников.
— Вот как? — обернулась красавица. — А что тогда в другие дни?
— Давай эту девушку в ресторан пригласим, — громко предложил Корабельников.
— Какая я тебе девушка, — успела ответить морковка, — я уже пять раз там была!
— Вечно ты им дорогу уступаешь, — пробормотал я, оглядываясь. — Кстати, а ты бы попробовал?
Корабельников, колченогий десантник, остановился и тоже оглянулся.
— Ты что, очумел? — прошепелявил он. — Да будь я и негром преклонных годов…
Ага, редактор предложил ему написать материал о первом поцелуе, на что Саша ответил тут же: «Ты что, начальник, я о последнем ничего не помню…»
Встать не могу… Но похмельные мысли почему-то показались трезвыми: самое главное сегодня — не строить иллюзий, вроде тех, которые дает водочка, опасная игрушка, смертельная. В тридцатых годах еще пели: «И в запой отправился парень молодой…» А на что пить? Говорят, что самые лучшие деньги — халявные, остальные даются так тяжело. Ты читал «Утраченные иллюзии» Бальзака? Читал. Читать надо, читать, очень много читать, как говорил Ленин. Или считать? Забыл…
Ничего не пойму: русские горки в Нью-Йорке стали американскими, а в Москве — Ленинскими… Я смотрел в окно на железобетонные казармы социализма, рассеянные в пространстве района так же бесполезно, как необязательные метафоры авангардистов. Меня мутило.
Я опять выяснил, что оказался за чертой бедности: три сигареты, две заварки молотого кофе и проездной — еще на один день. Понятно, я каждое утро начинаю с голой страницы, но не настолько же обнаженной.
Да это же все черный блеф, будто мы сейчас находимся в разумном мире. Вот в сорока километрах от Красновишерска, на Геже, где в пятидесятом сидел в лагере мой дядя, мировые метафористы взяли и реализовали еще один проект. А после неудачи засекреченный руководитель работ, полковник, повесился — и до сих пор висит где-то в Галактике, физик-ядерщик… В лакированных ботинках. Покачивается.
Крушение потому и происходит, что его никто не видит. Все думают, что это литературный стиль Господа Бога. Устроили тот самый ад под землей, про который в каких-то старинных книжках писалось, а нам прислали компьютерную схему ядерного взрыва в скважине — смотрите, это же произведение искусства! Мы в редакции посмотрели, позвонили в московский научно-исследовательский имени какой-то там технологии, а директор отвечает: «Господи, что вы со мной сделаете? Я одной ногой уже там, на пенсии…» «На персональной, — добавил я мысленно. — Или тоже будешь покачиваться где-нибудь». На таком вот соцстраховском уровне понимал московский ядерщик свою человеческую ответственность во Вселенной. Ученые с лазерными лучами… А наше бытовое сознание — это вытянутая вперед рука человека, идущего в темноте.
— Эта зараза может выползти из темноты при любом цементаже скважины, пронизывающей все отложения. Природе глотку цементом не забьешь, — сказал мне тогда нефтяник Паша Оралов.
И выползет — например, в месторождении минеральных вод, обнаруженном еще ранее в районе Помянённого Камня. Появится, будто химера, в темной речке моего детства Вижаихе…
Теперь вот они произвели еще один ядерный взрыв, в результате которого у людей наступило кромешное помутнение рассудка. Помню, однажды мы сели в скверике — сели, посидели, выпили. Смотрим — листья у тополей распустились. Был с нами один рыжий демократ, он, конечно, нажрался, начал прыгать и танцевать с какими-то камерунскими криками: «Мы победили! Мы победили!» А случившийся в сквере оптимист верно заметил: «Да, опять вы победили…»
Мы сидели с Пашей на берегу Вижаихи.
— Разворачиваю геологическую карту, а там есть всё: золото, серебро, мрамор, молибден, офиокальцит — красивый такой известняк зеленого цвета, поделочный камень. И все это только в одной горе. Мы уже обсуждали на месте технологию разработки — экологически она безопасна, речная вода будет использоваться в минимальных количествах.
А другие «победители» думают лишь о том, как бы прибрать это золотишко к потным рукам. Да, всё есть. Как у писателя Михаила Осоргина, который родом из Перми, во «Временах»: «И в Европе полевой клубники нет, разве что в Скандинавских странах. Если мне скажут: „Она есть!“ — то я, прищурившись, ядовито спрошу: „Может быть, у вас растет и морошка?“ — и человек увянет от смущенья. А я ему вдогонку: „Вы даже и до брусники не додумались, хоть и изобрели парламент!“».
Паша — надежда страны, он думает, делает. Но где взять миллион Паш? Кто думает о будущем? О природе? О жизни и смерти?..
Я заставил себя подняться с постели, умыться, а потом шагать в Балатовский лесопарк. Я то шел, то бежал по сосновому лесу, будто в армейском марш-броске, вдыхал морозный воздух, вспоминал темную речку Вижаиху — и с потом, с выдохом, со слюной изгонял прочь дух, шлаки и собственную мерзость. Затем сходил в душ, хорошо вымылся горячей водой и вылил на мозги два ведра ледяной. Мне даже показалось, что я выкарабкался живьем из XX века.
Кроме того, на меня, случалось, находила еще одна мечта: я пытался вести настолько здоровый образ жизни, чтобы с каждым днем становиться все моложе и моложе — до тех пор, пока окончательно не впаду в детство. Я думал, что человек только тогда сможет победить самого себя, когда поймет, что противостоит не бригадиру, жене, другу или врагу, а целому миру, Галактике, Вселенной, что здесь вот — он, а там — все они, звездным скопом. О, иллюзии, галлюцинации, синдромы…
Николай Малинин, заместитель Рафаэля Идрисова, написал моему главному письмо по поводу «Лягушки»: «Я в забастовке не участвовал, в демонстрациях — тоже… Пусть на демонстрации ходит тот, кому есть что демонстрировать…»
Он обвинял меня, корреспондента и лауреата, в клевете! Это меня — эталон интеллекта и морали! У-у-урод! Я в кино иногда хожу и даже книги читаю! Мной на родине гордиться будут, может быть…
Я лежал на кровати и читал «Голый год» Бориса Пильняка. Остановился на фразе: «На рассвете в тумане заиграл на речке пастух, скорбно и тихо, как пермский северный рассвет». Вспомнил: на высоком тридцатиметровом останце гряды Помянённого, с отрицательным уклоном стенок, кто-то установил большой деревянный крест, паривший над волнистой зеленой тайгой и уровнем моря на высоте семисот метров, появлявшийся в тяжелых августовских облаках неожиданно, будто летящая вертикально вверх черная птица.
Когда я разглядывал крест в первый раз, думал: «Как подняли его туда? Невозможно». Потом узнал: это сделали какие-то дерзкие альпинисты-скалолазы. Наверно, они поставили крест в память о погибших здесь, внизу, лежащих в борах, в болотах, в камнях, в сухом вишерском песке. С той поры, с Помянённого, у меня появился навязчивый сон. Будто от подножия Камня Говорливого я поднимаюсь в громадном вертолете и лечу над Вишерой вниз по течению. Позади остается красновато-белая скала над зеленой водой с разрушенной церковью. Впереди появляется Камень Полюд — вертолет делает крутой вираж и уходит в сторону вершины, проносится вокруг нее в холодной и близкой тени скал. Далеко справа мелькает полуразрушенная столица Перми Великой — Чердынь. Я вылетаю на открытое пространство и начинаю стремительное снижение, очень похожее на падение — прямо на город, растянувшийся узким, тусклым лезвием по берегу холодной и стремительной реки. Вертолет заходит на город с севера, от Морчанских гор, и несется над улицами так низко, что можно рассмотреть удивленные глаза людей, которых я, кажется, всех знаю в лицо: всех этих родных, добрых, прошедших лагеря, ссылки, унижения, кровь, зубодробительную любовь родины. Пролетает на черными бараками четвертого отделения Соловецких лагерей особого назначения, где отбывал первый срок Варлам Шаламов, и в том месте, где расстреляли моего деда Павла Кичигина, над петлистым руслом Вижаихи, над белыми сосновыми борами детства открывает торжественное движение на восток, где в сорока пяти километрах от города виднеется Помянённый, зубчатые скалы которого стоят в багровом небе будто сторожевые башни Господа Бога. Вертолет приближается к самому высокому останцу — он все ближе и ближе к черному кресту, замершему на фоне восходящего солнца. Он летит и летит на крест, он уже совсем близко, но никак, никак, никак не может долететь до конца. Время останавливается — становится муторно, тоскливо и страшно. И тут я просыпаюсь, мокрый от собственных слез и пота.
«Можно было бы снять документальный фильм по этому сценарию», — думаю я, вспоминая подробности сна.
Так всегда — лопнувший нарыв, гной, сукровица, что течет по лицу России. Все это так давно началось — задолго до того, как мы появились на свет. «Послушай, отрада, родная страна, мне меньше не надо и больше не на…» Как они умудряются предавать и продавать всех и вся? Вот этот Малинин, заместитель директора, обвинял меня в некомпетентности и предвзятости. Кто он? Завхоз с неполным средним образованием. Человек, подставивший своих земляков, инспекторов, девчонку-бухгалтера… И каждый такой что-то имеет про себя: один — какое у меня было больное детство, а эти вон кровь с молоком; второй — у меня папа умер (родители развелись или сильно пили); третий вообще сирота и воспитывался в детском доме; четвертый жил в одной комнате с сумасшедшей бабушкой и в школе постоянно недоедал пряников; пятому, понимаешь, все козыри в руки, вплоть до спецшколы с английским уклоном, но он родился не в той стране, а всего лишь в этой. Поэтому каждый имеет моральное право на пепельницу, плевательницу, раковину и голубой унитаз. И каждый такой подонок верит в свою абсолютную мировую ценность, совершая поступки из чувства мести, социальной справедливости или собственного понимания смысла жизни.
Идиот, как я вчера вернулся? Ничего не помню, а ведь могли пристрелить — преступники, что им скажешь. Вторая сигнальная не работает. Идиот — гляжу я на себя и плачу. Я устал смотреть сквозь прозрачное стекло, поэтому подошел к зеркалу — и заплакал. Оттуда на меня уставились кроткие от ненависти и красные от давления глаза. Внутричерепное давление — это что, когда изнутри на черепную кость что-то давит? Сильно давит ведь… Короткие, мягкие, седые волосы и припухшее лицо, будто коснулся его какой-то пустынный ветер — песком, травинками и безнадежной сухостью. Я попытался улыбнуться себе, но получилось еще хуже, потому что неровный верхний ряд зубов неожиданно вызвал печальные воспоминания. Кроме того, золотая фикса слева держалась во рту исключительно на моем честном слове. Раскачивалась, как язык коровьего ботала… Я усмехнулся — вспомнил поразительно теплую летнюю ночь, когда после стройотряда я, молодой, загорелый, в белой рубашечке, прибыл на белом теплоходе по Каме к своей первой жене в пионерлагерь, где она работала вожатой. Я тоже должен был пройти там педагогическую практику. Через полчаса после того, как я появился, в спальный корпус начали ломиться местные недоноски. Удары разносились по всей территории, но ни одна дверь не открылась, будто взрослых сотрудников вообще не было. Я представил себе, как сжались от страха под своими одеялами пионерчики, и пошел открывать гостям дверь, хотя жена, конечно, пыталась меня удержать. Кажется, я открыл дверь немного резко, поэтому тот, что был справа, планером слетел с высокого крыльца. А я тут же получил прямой в правый глаз. Гостей было пятеро — семнадцати-двадцатилетних пацанов. Конечно, мне пришлось ответить, поэтому схватка переместилась на землю. Чтобы не сбили с ног, я отскочил к стене, а потом почему-то решил прорываться — попал главному по носопатке, перепрыгнул через него, но меня остановило то, что глаза залило кровью. Тогда я остановился, вытер лицо рубашкой и попробовал снять ее через голову.
Как мне потом рассказали, в то время вокруг уже стояли сотрудники пионерлагеря. И в тот момент, когда я, наклонившись вперед, снимал рубашку, главный занес над моей головой здоровенный булыжник… Возможно, жить оставалось всего ничего. Но тут из круга наблюдавших выскочила какая-то девушка и с силой толкнула ладонью камень в руках нападавшего. Булыжник отлетел в сторону как раз в тот момент, когда я стянул рубашку с головы. А с окружавших будто спало оцепенение, раздались гневные крики — и неравная схватка прекратилась. Пацаны остановились и даже начали оправдываться, а меня увели в корпус на перевязку.
На этом педагогическая практика завершилась. Мои верхние зубы перестали быть ровными, один вообще под корень срубили. Но отец заплатил большие деньги, чтобы мне за два часа поставили золотую коронку. Это он меня наградил так — чемпионским золотом. Это и есть мое чемпионское золото. А девушку ту, что спасла меня, я так ни разу в жизни и не увидел, потому что уехал на следующее утро, рано, чтобы никто не видел мою несчастную, переклеенную, перебинтованную морду. Я девушку ни разу не видел, но думаю, что с такими вот девушками надо жить в этом святом мире. С такими, а не с другими.
Чем дольше я вглядывался в зеркало, тем больше проступали сквозь мое лицо черты матери, деда, Павла Кичигина, расстрелянного по приказу великого гуманиста из Прибалтики Эдуарда Берзина, всей материнской линии, которая уходила во тьму финно-угорской народности — язьвинцев, насчитывающих всего две тысячи человек.
Я рассматривал подаренные мне Игорем Поповым фотографии в багетных рамках шоколадного цвета, висевшие над столом: останец Помянённого Камня, листья на воде Усть-Улса, патина Тулыма, Полюд над освободившейся ото льда рекой, опять Полюд — сквозь вечерние лучи плавящегося за Вишерой солнца, пронзающие сосновую хвою на берегу Бараухи — залива в центре города, сквозь туман, воду и отражения в ней… Барауха была похожа на космос — бездну воды и огня, жизни и смерти. Господи, мой деревянный бог, нам обязательно надо что-то сделать, мы насквозь, как школьники, пропитаны социалистическим реализмом.
«Я пойду на паперть завтра, чтобы думать о душе! Хватит оперных театров и театров вообще…» Я собрал по карманам мелочь, оделся и пошел в ближайшую рюмочную. Взял сто граммов белой, кусочек селедочки с черным хлебом и сильно выдохнул воздух из легких, начиная обряд экзорцизма. За столиком стоял мужик сорока с лишним лет, седой, с печальным взглядом. Я только потом вспомнил, что убийцы тоже бывают с печальным взглядом. А сначала лицо показалось мне знакомым — перекинулись двумя словами, тремя, потом разговорились. Легче стало стоять, веселее — с водкой вообще жить можно, первое время. Однако время это у меня уже кончалось.
— Саша, — представился он, такой же, похоже, одиночка, как я. — Гурьянов.
Потом эта водка, это утро, эта фамилия — Гурьянов — почему-то стали напоминать мне незнакомый, далекий, горький вкус верблюжьей колючки. Речь шла о стране, которой уже не было. Или все-таки была?
Горький вкус верблюжьей колючки
Капитан Гурьянов находился в бункере командного пункта, под землей. Он следил за прямоугольными транспарантами на аппаратуре, которые высвечивали однозначные сигналы, что могли поступить в любой трагический момент.
«Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток… А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей…» — писал о тех местах великий человек.
Один кабель тянулся сюда, к бункеру, за пять тысяч километров — из Москвы, другие отсюда, как корни дерева, — к пусковым установкам ракетных шахт.
И сигнал поступил, только телефонный. Было шесть часов вечера, когда раздался зуммер: «Докладывает начальник караула. Товарищ капитан, рядовой Алексеев ушел в туалет и не вернулся».
«Е-мое!» — протянул Гурьянов. Туалет расположен рядом с караульным помещением, а вся территория шахты обнесена двухметровым металлическим ограждением, по которому идет ток в тысячу шестьсот восемьдесят вольт. Куда он делся, этот солдат? Первый в мире космодром, научная фантастика.
«В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана… А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…» Так писал о казахстанских степях Чингиз Айтматов в романе «И дольше века длится день».
Бог свидетель, капитан никогда не мечтал попасть в эти края, где живут одни верблюды. Когда Герой Советского Союза, первым переплывший Свирь, произнес фразу «Вы направляетесь в Туркестанский военный округ», Александр испытал такую досаду, что командир курса не смог не заметить. И тут же раздался его сочувствующий голос, который уточнил адрес: Байконур! И город рядом, которого нет ни на одной карте Союза. Туда направляют лучших, самых лучших, самых достойных и перспективных!
Капитан Гурьянов позвонил в жилое помещение, и командир группы ответил: «Я беру машину!» Вскоре он приехал, внимательно осмотрел площадку и вокруг, но ни солдата, ни его следов не обнаружил.
Капитан хорошо помнил этого молодого воина: чуваш с бледной, невероятно бледной, как февральский снег, кожей. Белая ворона. Человек с нестроевым шагом. Кто согласится отвечать за такого солдата? Недавно командир части наорал на Гурьянова за то, что прапорщик Юрков не явился на службу вовремя: «Ты, бля, должен был спать с ним!» Капитан хлопнул в ответ дверью — он сам знал, с кем спать.
Командир группы сообщил о случившемся командиру части. Тот сразу же разослал офицеров по ближайшим железнодорожным станциям. Ведь поезда в тех краях идут «с востока на запад и с запада на восток». Но многодневные поиски рядового Алексеева никаких результатов не дали. Дважды выезжали на родину солдата — и то же самое. Как будто в космос вышел, вроде Леонова, только назад не вернулся.
Капитан Гурьянов не раз видел, как поднимаются космические корабли. С трехсот метров наблюдал, как взлетают боевые стратегические ракеты. Барабанные перепонки сдавливает так, что не знаешь, куда себя девать, — прикрываешь уши ладонями и бежишь прочь, спасая душу свою.
Железнодорожная станция называлась Тюратам, офицеры называли ее «А-тюрьма-там». Имелся в виду режим закрытого города, в котором был создан первобытный социалистический рай — с доступными квартирами, говядиной и сигаретами «Союз-Аполлон». В этом городе капитан Гурьянов жил с женой и малолетним сыном Алёшей.
И вот в громадном центре космической цивилизации офицерами части серьезно обсуждался вопрос о том, что рядовой Алексеев мог просто попасть в рабство к степным казахам — такое случалось уже не раз. («Но сказал мне полковник в папахе: в Казахстане живут и казахи…») Проверить версию быстро было трудно. И только то, что случилось на самом деле, никому в голову не пришло. Приехавшая на место комиссия обследовала караульное помещение, площадку пусковой установки и ближайшую степь. Ощущение было такое, будто эта сверхзасекреченная земля решила приобрести еще одну военную тайну.
Капитан Гурьянов любил гордые, небесные буквы «СССР» на бортах ракетоносителей и скафандрах космонавтов. Он гордился и гордится сегодня тем, что много лет содействовал сохранению ядерного паритета между великими державами. Что восемь лет провел под казахстанской землей — у кнопки, которую нажал бы не задумываясь, как только засветился бы на транспарантах приказ из Москвы. Полторы мегатонны! Великий город Нью-Йорк мог просто исчезнуть с лица земли.
Человеческую жизнь можно измерять деньгами. Можно граммами или мегатоннами. Помните, как говорил герой одного художественного фильма: «Человек может спокойно рассуждать о вероятности атомной войны, но при этом морщится от неосторожного движения бритвы парикмахера».
Прошло полгода, год. Уволились те, что были с рядовым Алексеевым в карауле. Пришло и его время. Но родители в далекой Чувашии так и не увидели сына. Вскоре специалисты приступили к демонтажу пусковых установок. И только тогда капитан Гурьянов впервые (!) увидел ее — красавицу, трехступенчатую ракету зеленого цвета. Образец аэродинамического и эстетического совершенства. Не ракета, а контейнер, начиненный дальнобойной баллистической смертью с ядерной боеголовкой.
Весной, в апреле и мае, вокруг шахт в степи зацветали желтые и красные тюльпаны. Офицеры собирали эти цветы для жен — как на «нейтральной полосе». Капитан вспоминает об этом, быть может самом счастливом, времени в жизни и безотчетно улыбается. Точнее, сегодня — майор в запасе.
Гурьянов был переведен в Подмосковье, а вскоре поехал на старое место службы — в командировку. К этому времени там завершалась разборка подъездных путей к шахте, сложенных из железобетонных плит размером полметра на метр. Когда подняли одну из них, сбоку осыпалась земля и открылась могила: в суконном солдатском одеяле находился хорошо сохранившийся человеческий скелет. При более внимательном изучении выяснилось, что кости ног и рук лежат вместе. То есть ноги предварительно отрубили и положили рядом. Таким образом уменьшили могилу, ведь копали в феврале, а делать ее надо было быстро. Рубили топором. Представляете, какая картинка могла открыться из космоса, с американского спутника-шпиона, который постоянно наблюдал за этой ракетной шахтой? Господи, что только в голову не придет! Тут же нашли военный билет погибшего — рядового Алексеева.
Сегодня Саша Гурьянов весь седой. Помните песню про отставного майора, у которого за ночь разлетается пачка сигарет? Очень похоже. И слова его горьки, как настойка из верблюжьей колючки, которую он пил в бесконечную, как степь, казахстанскую жару.
В тот февральский вечер рядовой Алексеев стоял на восьмиметровой караульной вышке. С пулеметом Калашникова, ручным. Обычно караул длился сутки, которые делились на троих. На пост поднялись начальник караула и его помощник. «Стоишь? — спросил сержант. — И еще стой. За всех троих стой». Затем последовал сильный удар кулаком — для того, вероятно, чтобы сильнее вбить в солдатскую голову мысль о праве сильного. И Алексеев полетел головой вниз, прямо во входной люк, и упал двумя метрами ниже, ударившись о металлическую площадку виском.
Через три года после убийства, в восемьдесят шестом, начальника караула и его помощника нашли. Один уже работал агрономом. Оба получили максимальные сроки лишения свободы. Подсудимые утверждали, что не могли привести Алексеева в сознание. Но на вопрос, билось ли сердце в момент расчленения тела, скелет ничего не ответил.
Молчало звездное небо над Байконуром. Сквозило «ветром с Альдебарана». Рядовой Алексеев, что родом из небольшого чувашского села, завещал свою жизнь научно-исследовательскому институту, где изучаются не кости, а природа скотства того самого мыслящего существа, которое сегодня визжит, но рвется в божественный космос.
В 1993 году у Саши Гурьянова умер отец. На похороны приехал сын Алёша, прослуживший к этому времени полгода срочной в элитной дивизии МВД имени Дзержинского под Москвой. Вскоре после его отъезда раздался звонок: сын сбежал из армии. Было это 5 октября. А затем Алёша появился в Перми. И рассказал, что произошло. Когда он вернулся в дивизию, «старики» заявили: мы тут Белый дом защищали, пока ты отдыхал. Короче, гони семьдесят «кусков», а не то плохо будет. Защитники демократии, бля, кошкодавы…
Когда Алёша пришел к военкому одного из районов Перми, тот сказал ему: «Дорогой мой, бегай, бегай, дорогой мой, пока срок не пришел, а придет — мы тебя уволим».
Приказ об увольнении пришел через год.
Сегодня сын работает диспетчером на железной дороге. Следит за тем, как идут поезда с запада на восток и с востока на запад. А майор запаса Гурьянов думает по ночам об ответственности человека в мире, где сдавливающая барабанные перепонки мощь способна уничтожить миллионы людей. Миллионы. Что там один человек! А ведь каждый из нас — один, одиночка.
Знатоки военных тайн прошлого рассказывали мне, что на командном пункте боевых ракет в одной африканской стране было две кнопки, за которыми сидели два оператора — для подстраховки «от дурака». Потом какая-то умная негритянская голова додумалась, что если встать посредине, то двумя палками можно одновременно дотянуться до обеих кнопок — и взорвать мир! Какая мысль… Кнопки срочно отменили и создали другую систему. А наши утверждают, что там живут дикари, которые разрубают своих жертв топорами. Ну, это слишком. Да еще добавляют про человеческие головы, хранящиеся в холодильниках у местных президентов-людоедов.
Майор запаса смеется надо мной: нет, говорит он, ракетной точки, нет закрытого центра новой космической цивилизации. Ничего больше нет. Я все придумал.
А вы говорите, откуда появились в российских городах банды и бригады головорезов. От верблюда. От верблюжьей колючки. Они вышли из желтых степей нашего научно-фантастического прошлого. С топором в руке.
Вспомнил, на кого похож ракетчик, рассказавший мне про убийство на Байконуре: он оказался похожим на того, которого я сегодня утром в зеркале разглядывал. А редактор все спрашивает, где я нахожу своих героев. Где-где — в Караганде.
Когда я начал писать об Инспекторе, заметил, что компьютер незнаком со словом «подельник», что понятно: это не наша машина.
Инспектор с трудом рассекал сумеречную зимнюю тайгу, будто сохатый. Тяжело двигаться по снежной целине. Одна надежда: через полчаса он должен был выйти на лыжню. Точнее, рассчитывал, что так будет. Сегодня ему приходилось торопиться. Чтоб не замерзнуть на жестком и жестоком снегу. Он знал, что скоро уже не сможет идти так, но пока может, надо так.
Он вспомнил слова Светланы: «За глаза Серого Волка называют то Козлом, то Красной Шапочкой. Все намекают на какую-то ориентацию. Но Волк этого не знает». Да, Гаевская скажет — не пожалеет. Раздвоенный язык у бабы, как у змеи.
Человек по прозвищу Инспектор двигался к Мойвинскому кордону, до которого оставался день пути. Ему надо было успеть вовремя, чтобы устроить таежную разборку там, в шести километрах от дома. И зайти по дороге к одному старику.
Инспектор своего жилья не имел. Десять лет назад он оставил квартиру жене и детям, а сам уехал в Сибирь, где начал зарабатывать хорошие деньги. Он посылал деньги семье, пока сыновья не стали совершеннолетними. И ушел в тайгу. Водку не пил, не курил и всех, от бомжей-алкоголиков до бизнесменов, очаровывал, вовсе не желая того, невозмутимым достоинством свободного человека.
Одно время работал водителем автобуса в городе Печоры, что в Коми АССР. И вот как-то в салон вошел древний старик — очень древний. Было видно: явно нездешний. И не только не из этих мест — вообще из другого времени: седые длинные волосы, космы висят, борода, белая полотняная рубаха. «Мужчина, у вас проездной?» — спросила кондукторша. Старик показал на свои седые волосы. «Ну и что! — воскликнула женщина. — У меня и не такие белые платят!» Дурная баба. Старик достал потертый кожаный кошелек. «Сынок, — спросил он шофера, — а как мне попасть в Псково-Печерский монастырь?» И пассажиры, и водитель сначала посмотрели недоуменно на него, а потом друг на друга. Пока один не сообразил, в чем тут дело. «Э-э-э! Да ты, старик, немного ошибся — примерно на две тысячи километров! Монастырь называется так, а сам находится во Пскове».
Старик, сокрушенный ударом, тихонечко вернулся по ступенькам на дорогу. И автобус пошел дальше. Инспектор разглядел в зеркало заднего обзора, как странник с низко опущенной белой головой стал на колени у обочины. И стоял так, пока водитель мог видеть его, человека, заблудившегося во времени и пространстве.
Инспектор понял, что промахнулся километра на три, чего с ним вообще не случалось. Бывало, он ошибался, но старался делать это редко, совершенствовался. Когда-то он учился на строителя, и учащиеся, мальчики и девочки, будущие каменщики и штукатуры, давали торжественную клятву: «Беречь честь учебного заведения как свою честь!» И берегли потом — только сетки кроватей скрипели. Тогда он согласился жениться, о чем сильно жалел потом. Жалостливый был парнишка.
Основа основ — это правильная стойка, говорили преподаватели о дисциплине. И путали недоразвитость своих подопечных с юностью.
А после училища, в армии, так было: он пытал судьбу — и она его не щадила. Пока он не понял, что большую часть времени человек должен проводить в одиночестве, точнее, в уединении, чтобы при встрече с другими людьми выглядеть достойно. В слове «одиночество» мало воли, собственной значимости. Уединение — настоящее слово. Уединение включает в человеке механизм самосовершенствования — в сильном человеке. А слабый способен только на одиночество.
Теперь — всё: отца похоронил, детей вырастил, с женой развелся, квартиру оставил. «Больше я никому ничего не должен», — сказал он, собирая большой походный рюкзак.
В училище преподаватели разрешали ему во время занятий ходить вдоль стены, когда все сидели за столами: столько в парне было энергии, что он не в состоянии был остановиться хотя бы на мгновение, будто вечный двигатель.
Инспектор сделал шаг — и всё. Это случилось с ним первый раз в жизни. Он потерял сознание, но, похоже, скоро очнулся: у самых глаз лежали кусочки взломанного наста, будто большая друза аметиста. Говорят, такое случается от переутомления.
«Никогда не знаешь, что будет через мгновение, — вспомнил он слова своего друга Олега Чернышова, — поэтому передвигаться по дороге надо со скоростью своего ангела-хранителя». Вспомнил, значит, голова в порядке.
Этот же Олег рассказывал, как поймал тайменя у Говорливого Камня. Тогда он стоял на стволе поваленного в реку дерева. И когда подтаскивал рыбу — потерял равновесие и упал в воду, в сторону берега, и повис на леске, которая петлей стянулась на запястье. Таймень, конечно, воспользовался моментом и решил, что пора уходить, поэтому начал вытаскивать Чернышова из воды. Пока не перерезал руку до кости. Хорошо, в это время вверх поднимались рыбаки на моторке — спасли его от потери крови. Они вытащили его и вытащили тайменя, которого Олег отдал мужикам, чтобы хорошенько поджарили.
Иногда казалось, что до последней детали жизнь вообще продумать невозможно, до последней мелочи. Имя которой — смерть. Или, может быть, жизнь.
Инспектор медленно скрючился и осторожно отстегнул от валенок широкие деревянные лыжи, подбитые жестким оленьим мехом. Полежал с минуту и попытался перевернуться так, чтобы можно было встать на четвереньки. Но тут же провалился локтем в снежную пустоту. «Вот гадство, знал ведь, что провалюсь…» Еще полежал с минуту, прислушиваясь к сердцу, — вроде бы нормально все. Осмотрелся, оценил место: небольшой спуск, ниже — невысокие ели, сухостой, покрытый снегом. Морозный туман и темень начинали обступать человека все сильнее, сужаясь до широких плеч. Он резко перевернулся на живот и начал двумя руками разгребать под собой снег. Потом снял рюкзак и ружье, аккуратно положил в ноги. Работал, наверное, с полчаса — стало тепло, хотя было сорок градусов ниже нуля. Подтащил лыжи и положил их поперек расщелины. Потихонечку добрался до жесткой земли, до прошлогодней травы и сухого мха.
Расчистил площадку, только-только превышающую корпус и рост. Подскочил, оперся на лыжи и вылез. Откатился далеко в сторону и быстро нашел сухую ель. Достал из кожаного чехла топор, висевший на поясном ремне, и срубил дерево минут за двадцать, пугая тайгу короткими и мерзлыми ударами. В последний момент свалил невысокий ствол в противоположную сторону, навалившись на него плечом. Быстро обрубил сухие сучки и ветки, разрубил ствол на две части, оттащил легкие бревна к укрытию, оставляя в сумеречном первобытном. Потом он опустил бревна на дно, стянул их колышками, положил между ними свиток бересты, сверху — еловый сушняк и поджег. Первое же пламя выхватило из темноты бесконечные галактики снежных кристаллов, второе заполнило вселенную запахом дыма, третье — смолой воспоминаний…
На работу ушло два часа. Инспектор разложил костер так, чтобы пламя прихватило баланы как можно более широким фронтом, и срубил столько хвойных лап, чтобы хорошо прикрыть себя сверху. Пристроил на огонь железную кружку. Когда еловое пламя стало полновесным, он осторожно перевернул бревна, ссыпал угли на землю, еще подбросил в огонь веток и почти дал им догореть. Притушил оставшееся пламя веткой, оставив бревна ярко и горячо тлеть, расстелил рядом спальник, поставил ружье. Съел кусок черного хлеба с салом, запивая растопленным до кипятка снегом.
Душистой и жесткой была его постель. Далеко-далеко, может быть на самой обочине Млечного Пути, сияла над головой звезда без названия. Конечно, имя у звезды было, но Инспектор не знал какое. Обычно он присваивал имена сам, эту звезду он называл Молебной. Он смотрел в небольшое хвойное окошко, пытаясь как можно точнее вспомнить, понять ту бесконечную мысль, что ему удалось услышать прошедшим летом: наша жизнь — это тайна, которая открывается со смертью человека. Только с его смертью, личной.
Инспектор повернулся спиной к бревну, закрыл глаза, и ему почудилось, будто он спит в узкой вишерской лодке, которая покачивается на волнах далекой теплой августовской реки.
Первый раз банда появилась на кордоне в июле 1995 года. Светлана в это время была в лесу — ушла за три километра, к подножию Ишерима, за ягодами, за черникой.
И тогда, и позже они всегда падали с неба — на Ми-8. Они заняли гостевой домик, а потом расселись вокруг деревянного стола, на воздухе, чтобы выпить-закусить, по-человечески отдохнуть после дороги — не бомжи-бичи какие-нибудь. Боги, блин, устали летать по этому небу, долгому, как Свинимское плёсо на Вишере. Приглашали в свой круг Зеленина, но он вежливо отказывался, кивая головой: мол, попозже, пока занят очень… А потом приперся Лёха Бахтияров. Лёха, Лёшка — так он его звал. Это же надо, полгода не было человека! В декабре ушел — в буран, в темень, в тайгу. И ни слуху ни духу. Явился.
Если над территорией «вогульского треугольника» появлялся вертолет, то вогул хорошо соображал, куда надо двигаться.
Угощали обильно — Бахтияров принял приглашение такого же невысокого, как и сам, человека. Такого же черного, но раскосоглазого.
— Рустам Ибрагимович, — представился гость аборигену и через некоторое время, после третьего стакана, добавил: — Ты знаешь, кто я такой? Я Рустам Мамаев — генерал! Министр обороны Пермской области!
— А я Алексей Бахтияров, оленевод.
В ответе прозвучало простое достоинство вогульского князя, чей род веками владел этими горами, лесами, зверями, запредельной территорией. Тысячу километров можно было идти на север — и не встретить ни одного поселка. До самого Ледовитого океана можно было идти.
«Генерал» напивался быстро. Алексей едва поспевал за ним. Но постепенно и неуклонно нагонял. Сначала неуклонно, потом уклонно. В конце вечера они уже сидели в обнимку — полковник милиции в отставке, представившийся генералом неизвестного рода войск, и свободный охотник, который когда-то был оленеводом. Милиционер пел старую татарскую песню и плакал. Алексей подпевал ему, не зная ни одного слова.
Да, Бахтияров белую водочку пил, правда, снисходительно называл ее «пойлом». Понятно — вогульский князь.
Командовал бандой бывших эмвэдэшников и гэбистов тридцатилетний Дима Холерченко — высокий, симпатичный, улыбчивый. У парня были покатые женские плечи и не было пресса. Он возглавлял местную организацию ЛДПР, так называемой Либерально-демократической партии России. И руководил каким-то торговым домом, который занимался реализацией популярной продукции одного из крупнейших заводов Урала.
Светлану и Василия ни газовики, ни банкиры не пытались унизить или оскорбить. Часто приглашали Василия в гостевой домик, чтобы налить стакан, показать: мы не только богатые, но и щедрые. Правда, инспектор давно знал цену этой дешевой безыскусности: элита на отдыхе добра, отзывчива и снисходительна. О, элита очень любит эти слова — БМВ, пентхаус; прокладки с крылышками — любимая реклама. А Рафаэль Идрисов в это время стоял у плиты и варил для хозяев жирные русские щи с американскими окорочками. Идейный травоядный. И при этом бросал кокетливые взгляды из-за плеча, строил гостям откровенные глазки. В общем, вел себя восточной женщиной. Газовики сидели на кроватях: «шел сильный газ — и многих развезло», как писал поэт Александр Ерёменко.
В домике на предельной громкости орал магнитофон. Стол был заставлен бутылками и завален жратвой. Господа доказывали друг другу что-то, но что — не было слышно. Василий грустно разглядывал очередных гостей: «Господи, ну почему бы не поговорить в тишине? Похоже, залетные вообще тишины не переносят». Да, Светлана как-то полетела с ними до Красновишерска, рассказывала потом: «Ну ладно пьют-курят во время полета, так еще и петь пытаются. Смотришь на них — будто немое кино: на гитаре бренчат, рты открываются, жилы на шее и лбу вздуваются, пот градом. А слышно только гул вертолетных винтов. Они и сами своей песни не слышат». Со Светланой тогда летели банкиры, с какой-то дальней охоты, с ружьями и собаками.
Но встречались другие — те, кому приглянулась дикая заповедная природа. И они взялись за нее, за природу, чисто конкретно: заказали строительство дома на кордоне Цитрины. Дело в том, что Идрисов выдавал поповское месторождение за изобилующее зверем и рыбой, хотя в этом смысле оно пустое, ближайшая рыбалка за десять километров. Кроме того, в трубу между Ольховочным и Ишеримом всю зиму так дует, что держи норковую шапку. Светлане и Василию Идрисов представлял газовиков как мирных созерцателей-натуралистов. Да только мирные гуляют без карабинов с оптическими прицелами. А «цитриновские» действительно ходили в тайгу. Это тебе не безобидная пьянка Холерченко и компании «до змеиного шепота». Но если нет проводника, там ловить нечего — и некого. Там к каждому стволу кедра по лосю не привязано.
Да, поповское месторождение — открытое известным геологом Игорем Борисовичем Поповым.
Василий понимал: если конфискует оружие у газовиков, то сразу лишится жилья и зарплаты. Вот-вот, поэтому Идрисов не очень брал на работу местных — у них жилье, они более независимы. Если бы Василий один жил — плевать, а вот куда со Светой? Ладно, ограниченную охоту, под присмотром, допустить еще можно. Конечно, за приличную спонсорскую помощь. Только кому она достается? Люди жили в нищете, как в пещере… А газовиков моральные проблемы инспекторов тревожили не больше, чем религия афганских талибов.
Более того, люди были подставлены. Когда Мамаев узнал, что Светлана и Василий живут на кордоне без оружия, он пообещал помочь, и осенью 1995 года легальный ствол прибыл на Мойву. Это была старая «тулка», но в хорошем состоянии.
Идрисов взревновал и начал угрожать, что не выпишет разрешение на хранение оружия, да, похоже, побоялся грозного пермского дарителя. Тогда он начал действовать другими методами — привезенными из Средней Азии. «Все, что я слышал о красоте Самарканда, все правда, за исключением того, что он более прекрасен, чем я мог себе это представить!» Да и кто мог представить? Гниды вообще величиной не отличаются. Такие вот голубые купола минаретов.
Мамаев сильно отличался от компании, с которой прилетал на северный кордон. Однажды директор заповедника Идрисов сам предложил ему завалить в заповеднике сохатого, но бывший милицейский начальник вежливо отказался.
За всю вторую зиму на Мойву не дошло ни одного письма. А в марте, когда Светлана и Василий двинулись в отпуск на лыжах, у Чувала они встретились с группой травоядных, которые шли им на смену. Тогда женщина-биолог сообщила, что еще в декабре Идрисов, приехавший в Госкомэкологии области, кричал, что на Мойве живут браконьеры, бракоши и даже баркаши. Говорил, что обоих уволит, а мужика вообще посадит. Рейдовые группы в ту зиму не появлялись, а по радиосвязи Идрисов на неугодность не намекал. Но в Красновишерске все подтвердилось: начальник охраны Белков пересказал идрисовский сценарий: одна опергруппа заходит и расставляет вокруг кордона капканы, а другая — фотографирует и составляет протоколы. «План, конечно, гениальный, — сказал Белков Идрисову, — но никто этим заниматься не будет: ни я, ни мои подчиненные». Тогда тот заорал: «Я сам подкину капканы с мясом и составлю протоколы!»
Начальник охраны пересказывал. А сам Идрисов молчал и ходил кругами.
Дядюшка Фэй — так назвали Идрисова местные дети, сокращая имя директора до какого-то китайского варианта.
Преступника судили быстро. Что занимательно. Чрезвычайно удивительно. Для нашей страны, конечно. В августе он Идрисова убил, а уже в феврале начал отматывать назначенный срок. О причине появления такой световой скорости в России я узнал позднее. Судили — значит, я, как журналист, имею право просмотреть уголовное дело от корки до корки. Поэтому я заявился в областной суд с просьбой выдать мне один из томов местного собрания сочинений для ознакомления. Заместитель председателя суда вежливо попросил принести соответствующее письмо, подписанное главным редактором газеты. Я не стал напоминать юристу содержание статей закона о средствах массовой информации и не только подготовил письмо на бланке редакции, но и сам подписал бумагу. Чего там мелочиться — к человеку надо относиться с адекватной долей признательности.
Когда я начал читать показания убийцы, мои мягкие волосы встали дыбом — так, что со стороны могло показаться, будто на голове енотовая шапка. Да, преступник незамысловато аргументировал причину своих жестоких действий: «По приказу директора я должен был ручным рубанком обтесать внутри гостевого домика стены — сруб шесть на шесть метров, высотой два с половиной. Я отказался делать эту дурную работу. В результате меня лишили премии за второй квартал — небольшой материальной поддержки».
И что, за это он убил человека? Я не поверил. А кто бы поверил? Убийца утверждал, что директор заповедника был необразованным человеком! Убийца нагло лгал! Рафаэль Идрисов имел диплом Алма-Атинского университета! Правда, я сам диплома не видел.
Астролог сулил по телевизору нам, Водолеям, что завтра нас ожидает опасность со стороны кипящих, едких и огнеопасных жидкостей. Про спиртосодержащие суррогаты и парфюмерию ничего пророк не сказал. А завтра пятница, конец недели. Как быть? Что можно? Неужели они решили растворить меня в кислоте? Где скрыться? Да ты сам пришел к редактору, дорогой друг. С какой стати он должен благословлять тебя на смертельный риск? Хочешь, чтобы он, а не ты взвалил на себя ношу моральной ответственности? Ну-ну, тебе просто необходима душевная поддержка, материальная… Но получилось бы именно так — ответственность. Ты забыл, что за все отвечаешь сам, лично, собственным здоровьем. Твой поступок похож на слезовыжималку, слезоточивое вымогательство, когда одноногий на костылях стоит между рядами движущихся машин с протянутой рукой и заглядывает в открытые окна… Опасный, нечестный и беспощадный промысел. Главный тебе не помог, но зачем тебе его помощь? Выруби из дерева, Юра, своего бога.
Я начал действовать. Изучая дело, я решил встретиться с одним из героев заповедной территории — Никифоровым, который должен был находиться в интернате для инвалидов в Чайковском, а это далеко, на самом юге области. «На далеком жарком юге, на краю родной земли, живет в маленькой лачуге негритенок мальчик Ли…»
Конечно, я импульсивный человек — я позвонил и выяснил, что, на мое счастье, сейчас он в Перми, в стационаре ортопедического отделения. Я нашел мужика: он сидел на кровати в палате на четырех человек. Виктор сидел так, как стоят кедровые вогульские идолы, — понятно стало, что ног у него нет вообще.
— Было, в августе девяносто шестого мы, я и Карпов, вылетели на Цитрины. Газовики заказали себе домик для отдыха. Мы вылетели, да без лебедки, без крючьев, без веревок, без дополнительных рабочих. Готовили и подтаскивали бревна на сруб. Вы никогда не занимались такой работой?
— Случилось один раз, — кивнул я головой. — Помню, еще б чуть-чуть — и сдох бы.
— Вот-вот, — улыбнулся Никифоров, рыжий и сухощавый мужчина лет тридцати. — Поэтому мой напарник и умер, Карпов.
Например, на окладной венец надо было два десятиметровых бревна по сорок сантиметров толщиной — до тонны весом. Из подручных средств соорудили «пьяный ворот» — и за двадцать дней заготовили и подтащили весь кругляк. Да на трелевке изорвали около пятисот метров провода. «Оператором» чаще всего приходилось быть Карпову, как более сильному, но и он падал на землю с маху, когда провод рвался. Сплошные ушибы — плеч, ребер. Через два месяца его вывезли на вертолете в больницу, а там — паралич, усть-язьвинский интернат, инсульт и кладбище…
Да-а, заказчики, значит, предлагали организовать медицинскую помощь, вплоть до Москвы, найти специалистов высокой квалификации, но у Карпова отнялась речь, а у директора Идрисова, наверное, мозги… или сердце, какая у него еще там была требуха. Короче, Идрисов решил не беспокоить богатых заказчиков.
— А что с вами случилось? — не выдержал я.
— Идрисов взял с меня заявление на расчет — без даты, которую потом поставил такую, какая потребовалась. Он со многими так поступал. И оставил меня на Цитринах до весны одного. Правда, в ноябре он забросил мне напарника, который оказался не напарником, а нахлебником — прилетел без продуктов, но с пиломатериалами. Он серьезно верил в то, что ежемесячно будет приземляться вертолет, как ему Идрисов пообещал. А тут выяснилось, что Бахтиярова директор тоже оставил на бобах — ничего не дал за мясо, рога, унты. Считай, это еще пять человек! Припасы, конечно, скоро закончились, и мы начали ходить на кордон Мойва, к Зеленину. Вася делился с нами последним. Тридцать километров туда, и обратно столько же. Да прикинь, что и зимнюю одежду нам не забросили. А в это время Мойву посещали вертолеты с отдыхающими, в сопровождении директора, но сотрудникам ничего не привозили. Иногда борт стоял по два-три дня — заказчиков загулявшихся ждал. Только Идрисов отговаривался по радиосвязи, будто вертолет был полностью загружен, два мешка крупы взять не мог. Я сомневаюсь, что идрисовские гости со всем своим грузом могли весить четыре тонны — столько Ми-8 может взять безо всяких сносок. И позднее летчики говорили, что никаких проблем действительно не было, а был Идрисов — недоносок. Да, а вы знаете, что городским он выписывал путевки на ловлю рыбы до устья Мойвы, а иногда и до устья Ниолса, а поселковым, из Мутихи, Ваи, Велса, — только до Лыпьи? Вот поэтому жители верховий и относились к инспекторам как к личным врагам… Сегодня всего не перечислишь, до дна не расскажешь…
— А что, есть еще о чем рассказать?
— Есть, конечно.
— Так расскажите.
— Не могу. Не имею права. Потому что дело касается другого человека, а он мне разрешения не давал. Так что извините.
Никифоров прилег. Человек, лежавший в постели под одеялом, занимал только половину кровати. Ноги он оставил в заповеднике. Он молча смотрел в окно, тихонечко поглаживая правой ладонью суконное одеяло на груди.
Дома я поужинал и бессмысленно уставился в экран черно-белого телевизора. Показывали экспресс-интервью на автозаправке.
— На кого вы надеетесь в этой жизни?
— Я надеюсь только на самого себя.
Такое совпадение… В кадре темнели мужские руки, лежавшие на баранке «ижевского сапожка». Лица не показывали вообще, но я узнал по рукам — это был мой отец, или я… Надеяться надо только на самого себя. А друзья? А жена? А родина? Я же сказал: только на самого… Из десяти долгов оставить себе два — перед детьми и родителями. Только на самого себя.
Затем начались местные новости. Известный офтальмолог говорил о конференции глазников, которая через неделю должна была открыться в городе.
— Сегодня уже половине граждан страны требуется коррекция зрения, — радостно сообщил он, — а скоро в этом будут нуждаться все!
Далее тоже было забавно, один раз я даже улыбнулся. В северном городке два кандидата в депутаты ЗС устроили беспрецедентную попойку в гостинице. Один из них, предприниматель, начал бегать по холлу голым. Любопытно, может ли быть в полуразрушенной Чердыни «холл»? Милиция задержала придурка — тот оделся и попросился в туалет. Когда закрылся в кабинке, сержант услышал какой-то странный стук. Потом на всякий случай проверил сортир и обнаружил в корзинке для бумаги пистолет Макарова.
Подробный сюжет. Что бы это значило? Почему-то стало теплее. Где-то в груди. Как будто залпом выпил целый стакан пермской водочки. Представляете, целый стакан? Я представил, и мне стало значительно легче. И где-то в самой отдаленной части головного мозга замерцала маленькая-маленькая звездочка, догадка, искорка, готовая вот-вот потухнуть под бесконечно моросящим небом. Звездочка, мерцание всегда лучше, чем «горячая точка» или, например, лесной пожар. Или еще что-нибудь… Разве кто-то не согласен?
Взять хотя бы эпизод из книги Александра Исаевича. Я открыл «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына — глава называлась «Псовая служба»: «В 1938 году в Приуралье, на реке Вишере, с ураганной быстротою налетел лесной пожар — от леса да на два лагпункта. Что делать с зэками? Решать надо было в минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпустила их — и все сгорели. Так — спокойнее. А если б выпущенные да разбежались — судили бы охрану».
Это так. А вот мой отец в конце сороковых мотался по вишерским «командировкам» на лесовозе, намотав на колеса цепи. Он мне рассказывал. На лесной участок после вечернего съема зэков проникали жрицы любви из местного населения. На следующий день зэков выводили на работу, а участок оцепляла охрана. И женщины до съема удовлетворяли мужские потребности. Случилось, что одна такая за заход заразила сифилисом пять человек. В следующий раз они устроили ей аутодафе — живьем сожгли на костре.
О чем это я? Если есть господа — значит, рабов достаточно. О чем это я, Господи? Теперь понятно, что я думаю не о том.
Встречались среди газовиков такие люди, которые не сразу падали в кожаное кресло, пришлось по молодости лет помотаться в разведочных партиях. Они прилетали без шестерок и женщин, пили скупо. Возвращались из леса без добычи, замерзшие, но веселые, как Ленин в Шушенском. Как-то Зеленин спросил Идрисова, куда тот послал очередного клиента, человека профессорского вида.
— К Молебке, — ответил директор.
— Он ничего там не поймает, — заметил Василий, — в сентябре там ничего нет.
— Только не говори ему этого! — приказал Идрисов. — Вернется пустой — я скажу, что сегодня у него, наверное, неудачный день. А вот в следующий раз…
Зеленин пожал плечами: дескать, раз неудачный день, другой, третий, а потом тебе морду набьют.
В следующий залет директор привез договоры по обслуживанию посетителей. Инспектора посмеялись и подписали — пусть, чем смешнее, тем лучше.
Вечером Мамаев перепутал заповедник с КПЗ — камерой предварительного заключения — и, пьяный, взломал не ту дверь — в радиорубку, которая, к сожалению, находилась в гостевом домике. Взломал, постоял, попытался вспомнить, зачем взломал, и ушел. А утром Василию надо было выходить на плановую радиосвязь. Он зашел в рубку и увидел спящего Идрисова, рядом с ним лежал диктофон — микрофоном к фанерной стенке, за которой отдыхал Холерченко с какой-то проституткой по прозвищу Проблема — из тех девок, которые трахаются, не доставая жвачки изо рта. Зеленин повел головой и вышел, потопал ногами перед входом, постучал, подождал, вошел. Идрисов вскочил и успел спрятать черный «панасоник». Да-а, а можно было первым разбудить Холерченко и показать ему Идрисова. Была бы эпидемия холеры, средневековый мор.
Василий постепенно вникал в логику и смысл азиатского человека, старался понять его, что не всегда удавалось, но Василий продолжал изучать, настойчиво разглядывая «снежного человека». Он знал о диктофономании Идрисова: директор включал карманный магнитофончик на запись, разговаривая с уборщицей. Не расставался с черной коробочкой даже ночью, на всякий экстренный случай. Позднее Василий написал мне: «Мог забыть соль или спички, выходя на тропу, но не „панасоник“. Впрочем, со спичками я погорячился, но злопамятный был, сучка… Собирал компромат на каждого».
Утром следующего дня, когда все собрались на завтрак, чтобы хорошо опохмелиться, молодой бизнесмен торжественно принял Лёху Бахтиярова в ЛДПР. Прицепил на грудь вогульского аристократа партийный значок. Мансийский князь несколько раз пытался выговорить фамилию «Жириновский», но получались только два первых слога. Потом все-таки сказал то, чему его научил бизнесмен: «Россию кто тронет — пиздец!»
«Вот он — образ последнего патриота! — подумал Василий. — Хоть и мелкий ростом, а стреляет без промаха, даже когда на ногах не держится. Приказали бы — в одиночку притащил бы Басаева, на аркане, в отличие от дырявых психназовцев».
Вспомнил, как однажды сидел на крыше летней кухни, которую ремонтировал. И вдруг из леса появилось странное существо — конечно же, человек, но очень маленького роста и непропорционального телосложения. От неожиданности чуть с крыши не упал. Это из леса вышел на него Алексей Бахтияров — так они познакомились.
— А ты патриот? — спросил Холерченко за столом Василия.
— Думаю, что да, — ответил Зеленин.
— За миллион в России можно купить любого патриота.
Василий наблюдал за тем, как Бахтияров и Мамаев пытались вытянуть телескопическую удочку в полную длину, схватившись за ее концы. И опасался, что сейчас они поломают дорогую вещь — настолько были пьяны, впрочем, как и все остальные гости. Но вогул неожиданно сделал два шага назад и остановился точно там, где удилище кончилось.
— Чем занимаешься? — спросил Василий бизнесмена.
— Ворую, — ответил тот тихо, но радостно, — много ворую! Не веришь? Наша крыша — менты, а ваша?
— А наша крыша — небо голубое.
— Получается, ты голубой?
— Нет, я зеленый, из прибалтийских экологов, помнишь таких? Читал Ахто Леви, «Записки Серого Волка»?
— A-а, лесные братья, борцы за свободу Эстонии, зеленые бандиты! Значит, мы с тобой сможем договориться? Договоримся. Время такое: мужчины стали бандитами, а женщины — проститутками!
— Нет, мы с тобой не договоримся, — медленно произнес Василий, глядя в сторону двух серебряных вершин Хусь-Ойки, — потому что разные, несовместимы — как, например, бичи и ваучеры. Скажи, а вот что вы все будете делать, если завтра перекроют государственные границы?
Холерченко повернул голову к собеседнику, посмотрел внимательно: мужик среднего роста, поджарый, с прямым носом и жестким ежиком волос. Умные зеленые глаза — этого не скроешь. Замкнут, держится спокойно.
— Будем больше брать, — задумчиво ответил Холерченко, — чтобы купить пограничников. Но пока не пришло время бежать из этой страны. Я еще поживу здесь. И там — там тоже поживу.
Гость достал из кобуры пистолет и начал целиться в початую бутылку водки, стоявшую на другом конце дощатого стола.
— Дима, убери ствол, — вежливо попросил его телохранитель, которого все ласково называли Петровичем.
Холерченко косо посмотрел на бывшего гэбиста, неодобрительно посмотрел.
И тут Василий увидел, что к столу стремительно приближается Светлана Гаевская в брюках и клетчатой рубашке. На ее лице — решительное выражение наполеоновского маршала. Конечно, Василий сразу понял, в чем дело. Сейчас начнется. Вокруг стола валялись пустые бутылки, коробки и прочая мерзость.
— И чтобы все было убрано! — гневно закончила свою речь Светлана.
Василий видел, как Холерченко поднял на нее свой глиняный, полный безудержной и злобной взвеси взгляд.
— Прикуси жало! — приказал он коротко.
Но в этот раз Диме не повезло. Гаевская сделала шаг к столу, быстро наклонилась, взяла стакан и выплеснула в лицо Холерченко горячее какао. Миллионеру, депутату, члену ЛДПР — стакан какао, в лицо! За что боролись?! Столько братвы полегло, погибло на берегах речки Гайвы, которая впадает в Каму выше Перми… В общем, как сказал один спортивный комментатор, не обошлось без личных побед.
— Сука! — завизжал Холерченко.
Василий вскочил из-за стола, схватил жену за плечи и повел в сторону дома. Вслед летел одномандатный депутатский мат.
Светлана, дурочка-снегурочка, серьги не носит, духи не переносит. Что делает? Больший урон природе гости нанести не могли, они были не в состоянии нанести урон. Господи, в каком состоянии? Порой вообще не стояли…
Через полчаса Холерченко остановил Василия возле крыльца инспекторского дома.
— Извини, братан, не очень получилось…
— Вы понимаете, что творите? Это моя жена!
— Жена. На что нам твоя жена? Своих не знаем куда девать. Как в той песне: «И здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил…»
— Ваша семейная жизнь меня не интересует. Вы у меня в гостях, а не я у вас. Осторожней, понял?
— Смотри, братан, если со мной что-нибудь случится, то прилетят «торпеды» и разделают вас на куски! — пообещал бизнесмен мрачно.
Василий вспомнил: в тот момент, когда он поднимался из-за стола, взгляды на мгновение встретились и, похоже, позднее Холерченко сумел что-то понять.
Я знаю — что: он смог оценить нематериальную весомость и звериный потенциал зеленинского сквозняка. Поэтому и предупредил инспектора. Испугался немного братан. Да, может быть, Холерченко единственный, кто раньше других почувствовал реальную опасность, исходившую от Василия: «если со мной что-нибудь случится…».
Разглядывая банду, вооруженную стволами, будто авторучками, Василий понимал, что по пьянке гости могут закопать хозяев где-нибудь в тайге, у подножия Ишерима, который станет самым величественным памятником в мире. Более высоким, чем египетские пирамиды.
В романе Ромена Гари «Воздушные змеи» есть рассказ о том, как польский аристократ перед фашистской оккупацией покидает свое французское поместье. Он — картежник, кутила, мот — продает семейные драгоценности, чтобы расплатиться с прислугой. В современной России прислуги, к сожалению, хватает — проблема с аристократами.
И вот на следующий, третий день пребывания залетных произошло нечто необычное. Причиной стал бывший полковник. Это он подвел Диму Холерченко к дому инспекторов и встал сбоку от собутыльника в роли безоружного конвоира.
— Извините меня за вчерашнее поведение, — с улыбочкой произнес Дима. — Я, понятно, здорово перепил. А мусор мы убрали: сделали ямку и аккуратно все закопали.
«А могли бы закопать вас», — прочитал Василий на безмятежном лице бизнесмена, на лице невинного младенца, попавшего под микроскоп беспощадного Господа Бога.
Но это был единственный конфликт между инспекторами и залетными — ни Маркса, ни Ленина, никакой классовой борьбы. Конечно, Василий Зеленин, будь его воля, пригласил бы сюда других людей, например слепого Бориса Чупахина с Валаама…
Светлана и Василий могли познакомиться только там. На острове Валааме. Где знаменитый монастырь и уникальный микроклимат. Куда съезжались художники, реставраторы, сектанты всех мастей и, конечно, йоги — как без них. Остров предполагал некоторую обособленность от остальной советской жизни, что подчеркивалось особой манерой общения, высоким петербургским стилем.
Потом Светлана и Василий уехали на хутор, к бабушке Зеленина. Гаевская устала от общения с людьми — сказались пять лет работы экскурсоводом на Валааме. А муж вообще среди кур и поросят чувствовал себя человеком — любил животных. И безбрежный удел уединения. Он мечтал стать смотрителем маяка.
В тот год они покинули хутор бабушки и отправились на берега Байкала, в знаменитый соболиный заповедник — Баргузинский. Жили на дальнем кордоне, собирали лекарственные травы.
Потом перевелись в Казахстан, на Маркаколь, что рядом с китайской границей. Светлана любила вспоминать: прохладные горы высотой три километра, лиственницы — втроем не обхватить, альпийские луга — трава до плеч, у подножий — невысыхающая роса, дороги-серпантины. В юртах местных жителей порядок, чистота, ковры. Летом друг к другу в гости как понаедут — все верхом! Молодые казашки джигитуют — только черные волосы летят по ветру. А хозяйка весь день от громадного казана с мясом не отходит, готовит на всех, успевая за детьми и за скотом присмотреть. За столом человек двадцать сидит, а эта женщина каждому успеет чай с молоком подать прежде, чем гость попросит добавить.
«Может быть, Идрисов презирал все остальные нации, кроме тюркских?» — размышлял я. «Нет, нет и нет, — позднее ответил мне Василий в одном из писем, — ему доставляло удовольствие глумиться над бедными любой национальности, и своей тоже…»
Василий тоже вспоминал осень в той Маркакольской котловине, что на самом юге Алтая, где работал егерем в заповеднике, который в Казахстане называли «кунаевским охотугодьем». Может, для того и создавался заповедник, чтобы баю удобней было убивать? У первого секретаря ЦК КПСС республики там стоял специальный катер. Потому что в заповеднике, занимавшемся охраной водоплавающих птиц, Кунаев охотился на уток. На Маркаколе, большом заболоченном озере, водились фламинго. В заповеднике встречались черный аист, скопа, беркут.
И чего вспомнилась та маркакольская осень? Да, маралы и снежные барсы…
Первого секретаря в народе называли Царем Зверей. Имелась в виду самовластительная страсть коммуниста к убийству диких животных. А получалось, зверями были подданные — жители Казахстана. Если он царь. Сами казахи признавались.
Вообще, удивительно, в голых степях трудно было скрыть, кто есть кто: все знали, что партийные секретари и директора были сыновьями или внуками дореволюционных баев.
О том, что в России творилось то же самое, Василий узнал позднее. То же самое — всегда и везде, во все времена и цивилизации, на всех континентах и материках. В хозяева всегда прорывается определенная порода людей, обладающих неуемной энергией, жадностью и жестокостью. Опричники и нукеры выходили в офицеры спецслужб. Председателями колхозов сидели казахские баи. Так было и так будет в грядущих веках. Судьба икры, отходы производства, издержки перестроек и революций никого не волновали и не волнуют. Икра должна гибнуть миллионными тиражами. Таковы правила игры.
Жизнь — это достархан, это скатерть, точнее, кошма на празднике мироздания, празднике, который обозначается коротким казахским словом «туй» — торжественное застолье в большом саду. Бай кушает, а рабы подают жирный плов из казана, в котором сверху на рис положено четыре очищенных яблока — для аромата. Василий вспомнил Сергея Маркова: «Не грусти, творец поэм, нет предела для мечты. За твое здоровье ем яблоко Алма-Аты!» Да, для того и создавались заповедники…
Сначала среди простых и гостеприимных казахов ни егерь, ни его жена не чувствовали на себе косых взглядов — только раскосые. А в верхние эшелоны власти нищих славян-колонизаторов не пускали. Кроме тех, которых направляла Москва — для партийного контроля. Русские жили хуже местного населения. Пусть низы всех наций гибнут в разборках — элиты договорятся между собой где-нибудь в беловежских пущах и будут жить во дворцах дальше. Так почему он вспомнил эту печальную осень на Маркаколе? Будто появилось какое-то предчувствие, неизбежность единственной развязки…
Может быть, потому, что осень напоминала прощание, горящие на ветру листья, расставание с двадцатым веком, близким, как запах родных волос, ненавистным, будто мутный взгляд выродков из подворотни. Не было никакой надежды на то, что прошлое вернется, а будущее не обещало заповедных территорий, мира и милосердия. Даже казахские дети начали смотреть на русского егеря косо. Раскосые глазенки — по нашей улице не ходи.
Удивительно, что с Викторией Нестеренко будущий директор «Вишерского» Рафаэль Идрисов познакомился там же, на Маркаколе. За три года до появления Зеленина и Гаевской. Тропы заповедных территорий пересекались по всему Союзу Советских Социалистических Республик. Виктория работала научным сотрудником — биологом, а Идрисов под ее началом — лаборантом. Она на веревке спустила казаха с гор, привезла в Россию. Правда, в пермском заповеднике «Басеги» прожила с ним недолго — сбежала на родину, в Украину, к маме с папой. Но в 1996 году обратилась к бывшему мужу с просьбой — помочь устроиться в России. Идрисов пообещал, предложил поработать на Вишере. Наверное, хотел, желал в полной мере насладиться сильной позицией: лаборант командует бывшим научным сотрудником, интеллектуалкой, славянской женой.
Так они и жили — в бараках, оставшихся от четвертого отделения Соловецких лагерей особого назначения. Точнее, Идрисов со второй женой и тремя детьми жили в хорошо сохранившейся медсанчасти для персонала лагеря, а Виктория — в бывшей прачечной. Идрисов лично получал зарплату Нестеренко в бухгалтерии. Конечно, чтобы та регулярно приползала и просила деньги у него. У него! И Виктории приходилось не столько просить, сколько выпрашивать, вымаливать, упрекая, убеждая, напоминая, что кормит, одевает их общего ребенка. Идрисов деньги давал, но не все, а понемногу, частями, чтобы бывшая приходила снова и снова. И по его узкому лицу гуляла, будто лезвие ножа, тонкая ханская улыбочка. Уехать Виктория не могла — из-за тех же денег, которых не было.
— Все, я не дам тебе больше ни гроша! — заявил Идрисов однажды прямо в конторе, публично. — Я напишу заявление в психбольницу, что ты ненормальная, и тебя упекут в дурдом, а сын останется здесь. Поняла?
Похоже, другим угрожал тем, чего боялся сам. Похоже на то. Это как люди с психическими отклонениями стремятся стать психиатрами.
В июне 1997 года Виктория Нестеренко появилась на кордоне Мойва.
Я открыл энциклопедический словарь: озеро Маркаколь, на высоте полтора километра, глубина — до тридцати метров, сток по реке Кальджир в Бухтарминское водохранилище. Заповедник основан в 1976 году, площадь — 71 359 гектаров, лиственничники, реже пихтарники, альпийские, субальпийские луга, рысь, барс, марал, глухарь, тетерев, реже черный аист, скопа, беркут.
Все было довольно терпимо, пока казахи не впали в независимость. Василий Зеленин отправлялся на обход, а Светлана оставалась в избушке с вычищенным и всегда заряженным ружьем. Василий как-то вернулся, рассказал жене, что завернул по дороге к знакомому казаху, который неожиданно предупредил: «Чего, русский, приехал? Голову отрежу!»
Василий спорить не стал — пусть живут, как людям хочется. И супруги уехали домой, под Санкт-Петербург. Там они вслух читали друг другу книги и пытались подзаработать, что удавалось не очень, поскольку комсомольский темперамент и жлобский стиль общения, спарившись, приняли в империи «разрушительный центробежный характер», как, бывало, выражались советские социологи.
Через полгода после полета в заповедник я узнал, что Яков Югринов уволился. Конечно, его спровоцировали. Провокация и шантаж — краеугольные камни идеологий. Говорят, он взял ружье и ушел в парму. В этой вишерской тайге есть все, что требуется человеку для жизни и смерти. И память есть. Помните «Пармскую обитель» Стендаля? Ну вот, я же говорю… Почему кто-то против стороннего внимания к уголовному делу? Почему милиционеру можно, а журналисту нельзя?
Тут я вспомнил бывшего начальника районной милиции, известного на Вишере авантюриста-краеведа, с которым как-то сделал материал о подземном набате у деревни Оралово. Я ехал домой в уазике — попутке, которая подобрала меня на вишерском отвороте за Соликамском. Рядом сидел пожилой мужик и курил, как вулкан.
— А вы не знаете на Вишере Илью Михайловича Кожевникова? — спросил я его, когда уже подъезжали к городу и успели поговорить обо всем, включая геологию, теологию и археологию.
— Кожевников — это я, — спокойно ответил он, не отрывая взгляда от гипнотического света дороги.
О, я уже перестал этому удивляться — люди шли ко мне, как козырные карты к Володе Штеркелю, восемнадцатилетнему немцу из вишерского Лагеря, который проиграл всего один раз, всего один… Но проиграл он всё. И ушел в черную вишерскую яму.
Черная яма
И вот опять я стою на этой горе, разглядывая след босой ноги того самого великана, именем которого и названа вершина, — Полюд, Полюдов Камень, синий плавник кряжа. Пятьсот метров над уровнем моря, но не тех первобытных вод, которые рассекались хрящевыми акулообразными рыбами во времена царившего здесь пермского периода. Уже не море, а молчащая бездна лежит под ногами.
А про великана Полюда — это, конечно, легенда, и след в скальной глыбе выщерблен ветром, вымыт дождем. Но вот я думаю, что легенда — не только фантазия народа, энергия воображения. И не всегда только древняя история.
На северо-востоке Полюдов кряж рассекается холодным и узким лезвием реки, оголившей на том берегу стометровую скальную сказку о другом богатыре — Ветлане. Солнце поднимается над тайгой из-за далекого языческого Камня Помянённого. А на самом юге видны старинные церкви Чердыни — города, где сходил с ума Мандельштам: «Чернолюдьем велик, мелколесьем сожжен пулеметно-бревенчатой стаи разгон».
Тут, на вершине Полюда, сохранился фундамент, как утверждают, часовни, в которой сосланные монахини замаливали свои грехи — поближе к небу отправляли оступившихся невест божьих, подальше, к черту, в черные ямы — опальных бояр. Опять как у Осипа Эмильевича: «Чтобы в них татарва опускала князей на бадье».
На северо-западе, там, где стоит исторический Ныроб, бывший когда-то таежным погостом, закончил свои молодецкие дни окольничий Михаил Романов. Об этом колдовском деле Смутного времени многие помнят — что в Москве, что в Ныробе. Крапленым царям всегда было чего бояться. Поэтому поверил Борис Годунов предсказателям, что скипетродержец государства будет из рода Романовых. Тогда и велел подбросить в казну этих бояр мешок с кореньями и травами, чтоб обвинить затем братьев в чародействе с целью погубить Бориса. Старшего брата, Фёдора Романова, постригли в монахи, Александра отправили к Белому морю, Ивана — в Пелым, Василия — в Яранск, а Михаила — сюда, в Ныроб.
Такая вот уголовная история…
Илья Михайлович Кожевников, бывший начальник милиции, качает головой и недовольно щурится, глядя за окно и не выпуская уже потухшую сигарету. На плечах северного ветра в город въезжал сентябрьский снег, как и в том далеком году, в первом его месяце, ведь на Руси год начинался осенью.
— Эх, непогода разгулялась, а жаль, сходили бы хоть сейчас на то болото за рекой, — кивнул Илья Михайлович в сторону Вишеры.
В Ныробе, где тогда жило всего шесть семей, вырыли глубокую яму, покрыли ее плахами и засыпали землей. И спустили боярина в эту могилу. В кандалах — на шее, руках и ногах, связанных между собою цепью. Так описывал эти события дореволюционный краевед Н. П. Белдыцкий.
Илья Михайлович утверждает, что опросил десятки свидетелей — так профессионально он называет ораловских старожилов, с которыми встречался в течение двадцати лет. Поддержим его и скажем так: эти показания очень похожи на легенду. Но Кожевников верит — три столетия дома Романовых или восемьдесят лет назад для него не сроки. Да и кто сегодня будет утверждать, что наши сани едут по прямой? А в чужие, дай бог, чтобы мы больше не сели.
Вскоре после начала Первой мировой войны, поздней осенью 1914 года, на территорию Чердынского уезда Пермской губернии прибыл груз, который, вероятно, был доставлен сюда водой, то есть Волгой, Камой и Вишерой. Ораловские мужики утверждали, что везли его из Греции целых три года — и все равно не успели к торжественной дате. Завершающий отрезок пути должен был пройти мимо Полюдова Камня, затем через деревню Оралово на Чердынский тракт — и в Ныроб, конечный пункт.
Через год после спуска в яму Михаил Романов, племянник Анастасии, первой жены Ивана Грозного, преставился. Возможно, был удушен начальником стражи. Позже пришедшие к власти Романовы объявили забытый Богом уральский погост святым местом, а жители его получили «обельную грамоту» — освобождение от государственных налогов за милосердное отношение к узнику.
До Чердынского тракта, того самого, по которому шли санные обозы (читайте Мамина-Сибиряка), объемный груз, обшитый дощатой рубашкой, намечалось везти по зимнику — это километров двадцать. Груз поставили на сани, и двадцать лошадей, понукаемые ораловскими мужиками, тронулись в путь.
Примерно в одной версте от берега Вишеры дорога резко уходила вправо, огибая топь небольшой, с полсотни метров, петлей. Тащить сани по такой крутой кривой показалось, видимо, делом опасным или вообще невозможным. Поэтому решено было проложить по болоту лежневку, стлань из бревен, и двигаться напрямик, никуда не сворачивая. Всего-то метров тридцать или чуть более.
И ораловские чалдоны давно догадались: ничто не происходит не к месту и не вовремя — не так, как предусмотрено Божьим промыслом. Ведь не один каменный храм, не одна часовня были воздвигнуты в Ныробе! И Никольская церковь, и Богоявленская, рядом с которой на деревянных столбах висел колокол, собиравший верующих на службу и провожавший звоном обозы, уходившие на север. А на другом колоколе написано, что он был отлит в 1611 году в германском городе Кемпене. Поднимался Ныроб — и все громче звучал, но никогда не случалось такого, как поздней осенью года, первого после трехсотлетнего царствования дома Романовых, когда началась мировая война, ставшая для династии последней.
Не выдержала стлань тяжести — дала просадку, сани накренились, и обвязка, удерживавшая груз, лопнула. Тяжелый ящик пополз вниз и рухнул в болотную топь, уже слегка прихваченную первыми вишерскими морозами.
В честь трехсотлетия дома Романовых в Ныробе, на месте гибели Михаила Романова, был разбит сквер, который обнесли железной оградой с каменными столбами. К этой дате везли в Ныроб медный колокол, весивший более двухсот пудов (около трех с половиной тонн), высотой два метра. Колокол был украшен орнаментом и вязью, скорее всего старославянского письма. Он тонул год или даже два, наполняясь не звуками Божьего гласа, как называли колокола на Руси, а черной жижей торжествующей немоты.
Василий Николаевич Черепанов, сам родом из Оралова, утверждает, что его мать, будучи еще девочкой, сидела на макушке почти затонувшего колокола, там, где у него уши для подвески. А было это в 1915 году.
Через пять лет после смерти Михаила Романова его останки перевезли в Москву и похоронили в Новоспасском монастыре. И есть еще один исторический факт, поразительно завершающий эту историю по закону замкнутой композиции. Первого царя из рода Романовых, как и его дядю, звали Михаилом. В 1918 году уже не дядю, а брата, не первого, а последнего царя из этой династии убили также на территории Пермской губернии. И звали его тоже Михаилом. И опасен он был потому, что мог стать скипетродержцем, поскольку в его пользу отрекся Николай II от престола. Недаром местные жители приходили к гостинице «Королёвские номера» в Перми, чтобы взглянуть на будущего российского царя. Только чекисты взглянули на это дело иначе: они тайно вывезли князя в лес, за окраину революционной Мотовилихи, где и расстреляли вместе с секретарем-англичанином Джонсоном — в логу, в семи километрах от керосиновых складов Нобеля по Соликамскому тракту.
Илья Михайлович Кожевников по-прежнему курит и смотрит в окно. Поздней осенью, рассуждает он, везти такой колокол удобнее всего. Зимой в тайге стеной стоит снег, а летом — болотные топи. Геологи сверились с картой и сказали, что в этом месте твердый грунт находится на глубине шести метров, значит, и колокол лежит не глубже.
— Я уже разные способы продумывал, как найти и поднять его из болота, даже специальные щупы сварил. Хорошо это место знает Василий Николаевич Черепанов. Пока не получается, да и непогода вон разгулялась.
Я тоже сижу и смотрю в окно, в сторону осенней Вишеры. И вижу падающий снег, а за ним — ораловских мужиков, лошадей и сани с накренившимся колоколом, Божьим гласом, которому так и не суждено было зазвучать, созывая и провожая, радуясь и плача. Восемьдесят лет пролежал он в черной яме немоты и забвения. За это время советская власть возвела ныробскую темницу в ранг братской могилы, создав в Чердынском крае четвертое отделение Соловецких лагерей особого назначения. И сейчас здесь сплошные исправительно-трудовые колонии. Знал бы Борис Годунов, какое дело начинает, копая яму ближнему своему. Да знал, наверное…
Однако всему свое время — может быть, пора достать колокол, поднять и показать его людям? Пусть почитают старославянскую вязь, вспомнят язык своих предков. Восемьдесят лет прошло — пора детям ораловских мужиков найти то место, где он лежит. А если поиски не увенчаются успехом, одной легендой в этом мире станет больше. Хотя я лично уверен, что все это правда, ну, может быть, размеры и вес колокола чуть преувеличены, а может быть, наоборот, может быть, не три года везли и не из Греции. Одно можно сказать точно: колокол лежит в болоте за рекой Вишерой, остальное — детали.
Остальное зависит не от Бориса Годунова. Вот какие мысли приходят на скалах Полюдова Камня, откуда все видится иначе, если внимательно смотреть и слушать.
Да, я шел по лесной песчаной дороге в сторону ораловского болота и неожиданно вспомнил, что бывал здесь один раз — в детстве… Бывал правее дороги, там, где начинаются сосновые бора у подножия Полюда. Я двинул туда с двумя дружками по авиамодельному кружку, которые в пути подбили меня забраться на кедр, чтобы срубить вершину дерева, полную смолянистых шишек. Пацаны были старше меня и хитрее, и я, дурачок, полез. Я начал продираться между густыми ветвями, сквозь тяжелую, мрачную хвою — в сторону солнца, которое стояло в бронзовом зените, затянутое легкими облаками. Вспоминаю, как дрожало от усталости и страха мое тело, тонкие руки, которыми я на высоте пятиэтажного дома наносил косые удары топором по толстой красноватой коре дерева. А надо мной покачивалось трехметровое пространство, набитое этими дорогими, золотыми, гадскими орехами…
Руки были такими тонкими — недавно разглядывал снимки шестидесятых в семейном альбоме. Раздался треск, шум — я вцепился руками в ствол покачивавшегося дерева, чтобы падающая вершина не утащила меня за собой.
Когда я спустился вниз, солнце замерло над горизонтом и в лесу потемнело. Мои верные друзья сидели на буреломной сосне с рюкзаками, уже полными тяжелой добычи. Хорошие ребята, не бросили меня, не забыли обо мне, побеспокоились: мой рюкзак они тоже набили шишками — правда, мой был в два раза меньше, чем у них. Ну, это ерунда, семечки, орешки, потому что главное — братство, дружба, взаимопомощь. Да, нас так воспитывали оставшиеся в живых революционеры. Может, поэтому я вспомнил старый кадр из фильма о Гражданской войне: железнодорожный вагон с надписью «Холера» медленно приближается к станции — ну конечно… Кажется, я уже знал один из ответов на свои шкурные вопросы.
Это случилось прошедшим летом. Инспектор тогда находился выше Тулыма, который через час должен был появиться по левую руку. Потом пойдут пороги, по правую руку — устье Лыпьи, ниже, по левую — скальные отроги Курыксара, покрытые мхами и лишайниками, синяя волна Чувала, хребта из магнитного железняка. Потом Юбрышка, месторождение титаномагниевых руд. Инспектор читал записки чердынского преподавателя математики о здешних богатствах, сделанные в тридцатых годах.
Черт возьми, мотор дернулся и заглох — сорвал-таки шпонку на небольшом перекате. Вишера — «чистая река» в переводе. В одном из вариантов перевода. На два-три метра видно цветное каменное дно, водоросли и рыбу за бортом. Эту мелкую донную гальку местные называют «дресвой». Прозрачная ключевая вода…
Дорог здесь нет, только река да тропы. По притокам МАЗы вообще прут по руслу — по тому же Улсу шпарят, будто по гравийному шоссе.
Инспектор не спал двое суток. Задрал на корме «Вихрь» и решил чуть-чуть полежать на ватнике, отдав лодку судьбоносному течению. Кто сорвал шпонку, он понял потом…
Как смог проспать пороги — не понял. Потому что должен был разбиться о камни. Может, он вообще не проходил пороги? Понятно, что Тулым оставался по левую руку, а вот он свернул на какую? Пять порогов, разделенные небольшими плесами, гремят оркестром, вовсю — за километр слышно.
Проснулся Инспектор неожиданно — от удара. Как потом сообразил, лодка налетела на балан — бревно, плывшее по реке. Нет, как оказалось, не по реке. Проснулся в темноте. С испугу лунный свет принял за фотовспышку. Стояла большая луна, голая, как Каракумы. А деревья кружили по пояс в черной воде. Он плыл по затопленному лесу.
Багровая луна заполнила небо космическим страхом. Но в этом свете он вовремя увидел, что на него стремительно летит большая коряга, и успел уклониться: черный, длинный и острый, будто железный багор, сук прошел мимо, над самой головой. Раздался еще один удар — и лодку развернуло в воде на сто восемьдесят градусов. Коряга ушла в темноту, а Инспектор бросился ощупывать борта и шпангоуты лодки — кедр выдержал.
Он прожил в тайге десять лет, но такого не знал, не помнил и не предвидел. Наводнения, способные развернуться в полный рост за несколько часов, говорят, случаются только на сибирских реках. Не на уральских притоках Вишеры.
Лодку несло в неизвестность. Инспектору стало казаться, что начался тот самый Всемирный потоп, история которого повторяется каждый миллион лет. Вскоре впереди зачернела стена, видимо, какого-то соснового бора, поднимавшегося над болотной низиной. Только потом он понял, что в тот момент раздался страшный удар — лодка налетела, наверное, на мощное, двигавшееся навстречу бревно, ее развернуло снова, как в первый раз. Инспектор потерял равновесие, упал и ударился головой о край борта. Багровая луна молча наблюдала за происходящим.
Очнулся Инспектор через тысячу лет. Он лежал на топчане, застеленном шкурами, потрогал рукой — оленьими. Напротив сидел старик: короткие седые волосы, светлая кожа, узкие, немного раскосые глаза. На деревянном столе горела лучина, вставленная в ржавый железный светец. Незнакомец поднялся и подошел к топчану, присел на еловую чурку, служившую табуретом. Инспектор успел заметить, что росту в нем не менее ста восьмидесяти сантиметров.
— Меня звать Фёдор Николаевич, — представился старик.
Голос был сильным, сочным, как кедровая хвоя.
— А меня — Яков Югринов.
Инспектор понял, что это его одежда сушится у печи. Он лежал на топчане в трусах и тонкой рубашке, которые уже просохли.
— Ты вывалился из лодки, — сказал старик, — головой вниз, потому что потерял сознание от удара.
— А вы как знаете? — удивился Инспектор, тихонечко ощупывая голову и тело в поисках возможных последствий, травмы или раны какой. Выше лба обнаружил засохшую кровь.
— Я видел, что с тобой стряслось, — ответил Фёдор Николаевич и чуть-чуть улыбнулся.
Инспектор сразу заметил, но осознал позднее — целые зубы, что в конце второго тысячелетия нашей эры в России случалось редко. Конечно, зубы старика были желтоватыми, темноватыми, прокуренными, но своими.
— Как вы могли видеть в такой темноте? К тому же, кажется, кругом одна вода была… — Югринов осторожно приподнялся и сел, навалившись спиной на теплое дерево стены.
— Я даже декабрьской ночью вижу, — ответил старик и снова улыбнулся. — Твою лодку тоже подтащил к берегу, с мотором. Не веришь — спроси Бахтиярова. Он сам не только видит, слышит, но и чует за выстрел.
— Бахтиярова? Лёшу или Николая, отца? — правильно понял Инспектор фамилию вогула как таежный пароль Северного Урала.
— А любого. О том, что ты появишься здесь, я знал за три дня — с того момента, как ты приблизился к воде и лодка пошла вниз по течению Большой Мойвы. Ты попал в озеро, мой дом стоит на берегу, с трех сторон он окружен водой, а позади — скалы, гора. Место недоступное. Когда-то, еще в прошлом веке, я попал сюда случайно, как и ты. Иногда, очень редко, здесь случаются наводнения на Вишере, и тогда речка, которая вытекает из озера, поворачивает вспять — ты угодил в это течение. А непроходимые болота вокруг озера затапливаются водой.
— Интересно, отчего возникают эти наводнения?
— Из-за мощных дождей в верховьях.
Инспектор жил на Вишере три года и не всё, не всех успел тут узнать. Кто он такой, этот старик? Похоже, какой-то шаман, вишерский волшебник, может быть потомственный. Если так, значит, он «допустил» его к своему дому.
— Сколько мне лет? — переспросил Фёдор Николаевич. — Не знаю. Наверное, много. Мой отец, вогул, помнил крещение манси у деревни Сыпучи в 1751 году, на берегу Вишеры, а мать, русская, рассказывала, что ее отец, крепостной, сбежал на Урал за свободой и золотом.
— Так ты, Фёдор Николаевич, крещеный?
— Нет, конечно. Мы ушли на восток, за Уральский хребет. А миссионеров убили, чтоб не насиловали человеческий дух. Потом и те, которых крестили, сбежали с берегов Вишеры. К нам пришли. Русские догнали племя, но отлучить от идолов не смогли. Тогда решили извести, взять измором. Поэтому осталось нас с десяток на весь Западный Урал. Когда соплеменники начали пить водку, белое пойло, я покинул племя и с тех пор живу один. Я решил жить один. Наши люди — жалкие рабы!
«Интересно, — подумал Инспектор, — а мое племя — рабье? Хуже — сами ложатся. И похоже, я от своего племени тоже ушел…»
— А вы знаете, какой нынче год?
— Это ты живешь в 1997 году, а я живу здесь давно.
— Мне тоже хватило — для одной жизни много: сначала крах социализма, потом — капитализма.
— Ты веришь в Бога? — спросил хозяин дома, разливая чай по железным кружкам.
— Наверно, я не атеист. Но понимаете, ненавижу коммунизм так сильно, что этой силы вполне хватает на другую тоталитарную идеологию — религию. Надеяться на попов все равно что размешивать воду пальцем, пока не закипит. С другой стороны, заметил: чем дольше въезжаю в ситуацию, тем больше мистики. Случается, иногда жизнь пугает.
— Тайна жизни открывается только со смертью человека. И только ему. Не торопись опередить свою смерть. Да что там смерть! Тайна будущего — наш оберег, и может быть, тайна настоящего — тоже, и прошлого. Тайна от Бога — он делится с нами понемногу, по крупицам, с умом, по золотым камешкам, по алмазным. Надо жить, дружище, смотреть на огонь, на небо, прикасаться рукой к железу — это такое счастье…
— Мне кажется, никакой вы не манси, а обыкновенный чалдон — беглый каторжник.
Старик неожиданно рассмеялся, прикрыв левой ладонью глаза.
— Правильно, только не обыкновенный. Перепутал вахту с баней. Давай, земеля, чайку попьем. А как ты догадался?
Югринов кивнул на мощные, молодые, высокие стены дома, срубленные из корабельной сосны. Вогулы в таких домах не живут и никогда не жили — северные кочевники, они каждые два-три года переходили из одной избушки в другую: на Чувал, на Мартай, потом возвращались на Ольховочный Камень, там самое лучшее место для отела — трава, родниковая вода, а затем — на Молебный, в долину Вижая. По кругу ходили, какие тут дома-хоромы, за ними уход нужен. О таком доме, об одиночестве люди мечтают в лагере, в казарме, в коммуналке.
Тысячи, сотни километров уральской и сибирской тайги: пышные, будто рай, болота, пропахшие божественным багульником, вогулы, вяленое оленье мясо, пермская система палеозойской эратемы — членистостебельные папоротники, хрящевые акулообразные рыбы, калийные соли… Каких-то двести восемьдесят миллионов лет назад.
Инспектор прошел эти километры насквозь. Он ночевал в секретных скитах старообрядцев, не простивших патриарху Никону троеперстия и гибели протопопа Аввакума, бывал в пристанищах бичей, хитников и браконьеров, делился куском хлеба с беглыми зэками и дезертирами. Просыпался на берегу Байкала, рядом с голубой от чистоты холодной водой. Шел по шпалам Байкало-Амурской магистрали, где не было населения, но встречались «комсомольцы с комсоргами на вышке». Пробовал курить анашу с таджиками из конвойных войск. Попадал в подпоры воды, тишиной похожие на озера, когда горную речку перегораживали десяти-пятнадцатиметровые каменные столбы, перекрывавшие дорогу плотам. И конечно, он знал, где находятся таежные зоны, которые контролируются шаманами-одиночками.
Так однажды, пересекая Полярный Урал с востока на запад, Инспектор неожиданно испытал влияние неведомой силы, которую позднее назвал «желтой полусферой»: три дня не мог выйти за пределы пространства, которое представляло собой половину шара, светящегося, прозрачного, примерно двадцать метров в диаметре. Как-то целую неделю шел за дикими оленями на север по хребту и не совершил ни одной ошибки — пережил семь дней гениальности. Но южнее Печоро-Илычского заповедника встречать шамана ему не приходилось.
Понятно, он читал о природной склонности людей из финно-угорских племен к волхвованию, камланию, колдовству — наверное, это было связано с пространственной изолированностью этих народов от благ современных цивилизаций. С тем, что у них не было другого выхода. Как сказал «природный финн» у Пушкина: «Но слушай: в родине моей между пустынных рыбарей наука дивная таится. Под кровом вечной тишины, среди лесов, в глуши далекой живут седые колдуны…»
Инспектор наблюдал за Фёдором Николаевичем и разговаривал с ним о том, что в самых дальних уголках человеческого мозга есть ответ на любой, самый безысходный и невыносимый вопрос. Только надо сосредоточиться. Хорошо сосредоточиться. Иногда хватает всего одного дня, а бывает, можно уложиться в одну человеческую жизнь. Так объяснил ему старик основную загадку мироздания, сверхсекретную шараду Господа Бога.
Фёдор Николаевич спал на специальном ложе, вырубленном в кедровом стволе по форме и размерам тела. Он лежал, глядя через отверстие широкого дымохода над головой в звездное небо или беззвездную мглу. Дерево было застлано оленьими шкурами, а сверху — собольими.
Зимой старик питался кедровыми орехами и сушеными грибами, как рассказывал сам. Рыбу жарил прямо на огне. Длинная деревянная полка вдоль стены была заставлена баночками и пузырьками темного стекла, в которых он хранил настойки из лекарственных трав. Мясо не ел и водку не пил — сказал Инспектору, что спирт-лекарство, не более. И позволял себе лишь одну слабость — трубку, набитую неизвестной травой.
— Я сделал эту землю заповедной! — кивнул он головой в сторону Тулымского хребта. — Я вызывал дожди и тушил пожары. Сегодня живу в третьем, но вообще прошел все семь концентрических кругов мироздания.
Фёдор Николаевич проводил Инспектора до убывшей воды, вошедшей в русло. У берега стояла лодка отшельника. «Вишерка, — сообразил Яков, — длинная, шестиметровая, сделанная из цельного ствола осины». Ему рассказывали: ствол выдалбливается корытом, заполняется водой и распаривается над костром до нужных размеров. Сейчас такими не пользуются. Рядом стояла его — гораздо короче, с мотором на корме и аккуратно сложенными веслами.
— Иди, друг, и помни, что в этой жизни рискуют только оптимисты, — сказал он Югринову на прощание.
Вогульский шаман… Или вишерский волшебник? Фёдор Николаевич жил здесь давно. Кто говорил — сто лет, кто — двести, а иные утверждали, что он провел здесь вообще всю свою жизнь. Но до сих пор никто точно не знает, где стоит его дом. Правильнее сказать, не может показать дорогу к нему. Еще правильнее — тропу. Которой просто не существует. Человеку кажется, что он идет по азимуту, помнит просеку и зарубки, а все равно проходит куда-то мимо. Это значит, что Фёдор Николаевич «не допустил» человека к дому, берегу, тайному озеру…
Чем дальше в лес, тем больше мистики. Да, ответ, подсказанный ритмом железнодорожного вагона, утверждал, что он имеется на все вопросы. Поэтому, наверное, я продолжал вести диалог с убийцей.
Мешки стояли в городской конторе заповедника. В ожидании попутного вертолета. Мука была закуплена на смешную зарплату Зеленина и Гаевской. «Конечно, смешную! — ответил на мой вопрос Василий. — Родина дала — пусть она и смеется».
В огороде росла мята, посеянная еще сотрудниками метеостанции. А вокруг кордона, по берегам ручьев, стояла таволга, белые кисти которой отдавали чистым медом. На полянках посуше поднималось пламя цветущего иван-чая. Светлана связывала травы в пучки и развешивала за печным стояком. Поэтому в доме стоял аромат свежего сена. Позднее она складывала засушенный урожай в большие картонные коробки. Неделю заваривала одну траву, потом для разнообразия — другую. Или березовую чагу, собираемую зимой в горах, где деревья низкие и корявые. А еще в огороде рос тмин, горсть которого Светлана посеяла наудачу, когда они пришли на Мойву. И следующим летом уже вылезли внушительные метелки, семена с которых она обтрясала ближе к осени. И добавляла в хлеб как приправу.
В июне 1996 года на кордоне Мойва оставался геркулес — наследство закрытой метеостанции. Да будь возможность, от него отказались бы даже мыши, но такой возможности у серых созданий не было. У супругов — тоже, поэтому они начали смешивать ржаную муку с крупой, сначала добавляли пятую часть, позднее — половинную. На сто пятьдесят километров вокруг ни одного населенного пункта, где можно было бы купить буханку черного хлеба. Сплошное «Зимовье на Студёной» Мамина-Сибиряка.
И тут с неба упал вертолет — как снег в июне. Я помню, как мой четырехлетний сын произнес волшебную фразу: «Папа, а Бог с неба нам снова снег посылает?» Он произнес ее в девять утра, а в десять часов вечера начался короткий летний снегопад. Бывает.
В летающей машине — газпромовцы из Чайковского и Рафаэль Идрисов, оживленный, радостный, как южный торговец с городского рынка.
Сидели за столом у дома, пили травяной чай. Командир экипажа рассказывал:
— В прошлом году приземлились у Чусовского озера, где ядерный взрыв был. Помните, Каму с Печорой соединить хотели? Экспериментаторы. А местные жители ягоды собирают — крупную такую клюкву. Ну, мы говорим: «Тут же радиация!» — «А мы не себе, — они говорят, — на продажу».
Всех, включая экипаж, Гаевская угощала домашним хлебом. Лето. Летная погода. Светлана с улыбкой рекламировала рецепт приготовления теста. Возможно, после этого кусок не всем полез в горло. А Светлана, продолжая улыбаться, добавила:
— Конечно, жаль, что крупа пятилетней давности, а то, надеюсь, было бы еще вкуснее.
Кажется, не до всех доходило происходящее. Только командир экипажа соображал быстрее — возможно, сказалась скорость профессиональной реакции на круто меняющуюся ситуацию.
— Почему не захватили нашу муку? — спокойно, будто между прочим, спросил Василий.
Трехсекундная пауза. Люди начали включаться. Идрисов быстро покрылся печалью, как патиной. Точнее, сделал вид, что печалью, а на самом деле — тонкой злобой.
— Потому что посадки здесь не планировалось, — тихо и жестко ответил директор, не спуская с Василия желтого, будто цитрин, взгляда.
Крупное, красивое лицо командира экипажа замерло в недоумении, медленно переползающем в изумление.
— Как это? О рейсе и маршруте вы знали за две недели, — сказал пилот, вопросительно посмотрев на Идрисова, такого тонкого-тонкого казаха, такую безобидную веточку саксаула.
Интересно, летчик надеялся, что казах скажет: «Виноват, гражданин начальник»? Скорее всего, он вообще об этом не думал. А Идрисов соображал. Потому что начальник тут он — на этой территории, этой земле и воде. Пилот в небе хозяин, а не тут.
— А я понял, что посадка будет только на Цитринах, — отрезал Идрисов и быстро, будто фотовспышка, улыбнулся. — Через неделю решим с мукой. С другой стороны, экстремальность — одно из условий нашей работы в тайге. Как в небе — летчики тоже рискуют. Правильно?
Черноглазый бортмеханик Валера, известный всему Уралу, переглянулся с пилотом.
— Инспектор должен уметь выживать в любой ситуации, — напористо продолжал Идрисов. — Зимой, в сорокаградусный мороз, с одними спичками и топором!
— Это понятно, — протянул пилот Владимир Васильевич, — экстремальность — хорошая вещь, с лавсаном.
Прошел месяц — наконец-то на кордон доставили муку.
А еще через месяц, в начале августа, появился вертолет, сел рядом с кордоном, двигатель не заглушил — винты вращались на малых. Василий подбежал к борту и увидел в открытую дверь бортмеханика Валеру. Тот приветливо кивнул головой и быстро сдал Зеленину в руки несколько пластиковых мешков. Вертолет улетел, а в мешках обнаружились свежие караваи хлеба в вакуумной упаковке.
Больше Василий вертолетчиков никогда не видел. Тогда, в августе 1996 года, кругом кордона шли затяжные обложные дожди…
Югринов подошел к двум длинным головешкам, лежавшим на краю небольшой поляны, и улыбнулся — вспомнил свою декабрьскую ночевку в нодье, которую соорудил здесь, в пуху колючего снега. Там, где он спал когда-то, стояли четыре драгоценных цветка родиолы розовой. От одного корня — пушистые парашютики желтовато-красного цвета, распустившиеся над землей. А там толстый корень, уходящий в каменистую почву, целебный, дающий здоровье и силу.
Яков опустился на колено, погладил стебелек рукой. Не успел он в тот раз перехватить Рафаэля Идрисова в тайге — ничего, нынче ночевать не придется. Устрою ему танцы с саблями и шутки с ножами.
Не такой голод, чтобы лебедей жрать. Кто это сказал? Сейчас не зима, поэтому выжить можно — без огня и золотого корня. По прикидкам, к дому Фёдора Николаевича он должен выйти часа через три. Не позже. Иначе стемнеет, и Идрисов может опять выскользнуть из рук, как щука, точнее, сука — да, так точнее будет. Полчаса на черный хлеб, черный чай, черный, как августовская ночь. И дальше — на ту сторону Тулыма. Только полчаса! Кто остановится на полпути, тот не дойдет до конца. Если ты остановился на полпути, значит, не дошел до конца. Надо идти. Жизнь заставляет красиво идти — быстро, экономно, целенаправленно, как лесной зверь ходит. Правильно я говорю, товарищ директор?
В училище все началось. Или раньше?
Преподаватель истории, помнится, спросила:
— Приходилось ли вам, ребята, видеть, как унижают человеческое достоинство?
— Приходилось! Приходилось! — раздались дружные голоса.
— Приходилось! — сказал поднявшийся из-за стола Олег Сидоров. — Бывало, как вдарю одному, как суну другому!
После занятий Югринов подошел к Сидорову и прочитал шедевр школьного фольклора: «От сердца и от почек дарю тебе цветочек!» И тут же вмазал ровеснику по «капусте» — тот упал, бедный, засморкался кровью, закашлялся так, будто в последний раз.
— Это тебе за наглость, — сказал Югринов.
— Ты баран, блядь! — возразил поверженный враг.
И Яков понял: неправда, что истина рождается в споре. Она появляется в тишине, в уединении и бесконечном молчании. Но понял он это значительно позже — тогда, когда смог точно сформулировать мысль.
Инспектор торопился: алмазный вертолет наблюдал весь «вогульский треугольник». Яков летал на этом вертолете; когда внизу появлялся прииск, борт начинал опускаться в желтую, песочную бездну развороченной человеком земли: брошенные пустые цистерны, металлические конструкции, доски… Еще Демидов тут, говорят, начинал — на Сибирёвском прииске. Будто зверь, человек разгребал руками землю, чтобы добраться до золота. Зверь жадный, злобный, завистливый.
Давно все это началось. И никогда не прекращалось. Еще при советской власти Югринов входил в группу «зеленых», которые добивались вывода с территории края исправительного учреждения В-300. Тогда берега Вишеры покинули шестьсот семей первоклассных лесорубов. И вот Павел Оралов, Алексей Копытов и он, Яков Югринов, добились своего: сначала стали депутатами районного совета, а потом приняли решение о выводе учреждения за пределы Вишерского края. Как, выставить за дверь министерство наших кровных дел? Или кровавых? Кто мог себе это представить хотя бы десять лет назад? Памятник Железному Феликсу, стоявший перед штабом В-300 в районном центре, офицеры убрали ночью — тихо загрузили в автотранспорт и вывезли в неизвестном направлении. Просыпаются люди утром, смотрят: нет Феликса! А может, вообще весь XX век — это дурной сон? Сотрудники внутренней службы и охрана, освобождая территорию, громили постройки и автотехнику. Так, в одном месте было обнаружено сто пар валенок с отрубленными носками.
«Зеленые» добились своего: нефтяники вынуждены были прекратить подземные ядерные взрывы, а юристы с бандитскими наклонностями покинули Велсовский кедровник. «И это только начало», — решил Яков Югринов, серьезно готовившийся к пожизненной схватке за территорию. Железный Феликс еще не затонул в болоте, как царский колокол, затаился где-нибудь и ждет своего подлого часа.
О будущем Инспектор думал серьезно. Когда чувствовал, что тихой сапой к нему подкрадывается болезнь, он становился на лыжи, проходил тридцать километров по снежной целине в темпе армейского броска, а потом раздевался на морозе донага и выливал на голову три ведра ледяной воды из вишерской проруби, выпивал двести граммов водки, ложился на топчан у горячей каменки или на русскую печь. Болезнь для него была непозволительной роскошью.
Инспектор делал капканы на лису прямо в лесу — из подручных средств. И придушить Идрисова решил самой обыкновенной веткой ивы: ветка накидывается сзади, как веревка, и затягивается на затылке до последней отключки. А потом тело спускается в черную дыру ближайшей трясины. Конечно, Инспектор помнил, где тут такие трясины есть. Идрисов должен был пройти рядом с одной из них.
Вертолет алмазников доставил золотодобытчиков на Сибирёвский прииск и по пути высадил Идрисова с начальником охраны заповедника на Цитринах. Инспектор вспомнил: когда летишь на вертолете выше Вишерогорска, половина реки внизу — голубая, половина — коричневая от притока, на котором работает драга. В мутной, глиняной воде ловится золотая рыбка с бриллиантовыми глазами.
Инспектор не успевал… В небе появилась голая луна, и слева над Тулымом сверкнул фосфорическим светом снег, выпавший прошлой ночью на самый высокий пермский хребет.
Территория вогульского бога начинается у западного отрога Уральских гор — Полюда, от которого прямая линия тянется сорок пять километров на восток, к останцам Помянённого Камня, образуя основание треугольника, похожего на стилет. А северной вершиной является гора Саклаимсори-Чахль, на которой установлен каменный знак «Европа — Азия», отмечающий границу континентов. Эта гора — водораздел трех самых великих рек России: Волги, Оби и Печоры. В центре северной части территории — вершина Ойка-Чахль, названная в честь вогульского бога.
Как сказал один знакомый вор, нынче жизнь такая трудная — все время приходится подрабатывать на стороне. Поэтому в сегодняшней России каждый отросток норовит создать свою банду, чтобы баллотироваться в президенты страны. Летят за шерстью, а возвращаются стрижеными, бритыми наголо, в наручниках или в деревянных пиджаках. Конечно — кто кого победит и поставит в позу. Но мне нужны были конкретные имена, а не газетные метафоры. Я понимал, что играю с этой кодлой и колодой втемную.
Через неделю после доброго хлеба — с вертолетного неба — появилась команда Димы Холерченко.
— Этот Мамаев — ты знаешь, он же мафиози! — объяснил Идрисов Василию Зеленину шепотом. — Я боюсь за свою жизнь и за жизнь ребенка! Мафиози — точно тебе говорю! С другой стороны, подумай, с такими связями я все вишерское начальство раком поставлю! И Волка, и Листьеву…
Благодушный, еще не сильно пьяный Холерченко приветствовал инспекторов будто так и не разбогатевших друзей детства.
— Представляете, — обратился он к новым членам своей группировки, — я в прошлом году тут намусорил, вокруг стола, и самой нагрубил, невменяемый был, так она мне в лицо стакан какао выплеснула! Во характер!
Холерченко демонстрировал подельникам свое безграничное великодушие. И за такое он женщину не убил, да что там — даже не ударил. Представляете? Подельникам, которые хорошо знали Диму, представить это было трудно.
— Кстати, я привез тебе бензин! — повернулся Холерченко к Василию. — У тебя же дизель на бензине работает?
Василий улыбнулся — бизнесмен, скорее всего, раньше был комсомольским функционером самого ширпотребовского пошиба: дизель на бензине. Короче, Холерченко так сел, что из него все вывалилось.
— Умен, — покачал головой опытный и грамотный Петрович.
Остальные благоразумно сделали вид, что не поняли сути незамысловатой сцены. Старый разведчик разбирался в машинах, умел стрелять из пистолета Стечкина и пить водку, не падая так низко, как его хозяева. Он предпочитал один колоть дрова в сарае и размышлять о том, что ничего в этой дурной жизни не меняется.
Как говорил Югринов, полная деморализация личности может быть достигнута только в результате ежедневного самосовершенствования. Это он говорил о Рафаэле Идрисове, но какая тут разница.
За три года работы в заповеднике Василий Зеленин только один раз получил четырнадцатилитровый бочонок с бензином. И три раза по двадцать литров завозили нетрезвые спонсоры.
Зеленин посмотрел на Югринова и подмигнул ему.
— И когда это время кончится? — со вздохом произнес Василий.
— Какое время? — тихо спросил Петрович, разливая по стаканам водочку, охлажденную в речке Молебке.
— На святое посягаешь? — повернулся к нему Холерченко, по безбрежной физиономии которого расползалась веселая и белая горячка.
За пустынным полуночным столом остались самые неутомимые — вертолетчик Савченко, инспектора Югринов и Зеленин. Водочку в одиночку приканчивал Яков, остальные пили крупнолистовой чай — летчику завтра в небо, а Василия стерегла старая язва желудка.
— Если хорошо вспомнить, я облетал весь Советский Союз, — рассказывал мужикам командир экипажа. — Бывал в Южном Казахстане. Жара пятьдесят градусов. Чтобы заснуть, водку пили стаканами. Умирали. Однажды пошли в баню, а там — сто двадцать! Вышел — у меня от прохлады волосы на руке зашевелились. Летал над Аральским морем — то же самое. Всего метров пятьсот ширины осталось, будто по реке летишь. Смотришь на все это из кабины: пески черные, берега белые — солончаки, само море бирюзовое. Затянутое тиной. Мертвая вода. И солнце… А посреди того моря есть желтый остров — ни деревца. И взлетно-посадочная полоса — если по ее длине судить, то сам остров метров четыреста будет. И стоит один барак, метров пятьдесят. Еще небольшое строение, ближе к берегу, там, возможно, складировали мертвых или держали продукты. А может быть, то и другое вместе… Или жил какой-нибудь обслуживающий персонал, если он там вообще был. С высоты подробности не разглядишь. Мне рассказывали, это был лепрозорий, в который свозили больных проказой со всей страны. Может, врали.
Складировали… Или за мертвым сразу прилетал самолет? Или не сразу? А запах? И вообще, зачем людям умирать именно в этом пекле? Какой-то садизм, извращение. Никто уйти, убежать, уплыть не может! А говорят, будто там располагался полигон сибирской язвы. Все может быть. Ничего нет хуже презрения к человеческой жизни — такого, как в нашей стране, в отчизне опричников.
— А улететь оттуда можно? — поинтересовался Югринов, задумчиво разглядывая в своей руке полстакана прозрачной и печальной водки.
— Улетали оттуда трупы. Или души. Или вообще не улетали. Живая могила для полусгнивших людей, да под беспощадным аральским солнцем…
— Этот твой барак есть квинтэссенция Союза Советских Социалистических Республик, — прокомментировал сказанное Югринов, — последний Соловецкий остров, советский. Пятая сущность, выжимка, генеральная идея. А мы, понятно, смертники. А правда, куда трупы девали — не в море же, надеюсь?
— Надейся. Кого — в море, кого — в землю, а кого — сразу на небо, на Ан-2. У кого какие связи.
— А те, что живые, — что делать им? — в никуда произнес Василий, глядя в черное окно ночи, в сторону Муравьиного Камня.
— А что живые? Надо ждать до конца, до последнего предела, а потом все брать на себя, весь грех, — коротко развел руками вертолетчик. И снисходительно улыбнулся простоте собственной шутки. — Как это сделал начальник стражи, удавивший Михаила Романова.
— Это которого из них? — заинтересовался Василий.
— Смотри-ка ты, историки собрались, — заметил Югринов с бессмертной усмешкой Василия Шукшина из «Калины красной».
— Банда, — согласно кивнул головой Василий Зеленин.
— Если историки, то это уже не банда, а партия, — устало уточнил вертолетчик.
— Партия и мафия — близнецы-братья! — высказал свое отдельное мнение Югринов.
Вертолетчик поднялся и махнул рукой: спать, спать! Он покинул сотрудников заповедника и направился в соседний дом, где всегда ночевал экипаж.
— Как ты думаешь, почему он ушел из военной авиации? — спросил, будто размышляя вслух, Инспектор.
— Потому что военному сначала смотрят на погоны и только после этого в лицо. И то не всегда. В зависимости от того, что на погонах, — ответил Зеленин. Он все еще не мог понять, зачем это так сказал пилот — про последний предел.
— А ты? Ты сам? — хорошо выпив, оживился Инспектор, как окунь на сковородке. — Ты смотришь человеку в лицо? Такие, как ты, художественные книжки любят больше, чем людей!
— Какие это такие?
— Такие — гуманитарно развитые.
— Согласен, людей я не люблю, — грустно улыбнулся Василий, — вернее, люблю немногих, всего несколько человек. И мне этого достаточно.
— А чего так?
— Да видел я этих людей: что мое, то мое, а что твое, то наше. При этом каждому уроду нужна родина, идеология, оправдание самому себе, высокий штиль, классический слог.
— Ты рассуждаешь со стороны — будто бог какой. У каждого человека есть идеология, мировоззрение, аргументы.
— Я не бог, а исполняющий его обязанности. А ты — инспектор! Пломбир! Понял меня? Это твоя идеология.
— Понял, — ответил Яков.
Он встал и прошелся по комнате, разминая затекшие ноги.
— Я — Советского Союза армии лошадь. Животное, требующее от других выполнения инструкций, положений и соответствия сертификатам. Ты это хотел сказать? Согласен, я атеист. А ты — верующий? Ты не требуешь от других, чтобы они жили по Нагорной проповеди? Верующий ты?
— Да.
— Посмотрим, жизнь покажет, — Яков уставился на свет пламени, падавший из-под печной дверцы на жестяной лист, прибитый к полу — для безопасности, от случайного уголька. — А я не верю в Бога. Не потому, что я духовно неверующий человек. А потому, что не могу поверить в Иисуса Христа — конкретное лицо еврейской национальности. Конкретное лицо — это просто смешно.
— Бог — это не Иисус Христос, это человек, который догадался о собственном предназначении.
— Если так, то с одним Всевышним я уже познакомился, — улыбнулся Инспектор и повернулся спиной к огню. — Представляешь, наткнулся в тайге на дом, в котором живет столетний старик. Один.
— Это где?
— Честное слово, я так и не понял точно где. Кажется, где-то между Тулымом и Вишерой.
— Что ты несешь — нет там ни одного дома, я все насквозь исползал! И никакого старика там нет. Никого я не встречал! Если только в другом месте…
— Я тоже — до вчерашнего дня. Случилось какое-то наводнение, и мою лодку понесло в приток Вишеры, против течения. Ты знаешь, так бывает.
Югринов вылил себе в кружку остатки водки и отломил кусок черного хлеба от каравая, привезенного дорогими гостями. Он замахнул дозу и опустил хлеб в крупную соль, закусил.
— Бывает, но не на Вишере, а на Оби или Лене! Это не сибирская река. Никакого повышения воды здесь не было с мая. Ты что, с ума сошел?
— Может быть… — растерянно произнес Яков и снова уставился на отсвет печного пламени. — Может быть, мне это приснилось, ведь я заснул в лодке. Да, кстати, в ней и проснулся.
— Это больше похоже на правду. Сны — это и есть правда. Вишерские сны. Человек потому бросается в крайности, к берегам, что не может выдержать на стремнине.
— Что ты хочешь сказать этим?
— Я о том, к чему ты стремишься — в лодке ли, во сне ли…
— А ты? Ты сам?
— А что я? Я такой же, как ты, только хуже.
Василий ушел к себе. Они легли спать, закрыли глаза, погружаясь в туманы, идущие над гольцами Муравьиного Камня, Ишерима и Тулыма.
Почему они так любят эти безлюдные горы? Мне показалось, инспекторам здесь легче было сохранить тот уровень, ниже которого человек не имеет права опускаться. При этом было ясно, что один из них — убийца. Или оба.
Он двигался сквозь багровые угли бутонов, в пионовом свете цветов, глубоко вдыхал их угарный запах. А головная боль появилась позже, когда начал спускаться с холма. «Кажется, зря марьин корень занесли в Красную книгу Прикамья — больно много тут этой редкости, — подумал Инспектор и покачал головой, пытаясь вспомнить латинское название цветка по Линнею. — Больно много, ой больно…»
Впереди появилась хвойная пирамида, увенчанная огненным шаром, — с той стороны хребта поднималось совершенно нагое солнце. И в ореоле восходящего светила проходил, будто в боевом порядке, как на гребне океанской волны, каменный, темный, суровый, беспощадный крейсер — хребет Молебный. Столбы овеществленного времени — останцы, доведенные дождем и ветром до состояния скульптурных метафор.
Молебный Камень… Похоже, это не народная этимология, а действительно вогульское капище.
Через час, преодолев каменные реки — курумы — как зверь, на четвереньках, он поднялся к основанию центрального останца. Потом спустился в поросшую низким лесом ложбину. И на ровной площадке, окруженной гранитными плитами, разжег костер. Ночи в августе тут бывают холодными.
Может быть, где-нибудь неподалеку, в лесочке, молча стоят деревянные вогульские боги, никто не знает где, кроме тех, кто им поклоняется. Югринов вспомнил, как увидел в Перми, на чугунной ограде парка, рекламный щит величиной с полотно Александра Иванова «Явление Христа народу» — с надписью: «Пермские боги живут в художественной галерее». Рядом была изображена колокольня бывшего кафедрального собора, ныне галереи, где хранятся картины русских и западных художников, древние православные иконы и деревянные фигуры распятого на фоне черного бархата Христа, вырубленные простодушными чердынскими язычниками. Они находятся в помещении, в котором поддерживается постоянная температура воздуха, а люди бывают строго по расписанию. И только тут, в тайге, прямо под ужасом и восторгом звезд, стоят два деревянных бога — Илюша и Андрюша, чьи суровые лица иссечены дождем и бесконечным североуральским снегом.
Инспектор набросал под густой елью лапник и натянул на нижнюю ветку кусок полиэтилена под углом к сухой и чистой земле. Он лежал и смотрел мимо пламени, в дремучую темноту первобытного мира. «Я думал, они будут день и ночь читать стихи, а они начали считать деньги. Люди, кричавшие о своей необыкновенной духовности на весь мир, обернулись обыкновенными квартирными тараканами. Только для того стоило отстреливаться, чтобы все открылось. Лучше в ледяных горах, чем в теплом вольере». Яков подбросил в огонь сушняка, с боков положил два коротких и толстых обломка ствола. Закрыл усталые глаза. Утомила война с домашними насекомыми.
Идрисов оставил Зеленину и Гаевской только один способ общения с миром — с помощью рации. Два раза в сутки. Всего несколько слов первой необходимости: как дела, кто куда вышел, чья лодка спустилась по течению, когда будет вертолет. Или такое, например: Василий послал с Идрисовым бумажный мешок чаги для Малинина, а тот передал ему по рации, что получил только треть мешка. Зеленин жалел Малинина, посадившего здоровье алкоголем.
За завтраком Идрисов спросил Зеленина:
— Ты куда поедешь в отпуск — домой? А может быть, на Чёрное море, в санаторий? В санаторий хочешь?
Это он так издевался, зная материальные возможности своих инспекторов.
— Нет, — ответил Василий, — я предпочитаю проводить отпуск в реанимации.
Идрисов укоризненно покачал головой, не поднимая от дощатого стола черных глаз.
— Помню, у меня был друг, такой друг — я его лучшим куском встречал! — произнес он задумчиво, с усталой интонацией мудрости. — А он предал меня, когда в Маркаколе я схватился с директором. Вот и делай людям добро.
— Мелочи жизни, — сказал Дима Холерченко, замахивая полстакана водки.
— Мелочи жизни — это о нашей зарплате, — с усмешкой добавил Инспектор. — Знаете, что такое МЗП?
— МЗП — это малозаметное препятствие по периметру зоны, — тут же отозвался Петрович, — в форме проволочных спиралей, в которых должен запутаться бежавший через основное ограждение зэк, как в паутине. Потом его можно расстреливать с вышки из автомата. Очень удобно.
— Правильно, МЗП — это минимальная заработная плата. Не требуется никаких автоматов, чтобы человек отдал концы в законном порядке. Еще удобней.
— Да, просыпается активность народа, появляются амбиции, — задумчиво заметил начальник бандитской охраны. — Заныли. О чем думали, когда памятник Феликсу Эдмундовичу снимали? Кушать захотелось? Мяса, да?
Хозяева и банда отдыхающих сидели за столом у летней кухни. Капиталисты опохмелялись, подтягивая тыловые резервы, чтобы день простоять и ночь продержаться. А стоять было трудно, поэтому все сидели. Мальчиш-Плохиш пытался угостить Светлану шоколадом.
— А я мяса вообще не ем! — сказал Идрисов.
— Женщина-блокадница говорила мне: «Я лучше руку себе перегрызу, чем съем кусок мяса», — вспомнила Светлана. — Как вы думаете, что она пережила?
— Етитское мясо! — мотнул могучей головой телохранитель.
— Етитское мясо — это что, мясо йети, снежного человека? — нервно улыбнулась Светлана.
— Мозговня! — отрезал бизнесмен, наливая себе еще водочки. — Выпьем за родину! Выпьем за Сталина! Выпьем — и снова нальем! Такова, блядь, наша национальная идея! Правильно я говорю?
— За родину — можно, — с улыбкой согласился Василий. — У меня в общежитии, когда я учился на егеря, над кроватью висел портрет Сталина. Как символ времени, а не фото вождя. Тогда, насколько я знаю, в армии не было ни дедовщины, ни землячества. Можно было погибнуть в бою, но не в казарме, как сегодня, — от рук своих сослуживцев.
— Из-за таких вот умников наша армия теряет свой мировой престиж! — поднял бронетранспортерный взгляд подполковник запаса, возглавлявший охрану пермского бандита.
Петрович держал голову так, чтоб не уронить офицерскую честь — в любой ситуации. Только человек с плохим чувством юмора способен вести себя с таким достоинством, которое сразу бросается в глаза. Так подумал Зеленин.
— Армия не потеряла престиж, — с улыбкой возразил он, — она обрела истинную цену.
— Вот те раз по паре валенок! — заметил Инспектор. — Страну окружают со всех сторон — китайцы, армянцы, корейцы, еврейцы и другие скаковые арабы, а ты в это время подрываешь моральный дух наших боевых подразделений?
— Корейцы, говоришь, мансюки-индейцы, а ты кто — пиловочник? — не выдержал Зеленин. — Деловая древесина, да?
— О чем ты, дружище? Твои мансюки спились до вони вяленого мяса! Потому и потеряли своих оленей в тысяча девятьсот шестьдесят, блин, третьем году! С чего это вдруг какая-то копытка всех животных свалила, восемьсот голов, за один год? Что, еще одна вишерская легенда? А почему раньше не свалила, а? Ну, скажи?
— А, какая разница! — потянулся Холерченко. — В газетах пишут, что 19 августа начнется конец света. Да, надо выпить по этому поводу.
— А что, он разве не наступил еще? — спросил Инспектор. — Пора бы уж, если посчитать, сколько кругом врагов народа.
— Вот и Сталин так говорил, — вспомнил Василий.
— То были враги Сталина, а теперь — враги народа!
— Кстати, о смерти. Энцефалитные клещи в лесу есть? — поинтересовался начальник охраны.
— Да что вы! Сейчас август! — изумилась Светлана. — Они в июле на юг улетают! А вы что, от клещей охраняете тоже?
— Пей! — приказал Холерченко Якову Югринову с щедрой улыбкой. — Еще пей — водки много.
Инспектор мягко улыбнулся. Яков знал, что даже сегодняшние чердынцы, небогатые, честно говоря, люди, страдают комплексом столичных жителей, потому что в Средние века их город был центром Перми Великой. Чего уж говорить об этом пермском спекулянте.
— Достаточно, — протянул он. — Пить и любить надо так, чтобы на всю жизнь хватило — и вина, и женщин, а не на один день.
— Умный ты человек, — кивнул головой Холерченко, — а почему живешь в такой глуши?
— Потому что умный. Хочу жить рядом с гениями. А все потому, что литературная классика устарела.
— Как это? — усмехнулся Дима. — Она потому и классика, что не стареет. Вот скажи мне, кто самый великий писатель нашего века?
— А что, есть разночтения?
— Имеются.
— Думаю, Варлам Шаламов. Все стареет. Стендаль говорил, что гений рождается в провинции, а умирает в столице. Гений по-прежнему рождается в провинции — в столице он вырождается.
— Ну, третий сорт тоже не брак! — развел руками Холерченко. — Кому-то надо создавать капиталистический реализм, правильно?
— Когда они поют песни о России и рыдают, я умираю со смеху, — согласился Югринов.
— Ничего, — кивнул головой Василий, — наши придут — разберемся…
Он смотрел на северо-восток, на каменную, голую, словно покрытую кольчугой, двуглавую вершину Ойки-Чахль, освещенную скупым августовским солнцем. Было такое ощущение, будто он отошел от стола и сам не заметил этого. Весь мир движется туда, за эти вершины, на северо-восток: Ермак, Дежнёв, Земля Санникова, Магадан, Колыма, Аляска… Как тувинцы пошли туда из центра Азии, так и идут. Уже тысячи лет тащатся по этой дороге. Ледяная шапка планеты — цивилизация.
— А кто наши-то? — тихо спросил Петрович.
— Если бы знать, — еще тише ответил Василий.
Инспектор торопливо шел по тропе на восток. Человек двигается навстречу своей смерти сам. Иногда создается такое впечатление, будто кто-то гонит его по узкому коридору к единственно возможному выходу. Всегда так, только вперед, но никто не хочет признаваться себе в этом. И не признается, пока не попадет на тот свет, который в конце коридора… Яков понял: тот свет — это всего лишь прозрение. Зря, конечно, Идрисов так угарно куражится: «Самая высшая ценность на земле — человеческая жизнь! Конечно, я имею в виду свою, а ваши я просто имею». Каждый сам ищет свою смерть. Кто-то гонит людей по узкому коридору, как быков на бойню. Взять хотя бы этих армян, грузин — как они кичились, когда жили за чужой счет. Чем кичились? Ворованным. Куда бежали? Югринов улыбнулся — он вспомнил, как парламент Грузии обсуждал вопрос о том, где достать сорок миллионов пластиковых бутылок для розлива своей минеральной воды. А сами русские? Настолько лишены чувства реальности, что никак не хотят отдавать Крым какому-то Кучме, хотя каждое утро стоят в очереди в сортир в коммунальной квартире…
Инспектор двигался в сторону сгоревшего леса по узкой тропе, но ощущение было такое, словно снова летел в Ми-8 и смотрел в иллюминатор: внизу Вишера плавилась, как олово на кончике паяльника, проплывали густо поросшие ивняком острова, на старых вырубках лежали брошенные стволы сосен и елей, пробегали по тайге одинокие тени облаков и самого вертолета, в котором он сидел… Как будто ты стал богом и смотришь на самого себя со стороны без испуга. Справа — каменистые вершины Помянённого Камня, гигантские останцы, протянувшиеся на десятки километров, зубчатый, острый гребень, поднявшийся над тайгой, осыпи, курумы…
Инспектор подходил к старой охотничьей избушке. Стояла каменная тишина. Он двигался очень осторожно, чтобы не допустить неожиданной встречи. Из прибрежной осоки взлетела пара уток. Каждый в мире таится, как может. Вот и белка скрылась на другой стороне ствола — ярко-оранжевая, с длинным черным хвостом. А глухарь, он заметил, совсем замер — притворился черным сучком. Это по тайге пробежал негромкий, тревожный слух: Господин идет, человек, страшный зверь.
В домике никого не было. Он прикоснулся ладонью к печке — теплая. Час, наверное, прошел, как топилась. Кто-то пришел из Азии, из-за Уральских гор. Похоже, что один. А куда делся-то, ушел куда?
Незасвеченный кусок пленки
Господи, где хранится этот незасвеченный кусок старой фотопленки? Каска была красного цвета — темноватого, как брусничные россыпи на моховых коврах гранитных плит. Внизу синела, пугала августовская вода Вишеры.
Я не верил веревке, державшей меня на весу, не верил сосновому стволу, стоявшему в двух метрах от края скалы, к которому веревка была привязана, не верил двум товарищам, отправившим меня на верную смерть. Алексей, опустившись на колено и прицелившись, щелкал затвором фотоаппарата. Они улыбались, вернее сказать, смеялись мне в беззащитное лицо.
Потом они объяснили, что бледное, белое как снег лицо и красная каска — очень смешной контраст. Посмотрим, как это получится на негативе. Сволочи, там и было-то метров двадцать, но когда веревка дернулась, камешек из-под нее где-то выскочил и пролетел мимо меня вниз, я действительно промок до страховочной обвязки. «Ты посмотри на себя, — кивал Алексей на фотографию, — ну как я пойду с тобой на Эверест?» Господи, хорошо с Ветлана живым спустился.
На Эве-ре-ест! В годовалом возрасте, мать рассказывала, я не очень удачно вывалился из кроватки и ударился головой о ведро. Удар пришелся по переносице, где до сих пор шрамик. И может быть, яркая болевая вспышка засветила тот кусок фотопленки моего подсознания, на котором когда-нибудь могли проявиться легендарные кадры одиночного покорения Эвереста? Без кислородной маски, конечно, как это делал Месснер. У него еще брат погиб в горах — кто не помнит трагическую историю?
Алексей уже сказал, что не возьмет меня выше Кваркуша. Не стать мне снежным барсом заоблачных вершин. Потому что бледнеет мое лицо, подсвечивается изнутри, когда я смотрю с балкона десятого этажа.
Да, зато летаю как сокол. Вероятно, самолетная высота не кажется мне реальной — воспринимается изображением, какой-то проекцией с кинопленки. Или в другой жизни я упал не с аэроплана. Поэтому согласился бы стать летчиком и сейчас, ведь Алексей давно доказал мне, что летать можно — как птица по имени Джонатан Ливингстон из «Чайки…» Ричарда Баха. Можно и не только летать.
Алексей Копытов служил в ВВС, занимался техническим обслуживанием самолетов. Он рассказывал мне, будто один парень, тоже срочной службы, настолько был влюблен в крылатую машину, что самостоятельно изучил ее до последнего винтика и проштудировал азы пилотирования. И возможно, этот парень не раз поднимался в небо в состоянии какой-нибудь тренинговой медитации, а однажды поднялся на самом деле: он сделал один круг и посадил машину на место без аварии. И сразу исчез из части — конечно, тоже «посадили», чтоб не взлетал. Говорили, будто в самолете было ядерное оружие. Ну, это вряд ли. Но на что парень надеялся? Как сказал один нобелевский лауреат, нельзя иллюзии исчислить. И где он сейчас — со своей любовью? Правда, эстетическое проявление любви нельзя назвать опасным мероприятием. Вот и смотрел бы, как другие летают! Алексей, например, тоже может разобрать и даже собрать вновь какой-нибудь не очень секретный аэроплан. Или спортивную яхту. Своими небольшими, аккуратными, золотыми от работы руками. Но за тридцать лет, которые я его знаю, он не сделал ни одной серьезной попытки захвата какого-нибудь ракетоносца. Обратите внимание: я говорю не о женщинах, о самолетах.
Он потому не захватил ракетоносец, что боготворит дисциплину. И цитирует, кажется, Декарта: «Порядок освобождает мысль».
Алексей стал хорошим сержантом, отличником боевой и политической подготовки. Мы ждали — и он вернулся из армии. Поступил в институт как человек. Начал изучать высшую математику! Впрочем, он и до службы учился, правда заочно, в лесотехническом техникуме. А вершиной образования стало профтехучилище, куда он пошел получать специальность электросварщика. Ни одно из этих заведений он не удостоил чести стать его выпускником. Правда, в училище предлагали остаться — преподавать, но он в это время был занят, кажется уже работал грузчиком. Или читал Шодерло де Лакло — не помню точно.
Да, он любит порядок. В нашей мастерской висели простые, но точные весы для работы с комнатными моделями — эти весы, конечно, сделал он, небрежно, но разборчиво написав на них шариковой авторучкой: «Руками не лапать!» При этом он мог прикинуть, взвесить или отмерить не семь, а только три раза, справедливо утверждая, что афористичность народного выражения есть совершенство догмы.
Они, Алексей и Андрей, спускали меня с одной из скальных стенок Ветлана, который возник в результате рассечения Полюдова кряжа рекой Вишерой. А самая высокая точка кряжа поднимается за рекой синим плавником — Полюдов Камень, всего метров пятьсот. А если возвращаться с Ветлана домой, не спускаясь к реке, к дороге, то выйдешь на другую сторону кряжа, так называемые Морчанские поля, с которых открывается панорама нашего северного городка. На этой стороне я пытался сделать то, что боялся на той, где Ветлан: я пытался воспарить над землей если не телом, то всем остальным.
Алексей безуспешно старался обучить меня чему-либо, заставляя сидеть над электронными схемами с паяльником в руке. Он рассуждал о многоканальном управлении моделями. Притащил в мастерскую громадный, как дорожный чемодан, магнитофон и часами гонял по кругу «Иисуса Христа» и «Времена года». Я помню эти тяжелые бобины, похожие на пулеметные магазины, но меня они не трогали, звуча бесполезно, будто холостые очереди. Алексей создал какой-то новый механизм поворота руля с электромагнитом и, помнится, все обещал мне: «Вот пошлю схему в журнал — думаешь, не опубликуют? Опубликуют, вот увидишь». Я, сидя к нему спиной, улыбался — нужен этот поворот журналу. И плавил серебристое олово, и вдыхал янтарный запах канифоли. Да, всего каких-то тридцать лет прошло…
Летать — это не по скалам ползать, как сказал один сокол. Алексей, стоя на Морчанских полях, брал модель правой рукой за фюзеляж, под крылом, где центр тяжести, и, проведя над головой, бросал планер навстречу ветру. Радиоуправляемая модель с двухметровым размахом крыльев торжественно уходила в пространство над городом. Алексей подавал команды, держа электронную шпагу, на которой вместо эфеса был пластиковый шар, начиненный передатчиком. И покачивалась в руке антенна, похожая на оружие мушкетеров.
Алексей нажимал большим пальцем на кнопку, и планер начинал плавно разворачиваться, показывая в лучах заходящего солнца свои прозрачные, пропитанные эмалитом крылья — от кромки до кромки, все нервюры и лонжероны, свой продуманный аэродинамический скелет. Стремительно возвращаясь, он парил в небе на уровне моих восторженных глаз и, послушный волшебной кнопке, разворачивался прямо перед нами, уходя на круги своя. Кроме одного случая, когда передатчик был доверен мне.
Сначала модель с треском вошла в сухую и жесткую осеннюю траву, порвав микалентную бумагу обшивки. Алексей тут же сделал легкомысленные заплатки из билетов в кинотеатр, нашедшихся в кармане. Пропали билеты. Не вернулись. Поскольку планер вышел из зоны управления и, покачав крыльями, ушел над верхушками елей в глубокий лог. Я вернулся из этого лога уже в темноте и без модели. Алексей только рукой махнул — туда, дескать, и дорога пернатому, еще построим.
Пока я паял там, он смастерил за моей спиной станковый рюкзак с крышей — несущей поверхностью над головой. «Чем не передвижной домик из Кобо Абэ?» — хвастался он, демонстрируя грузоподъемные возможности конструкции на собственной спине. А когда шел с этим рюкзаком по улице, встречные останавливались и смотрели вслед, пытаясь понять, чему же они сейчас были свидетелями. Вскоре фото автора и чертеж рюкзака были опубликованы в журнале «Турист». На фотографии Алексей стоит, слегка согнувшись под тяжестью поклажи, и улыбается.
Да, он всегда берет на себя много, что раздражает не только меня. Как и его подчеркнутая независимость от чужого мнения или воли — можно сказать, демонстративность проявления этой независимости. Жесткий характер — как сверхзвуковая конструкция, тяжелый взгляд. Когда он жил в Казани или в Ленинграде — не помню точно, где в тот раз, — на массовом сеансе гипнотизер попросил его выйти из зала. Я бы тоже попросил…
Иногда он смотрит в упор — и не видит. Иногда в темноте видит то, что происходит за спиной.
Я стоял за его спиной и наблюдал, как он работает с новым таймером для экспонирования, который тоже, конечно, сделал сам. В красном фотолабораторном свете Алексей был похож на алхимика.
— Смотри, — кивнул он на крупнозернистое изображение группы молодых женщин, проступившее сквозь вишерскую воду. — «Надейки» — так я назову эту фотографию… Востроглазые, смешливые, бездумные.
В то время он увлекался Хулио Кортасаром, я, конечно, тоже. Надейки — это из типологии человеческих характеров писателя.
— А теперь посмотри на часы, должно быть ровно половина первого, минута в минуту, — произнес он, не поворачиваясь.
Я посмотрел на свои ручные: так точно, без нескольких секунд. Он объяснил тогда, что получает в это время сигнал — оттуда…
Я прямой связи с космосом не имел, поэтому Алексей сказал, что не возьмет меня выше Кваркуша.
Впервые мы рванули туда, где ягоды морошки светятся между небесами и мхом высокогорной тундры, много лет назад. Сейчас он ходит туда проводником — на Северный Урал, в верховья Вишеры. Не бойтесь, это не очень далеко. И согласитесь, что сбежавшую речку, русло которой усыпано сухими и круглыми, как яйцо, камнями, можно перейти и вброд. А там и рукой подать — небольшой марш-бросок в гору, сквозь паутину, бурелом и собственные слезы. Речка Золотанка, Золотой Камень, Золотое урочище… Сначала сюда поднимались по Вишере за железной рудой, потом — за золотом, а сегодня — и за алмазами.
Но красные развалины гранитных замков! А багровые брусничные бусы, разбрызганные по земле? Готический восторг вечнозеленых, женственная нежность папоротника, хрупкость сушняка… Осины пугают внезапностью кровавой листвы, а желтеющий мох успокаивает. И все это, конечно, в конце августа.
Перед нами развернулась панорама Уральских гор, и вскоре мы заблудились среди густых и высоких трав субальпийских лугов. Мы безуспешно пытались соотнести между собой карту, компас и то место, на котором стояли. А тут еще на плечи прыгнул низкий и резкий, неожиданный, как рысьи глаза, дождь. Мохнатая собачка Люська, с которой Алексей ходил на Камень Помянённый и спускался в Дивью пещеру, стала прыгать на хозяина, царапать и лизать его, отбегая в сторону и оборачиваясь до тех пор, пока мы не догадались пойти за ней. И в тот же вечер, сидя в охотничьей избушке, мы присвоили ей почетную кличку Высокогорный Заяц Люська. Мы — это Алексей, его младший брат Петр, музыкант Андрей Бычин, с которым они спускали меня по веревке с Ветлана, и я, конечно. Мы растопили каменную печку и обсудили ситуацию. Расклад оказался настолько безвыходным, что две бутылки кагора, захваченные для банкета у Вогульского Камня, распечатались самостоятельно. И, вдоволь насмеявшись, мы опрокинулись в сонную пропасть.
А утром не обнаружили Петра ни в избушке, ни около. Он пришел часа через два — высокий, бородатый, мосластый, скуластый, непрерывно улыбающийся.
— Я нашел тропу на восточном склоне — ту самую, которая есть на карте!
Он стоял перед нами, расставив длинные ноги в резиновых сапогах, — турист и авиамоделист, как старший брат, школьный золотомедалист и будущий химик, девятнадцатилетний студент. Я не успел узнать его лучше. Кстати, и старшая сестра Копытовых — кандидат наук. Какой-то семейный код одаренности существует.
Петр Копытов пропал через год — в Хибинах. Семь студентов университета ушли к перевалу ранним, сумрачным утром. И не вернулись — ни через месяц, ни через два, ни через полгода.
О событиях, происходивших в далеких Хибинах, я слышал от Алексея, выезжавшего туда для участия в поисках, которые помнятся своими беспрецедентными масштабами и сейчас. Известные альпинисты и туристы, десятки групп, сотни людей прочесали, переползали этот небольшой, но, как говорят, опасный горный массив. Чистый, прозрачный лес не раз был просмотрен с вертолета. А горные речки пропущены через сети. Все бесполезно — ни следа, ни варежки, ни обломка лыжи…
На всю длину человеческого взгляда тянулась высокогорная тундра. Белели сухим цветом, будто в каком-то сказочном месте, коряги, подсверкивал листьями карликовый ивняк и ежился можжевельник. Мы шли к двухсотметровой пирамиде, похожей на увеличенные в тысячи раз песочные часы, остановившиеся так давно, что песчинки превратились в камни, в серые мшистые куски не утраченного Уралом времени. Мы шли к Вогульскому Камню по ровному, фантастическому пространству плоскогорья. Алексей щелкал затвором фотоаппарата, и только с трех метров начинали отлетать в сторону непуганые куропатки. И вдруг тундра резко рванулась вниз, слева от нас, открывая взгляду громадную чашу, украшенную камнями и патиной мха. На дне этой чаши стояла еще одна пирамида — продолговатая, похожая на домовину. Гроб — так называется этот камень, действительно будто опущенный туда на веревках. Весьма похоже на творение рук человеческих.
Вокруг домика оленеводов, к которому мы вскоре подошли, варварски были разбросаны кости животных и стоял какой-то отталкивающий запах — как оказалось, вяленого оленьего мяса, висевшего в мешке под крышей. Тут я впервые увидел нарты, оставленные хозяевами, а под низким карнизом, на двух деревянных кронштейнах, — самодельный трехструнный инструмент в форме лодки, из ели. Но почему снаружи? Вероятно, чтобы ветер играл в горах на этих угорских струнах. Позднее я узнал, что инструмент называется нарс-юх. Мы стояли у подножия Вогульского Камня.
Петру довелось вернуться сюда только один раз — в зимние, в синие февральские каникулы. Я нашел братьев после того лыжного похода в баре «Ветлан». Они смеялись, сидя на широких лавках за длинным деревянным столом. Петр тянул ко мне, на белый свет, как будто бы еще скрюченные морозом, почерневшие и потрескавшиеся руки. Он, как всегда, смеялся больше всех.
— Тридцать градусов ниже нуля плюс ветер — десять метров в секунду. Зря ты не пошел с нами!
Смеялись девушки, смеялась невеста Петра, потом ушедшая с ним в Хибины, и все они хором рассказывали: скрип лыж и заледенелой одежды, закутанные лица с оставленной для глаз щелью, облитый лунным светом каньон, гигантскими террасами поднимающийся к звездному небу. Нет, зря ты не пошел с нами.
Мы ели горячие бифштексы и пили пиво из высоких керамических кружек. Алексей вел разговор с нарочитой, игровой манерностью, отводил правую руку в сторону, сверкал золотистой оправой очков и спрашивал: «Не так ли?» И не ждал ответа. За окном миллиардами бриллиантовых снежных граней мерцал вечерний свет Вишеры, нашей неповторимой молодости. Одна из студенток рассказывала, как столичный профессор прочитал в аудитории филологического факультета стихотворение — и никто не смог назвать автора, вы понимаете? Речь идет о первом университете страны! Первая строчка, сказала она, звучала так: «Нельзя иллюзии исчислить…»
— Да, — кивнул головой Алексей, — «и горькие предположенья, нет меры для определенья того, что не могло не быть, что шелестело, точно шмель, и, не замеченное нами, исчезло, словно наважденье…».
И он прочитал «Непотерянное время» Пабло Неруды до конца. Я помню, потому что он переписывал стихи из сборников и дарил рукописные копии не только мне.
— Растет культурный уровень советского человека! — покачала головой изумленная студентка.
Нашла советского…
Это было зимой. А в конце августа мы сидели в избушке оленеводов у подножия Вогульского Камня. Андрей Бычин играл на гитаре, отказавшись от неизвестного вогульского инструмента. С темнотой на холодное и безлюдное плоскогорье пришел двигавшийся табунами туман.
Алексей рассуждал о Гюставе Флобере, точнее, о неизбежности мышьячной смерти в провинции. Я пытался возражать — в столицах, дескать, умирают еще и не так. Над Кваркушем, как над высотным космодромом, зияли крупным горным светом созвездия. Алексей сразу вспомнил о том, кто рождается в провинции, а умирает в столице. Он заговорил о Стендале.
— Агрессор, — сказал я, припомнив этому Бейлю наполеоновскую кампанию.
— Ты однозначен, — обиделся Алексей за французского классика, — ты примитивен, как салазки, стоящие во дворе.
— Ты противен, как мешок с вяленым мясом, — с удивительной готовностью добавил Андрей. И надо сказать, что свежесть последнего образа особенно задела меня.
— Самая однозначная наука — математика! — возмутился я, намекая на чьи-то семейные способности.
Петр смотрел в потолок и улыбался, лежа на жесткой оленьей шкуре, которыми были застланы топчаны.
— Ты не знаешь математики, — вступил в разговор студент, приподнявшись на локте, — даже многозначность поэтического образа можно передать как цифровой код.
— Закодировать можно, но не передать.
— И не надо этого делать. Надо понимать, что точные науки — это условное понятие, временное, что они расщепляют мир так же, то есть настолько, насколько постигают его, понимают, — привычно вышел на свои дидактические интонации Алексей, — надо познавать мир — «терять, вплоть до потери жизни, — равно обжить и жизнь, и смерть. Нетленно и непреходяще в своем реальном постоянстве продленье вечной пустоты и тишины, куда летит все мироздание и мы». Гениальный поэт!
— Коммунист, — припомнил я и этому Пабло кое-что.
Кажется, Алексей хотел еще что-то сказать, но в это время за стенкой домика раздался шум, похожий на легкие и быстрые шаги. И мы тотчас замолкли. Шум то пропадал, то возникал снова. Понятно, мы все вспомнили о том, что с Красного Берега в побег ушли восемь осужденных — одновременно с нами. Оказалось, я больше всех боюсь не только высоты, поэтому вскочил и быстро привязал дверную ручку к скобе на косяке. Как будто это могло спасти нас от восьми головорезов. Я взял топор и положил его рядом с собой на оленью шкуру. Друзья то прислушивались, то тихо похохатывали, глядя на меня и зажимая рты. На нервной почве, наверное.
Позднее местный охотник поведал нам, что давно уже заприметил тут росомаху…
Дал я маху со своим страхом. Выше Кваркуша я никогда не поднимался, а Алексей после гибели Петра начал ходить на это плоскогорье постоянно. И ходит сегодня.
Мое осуждение он выслушивает до конца, но снисходительно. Он, шагая в темноте по липовой аллее Красновишерска, рассуждает: в горах, да и не только там, гибнут мастера, прочно уверовавшие в собственную удачу и надежность личного опыта, люди, которые не боятся поставить ногу в сторону без страховки, утратившие осторожность, не поднявшиеся на свою главную вершину — профессиональную.
— Бывает, гибнут не только мастера, — осторожно возражаю я.
— Бывает, — отвечает он, — торопятся. Вверх надо подниматься медленно. Твоя жизнь зависит от того, насколько верно ты расшифровал понятие «профессионализм». И страх тоже в нем закодирован. А что касается вероятности, неизбежности… Помнишь? «Как близко находилось то, о чем мы не предполагали! Как невозможно было то, что, может быть, возможно было! Вокруг молчащих Кордильер печали столько крыл шуршало, исколесило столько дрог дорогу жизни, что отныне уже и нечего терять».
— Но почему из пятидесяти тысяч стихотворений, написанных Нерудой, мы знаем только пять?
— Ты знаешь почему: когда у него пропадал страх, он переставал быть гениальным поэтом. Такое случается с литераторами, переставшими испытывать испуг перед белым листом бумаги. Ты читал где-нибудь об этом? Неисчислимые иллюзии, как зияющие, распахнутые пропасти, ждут тебя — талантливого, нетерпеливого. А с другой стороны, читай, учи Неруду — и будешь знать наизусть больше, нашел проблему. И помни: творчество — это публичная самодешифровка личности, а это опасно. Ты меня понимаешь?
«Нельзя иллюзии исчислить…». В августе следующего года группа московских школьников нашла на снегу хибинского перевала синий рюкзак — вероятно, вытаявший за лето. И в течение недели десятки туристов, снятых с маршрутов, работали там, доставая из-под снега по одному человеку в день. У Петра остались целыми стекла очков и фотоаппарат с пленкой, которая не была засвечена ни тем, ни этим светом. А перед лицом одной из девушек вытаявший снег сохранил форму последнего дыхания…
Так сошел на них снежный карниз.
Неужели можно предусмотреть подземный взрыв — в шахте, у подножия гор, и минутную остановку группы под скалой, вставшей поперек перевала? — спрашиваю я. И слышу: нет, никто не знает, как это было на самом деле, а ты, бывает, рискуешь вообще в недостойных ситуациях. Дескать, лучше от водки и от простуд. Не знаю, что лучше, только это была первая песня, а не последняя — «спасите наши души…». Но неужели ты думаешь, снова слышу я голос, будто потребность в покорении пространства вызвана где-нибудь на уровне филогенеза протестом голени против укорачивания из эстетических соображений? Да ничего я не думаю, ничего я не знаю, кроме одной истины: человек не имеет права распоряжаться своей жизнью, пока у него есть родители и дети. Перебираю конверты — вот и Алексей пишет мне: «Не спрашивай меня ни о чем. Мало что знаю… Смысл всему — просто жить, не брать на себя так много, что согнешься… Не дожидайся моих писем. Я боюсь белой бумаги, и еще больше — мною не писанной…»
Твои слова, Алексей.
А помнишь, как вы заявились на Ветлан по первому снегу? Было холодно, и дуло так, что Андрею с трудом удалось разжечь на скале костер. Вы готовились к стометровому тренировочному спуску — работали со своими веревками-страховками. Лицо Андрея стало совсем темным, и даже под ногти набилась грязь. Вы сползали по широкой и почти вертикальной расщелине, поросшей местами мелким кустарником. Вы шли в связке, и где-то на середине спуска Андрей сделал шаг в сторону и, упершись ногой в стенку, заглянул за каменный выступ, в какую-то скальную нишу. Несколько секунд он смотрел туда не шелохнувшись. А когда повернул голову…
«Когда он повернул ко мне голову, я увидел, что его лицо стало совершенно чистым — как снег, как бумага, и руки стали чистыми, и даже ногти. Андрей молчал, я тоже боялся произнести что-нибудь, неосторожный звук или слово, потому что под нами было около полусотни метров. И мы спустились вниз в полной тишине. Уже наступили сумерки. Мы собрались и пошли домой. Андрей не сказал мне ничего — и я не спросил…»
Так ты рассказывал о том, как Андрей побелел на Ветлане. Значит, не только я побледнел там во время того спуска, когда вы нагло смеялись мне в беззащитное лицо. И что он увидел там?
«Нет меры для определены! того, что не могло не быть…» А скальный выступ — это просто рваный край фотопленки.
И чему он только не обучил нас, этот Алексей Алексеевич Копытов, начавший руководить авиамодельным кружком при районном Доме пионеров, когда ему самому было всего пятнадцать лет. Сейчас я шутя называю компанию его учеников вишерской школой высшего пилотажа: кто строит двигатели для самолетов, кто творит в конструкторском бюро космических кораблей, кто пишет художественные книги… А он водит на Кваркуш уже других молодых и дерзких.
Мужчина должен уметь работать не только головой, говорит он. Поэтому мы мастерили пилотажные и боевые модели, резиномоторные, экспериментальные и комнатные, весившие по два-три грамма, — из прозрачной стрекозиной микропленки, из сухих травинок, которые гнули на обыкновенных лампах накала. Я работал с липой, вытачивая фюзеляж и обтекатель для движка скоростной кордовой модели. А сосновая доска, стандартная дюймовка, стала для меня почти родной, потому что пилорамы у нас тогда не было и крылышки с профилем не толще четырех миллиметров пришлось выстругивать из нее рубанком. Потом я медленно, со страхом подходил к белому, светившемуся от настольной лампы столу руководителя. Алексей Алексеевич откладывал скальпель или паяльник, брал в руки крылышко и начинал проверять его сверкающим штангенциркулем. Он сдувал нежную древесную пыльцу, остававшуюся после обработки наждачной бумагой, качал русой, чуть пепельной шевелюрой и, держа крылышко руками за концы, аккуратно ломал его о колено и бросал куски в мусорный бак. И так четыре раза в течение полугода. Скоростная модель совершила в своей короткой, стремительной жизни только один полет — над летним полем вишерского стадиона. Гудя микродвигателем, она легко резала воздух, вращаясь на почти невидимых кордах. «Сто пятьдесят километров в час! — улыбнулся Алексей, посмотрев на секундомер. — Для начала неплохо. Может быть, к концу жизни из тебя что-нибудь получится». Мне было четырнадцать лет, и я был счастлив — его улыбка дорогого стоила. Ему было восемнадцать, и он собирался в армию, в ВВС конечно.
Читаю сейчас написанное и думаю: поломает он это крылышко и скажет: «Долго тебе еще доски строгать, друг мой».
В конце августа Идрисов сообщил по рации, что скоро в заповедник прибудет группа из МВД России. «Ну-у, — весело подумал Зеленин, — получается, теперь очередь Мамаева и компании раком становиться? Только Мамаев не станет».
Василий вырос на хуторе, на Карельском перешейке — территории бывшей Финляндии. И хутора тоже остались от финнов. Правда, все уже было разорено, но семилетний мальчуган этого не понимал. Он видел и знал сосновый бор, озера и совхозную конюшню, где пропадал целыми днями. Сверстники для общения находились только летом, когда появлялись питерские дачники. В школу он пошел в шесть лет — отец запрягал в телегу битюга и отправлял сына учиться за пять километров. А там его встречала учительница, принимала и обихаживала коня…
В первом классе Вася был единственным учеником, а всего в школе насчитывалось девять детей. Поэтому он и вырос таким — самодостаточным человеком. Ему нравилось выражение Якова Югринова по прозвищу Инспектор: «Скучно — это когда все в куче…» И сам Яков нравился — порядочностью и природной мощью, звериной.
Отец Василия работал в совхозе и однажды ударил парторга, однажды и только один раз, но так, что активный и гонористый коммунист получил сотрясение мозга. А когда вышел из больницы, решил посадить Алексея Зеленина. Но мужики, друзья отца, поговорили с ним, подвесив за ноги к тельферу в гараже. И тот забрал заявление из милиции. Правда, отцу пришлось уволиться, оставить хутор и переехать с семьей в поселок, принадлежавший гарнизону гвардейской дивизии.
Там Вася стал сорок первым учеником в классе. Шока от школы вроде бы не испытал, но пережил сожаление об утраченном одиночестве. Это он потом понял — про одиночество.
Кто сказал: «Если сожалеешь о прошлом, значит, ты постарел»? Василий постарел, когда ему было семь лет.
«Семейное предание гласило, что бабка моей бабки была турчанка, — писал мне Василий со строгой зоны. — Предок, служивший у генерала Скобелева, привез ее с последней турецкой войны, которая шла за Болгарию. Прожил он после этого недолго, турчанка осталась с тремя детьми на руках и тоже умерла — наверно, северный климат не пришелся. Детей приняла и вскормила крестьянская община. При Александре III, кажется, случилась перепись, и на вопрос переписчика „Чьи это дети?“ селяне ответили: „Зарины“. И простоватый разночинец записал их под фамилией Зорины. Это фамилия моей бабки по отцу».
В жилах Зеленина течет, бьется и рвется крестьянская, армейская, офицерская кровь. Судьбой было уготовано ему особое место — охранять русскую землю. Даже элементов классовой борьбы не наблюдалось, когда на кордон залетали богатые. Инспекторам не приходилось быть лакеями, поскольку эту роль на себя добровольно брал Идрисов. Выпьет Василий сто граммов, сидит и размышляет, думает, какой бы приличный повод найти, чтобы покинуть застолье.
Понятно, Дима Холерченко — не очень плохой парень, размышлял Зеленин, не очень… Конечно, пробился в спекулянты, принял правила игры. А богатые — люди благодушные, пока речь не заходит о личных интересах. Они хотели денег и власти — они этого добились. Честолюбие удовлетворено, даже тщеславие. А вот Идрисов еще в пути — ему не хватает способностей, характера не хватает. Поэтому впадает в истерику, давит тех, кто ниже по положению. Похож на импотента, истязающего женщину. На импотента, отягощенного синдромом функционера — желанием отдаться начальнику. Чтобы его поимели, по-настоящему, а не в каком-нибудь образном плане.
Да, похож… Да он один, что ли? Тут возникает вопрос: чего это богатых тянет на заповедную территорию? Рыбалкой интересуется один Мамаев, охотой вообще никто не интересуется. Правда, Холера объяснил просто: «Тут стоит хорошо!» Надо думать, что в другом месте вообще никак. Заповедная территория — последнее, что им не принадлежит. А им хочется все иметь. Все. Все!
Самое раннее воспоминание Василия относится к четырехлетнему возрасту, когда его привезли в Питер: зима, вечер, за стеклом «Волги» огни, огни, огни… «Сюда мы пойдем на елку, — говорит тетя, — а здесь будем кушать мороженое». Маленький Вася смотрит, дивится городу, столице самой великой в мире империи, и в голове вертится невысказанный, один, может быть, из самых первых в жизни вопросов: «А как тут люди-то живут — в куче?» И никогда не мог понять этого — и до сих пор, кажется, не понял. Выходные и каникулы он продолжал проводить у бабушек, на далеких карельских хуторах.
С тех же малых лет ему периодически виделся один и тот же блаженный сон: белая церковь на высоком холме, к которой ведет извилистая проселочная дорога, жаркий летний день, пряный запах трав, пенье жаворонков… Себя Вася не видел — только эту предметную, объемную, звенящую картину. И возникало такое ощущение, будто он приближается к тому, к чему стремился всю свою жизнь. «Но это был не мой сон, — вспоминал он позднее, — казалось, все происходит за сто лет до меня». Самое, может быть, удивительное, что Василий в детстве и церкви ни разу не видел — места протестантские, разве что кирха разваленная попадалась.
Если гениальность, которая начинается с поэзии, не всегда завершается бессмертием, то, должно быть, не каждая смерть — зло. Но как отличить Байконур от бобровой реки? Когда стаи белок, мигрируя по тайге, заходили в поселки, вишерские пацаны били их палками по головам, чтобы содрать драгоценные шкурки и продать. А вот Вася отказывался стрелять в зверей…
При этом кто-то настойчиво ходил за мною по городу с большим пистолетом в кармане. Я жил в Крыму, служил в Сибири, учился и работал на Урале столько лет, чтобы быть убитым в темноте, за железными гаражами, у мусорных баков? Я решил купить себе оружие. И на мой вопрос «Папа, это хорошо?» Господь Бог ответил: «Да, сынок, неплохо».
Да, завсегдатаи-газовики взялись за кордон Цитрины конкретно: заказали строительство охотничьего домика, который по приказу Идрисова отправились ставить инспектора Карпов и Никифоров. Идрисов пообещал и снова обманул — строители остались без достойной мужиков жратвы. Борис Карпов, который отличался могучим телосложением и никогда не болел, тут не выдержал. Около пятидесяти ему было. В конце сентября 1996 года газовики залетели посмотреть, как идут дела на Цитринах. Забрали Карпова и приземлились на Мойве, где пробыли два дня. Борис тогда здорово сдал — похудел, правая рука не действовала. Поддатый предводитель газовиков предлагал ему сразу лететь в Пермь, где он устроит инспектора в лучшую клинику города, но тот скромно отказался. Борис улетел с заказчиками до райцентра, а через пару дней, в конце сентября, на кордоне узнали, что его парализовало в красновишерской больнице и там не могут найти для него сиделку. Светлана заявила Василию, что полетит и будет ухаживать за Карповым сама. «Вертолет за тобой никто не погонит, а по Вишере уже идет шуга», — охладил жену Зеленин. И во время очередной радиосвязи попросил Идрисова позвонить тому самому газовику, что говорил о лучшей клинике.
Наверно, есть разница между медициной для избранных и той, которая не может найти сиделку для парализованного? У Карпова на Урале никого из родных не было. «Все хотят казаться добрыми, — сказал Идрисов, — не надо давать подобные советы, тем более мне!» На последнем слове он поставил ударение. Нормальная психология потаскухи, оберегающей богатого клиента.
К зиме Карпов оклемался, жил в конторе, но говорил плохо. За ним ухаживала радистка Алёна Стрельчонок. Потом его увезли в дом инвалидов в деревню Верхняя Язьва. В мае Светлана вылетела в райцентр санитарным рейсом. Они с Алёной и Никифоровым собирались навестить Карпова, но на автовокзале Светлана встретила женщину, которая сообщила ей, что мужик умер.
«А это тебе за Борю!» — подумал Василий, нажимая на курок второй раз…
Сам написал мне — как подумал. Наверное, что-то такое есть, какая-то естественная духовная и душевная связь возникает между людьми, когда их всего несколько на огромном и диком пространстве. Тут они не конкуренты друг другу — так считал Василий. Тут не перешагнут через упавшего, как это делается на городской улице. Впрочем, не обязательно, если вспомнить о какой-нибудь секте травоядных.
Вспомнил: в марте девяносто шестого с женой шел по Большой Мойве — в отпуск, а по другому берегу, в тридцати метрах, параллельно им двигался громадный полярный волк, будто веселый и любопытный пес. Километра два сопровождал своих нежданных двуногих попутчиков. Или сам набился в попутчики, очарованный тайной другого мира? Эта территория будто бы создана для уединения.
Инспектор давно понял, что счастье — умение довольствоваться малым, обходиться последним в жизни. Потому что счастье — это мера познания самого себя. Каждый человек живет настолько, насколько осознает самого себя. Сказал ему как-то друг Олег Чернышов: «Человеку надо немного — горелку, пинцет, штихель, ножницы по металлу… Остальное Господь Бог тебе уже дал, осталось взять и не строить из себя тошнотворного нищего».
Когда Якову Югринову было шесть лет, он сказал матери: «Самое большое счастье в жизни — сгореть в танке за Родину!» — «Я не для этого тебя ращу!» — запротестовала мать. «Что любезно Родине, то любезно матери», — ответил неумолимый сын. А потом как-то посмотрел телевизионный фильм о Ленине и заявил: «Увидеть Ильича — и умереть!» — «Ты чего это?!» — изумился отец. «Он же Ильич!» — восторженно объяснил Яков.
Повнимательнее надо быть. Инспектор понял, что необходимо следить за подсказками судьбы и соизмерять поступки с обстоятельствами. Русские напали на казахов и захватили желтые степи? Или наоборот — монголы пришли в Россию? Татары вытеснили манси из «вогульского треугольника» или новгородцы? И вообще, кто больше виноват — Магомет или Христос? Людей вечно шантажировали адом и раем, а за богохульство могли забить камнями — тоже шантаж. И на вопрос, кто виноват, никто не покается: «Я! Я — и только я!» У всех виноваты другие: за всё отвечает президент, государство, общество, Господь Бог или сосед по кровати. Только не они. Поставлю свечку в церкви — и пройду мимо открытого люка теплотрассы, где под землей сидят страшные, черные, голодные малолетки и дышат испарениями клея «Момент». Они еще поднимутся наверх — и однажды ночью зайдут к вам в квартиру с ножом в руке. Или с ружьем двадцать восьмого калибра. Ни Бог, ни свечка тогда не помогут. «Умри, сука!» — это будут последние слова, которые вы услышите в жизни.
Инспектор заехал на Мойву летом 1993 года — по приглашению Идрисова, с которым работал в заповеднике «Басеги», что находится в горнозаводской части Прикамья. Он еще успел застать местных метеорологов — помогал им грузиться в вертолет. А в напарники Идрисов подсунул ему травоядных, которые, к морозной жизни в тайге не приспособленные, были весьма надменны в своих убеждениях: «Ну о чем с тобой говорить — ты же мясо ешь». При этом ползать по горам и лесам на лыжах не хотели, никак не желали. Поэтому Инспектор работал один, за что не раз вежливо выговаривал созерцателям таежной жизни.
Травоядный фашизм процветал на территории заповедника, будто белый ковер из ветреницы пермской — «капризной красавицы, упрямо не желающей расти в городских условиях». Так было сказано о цветке в буклете о заповеднике «Вишерский». Нетерпимость к инакомыслящим — травоядные впитали ее вместе с молоком Родины-матери.
В первые месяцы своего директорства Идрисов пришел на лыжах, чтобы встретить новый, 1994 год со своей зверобойной братией. Пришел на беговых лыжах, а личный груз раздал сопровождавшим его мужикам. Ведущим на целине принято меняться, поскольку прокладывать дорогу трудно, а Идрисов все время шел в хвосте — на тонких лыжах первым не пойдешь. Он специально взял беговые лыжи. Конечно, бывший лесник заповедника «Басеги» знал это и на это рассчитывал: пусть дорогу прокладывают другие.
В тот вьюжный зимний день Идрисов впервые появился на Мойве. Посидел в доме «партайгеноссе», пожевал траву, попил чайку со зверобоем, провел собеседование, выслушал претензии вегетарианцев к северным условиям и вскоре появился в доме Инспектора.
— Ты плохо отнесся к моим людям, — начал он тихо, тихонечко, — теперь пожалеешь об этом. Может быть, ты не в курсе: Волк, начальник вишерской милиции, мой большой друг. Мы зашлем сюда мордоворотов, чтоб они переломали тебе все, что можно. Или сделаем еще лучше: у тебя под крыльцом найдут обрез, пушнину и наркотики — и ты, ублюдок, сгниешь в тюрьме. А если выйдешь оттуда, подойдешь ко мне, я только крикну «Убивают!» — и ты сядешь снова. Ты знаешь, что посадить освободившегося человека ничего не стоит?
— Ты знаешь, Рафик, когда я был молодым, долгое время не решался заводить детей, — промолвил задумчиво Инспектор.
— Почему? — не понял сбитый с темы директор.
— Представляешь, приходят они в этот мир, а тут ты сидишь. Неловко мне было, стеснялся я перед ними.
Больше Идрисов зимой на лыжах не приходил — был два раза с вертолетными бандами отдыхающих: в декабре 1996 года и феврале 1997-го.
Когда Идрисов примчался на Вишеру в 1993 году, он весело жрал тушенку вместе с егерями. Но уже в конце года из ниоткуда на заповедной территории появились первые травоядные. Называли они себя «экологос», но к экологии имели только одно отношение: не ели ни рыбы, ни мяса. И отказывались общаться с теми, кто продолжал есть, несмотря на присутствие великого учения. Выезжали куда-то в предгорья Кавказа, поддерживали связи с подельниками. Духовной основой секты было неприятие христианства. Кришнаиты, рерихнутые, славянские язычники. Занудная публика, которая делала из пищи экзотический культ. Читали «Велесову книгу», штудировали «Розу мира» Даниила Андреева, быстро и хором кончали от латиноамериканского мистика Кастанеды.
Руководил этой бандой некто Трихлебов, называвший себя ламой. «Я точно выяснил, — писал мне Василий, — что все ламы в России — это буряты, тувинцы или калмыки, носящие вполне национальные фамилии. Следовательно, не бывает лам петровых, Ивановых и прочих трихлебовых. Но экзальтированным подопечным он ввинтил такую легенду о своем „посвящении“, что никому в голову не могло прийти, что в Гималаях этот Трихлебов был всего лишь обыкновенным подсобным рабочим в лагере российских альпинистов. Мужская часть подопечных почитателей имела возраст около двадцати лет, а женская — около тридцати. Последние отличались несложившейся личной жизнью, но большей жизнеспособностью и порядочностью по сравнению со своими кавалерами-недорослями».
Ладно когда они в городах подпрыгивают и поют, тогда напоминают безобидных придурков. А в тайге травоядные становятся опасными — из-за своей книжной надменности и неприспособленности к беспощадной жизни.
Позднее, во время встречи на Вае, Югринов рассказывал мне, как пошел с одним из них, Виктором Политовым, заготавливать дрова. Попросил напарника взять шест и упереться им в ствол, который сам начал пилить. Хорошо еще, шина бензопилы успела наполовину войти в дерево. И слава богу, что двухметровый кусок, отломившийся от промороженной и гнилой березовой жерди, которую подобрал Политов, ударив его плашмя. От удара по голове Яков сел в сугроб, получив легкое сотрясение мозга. Вообще с мозгами у него всегда было нормально, поэтому не мог представить себе: люди, добровольно забравшиеся зимовать в такие дебри, не могут заготовить дров, не ведают, как валить лес, какая жердь нужна для этого. Иначе, если бы мог представить, надел бы на голову не лыжную шапочку. «Ты не мужик, Витя, а рекламация», — первое, что смог сказать Яков, когда пришел в себя.
Жить с Югриновым в одном доме травоядные отказались — из идейных соображений, потому что животную пищу ест, гадина. И пришлось Якову заготавливать дрова для себя и для трихлебников-нахлебников. Они требовали дрова, керосин, инструменты, которые успешно ломали, но не могли сделать обыкновенного топорища. А еще им нужны были грешники, чтобы блюсти чистоту вегетарианской религии, которой поклонялся Гитлер.
Зимой 1994 года Идрисов задумал перевести всех на подножный корм, и на собраниях он заявлял так: «Мне не нужны инспектора, которые жрут мясо! Мне нужны такие, что могут совершить многодневный переход с горсточкой риса!» Директор, похоже, задумал устроить на Мойве зверобойный ашрам с выходом на международный уровень «сознания Кришны».
Из показаний Василия Зеленина: «В последнее время ни я, ни жена писем не получали, хотя родители нам писали».
Я подумал так: о том, что родители писали, он узнал, будучи в июльском отпуске. Приехал еще горячий от петербургского солнца. Получается, конверты доставлялись почтой в контору заповедника, там получались и оставались. Может быть, тонкогубый хан читал родительские слова в кабинете или на очке в сортире, лыбился и медленно рвал на куски. Может быть. Рвал, разрывал суровую и нежную черную нить между поселком под Санкт-Петербургом и таежным кордоном на маленькой уральской речке Мойве. Нить, аккуратно выведенную старинными чернилами. Вмешивался, корректировал ход людских судеб. Я вспомнил, что Берзин, известный чекист, герой фильма «Операция „Трест“», в тридцатых годах тоже царствовал неподалеку — в соседнем бараке, когда командовал строительством бумажного комбината. Только тот барак был двухэтажным, со шпилем наверху, с кабинетами и телефонами. Это Берзин с коллегами заманил в ловушку известного эсера, террориста Бориса Савинкова. Наверное, Эдуард Петрович тоже чувствовал себя властелином мира. В 1932 году по его приказу расстреляли моего деда Павла Кичигина. Самого чекиста расстреляли чуть позднее, в 1937 году, в Магадане. В какую бездну смотрят сейчас берзинские глаза? В каком углу космоса качается он сейчас в бессмертных яловых сапогах?
Всё-всё, брысь, рысь, желтоглазая хищница — жизнь, ты мне надоела! Всё, как говорят в таких случаях часовщики, пружина околела. Вспомнил: один преподаватель говорил: «Вы идете в газету, потому что в журналистике легче и быстрее утвердиться, чем в других сферах деятельности!» Я с ним категорически не согласен, особенно сегодня. Сегодня я не хочу самоутверждаться. Я не имею ни малейшего желания стать твердым как гранит. Как гранитный памятник. Или бронзовый. Где-нибудь на северном погосте областного центра. Звонишь туда по делам — отвечают: «Фирма „Золотой век“ слушает!» Представляете? «Золотой век» — это название муниципального предприятия, которое выделяет столько земли, сколько отпущено Богом. Каждому. Какое удовольствие — можно звонить бесконечно и все время попадать туда. Представляете? «„Золотой век“ слушает…» Представляете? «Простите, я куда попал? Куда-куда? Повторите, пожалуйста, еще раз…» — «„Золотой век“ слушает, слушает, слушает…»
Слышу, как говорит мой отец: «Однажды пошел человек к Богу и попросил его: „Дай мне земли!“ — „Сколько тебе надо?“ — спросил Бог. „Много!“ — ответил человек. „Хорошо, — сказал Бог, — беги в сторону горизонта, сколько пробежишь — все будет твое“. И человек побежал. Бежал, бежал, бежал, пока сердце не разорвалось. Бог посмотрел на умершего сверху, отмерил два метра земли и сказал: „Этого тебе хватит“».
Я вышел на кухню покурить, я снова перешел на дешевые сигареты без фильтра с балетным названием «Прима». Деньги кончаются быстрее, чем жизнь, за которую я больше не боялся. Потому что, изучая уголовное дело, понял, почему мне угрожали такой страшной расправой. Поэтому пришел к мысли, что оружия мне пока не надо. Но тут, перечитывая Константина Паустовского, в рассказе «Вилла Боргезе» задумчиво остановился на том, как портье итальянской гостиницы достал из кармана пиджака «остро отточенную велосипедную спицу» — для обороны. Мне это показалось интересным, я перечитал еще раз — да, оружие не хуже, чем офицерский кортик Югринова, а вот огнестрельное мне ни к чему.
Ночью я вспомнил, что Полюд со стороны Чердыни, как сказал известный историк Георгий Чагин, напоминает постамент памятника Петру Первому на Неве. Что-то в этом есть — Петр Великий, Пермь Великая… Потом я долго разговаривал с моим авиамодельным учителем, Алексеем Копытовым, что-то возражал ему, что-то доказывал и утверждал. Но тот был слишком далеко, чтобы спорить со мной, школяром. Поэтому я решил в два часа ночи написать ему поэтическое письмо — и написал. Вот оно, неотправленное, ностальгическое: «В тот год дожди ходили по диагоналям и расползался свет, похожий на газету. По липовым аллеям мы до сих пор гуляем, сменив плащи и разойдясь по свету. Мы часто вспоминаем тех, что жили в чужих державах и в минувшем веке. Во времена дождей мы медленно ходили и тихо говорили — как в аптеке. Я слышу, будто снова говоришь, я слышу голос твой — глухой и веский: „Гюстав Флобер, провинция, Париж и русский гений Фёдор Достоевский“. Так я хочу задать вопрос тебе: к какому празднику ты тезисы готовишь? Твой младший брат погибнет в сентябре, позднее нам не поделить сокровищ. Я к голому стеклу лицом приник, я вижу сквозь дождливый перекос оправу золотистую и белый воротник, бетховенский размах твоих волос. За то, что и в последнем туре не каждый скурвился, шагая под куранты, мы мировой классической литературе теперь не можем быть не благодарны».
Я лежал в постели и вспоминал длинную липовую аллею на центральной улице нашего городка, которую после Второй мировой насадили работники бумажного комбината. В той знаменитой акции озеленения участвовала и моя мама. Сами по себе липы на Вишере не растут — наверное, из-за дикого декабрьского холода.
Вчера вечером мы немного посидели — редактор, его заместители и я. Вино попили — не в честь взятия Зимнего, конечно, а так, чтобы недаром день прошел.
— Но ведь мы все были членами партии, — сказал редактор самой демократической газеты в Прикамье. И сделал глоток красного сухого вина.
Возникла пауза.
— Не все, — вставил я добродушно.
Снова возникла пауза.
Василию и Светлане повезло, потому что они заехали на кордон в начале лета 1994 года — было время обжиться к заповедной зиме. В марте того года умерла таежная охотница баба Сима, девяносто лет прожившая на кордоне Лыпья, что на правом берегу Вишеры, по ту сторону Тулымского хребта. Пост сдала — пост приняли.
А самое главное, Рафаэль Идрисов в то лето на два месяца уехал в США, для того чтобы ознакомиться с опытом работы тамошних национальных парков. Исполняющим обязанности директора остался Радик Гарипов, который возглавлял охрану заповедника. А кто в Прикамье не знает Радика Гарипова? Бывший офицер ВВС, авиационный инженер, мусульманин, музыкант, красавец. Гарипов и Горшкова, бухгалтер, оперативно выделили средства и забросили на Мойву все необходимое. Да, Радик Гарипов в то лето много хорошего успел сделать для инспекторов, и не только для них: местное население до сих пор благодарно ему. Поэтому по приезде Идрисова он был понижен в должности, а позднее вообще уволен. Как и расторопный бухгалтер Горшкова.
Кордон стоял на стрелке двух речек — Малой Мойвы и Молебной. На севере мерцал влажной чешуей гольцов хребет Муравьиный Камень с раздвоенной вершиной Хусь-Ойка на восточном конце серой туши. На юге поднимался мрачный Ишерим с водопадами ручья Светлого, впадающего в Малую Мойву. Западный горизонт перекрывала неподвижная рябь Тулымского хребта.
В то самое лето, когда Зеленин и Гаевская прибыли на кордон, в один из теплых и тихих вечеров, Яков Югринов рассказывал Василию о местных нравах и суровой мойвинской жизни. И неожиданно вспомнил свой последний сон. Будто ведет он Идрисова на расстрел к вершине Среднего Басега:
— В руках держу собственное ружье, а в голову гвоздем вбита такая заданность: я должен его расстрелять! А в ста метрах от вершины Рафик останавливается и говорит: «Разреши сказать последнее слово?» Ну, я разрешаю. И он начинает говорить — голосом Брежнева… В этом месте я просыпаюсь.
— Так ты не успел выстрелить?
— Нет, — ответил Инспектор Василию, — не успел.
— А если бы успел, не страдал бы теперь из-за него.
И тогда они посмеялись этой незамысловатой шутке. Хотя большие, широко расставленные зеленые глаза Югринова были печальны, будто березовая листва в августе.
— А почему голосом Брежнева?
— Ты знаешь, как-то мне попался в руки старый номер журнала «Охота и охотничье хозяйство» со статьей Идрисова «Люди, увлеченные заповедником». Там каждый абзац начинался примерно так: «Согласно последним решениям пленума ЦК партии…» Видимо, в подкорке у меня это засело.
Когда-то, сто лет назад, Мамин-Сибиряк написал «Зимовье на Студёной» — рассказ о старике, который жил в тайге со своей собакой. Действие происходит тут, в чердынской тайге. Ты знаешь, до революции Красновишерского района не существовало, один Чердынский уезд был, а до того — Пермь Великая. Старик жил на санном тракте, он погиб, потому что кончились продукты, которые ему завозили проходящие на север, на Печору, обозы. Сто лет прошло. Ничего не изменилось. Ты в третьем классе читал «Зимовье на Студёной»?
— Да, конечно, — тут же ответил Зеленин, — до сих пор в библиотеку не сдал.
Югринов отличался некоторой медлительностью движений, вернее, замедленностью, какой-то кажущейся неуклюжестью. И говорил он, растягивая слова. От него сквозило естественной, природной мощью: если поворачивался боком, создавалось впечатление, будто фигура у него плоская. Сам иронизировал над своим звериным образом — широтой души и торса. Говорил немного, объясняя это дело так: «Сказать все, что хочется, не значит выразить истину. Правильно?» Но за кажущейся неповоротливостью и медлительностью скрывалась недоступная человеческому глазу медвежья, электрическая реакция, оставляющая на груди противника царапину, которая предупреждает о близком присутствии невидимой и мгновенной смерти.
В то лето 1994 года Идрисов, вернувшись из Америки, продолжал прессовать Югринова. И вскоре уволил его. А Василий Зеленин, не совсем врубившийся в происходящее, по-прежнему разговаривал с директором будто с нормальным. Может быть, все-таки не так, как в первые дни общения, но делал вид, что разговаривает с ним по-прежнему.
— Ты знаешь, у меня такого опыта жизни в тайге нет, как у Югринова, — прикинулся он ребенком цивилизации, — мне зиму без него не пережить. Не торопись — уволишь весной.
Идрисов молчал — он размышлял, что иногда тоже случалось. Как Василий понял позднее, директор вообще хорошо чувствовал ситуацию и был осторожным, словно зверь, когда опасность стояла рядом.
— Ладно, — наконец ответил Идрисов, — пусть доживет до весны.
Но уже к следующему приезду директора Югринов был уволен.
— Слушай, а почему ты преследуешь Югринова? Чем это вызвано? — спросил Зеленин.
— Понимаешь, принимаешь человека на работу — вроде хороший, а через пару месяцев портится, понимаешь? Я знаю, куда он сдает пушнину мешками. Я сам пригласил его сюда на работу, встретил как гостя, а он оказался предателем.
Директор сощурил глаза, сжал узкокостный кулак.
Василий не выдержал — вышел и тут же спросил о пушнине Югринова, жившего на кордоне в ожидании вертолетного борта.
Очная ставка состоялась в доме Зеленина.
— У тебя что, Рафик, месячные начались? — мрачно спросил Югринов. — Кому это я сдаю пушнину мешками?
Идрисов молчал, бросив на Василия короткий, будто выстрел, взгляд. И тут Зеленин увидел: Югринов, медленно поднимаясь с табуретки, начал напоминать какой-то неуправляемый взрыв, а потом сделал шаг по направлению к директору и резко схватил его правой рукой за отворот куртки. Еще движение — и директор войдет острой мордой в сосновое дерево стены. Но Василий повис на руке Югринова.
— Яков, таким способом ты ничего не добьешься!
Ага, Зеленин будто знал иной способ…
Югринов ушел. Идрисов хорохорился, пытаясь сохранить директорское лицо.
— Жаль, что я не достал вовремя диктофон — он сейчас у меня в рюкзаке. Все равно посажу гадину! — злобно пропел Идрисов. — Мне в жизни столько пришлось унижаться, что теперь я имею право на все!
Смотри-ка, и этот «право имеет» — достоевщина какая-то. Василий впервые увидел директора в истинном свете августовского дня, который через три года станет глухой, моросящей, посверкивающей, будто беличья шкурка, ночью.
Яков еще две недели жил на кордоне. И вскоре Василий услышал по связи: «Прими радиограмму. Собакам Югринова запрещается выходить за территорию кордона, находиться только на привязи. Запиши на отдельный лист, и пусть ознакомятся».
Зеленин так и сделал — предъявил документ Инспектору, вернувшемуся из тайги со своими собаками. Тот прочитал, усмехнулся, покачал головой, дивясь директорскому уму, достал из остывшей печки немного сажи, насыпал на металлический лист у дверцы, подозвал псов, смазал каждому лапу и приложил к листу радиограммы. Внизу приписал: «Ознакомлены. Кобель Серый. Сука Векша. 17 августа 1994 года».
Вечером Инспектор опять рассказывал Василию об Идрисове, с которым работал в заповеднике «Басеги». Там сотрудница, девушка по имени Катя Железная, выпускница МГУ, решила затопить печку в вагончике научного стационара: надо было просушить гербарий.
— Нет! Ты не будешь топить печку! Мне и так жарко! — заорал Идрисов.
Но Катя Железная, красавица-еврейка, продолжала подкидывать щепки. Идрисов подскочил к девушке, выбил из рук дрова, схватил за плечи и попытался повалить на пол, что ему не удалось. Сразу не удалось, но он захлестнул ее колено своим и резко толкнул в грудь. Катя упала на спину, Идрисов схватил ее за длинные волосы и потащил к выходу, а потом вниз, колотя головой по деревянным ступенькам трапа.
— Мама! — закричала высокая белокурая девушка. — Мама! Он убьет ее! Убьет, мама!
Надежда Михайловна Лоскутова, заместитель директора по науке, крупная женщина, развернулась в сторону происходящего, шагнула к Рафику и, схватив за ворот, круто оторвала от девушки.
— Главный лесничий, что вы себе позволяете?!
Вскоре из Москвы пришла телеграмма от заместителя председателя Госкомэкологии Амирбаева: «Аттестовать главного лесничего заповедника положительно». Но сотрудники «Басегов» оставили наглую шифровку центра без ответа — отказались аттестовать Идрисова как специалиста. О, еще во времена Сталина по этим таежным заказникам и заповедникам пряталась разная антисоветская сволочь! Басеги — значит, баские горы, красивые. Тогда Москва перевела Идрисова директором «Вишерского» — на верную смерть отправила.
Мне сегодня приснился сон: я на Вишере, чудесное настроение, веселый Раис, я выпивший, папа выпивший, смеемся… А проснулся, глянул — я в своей комнате, в Перми, выспавшийся, трезвый, голова не болит, деньги целы, время не потеряно, в семье мир — жена даже не догадывается, что я всю ночь пропьянствовал! Хороший способ уходить от налогов.
Тут одна девчонка по руке прочитала, что меня всюду берегут два ангела-хранителя. Я подумал про папу с мамой и решил: пора ехать на Вишеру. Голыми и голодными мы приходим в этот заснеженный мир — и гибнем… Сколько тысяч, миллионов ушло в небытие? Точнее, миллиардов?
Автобус двигался по вишерскому шоссе, поднимающемуся над борами и болотами, лежащему на скелетах репрессированных, утопленных в болотах, закопанных в песке русских, украинцев, греков, цыган, болгар, татар, немцев, армян…
Да, прикатишь, бывало, в этот город со стороны цивилизованного мира, минуешь старый деревянный мост с ажурными опорами, построенный в начале XX века, вылетишь на булыжное покрытие и тут же увидишь: у магазина, что по правую руку, лежит возле зеленой лужи, распластавшись, щедро раскинув руки, молодой человек с габаритами афишной тумбы, в болотных сапогах и фирменной робе нефтяника, слюни распустил по губам, откинул в сторону шнобель. Отдыхает человек — после вахты, наверное, в недельном запое. Ну, думаешь, вот и приехал домой, на свою, зараза, любимую родину. Городок имеет пятнадцать тысяч жителей, а ведет себя как Сан-Паулу.
Ну конечно, как без этого. Меня тут же встретила Верка Вотякова по прозвищу Вишера, инспектор местного рынка: «О! Кого я вижу! Корреспондента! Иди домой — я сейчас туда приду». Пришла, конечно, притащила — отодвинула мать в сторону, нарезала огурчиков, помидорчиков, лучка, редисочки. Посмотрела на стол, полюбовалась. Достала из пакета две бутылки водки, поставила, открыла, разлила — с другой стороны посмотрела: «Со мной не пропадешь, но горя хапнешь!» В общем, два тоста для званого гостя. Темперамент! Ни одного дела до конца не довела. А как материлась!
Тут было: Верку незаконно уволил начальник, а я восстановил. И уволил начальника. Верке выплатили шесть миллионов. Поэтому она быстро разливала водочку, а я думал о том, что профессия меня погубит в поэтическом расцвете лет.
Папа показал мне местную газету, в которой опубликовали мои стихи, я добился признания даже на родине: «Встали камни — Полюд и Ветлан — как ворота водной дороги… Капли с весел летят в океан руслом Вишеры, Камы и Волги. Говорливый, скажи, много ль слез, много ль вод протекло у порога? Эхо камня на этот вопрос многократно ответит, что много. Развернув свою лодку веслом, посмотри на восток обагренный: нас угрюмый старик Помянённый помянет, когда вниз проплывем…» Детские стихи — двадцать лет, как написал, вспомнили. После третьей я впал в меланхолию и стал мучительно размышлять о том, правильно ли я сделал тогда, что назвал Каспий океаном. После четвертой я забыл, что это такое — Каспий, а после пятой, понятно, кругом уже был Атлантический океан. Штормило. Не, ну конечно — по сталинскому Волго-Донскому каналу мы в океан попадаем. Или нет? Попадаем-попадаем…
Вот это называется бред — пермский звериный стиль, или нет — пермский геологический период в истории развития Земли: Чердынь, Покча… К чему бы это? Вис-шера — река народа. Говорят, что так тоже можно перевести. Вепсы. Весь. Биармия. Пера-маа… Пермь не готова к переменам. Сперма. Какой-то подозрительный психодиагностический ряд.
Я попробовал повернуть голову рукой, поскольку самой головой не получалось. Отец сидел напротив и с любопытством наблюдал за моими попытками стать человеком снова. Получалось. Но медленно. Не очень быстро получалось. Но было необходимо — и так же ответственно, как прочитать научный доклад в присутствии всего мирового сообщества. Да, может быть, речь идет о собственной жизни или загадке Вселенной, хотя какая разница. И вдруг я вспомнил, что восемнадцать манси, которых тогда называли остяками, из Колчимского зверосовхоза, во время последней Отечественной войны служили снайперами. Это кто там с двухсот метров в рябчика попасть может?
А Василий Зеленин даже стрелять не любил! Охотой егерь пренебрегал. Хариус и рябчик — царская пища, белое мясо. Белое мясо, белая кость и голубая кровь. Кожаные коты, жаркая черная баня, черная уральская завирушка — птичка такая, заповедная, с галстучком на горле.
Каждому свое. Так говорили во времена золотой латыни. И марксисты утверждали, что бытие определяет сознание. Одно к одному. Тем более что Вишерский бумкомбинат строили зэки. И буммашина стоит еще та — немецкая. Иномарка.
На Вишере, господа, рынок. Короче, продает приезжий банные веники на базаре. Подходят к нему местные и говорят: «Послушай, мужик, вот оно тебе — время, беги, бутылку покупай, а то что-нибудь случится здесь». Ну чё, куда денешься. Понял теперь, какие понты у нас в райцентре? Рэ-кет. А в другой раз один блатной по прозвищу Суматоха у людей товар зеленкой залил — ку-ура-ажился! Потому что рынок в городе. Купец берет за топор такую связку куниц, которая проходит в ушко топора. Поэтому уходим огородами.
В заводском магазине одна женщина потеряла сознание (то самое, которое определяется бытием) в очереди за резиновой обувью. После ночной смены. У нее, наверное, имелась своя точка зрения на то, что происходило вокруг. Поэтому сознание и сузилось — до черной точки в пространстве. Сознание теряли и дети в школах, от недоедания. И точка зрения этих голодных когда-нибудь до смерти удивит новых русских. До смерти. Фруктов малыши вообще не видели. Болели чесоткой — мыла не было, чтобы сходить в баню, поэтому выдавали талоны на помывку и стрижку.
«Что вы со мной сделали?!» — воскликнула одна женщина, когда увидела себя в зеркале парикмахерской. «А что вы хотите, — ответили ей, — когда сами стрижетесь „под зарплату“?» И женщина заплакала. Деньги выдавали, когда в областную больницу надо было ехать или хоронить близких. Один мужик стал требовать: «Почему „детские“ задерживают? Не знаю, в какие двери войти… Пацану на кино дать нечего. Давайте мою зарплату за шесть месяцев, а то у меня дома уже тараканы с голоду дохнут!» Что это — правда или истина, господа философы?
Пожар случился ночью, в октябре прошлого года, когда шло празднование пятидесятипятилетия предприятия. Спичку поднесла сильно подвыпившая женщина, решившая отомстить капиталистам за вишерскую нищету. Она захотела света — и камышовая крыша, ровесница завода, улетела в небо пламенным ангелом. Имеется в виду камышовый утеплитель. Тогда буммашина на месяц вышла из строя. Виновница пожара получила три года лагерей, а дети остались на свободе. Все радовались за детей. Ущерб составил сумму, равную той, которую вложила в это предприятие финансово-производственная группа, владеющая контрольным пакетом акций. В результате простоя скопилась древесина, и завод какое-то время сумел проработать на этом печальном заделе.
Проведение экономической реформы напоминало испытание штамма сибирской язвы на острове Ренессанс в Аральском море или массовую гибель дельфинов, которые выбрасываются на берег Коста-Рики, что ученые связывают с атаками касаток.
Директор завода оказался спокоен, в голодный обморок не падал.
— Вы читаете нашу газету? — спросил я его.
— Не скажу, что читаю, — ответил он, — но использую.
Да, у кого костюмчик фирменный, а у кого — фуфаечка с белой полоской на левой груди и фамилией.
Когда-то здесь была самая мощная бумагоделательная машина в Европе, изготовленная по спецзаказу. Впрочем, о чем тут мечтать? Чтобы твою книгу напечатали на вишерской бумаге? Да, но ты же не Ленин. Я покраснел от наглости и сделал три глубоких глотка, чтобы не нервничать так.
Подбирают, подчищают — бизнесмены. Эти спекулянты такие же бизнесмены, как проститутки, которые развешивают свои объявления на столбах, — столбовые дворянки.
— Да ноют они, что рыбы нет, — объяснял мне друг. — На Язьве во время нереста жереха кто сети ставит — понял? Совсем обезумели — не с перепугу: на машинах приезжают из Соликамска, Березников, с лодками и движками. Такого у местных нет. А чалдонам в буферной зоне заповедника рыбалка разрешена. Привыкли хорошие деньги на лесоповале получать. Своим умом жить не хотят! А Лёша Бахтияров — человек вольный, сам за себя отвечает, не будет он убивать, у него земли — до Ледовитого океана, несколько государств! Что ему делить? И с кем тут делить!
Мы пили с Раисом Шерафиевым. В открытую форточку залетали скандальные звуки — это нашего соседа била жена, капризная женщина.
— Ты каждый день пьешь, да, и никому не должен? Так, что ли?!
Раис встал и закрыл форточку. Эстет. Покачнулся, сел на место.
— Ты чё, качаешься, что ли? — поднял голову я.
— Да разве я качаюсь? — удивился Раис. — Так, покачиваюсь.
Наконец-то я понял, в чем дело: водка — некачественный продукт. Жажду утоляет плохо. День пьешь, два, три… А пить все равно хочется. Некачественный продукт — не утоляет жажду. И вода — тоже.
— Ты знаешь, я так мечтаю поговорить с тобой трезвым, — неожиданно признался друг детства.
— А кто тебе мешает?! — изумился я от этой голой наглости, которая была более моей — той, что в мыслях о Ленине: издать книгу на вишерской бумаге. — А для целлюлозного производства нужна чистая вода. Чистая — без глиняной взвеси и радиации! Посмотри, что делается вокруг. Да что тут смотреть — в темной воде хариус не водится…
— Давай еще выпьем, — предложил друг. — Скоро люди придут, а я трезвый — неудобно будет.
— Нет, — мотнул головой я, — больше не буду. Никогда. Человек должен остановиться. Если так дальше пойдет, то я предъявлю тебе счет за ясак и все твое трехсотлетнее татаро-монгольское иго.
Раис, наверное, секунд десять осмысливал услышанное. Только потом улыбнулся — дошло до казанского.
— Не давай клятвы по пятницам — это ошибка! — изрек он, оттягивая кончики губ вниз и поднимая вверх толстый указательный палец.
— С другой стороны, Раис Сергеевич, если в слове «хлеб» регулярно делать по четыре ошибки, то в конце концов может получиться «пиво». А это совсем неплохо, особенно на следующий день. Кстати, как я выгляжу?
Еще секунд десять Раис разглядывал меня.
— Кошмар на тебя похож, — наконец оценил он мою внешность.
— Как ты думаешь, Раис, можно ли найти в тайге ружье двадцать восьмого калибра, в верховьях Ниолса?
— В тайге можно найти абсолютно все. В шестьдесят восьмом мы пошли на Тулым, в лыжный поход. Мне тогда было пятнадцать лет. В марте, представляешь? Весенние каникулы. А там всего минус сорок и было. Обратно двигались по реке так: идем-идем, смотрим — вода, узкая полынья, мы на полуострове! И возвращаемся — километра по два-три, а потом снова. А потом я потерялся в тумане, неосторожно свернул в тайгу, ночь не спал. На следующий день у меня осталось две луковицы и пятьдесят граммов сливочного масла. Думал, сдохну, так страшно стало! Конечности окоченели…
Раис, видимо, вспомнил все — и сразу налил себе водки, чтоб отогреться. Мне тоже налил — он вообще не жадный, друзьям наливает.
— Да-а… И тут мне, кажется, Аллах помог — неожиданно я вышел на какую-то избу. А там старик, Фёдор Николаевич. Сто лет ему! — Раис посмотрел на меня так возмущенно, будто я не хотел верить. — Да, сто лет! Он меня обогрел тогда, даже в бане попарил, а потом и водочки налил. Первый раз в жизни я выпил — до сих пор остановиться не могу. Кстати, за Фёдора Николаевича — вперед!
— Ну и кем он оказался? — спросил я, глубоко переживая только что выпитое из мензурки залпом.
— Я провел у него два дня, расспрашивал его, конечно. Старик рассказал: до войны еще выучился на летчика и служил в Заполярье, а потом сидел на Колыме за то, что на бомбардировщике пытался улететь на Луну и там изменить родине.
— Да-а?! — изумился я. — Кажется, тебе хватит пить. Да ты не волнуйся, я за тебя выпью, потом расскажу, как это мне было.
— Откуда я знаю — он мне так рассказывал! — тихо улыбнулся Раис, вскидывая руку к очкам. — А мне тогда было пятнадцать лет! Говорил, что работал в оловянных рудниках на Улькане. Что три раза бежал: сначала ушел за пятьсот километров, потом — за семьсот. Ну, его ловили, калечили, но не догадывались, что мужик тренируется, готовится к последнему побегу — третьему. Подготовился — и ушел. Весной, конечно. Будто варил себе суп из мышей, лягушек, змей, ел ягоды, грибы, рыбу… И дошел до Ладоги, до Ленинграда — представляешь? Тайга не выдала его.
Я достал из ящика комода старый школьный атлас и линейку, провел прямую поперек самой громадной в мире страны, под небольшим углом — от бухты Ногаева до Финского залива. Помножил сантиметры на масштаб — получилось примерно семь тысяч километров. Еще сумел разделить на двести дней — получилось тридцать пять километров.
— Врет он все, — пришел к выводу я, — не может этого быть, чтобы голодный, обессиленный зэк двигался по тайге в таком темпе. Человек этого сделать не в состоянии, понял? Только Бог — Аллах по-вашему, если по-нашему не понимаешь. Человек не может!
— Человек не может, — покорно согласился совсем пьяный Раис, — а один человек может все! Потому что он может подать пример… остальным.
Я очнулся, приподнял голову, чтобы посмотреть на настенные часы: двенадцать ночи, понял я по темени за окном.
— Выпить хочешь?
Я повернулся: у настольной лампы сидел отец и смотрел на меня своими насмешливыми армянскими глазами.
— Очень хочу, — просипел я тихо.
— Сейчас, — сказал он и закрыл книгу — о войне конечно, других он не читает.
Медленно встал и вышел в коридор. Тихо хлопнула входная дверь. Он вернулся минут через десять.
— У Мильчакова взял, взаймы, — похвастался отец, ставя на стол целую бутылку водки. — На, сынок, пей.
Я пил водочку — по пол стакана, чтоб скорее. Отец курил, стряхивая заскорузлыми пальцами пепел в пепельницу толстого зеленого стекла, и молчал. Мать спала в другой комнате — через открытую дверь слышно было, как она ворочается на кровати. Кажется, в тот час не было на планете никого, кто был бы счастливее меня… Вот в этой комнате во время зимних студенческих каникул мы пили водочку из графина и запивали ее брусникой из высоких керамических кружек. Ковры, хрусталь, другие безделушки — все мать убрала куда-то в шкафы и комоды. Ничего не надо теперь мамочке, кроме нас.
— Слушай, что я тебе расскажу. Тут я увидел — канализационный люк открыт, никого нет, мухи летают, а рядом дети бегают. Ну хорошо, я пошел в райадминистрацию — девка молодая сидит, меня не знает. Я все рассказал ей. Она мне: не волнуйтесь, горкомхоз позаботится! Нет, говорю, так не пойдет, надо немедленно! Она: не беспокойтесь! Смотрите, пообещал я, в областную газету напишу! А как ваша фамилия? — спрашивает. Асланьян — отвечаю. Ты знаешь, не успел до дому дойти, у люка уже бригада сантехников работала!
— Ты эксплуатируешь мое имя, — улыбнулся я.
— Ну, не все же тебе — мое! — парировал отец.
Я знаю, на что намекает этот вредный старик. Такой вот, к примеру, случай был. Пошли мы с ним в кино, лет двадцать назад. Автобус — один на город, и того нету. «Я не пойду пешком, — говорит отец, — я только на охоте пешком хожу». — «Ну, — спрашиваю, — а на чем же мы поедем? Машину вижу только одну, но она в другую сторону идет!» — «Ну и что», — ухмыляется отец и поднимает руку. Уазик проезжает мимо. «Вот видишь, Иван Давидович», — радостно отмечаю я. «Смотри внимательней», — кивает он. Смотрю: машина проходит метров сто, замедляет ход, разворачивается и катит обратно, останавливается, дверца открывается, выглядывает шофер: «Куда вам, Иван Давидович?» Мы садимся в этот вездеход, и он везет нас к кинотеатру смотреть фильм «В бой идут одни старики». «Как тебе это удается?» — удивляюсь в фойе перед началом сеанса. «А ты поезди по этим дорогам жизнь», — отвечает. Что дверца машины! Это имя вообще открывало мне любую дверь, что там говорить…
О войне он рассказывает мало. Зато любит вспоминать о звере, с которым встретился осенью 1971 года. Накануне одна пассажирка-попутчица сказала ему, что местные боятся ходить в село Кузнецово от отворота с вишерского шоссе. И не стала выходить из кабины — уехала с отцом дальше, в город. На следующий день он взял в рейс ружье.
В то октябрьское утро у отворота на село отец увидел на дороге крупного волка, выскочившего из дальнего света фар и ушедшего по первому снежку в сосновый бор. У отца была двустволка шестнадцатого калибра и патроны с такой мелкой дробью, что только чердынских рябчиков пугать. Иван Давидович остановил машину, достал ружье из-под сиденья и шагнул в предутренние сумерки тайги. Через минуту он разглядел зверя на небольшой полянке, мерцавшей между сосновыми стволами миллиардами снежинок. Волк неподвижно стоял у покрытого снегом пня, повернув голову в сторону человека. Отец быстро поднял стволы и выстрелил. Серый шарахнулся в сторону и двинулся в глубь леса. Отец легко побежал за ним, приблизился метров на двадцать — выстрелил второй раз. Зверь развернулся — и пошел на отца, который переломил ружье и быстро-быстро начал вставлять в ствол патрон. Понял, что успеет, может быть, вставить один патрон. Третий выстрел пришелся раненому волку в упор, поэтому дробь еще шла довольно кучно, чтобы волчара свалился у ног охотника.
Я помню, как пришел в тот день из школы: во всю длину прихожей лежала серая волчья туша, длинная, как Муравьиный Камень. Вся звериная шкура была прошита мелкой дробью трех патронов, предназначенных для чердынских рябчиков — тех самых птиц, белое, нежное мясо которых поставляли отсюда к царскому двору, в Санкт-Петербург.
До сих пор забываю спросить отца, почему он взял тогда патроны с дробью, да еще мелкой, а не с пулями.
Широкое окно задернуто светлыми шторами с листьями вишневого цвета. На стене справа — черно-белый фотопортрет Сергея Есенина, курящего трубку, портрет, подаренный мне другом четверть века назад. По бликам на вьющихся волосах можно догадаться, насколько они золотистые.
— Я вчера Финнэ встретил — он американских художников на Помянённый повел. Ну что там за отдых? Я вот в отпуске был на бывшей даче секретарей крымского обкома! Нас, ветеранов, туда возили — показать, по всей территории провели: водоем с рыбами, бассейн, кинозал. Первые секретари там отдыхали!
— А надо было, чтоб здесь, на лесоповале.
— Раньше и здесь бывали, — отец поднял брови кверху. — Большие люди сидели! Царские полковники! Писатели, партийные… Да-а, а теперь кто… Ты знаешь, у нас тут кедры рубят?
— Где это «у нас»? — посмотрел я на отца, который опять, похоже, начал загружать меня проблемами, как лесовоз хлыстами. Да, гигантскими сосновыми хлыстами — такими, какими они казались мне в детстве, когда эти машины ползли по гравийной дороге нашего Лагеря.
Я никогда не слышу его армянского акцента, но мои друзья утверждают, что он у отца есть. Я привык — не могу отделить отца от себя.
— На Велсе, мне Бергман рассказывал. Знаешь Васю Бергмана? — весело ответил Иван Давидович.
Ага, смеется, будто я не ведаю, о чем он, старый армянин, думает: ну что, демократы рваные, теперь делать будете? Что, чайники, не получается?
Вокруг нас лес рубили так, будто траву косили. Но в имени «кедр» имелось что-то мистическое, сакральное, запретное.
— А чалдоны при советской власти не рубили, что ли? Валили бензопилами только так, за мешок шишек.
Под портретом Есенина стоял телевизор — на комоде, в ящиках которого хранились документы, фотографии, лекарства, слесарный инструмент, охотничьи ножи, ружейные патроны и многочисленные рыболовные снасти.
— Ага, при советской власти. Сто кедров свалили, может быть, за всю чердынскую историю, а тут — воруют тысячами кубометров! — отец наклонился вперед, снова вскидывая брови. — При советской власти они бы уже давно сидели!
— Сидели бы, да только не они.
— А сейчас они сидят? А? Надо, чтоб по справедливости было. А взять уральских алмазников — ты думаешь, они не продают камешки за границу тайно, минуя царскую казну? То-то…
Я налил в стакан водочки, выдохнул от души и выпил, закусил розовым кусочком малосоленого хариуса. Отец ловил рыбку на 71-м, там же и солил ее. Спасибо за рыбу, папа…
— При любой власти люди — разные. Поговори с Бутаковым, побеседуй с Абатуровым. Иначе откуда бы вы тута взялись, такие умные, хорошие? Думаете, из космоса занесло? Главное в мире — человечность. А вы ничего еще не знаете, вам только кажется, что знаете.
У сарая залаяла Найда, отцовская лайка. Иван Давидович прикрыл глаза — прислушался.
— Блюхера, Егорова, Тухачевского — всех расстреляли, — кивнул он головой, откинулся на спинку стула и стал разминать очередную «приму».
— Плевать на маршалов — они сами убийцы, а вот за что вас, подпольщиков и партизан, репрессировали — не пойму.
— Нас выслали как национальность, — отвечает он тихо, — рабочие руки были нужны стране.
Он обрабатывал меня ночным разговором уже в сотый раз: сначала настраивал против советской власти, теперь — против демократической.
— А ты мне скажи, почему Есенин так мало жил? А Маяковский? А? Э-э-э…
Большие карие глаза армянина пристально смотрят на меня, он опускает веки и хрипло начинает петь какую-то балладу, привезенную предками с территории Западной Армении, из Трабзонда, где дома были, как глиняные соты над берегом Чёрного моря.
— О чем эта песня? — спрашиваю я отца в сотый раз.
— О том, что сегодня утром наш партизанский отряд уходит в горы…
Где-то там, за белой, за цветущей Тавридой, за Чёрным от горя морем, осталась страна нашего народа, которую он никогда не видел, христианская страна, вырезанная турецкими янычарами.
Я помнил о том, что Иван Давидович когда-то на спор поднимал сто шестьдесят килограммов в кузов машины. Я с завистью смотрел на могучий корпус семидесятилетнего отца, на руки воина и труженика. Старый армянин, он прошел все насквозь и все видел перед собой: цветущие вишни, белый саманный домик в райских предгорьях Крыма, дымок с огородов, мотоциклы иноземцев, орду западной цивилизации, каменистую землю, которую разрывал ночью ножом, чтобы схоронить убитого десантника, парящую жару и каменные жернова ручной мельницы, путь по пыльной дороге, которой его вели на расстрел за пачку немецких сигарет, которую он украл у офицера, лошадь и тележку с мешками муки и крупы для умиравших от голода партизан, оцепление солдат, желтую яйлу под ослепительно синим небом своего отрочества…
— Выпьешь, папа?
— Наливай, — задумчиво отвечает он и начинает напевать другую песню, уже на татарском языке.
О, я помню эту песенку. Как-то он пел ее за столом, давно, когда я был школьником и записывал его на магнитофон. «Иван, переведи», — начали просить гости. «Один мужик привез на мельницу зерно, а мельничиха говорит, что у нее работы много, не соглашается принимать его…» — он замолчал. «Ну а дальше что, Иван? Дальше что?» Отец посмотрел на меня, улыбнулся: «Ну, в общем они договорились…»
Слышно было, как тяжело встала мать, нашарила ногами тапочки, прошла через кухню в туалет.
— Слушай, — говорит отец, — а они тебя не убьют?
О, гадство! Видимо, по пьянке рассказал ему. Старый партизан молча смотрел на меня и курил.
— Если я буду публиковать материал, то подпишусь псевдонимом — Павел Кичигин. Откуда им знать, кто это такой? Пусть ищут, если хотят. Бесполезное дело!
— Да, пусть ищут, — удовлетворенно сказал он, — бесполезное дело. Это ты ловко придумал! А если позвонят в редакцию и спросят, кто это такой — Павел Кичигин?
— У нас запрещено раскрывать псевдонимы — под страхом расстрела или пожизненной каторги.
— Да, и это правильно! — улыбнулся отец. — Под страхом каторги — как у нас, в сорок четвертом. Это правильно.
Вся история матери и отца, бабок и дедов, всех бесчисленных потомков по русской, угорской, армянской и греческой линиям, вся эта какофония лагерей и войн, репрессий и геноцидов вела к тому, чтобы в конце концов в середине XX века на Северном Урале появился пацан, свободный и независимый, который взял в руку перо и сел за стол с дерзкой мыслью рассказать о настоящем и прошлом территории Бога. Да разве я справлюсь с этой задачей? Господи, никакой «пьяный ворот» мне не поможет: паралич, интернат, инсульт и кладбище… О, спазмы моих сосудов, о, близкая старость…
Этот человек пришел ко мне из тайги и сел напротив. Светловолосый, невысокого роста. Назвал свою фамилию.
— Знаю, — кивнул я в ответ.
— Есть версия, что не Василий Зеленин убил директора, — сразу сказал мне этот человек, живущий в золотом доме на хрустальном фундаменте.
В фантастической повести «Тайна горы» Аркадия Гайдара действие происходит в верховьях Вишеры, где в двадцатых годах американские империалисты ищут золото. И золотой телец, жажда наживы, заводит этих искателей туда, куда Макар телят не гонял. В борьбу с ними вступает бесстрашный пермский журналист. О дед Гайдара, ведал бы ты…
Драгоценные чаши выходят из-под земли — здесь пересекались пути из Москвы в Сибирь, из Аравии к Ледовитому океану, отсюда везли куницу и соболя в горы Персии. В обмен на золотые изделия. А зачем? Не ведали, что свое лежит — россыпное, самородное, рудное. Золото — символ красоты, качества, тайны и богатства. Золото — ковкий и коварный металл.
Ко мне пришел Василий Бергман, немец из таежного поселка Золотанка, который так называется потому, что у них там все золотое: Золотой Камень, Золотое урочище, две речки Золотанки. Ну и жизнь, конечно, золотая… Кто помнит сказку про то, как в золотом дворце жили люди с золотыми волосами, вынужденные есть золотой хлеб? Да сегодня так живут в тайге все! Хотя на Вишере золота добывается немного и всего два процента российских алмазов, остальные — в Якутии. Зато какие это камешки! Бриллианты имеют зеленоватый оттенок хвои. Рассказывают, в Америке дамы носят вишерские бриллианты. А вишерские женщины — кунгурскую бижутерию. В семнадцать лет я лежал в больнице с ровесником, Серёжей Кучинским, который уже успел поработать техническим руководителем на лесозаготовках. Однажды он шел у лесной речушки и увидел в прибрежной гальке крохотное стеклышко, нагнулся — рядом второе. Отнес одному знакомому геологу — алмазы. Геолог купил камешек за сто рублей. «А где второй?» — спросил я Серёжу. «А вот», — ответил он весело и достал из кармана халата кошелек, выкатил на ладонь стеклышко, тусклое, как капля смолы на сосновой коре.
Василий Васильевич Бергман — электромеханик радиоузла, охотник-промысловик и лесодобытчик. Он рассказал, что Коля Кин, тоже немец, с которым я когда-то служил в армии, несколько лет назад ушел за Уральский хребет в поисках незолотого хлеба. И недавно вернулся. Да, Кин в нашей роте ходил по краю, но не падал: ему, рядовому, предложили должность заместителя командира взвода, а он равнодушно отказался, как от глотка чифира. Кто служил, тот знает. Это всё они — строптивые пермичи, беглые русские с немецкими, армянскими и татарскими фамилиями.
Однажды я был у Кина в гостях с друзьями — он угощал хариусом, а потом мы пили чай с морошковым вареньем. Я вышел из поселка с товарищами по направлению к хребту Кваркуш. Мы километров двенадцать, кажется, прошли по хорошей гравийной дороге, которая неожиданно оборвалась в лесу. Как потом объяснили местные, дорогу построили для вывозки леса, а леса, дескать, там не оказалось. Но скрипели по ночам темные ели от ветра, плакали в темноте, как дети, так, что страшно становилось. Неужели еще одна дорога в никуда — в светлое будущее, в царство сухих, мертвых лесов на уральских отрогах? Кому нужен пронзительно скрипящий сухостой? Страшно становится от детского плача оставленных в лесу стариков…
О, эти белые борá, перышко глухаря в сухом песке, сверкающая на солнце паутинка…
С тех пор как на Золотанке построили зону, я там не бывал. Рассказывали, что местные мужики конфликтовали с осужденными из-за женщин — дело до стрельбы доходило. Правда, стреляли только с одной стороны и не очень точно. Может быть, снова дойдет. Докладывали, что трактора поднимались до субальпийских лугов Кваркуша в поисках золота, золотого корня, родиолы розовой, ее лекарственного корня.
Василий Васильевич Бергман стал районным депутатом и участником движения «зеленых» — экономика и экология существуют рядом. «Уродуя друг друга», — добавил он.
«Зеленые» добились запрещения молевого сплава, когда бревна идут по мелким притокам врассыпную, забивая дно топляками и пропитывая воду фенолами. Одиночки не плоты, они чаще гибнут. В 1990 году настырные демократы добились выселения лагерных зон из района. Через некоторое время Вишерский целлюлозно-бумажный завод остался без древесины, основного сырья. Кушать стало нечего, поэтому, мне рассказывали, за Ледовитым океаном закупили целый теплоход жвачки. Чтобы люди жевали, жевали, жевали. И те зажевали — а потом проглотили, что жевали. Правильно, чем дольше я смотрю на корову, тем больше понимаю, что такое человек. Домашнее животное, жвачное.
Было создано несколько акционерных обществ лесодобытчиков, быстро разорившихся и признанных банкротами. Рынок, получается, погубил.
— А на самом деле не так, — говорит Бергман, — рынка там не существовало и в помине: все входили в ассоциацию и реализовывали лес через единый коммерческий центр. Тех, кто продавал лес на сторону, наказывали. Районная власть не допустила децентрализации комплекса, но не смогла справиться с управлением. Вы знаете, что старые трактора-трелевочники тонут в снегу и в болоте? Тяжелые, с высоким удельным давлением на грунт. Так и наши начальники… Каков ясак — по пять соболей с лука берут, суки.
Колонизация чуди завершилась. Неправда, что нельзя все сделать сейчас, в настоящем времени. Можно, только трелевочники не дадут. Василий Бергман создал собственную бригаду из четырех человек, работали бензопилой и топором. Ежедневно отправляли в город до сорока кубометров древесины.
— Я тут лягушку видел — ласты откинула и плывет, балдеет. Эти жабы вообще такие прикольные. Но человек подобным образом жить не может, правильно? Сегодня нужны не объемы, а дешевый лес.
И я вспомнил крутой берег Вишеры, по которому, будто сотни рассыпанных и поваленных в одном направлении спичек, лежали стволы. Такие вот губительные ветровалы…
Бригады, вооруженные пилами, блоками, лебедками и топорами, могут загружать баржу за баржей и отправлять вниз по течению. Неоднократные обращения Бергмана к руководству завода остались риторическими вопросами. Немец так и не смог определить, кто там, в городе, самый вменяемый. Проще вернуться к зоне, сплаву и золотой роте. Вот она — экономика и экология в сознании людей, тяжелом, как старые трелевочники.
Золотанку посетили руководители района с приезжим генералом. Говорили о необходимости снова открыть здесь золотую зону. И нашли поддержку у населения — в основном утех, кто наживался на спекуляции самогонкой и чаем среди заключенных.
Старые трелевочники… Конечно, зимой в лесу надо ходить на лыжах, чтобы не проваливаться, на лыжах, подбитых оленьей шерстью, чтобы весной снег не лип, чтоб не скатываться при подъеме.
В фундамент одного из паженых домов в поселке Золотанка хозяин вложил вместо булыжника друзу горного хрусталя. На счастье и богатство. Назло американским империалистам.
— Есть версия, что убийство Идрисова связано с незаконной добычей кедра, — сказал мне в конце разговора Василий Бергман. И вышел.
На следующий день отец не дал мне долго спать. Опять начал водить меня по своим старикам, как по кругу. Ну сколько можно!
— Эй, ты когда колокол достанешь? — разбудил он меня весело. — Вставай, будешь работать!
— Не хочу работать, — робко отозвался я, шаря глазами по комнате в поисках сохранившейся выпивки.
— Придется, — подбодрил он меня, выставляя на стол одну бутылку пива. — Сейчас я поведу тебя к Бутакову — ты должен поговорить с этим человеком, пока он жив. Вставай, разгильдяй, пьяница, слабак.
И я пошел в дом этого человека, как первый раз — в церковь. О, это еще одна вишерская легенда.
Молчание Поманённого Камня
И раньше, и во времена Ивана Грозного в здешних местах шла стремительная и суровая, как вишерская стремнина, жизнь: сталкивались в битвах у подножия горы с древнерусским названием Полюд тюркские, славянские и угорские народы; скрипели санные обозы с рыбой и пушниной, драгоценной, мерцающей, жаркой; рыскали по берегам рудознатцы. По реке Вишере, а далее волоком до Ивделя проходила здесь дорога в Сибирь. Здесь начиналась территория ясачных вогулов, крещенных в 1751 году в деревне Сыпучи, что на берегу Вишеры. «Они простотой сердечной своих идолов приравнивают к иконам, называя их шайтанами».
Все мы, северяне, из вогулов: кто бы нас ни крестил, своим богам молимся. Михаил Никонович, в квартире которого мы сидим и беседуем, согласен.
— Ничего из того, что думаешь, нельзя было ни записывать, хоть и хотелось, ни говорить, — вспоминает он, — всю жизнь пришлось молчать…
Значит, своему деревянному богу молился, хотя в команде иноверцев работал.
Молодой курганский крестьянин Михаил Бутаков с оперуполномоченным ОГПУ разговаривал дерзко, с прокурором — тоже. Суд приговорил его к пяти годам заключения за антисоветскую агитацию. Он подал апелляцию. Но второго суда не было. Михаилу показали короткий приговор, отпечатанный на дешевой курительной бумаге, известной в то время под названием «филигран».
«О Господи, помоги убежать!» — молился он. «Убежишь — поймают, голову отрубят», — отвечал ему тот с небес голосом соседа по этапу.
— В челябинской тюрьме двое уголовников вбили мужику гвоздь в голову, а потом изнасиловали…
Человеку, который произнес эту фразу, девяносто лет. Худой, седоволосый, светлоглазый и ироничный старик. Он очень любит собирать грибы по ясным вишерским борам. Однажды, рассказывает, нашел белый гриб, приподнял мох, а там — еще один, и еще один… Всего двадцать три.
— Однажды только такое было, — с радостью и сожалением качает он головой. — Однажды, один раз, один… Второго раза не будет.
Как не было второго суда. В той же самой челябинской тюрьме начальник конвоя, невидный человек, невзрачный такой, с азартом начал избивать заключенных рукоятью нагана. «Бейте их, бейте!» — кричал он. Но рядовые с места не двинулись, поскольку шел невинный тридцатый год.
Михаил Никонович Бутаков не был блатным, не стал сексотом. Он был сам по себе — сам себе царь.
Этап прибыл на место, здесь шло строительство Вишерских химических заводов, будущего бумкомбината, силами четвертого управления СЛОНа — Соловецких лагерей особого назначения. Начальником управления ВИШХИМЗа — строительства Вишерских химических заводов, под которыми понимались стройки не только на Вишере, но и на Каме, был Эдуард Петрович Берзин, тот самый, известный по делу Локкарта чекист, расстрелянный позднее в Магадане как японский шпион.
На Вишере работал в то время заключенный Шан-Гирей, татарский князь из свиты царя. О нем можно прочитать в книге Варлама Шаламова — антиромане «Вишера». Будущий писатель входил тогда в администрацию лагеря, хотя и сам прибыл на стройку со сроком и под конвоем.
Первое зафиксированное письменно упоминание о поселении на месте нынешнего Красновишерска, в теперешнем пригороде — Морчанах, относится к 1689 году. В начале XIX века здесь было четырнадцать дворов со ста сорока тремя жителями. В начале XX века построена церковь.
Кроме воды, земли, гор и тайги здесь есть всё, но понемногу. Возникает такое ощущение, будто Вишера — сказочная шкатулка, инкрустированная всеми драгоценностями мира. Здесь были обнаружены медные руды, серный колчедан, золото и платина, соленосные пласты и залежи гипса. Ныне на Вишере качают нефть и добывают алмазы.
Символ сегодняшней Вишеры — это, конечно, он, алмаз. Углерод, самый твердый минерал, рождающийся в земле под большим давлением. И в россыпях все равно одиночка, сколько бы ни было каратов. Сам себе царь. Как сильный человек — не сломать, не расколоть. А если огранить умело, то замерцает светом прожитых лет.
— К этой мере тогда прибегали редко, — рассказывает Бутаков. — После неудачного побега расстреляли группу молодых заключенных. За конбазой…
Знакомое место. Когда едешь от Соликамска до Красновишерска — сто асфальтированных километров между сосен, в конце минуешь железобетонный язьвинский мост, а затем такой же — новый, вижаихинский, рядом со старым, деревянным. За рекой, за Вишерой, возвышается синий плавник Полюда. И слева от моста начинаются сохранившиеся бараки мужского отделения бывшего лагеря, в которых до сих пор живут люди — никому не нужные, ни Богу, ни народу, ни правительству, честно отработавшие свое старухи. Ни звезд, ни алмазов не досталось героям тыла, доживающим свой век в камерах жестокого прошлого.
Справа от дороги находилось женское отделение лагеря. А за ним — конбаза, гужтранспорт: четыреста лошадей, на которых доставляли грузы из Соликамска, а позднее отправляли рулоны бумаги. В шестидесятых мы, лагерские пацаны, наблюдали с испугом в карьере за конбазой, как вываливаются из песка на белый свет человеческие кости. Бутаков, конечно, не помнит, а моя мать до слез хорошо знает имя одного из расстрелянных…
Место для строительства ВИШХИМЗа выбрали удачное — высокий, ровный песчаный берег. Сплошные золотые сосны. После войны на главной улице города посадили аллею лип, невысоких, густых. Теплых и ароматных после июльского дождя.
На Вишеру привезли германские машины, чтобы делать бумагу для шедевров пролетарского вождя и претенциозных столичных журналов. А среди сосен построили дом с мезонином — для Берзина. Он и сейчас стоит за высоким забором, как пришедшая в упадок барская усадьба. Через шестьдесят лет дом строителя социализма был приватизирован одним из последних директоров завода. Дом перешел в сферу частной собственности. Жители города были изумлены и бессильны. Знал бы Эдуард Петрович! Впрочем, у него был еще более своеобразный взгляд на законность.
Михаил Никонович жил вне лагерной территории, как и многие в то время. Среди бывших донских и кубанских казаков. Потом казаков куда-то увезли. Существует версия, что они остались лежать в песке, неподалеку от Камня Помянённого, вместе с детьми и женами, после того как им перекрыли дороги на юг. Умерли от голода и холода. Бутаков не слышал этой версии. Варлама Тихоновича он не помнит: тысяча людей прошли перед глазами этого человека.
— Не могу сказать, что книга Шаламова мне очень понравилась. Мне кажется, она написана пристрастно, с большим чувством, чем следовало бы. Тогда на Вишере все было проще, хотя порой и хуже, чем изображено в антиромане. Моего земляка Ивана Бахтомина в штрафном участке на Волынке, у Помянённого, до смерти заморили голодом. В то время угнетало не столько начальство, сколько засилье организованной шпаны. Как тот случай в челябинской тюрьме.
Михаил Бутаков видит прошлое Вишеры не так, как Варлам Шаламов. Но вероятно, поэтому мы и люди, что разные.
— А необыкновенных каких-либо заключенных или ссыльных вы знали?
— Нет, не знал.
— А царского доктора?
— Доктора? Он был врачом при царском дворе. Михаил Михайлович Костров. Когда на «Потёмкине» вспыхнуло восстание, матросы выбросили за борт всех офицеров, кроме одного — корабельного врача. Который умер позднее, в 1942 году, на Вишере.
Был здесь и Василий Васильевич Кондырев, полковник царской армии. Потом он служил в Красной — и запил. С тоски, наверное. Он жил в бараке сангородка с женой. После войны преподавал в автошколе.
— А фрейлину императрицы, которая владела шестью языками, вы знали?
— А, Наталью. Она была фрейлиной императрицы-матери, Марии Фёдоровны. Помню, когда у нее родился сын, каждый день покупала ровно пятьдесят граммов масла для мальчика. Так все рассчитала. Аккуратной женщиной была…
В антиромане Варлам Шаламов пишет, что многие аристократы отлично владели каким-либо ремеслом. Так, полковник Панин возглавлял на Вишере столярную мастерскую, а тот же Шан-Гирей работал агрономом.
Люди еще встречались те, а страна была уже не та. Все боялись друг друга. Говорили, если стоят трое, то двое наверняка сексоты.
— А вас расколоть пытались? — спрашиваю.
— Не раз, — отвечает.
— Что предлагали?
— Женщину.
— А вы?
— Сам найду, говорил.
— Нашли?
— Нашел…
Этой парой, Михаилом Никоновичем и Юлией Фёдоровной, рассказывают, все любовались в городе — оба красивые, статные. Когда впервые встретились, она была замужем, имела двоих детей. Дочерей поделили с мужем.
Бывший муж Юлии Фёдоровны, механик речного флота, на войне стал Героем Советского Союза. А Михаил Никонович не получил ни медали, ни звездочки — даже на погоны. Имел одну контузию и одну награду.
Заслуги признавались, а звания не давались. А он чести никому не отдавал. Под сорок уже было. Старшину роты железнодорожных войск солдаты называли «дядей Мишей».
Он улыбается, вспоминая это:
— Из-под Архангельска сняли нас — аллюр три креста! — и под Сталинград…
Там и получил контузию с наградой: «…за проявленное им отличие в боях с немецкими захватчиками судимость по приговору выездной тройки ОГПУ в 1930 г. по ст. 58–10 УК РСФСР с него снята. Военный совет Южного фронта. 4 мая 1943 г.».
Двухэтажный бревенчатый дом в центре города. В небольшой уютной квартире тепло и чисто. Мебель послевоенного образца. Старые фотографии, на которых хозяин яростно молод и полон сил.
— И на фронте приходилось постоянно сдерживаться, молчать — было о чем…
Войну он закончил в Германии, неподалеку от подземного бункера немецкого генштаба. До сорок шестого находился в госпитале, а потом вернулся к семье, на Вишеру. Работал на разных должностях, в том числе и главным бухгалтером комбината. Так вот, если коротко, о девяностолетней жизни. Жизни, в которой он всегда был со всеми и всегда — один.
Этот город самый ровный и чистый в области. Он стоит на песке, улицы покрыты асфальтом, а крыши бараков — мшистым налетом времени. В этом городе жили столичные аристократы, поволжские немцы, крымские татары, греки, армяне и болгары. Одни привезли сюда запах черноморского табака и кофе, другие — сундучки с веерами и фотографиями придворных.
Если подняться на вершину Полюда, то слева увидишь стометровую скальную стенку Ветлана над рекой, а вдали, за синей тайгой, — Камень Помянённый. Тот, который обо всех помнит и обо всем молчит. И на вершине, в одиноком раздумье, ты вспомнишь слова с первой страницы антиромана: «Здесь была возможность понять навсегда и почувствовать всей шкурой, всей душой, что одиночество — это оптимальное состояние человека… Идеальная цифра — единица. Помощь единице оказывает Бог, идея, вера».
Правее увидишь узкую и светлую полоску города, растянувшегося по берегу холодной и стремительной реки, имя которой каждый выбирает себе сам.
О, эти вишерские старики, они выпили всю мою кровь своими жестокими рассказами!
«Не знаю, может, это у меня психическое отклонение — хроническое чувство вины перед каждым встречным человеком?» — размышлял Василий в одном из писем.
Я понимал, что это такое, — я вырос в стране, где каждый был прав и смертельно последователен в собственных доказательствах. Поэтому лучше молчать и жить в уединении… Но что делать, если тебя достали и тут? Ты ведь уже пришел к выводу, что не имеешь права… Ничего не имеешь, кроме чувства первородной вины… Да что перед встречным, того же Анатолия Ведерникова Василий вообще не видел, а только слышал каждый день — голос, который приходил из-за Тулыма…
Этот Толя приехал на Вишеру из Чернушинского района, что значительно южнее заповедника. Там у мужика была пасека, поэтому Идрисов предложил ему поставить ульи на Лыпье. Но Толя решил проверить, смогут ли пчелы вообще разводиться в столь суровом климате, и прожить одно лето без них.
— Ты куда опять наряжаешься? — спросила его жена перед отъездом.
— А ты не каркай, — проворчал он, — не каркай… Накаркаешь — опять я виноват буду!
Василий Зеленин запомнил этот день на всю жизнь — 20 августа 1996 года. Он знал, что на «прием» рация с посаженным аккумулятором работать определенное время еще может, а на «передачу» начинает «булькать» — на другом конце слов просто не разобрать. И Лыпья в тот день «забулькала». Василий предупредил Анатолия, что у него село питание. Но Ведерников «забулькал» опять, и довольно длинно. Зеленин переключился на город и сообщил директору, что у «Андромеды-3» проблема с аккумулятором, но она упорно пытается пробиться — возможно, что-то случилось.
Идрисов получил сообщение и на следующий день улетел в отпуск — в Казахстан. Исполняющим обязанности директора оставил Малинина, который в работе заповедника вообще не разбирался, ходил — ерунду городил, а опытный начальник охраны Белков уже был уволен.
Через четыре дня Зеленину передали с южного поста, с Анчуга, что лодка Ведерникова лежит перевернутая у берега Вишеры ниже Лыпьи, о чем сообщили спускавшиеся рыбаки. Инспектора поднялись вверх по реке к дому, где жил Ведерников, а там — никого. Василий доложил о произошедшем в городскую контору.
Алексей Долганов, бывший офицер внутренних войск и «опер по жизни», работавший старшим инспектором на Анчуге, начал руководить поиском исчезнувшего. Делал он это умело, обстоятельно и масштабно. Из города быстро завезли большое количество бензина и раздали людям на Вае.
Что удивительно, на Лыпью все-таки поднялся один штатный мент — зашел в дом, посидел, задал два-три вопроса, ничего не осмотрел и быстренько отправился обратно. До 71-го квартала, где ждала машина, милиционера доставлял Ефремов, отец сожительницы Идрисова.
Едва они отплыли, как один из коллег Долганова вспомнил:
— Послушай, Алексей, ведь Ведерников пропал двадцать третьего? А в этот день я видел Ефремова — спускался он мимо Анчуга.
— Ладно, через пару часов вернется, я спрошу, видел он Колю или нет.
Действительно, директорский тесть должен был принять участие в поиске, но он не вернулся.
На следующий день Василий поинтересовался у вайской радистки, куда пропал Ефремов, и услышал, что тот сказался больным и сидит дома. Зеленин тогда удивился: не похоже, чтобы Ефремов, поднявшись на халявном, бесплатном бензине, спустился ни с чем. Не в его это принципах и привычках. Если бы не стал принимать участие в поиске, тогда обязательно пошел бы за пороги, за рыбой, а может, и за сохатым. Ефремов ловил и заваливал кого угодно — на постах для досмотра никогда не останавливался. Да что там, летом девяносто четвертого даже травоядные попали в немилость директору, когда сообщили, что Ефремов по-крупному охотится на заповедной территории. А почему попали? Потому что мясо мясу рознь — вегетарианцы не сразу это поняли.
Следственные органы не спросили тестя: «А чего это ты так испугался?» Местные прокомментировали, исходя из житейского опыта: «Не поделили чего-то по пьянке». На столе в доме была обнаружена пустая бутылка из-под водки, а в погребе — свежее лосиное мясо. Понятно, на днях кто-то тут большого зверя освежевал.
Малинин нервничал, вместо еды принимал таблетки и вел истерические телефонные переговоры с Алма-Атой. Периодически раздавалось многообещающее: «Я не при делах — в отпуске, поэтому отвечать за все будешь ты». Потом рассказывал: «Рафик-то говорит, а из трубки воняет. Чувствую: анаша, бля…»
Была обследована река, берега, ближайший лес, ходили даже за Берёзовский хребет, где у бабы Симы была избушка, о которой, говорили, Ведерников знал. Хотя Долганов организовал все грамотно, но найти инспектора не удалось.
В середине сентября появился Идрисов с очередной бандой отдыхающих. И безо всякой улыбки рассказал, что ходил на алма-атинский рынок — обращался к гадалке, а та, дескать, сказала, что человек этот жив-здоров, ушел сам, сейчас ему стыдно, что такой переполох поднялся, скоро вернется.
Так Идрисов говорил и смотрел на Василия глазами, которые никогда не лгали — они говорили о хозяине всю правду. Идрисов пытался обмануть судьбу, играя с ней в наперстки на привокзальной площади. Опасное занятие…
Через три дня труп инспектора Ведерникова был обнаружен прибитым водой к берегу Вишеры, неподалеку от Анчуга. Жена Толи как в воду глядела, когда каркала.
По правилам директор заповедника не имел права оставлять человека одного в тайге, без оружия и рации. Но он это сделал.
Устье Мойвы — в двадцати двух километрах от Лыпьи. А велсовских и до Лыпьи устроило бы, поскольку дома — дети, жрать, бедные, хотят. Кроме того, рыбу можно продать и купить лекарства, сапоги. Идрисов разрешал рыбачить до Лыпьи, но дело не в этом, а в том, как он это делал. Не что, а как — вот универсальный вопрос нашей жизни! Надо, чтобы чалдон, поселковое быдло, пришел к тебе, попросил чтобы. Тут ему можно что-нибудь сказать, припомнить что-нибудь. Правильно? Понятно, Идрисов под гипнозом не сможет вспомнить тему своей дипломной работы, которую он, дескать, написал в Алма-Атинском университете, зато он очень хорошо знает, как довести человека до припадка, до инфаркта, до смерти. Не что, а как. Такое азиатское средневековье.
Вырубки, помойки, офисы компаний и вообще следы жизнедеятельности человека — это эстетика не Василия Зеленина, который больше всего любил зону криволесья, пихтовоелового, мрачноватого, и березового — светлого, невысокого, вроде японской причуды. Деревья-вогулы, зона криволесья. Знаете такую зону? Нет, это не строгий режим. Радость для души, глаз и ног — нет завалов, бурелома, есть обзор и перспектива. Кедровые шишки можно рвать, будто яблоки. И все это — на подходе к высокогорной тундре, где россыпи камней и сплошной ягодник с пламенными осенними листьями. Там они стояли со Светланой и смотрели из Европы в Азию — на Денежкин Камень, всю панораму синеющих Уральских гор.
К скалам они привыкли на Валааме, а к горам — на Алтае и Байкале. Они поняли: везде свои краски, неповторимые сказки…
На Карельском перешейке — сосновые бора и озера, оставленные последним ледником. Такая чистота, что можно тридцать километров пройти по лесу в шлепанцах. Поэтому Зеленин тяжело привыкал к верховьям Вишеры. И все равно много бродил по Мойве и Ниолсу, бывал в пещерах, о которых, похоже, не знал никто. С целым парком оружия, которое у Василия накопилось, он мог продержаться в тайге всю жизнь.
По этой тропе таскали продукты Бахтиярову и Никифорову, когда того и другого «кинул» Идрисов — нагло обманул, бросив мужиков в тайге без провианта. Василий со Светланой делились последним. Алексей обычно встречал Зеленина на полдороге, а Никифоров приходил сам. Когда Никифорову ампутировали ноги, медики написали, что одной из причин стало хроническое недоедание.
Никого Василий на этот раз не встретил, посидел в избушке в верховьях Молебной у печурки, которую быстро растопил, и направился в сторону кордона. Шел, вспоминал, как впервые добирался с женой на Ваю, в бортовом уазике. Света ехала в кабине, а он — под фанерным навесом, с бензиновыми емкостями. Вдруг машина замедлила ход и шофер начал длинно сигналить. Василий высунулся наружу и увидел медведя трех-четырех лет, сидевшего на заднице у дорожной насыпи. Правой передней лапой зверь чесал за ухом, будто чему-то удивляясь или что-то обдумывая, глядя на машину, которая остановилась в двадцати шагах от него. Потом чинно так развернулся и медленно ушел в лес. Вероятно, он хотел показать новеньким, кто тут хозяин, кто контролирует пропускной режим на территорию. Таковым стало первое впечатление от Вишерского края — ярким, отчасти мистическим, теплым, как медвежья шкура.
Василий зашел в дом. Посмотрел на часы: до плановой радиосвязи оставалось пять минут. Он направился в рубку и включил рацию. Но на позывные кордона никто не отвечал, в эфире стоял ровный шум, первобытное безлюдье. Только минут через пятнадцать городская контора заповедника вышла на связь. И на его вопрос о том, что произошло, прозвучало: ничего, сеанс начали вовремя. После этого Василий выяснил, что все механические часы ушли на десять-пятнадцать минут вперед. Четверо часов. Зеленин был изумлен — он вспомнил травоядных, которые любили работать инспекторами на запредельных территориях. Улыбнулся: травоядные утверждали, что таким образом аура места может реагировать на аномальные мерзости цивилизации.
— Почему все часы в доме переведены на пятнадцать минут? — спросил Василий у Светланы.
Наверное, секунды три она медлила с ответом.
— Я тоже заметила. Может быть, кто-то попытался сорвать радиосвязь? Которая в четыре.
Василий внимательно посмотрел на жену, заглянул в зеленые глаза.
— Может быть… По крайней мере, похоже. Но кто? — он пожал плечами. — Какая разница — чуть позже, чуть раньше… Есть вещи, которых избежать уже невозможно.
Зеленин решил заварить чай с родиолой розовой, что делал в исключительных случаях. Растет корень на территории, по берегам горных речек, местами очень густо. На Байкале и Алтае тоже встречается, но реже. Там, рядом с китайской границей, на него имелся особый спрос, поскольку в тибетской медицине он считается лекарством от всех недугов. А наши знахари способны только на водочную настойку от импотенции да на общетонизирующее средство. Сбытом корня он никогда не занимался, и сами с женой пили редко, потому что и без него чувствовали себя великолепно. Иногда, на летних переходах, Василий добавлял свежевырытый корень в чай. Когда идешь груженый, на дальнее расстояние, есть на коротких привалах нельзя, чтоб тебя не развезло, лучше всего — такой чай: после него сердце начинает работать на форсированных оборотах, можно идти долго и вынести много, выкачивая последние резервы организма.
Если разломить свежий корень и понюхать, то на изломе белой мякоти почуешь сильный аромат розы — отсюда, наверное, его научное название. В конце августа — начале сентября Василий немного копал корня, деревянной лопаткой. Промывал его тут же, в проточной воде, и приносил домой. Света нарезала его поперек короткими кусками и ставила сушить на железных листах к печи.
Сегодня был тот самый случай, когда надо было многое вынести.
В это время главный травоядный плыл по реке, а начальник охраны бежал за директором по берегу.
Вы видели, как сидит собака на высоко задранном носу узкой лодки, которую «Вихрь» поднимает против течения? Как капитаны сидят белые, черные, с блестящей шерстью лайки — бесстрашно и гордо смотрят вперед, где ожидает их схватка с диким и беспощадным зверем зеленой тайги. Байские лайки, велсовские. Вишерский хозяин никогда не заставит бежать собаку вдоль берега. Местные охотники носили своих собачек на руках. Как писал Иван Неклюдов, хорошая собака на Вишере ценится дороже лошади.
Это Василий видел: опять на Россию наступает Азия. «Ты помнишь Болотхана? — спрашивал Идрисов Василия. — Разве Болотхан потерпел бы такие наезды от Югринова, какие терплю я? Он бы уволил его, а потом затравил, правильно? Ты ведь знаешь Болотхана».
И действительно, Инспектор Идрисова не щадил никогда, он мог при публике, в кругу подчиненных Идрисова, посмотреть на него с ласковым сожалением и пропеть голосом артиста Папанова: «На твоем лице, Рафаэль, видны признаки самых разнообразных человеческих пороков».
Уволил-таки Идрисов тогда Инспектора. Зеленин вспомнил: вертолет приземлился, не глуша двигателя, Инспектор запрыгнул в дверь, а он подал ему вещи. Через минуту борт скрылся за ишеримскими гольцами.
А через три дня с неба опустилась Светлана, прибывшая из Питера.
— Что тут у вас случилось? — сразу спросила она.
— Ничего особенного, — удивился вопросу Василий.
— Как это ничего! Идрисов рассказывал, что Яков не хотел садиться в вертолет и его ловили сотрудники милиции.
Василий в изумлении только головой повертел. В вертолете тогда действительно сидели какие-то менты, которые возвращались с охоты за северными пределами заповедника. И только это имело отношение к правде. Позднее Зеленин попробовал поставить запомнившиеся выражения директора в один ряд: «Белков? Хороший начальник охраны! Ха-ха! Увольняясь, он украл у заповедника рацию, нет — две рации! Колобаев? Ученый? Увольняясь, он присвоил себе компьютер. Николаенко? Фотограф? Гнида, анималист. А ты знаешь, что он сначала зверя фотографировал, а потом расстреливал из своего штатного карабина? Знаю я этого лесника».
«Ты помнишь Болотхана?» В перестроечные годы маркакольские сотрудники попытались реализовать популярную тогда идею выборности руководителя. И коллектив выдвинул Идрисова — динамичный национальный кадр! А старый партократ Болотхан съездил в Алма-Ату, где Болотхана знали, заручился поддержкой столичного ведомства и разогнал этот долбаный коллектив, как стадо баранов. Только тогда Идрисов понял, как это важно — учиться у старших и опытных товарищей. Обязательно иметь мохнатую лапу в министерстве — ценный урок он крепко запомнил и никогда не забывал. Правда, купленный диплом остается купленным, поэтому Идрисов не все понял. Потом еще раз не понял. А после третьего это уже не имело значения. С Вишерой получилась пародия на куркулистую Азию. Здесь еще не перевелись царские егеря, молчаливые, как кедры.
С этим золотым корнем тоже история вышла. Это когда осенью девяносто пятого двое мужиков, присланные из города для строительства гостевой бани, сделали свое дело, а вертолета Идрисов за ними не присылал. Мужики отдыхали и активно уменьшали продуктовые запасы семьи Зелениных на зиму. Существовала опасность, что строители задержаться на кордоне еще на два месяца, пока не установится лыжный путь. Уже выпал снег, по рекам шла шуга, и пеший выход был просто невозможен. Идрисов, как обычно, ушел в недосуг, даже не пытаясь договориться с вертолетами, делавшими последние в сезоне рейсы на Сибирёвский прииск. Узнав по рации, что у золотодобытчиков борт, Василий сам попросил пилотов, чтоб залетели на Мойву и взяли мужиков. Экипаж оказался «деловым» и потребовал золотого корня. Он согласился. А через полгода встретил в городе одного из тех шабашников и узнал, что директор не заплатил им за работу ни копейки. Тут что удивительно: как этого ублюдка раньше не убили?
Я позвонил в контору заповедника и пригласил нового директора, Игоря Борисовича Попова, к себе в гости, поскольку сам передвигаться не мог. И директор пришел — пешком, с другого конца города, сел за стол, отказался от водки и согласился на крепкий чай. Каков этот Попов!
— Я вчера вам звонил — не нашел, — попытался оправдать я собственную наглость.
— На конференцию меня пригласили, вечером только вернулся, — с улыбкой ответил новый директор заповедника, старый геолог.
— Было интересно?
— Да, часа полтора не удавалось уснуть.
Я знал по материалам дела: на кордоне было два ружья. Одно принадлежало заповеднику, а второе, шестнадцатого калибра, Зеленину и Гаевской подарил Наиль Булатович Мамаев — оформлено ружье было на Гаевскую. А третье ружье, вертикалку двадцать восьмого калибра, по словам Зеленина, он нашел в верховьях Ниолса.
— Игорь Борисович, разве можно в тайге найти такое ружье?
— В тайге можно найти все что угодно. В верховьях Колвы было обнаружено несколько артиллерийских батарей — белые бросили во время отступления. Но тут, скорее всего, другое. Скорее всего, инспектор конфисковал ружье у браконьера, которого задержал на территории заповедника. Протокол составил, а потом сунул бумагу в печку. Ну а ружье почистил, смазал, завернул в полиэтилен, тряпки и спрятал под поваленной березой.
— Вы лично знали этого казаха? — спросил я бывшего геолога, проработавшего двадцать лет начальником геологосъемочной партии на нынешней заповедной территории.
— Казаха знал, — ответил Попов, — но если б не гражданская война, никогда, может, и не узнал бы, что в СССР были турки-месхетинцы. Вообще не знал бы, что такие существуют. Российскую этнографию и географию изучал по телерепортажам из «горячих точек». Всю свою сознательную жизнь я провел на Вишере, великой русской реке.
— Да, — кивнул я, — а чум Бахтияровых тысячу лет стоял на склоне Ольховочного Камня, и никто из вогулов не знал, где Европа, где Азия. За хребтом или за Великими озерами. На самой границе жили. Тысячу или две тысячи лет. Или три.
— Вы знаете, Вая и Велс праздновали убийство Идрисова. Два дня гуляли…
Попов замер с полуоткрытым ртом, будто ожидая моей реакции.
— А что делать поселковым, если ни рыбачить, ни охотиться не пускают, — вполне здраво продолжил он, — дети голодные. Да и мы не слишком сытые.
Я невольно опустил взгляд, который прошел по полнеющей фигуре директора: дешевый светло-серый костюм совершеннолетнего возраста, армейская рубашка третьего года службы. Без галстука, конечно, потому что у человека есть вкус: кто носит галстук с таким костюмом? С таким костюмом вообще ничего не носят, а у Попова еще куртка есть. И ботинки тоже. Я посмотрел на ботинки: грубая кожа, искореженная временем, металлические заклепки. Из производственной серии «спецодежда». Раньше такие носили подростки, учащиеся ремесленных училищ. Раньше — кажется, после Второй мировой войны. Хорошо, если он не заметил моего взгляда. Невольно получилось.
— Да Ваю и Велс бросила советская власть — или какая она сейчас.
Раздался стук в дверь. Светлана Гаевская появилась в квартире будто в туристской палатке — так пригнулась, разглядывая сидящих за столом. Светлане я успел позвонить тоже. Высокая, худощавая, с раскосыми глазами, точнее, удлиненными к вискам. А может, мне так показалось. Сухая кожа, острый нос, порывистые движения. Впрочем, у каждого мужчины свое восприятие женщины. Вполне возможно, если бы я встретил Джульетту, чувство Ромео вызвало бы у меня недоумение. У меня — или у вас, да… Внешность Гаевской не в моем вкусе и неотделима от ее человеческой самобытности.
— Так вы кто и откуда? — нежно взяла она меня за горло.
— Корреспондент газеты «Пармские новости», — представился я вторично, предчувствуя проблемы.
— И вы думаете, что Василия можно будет спасти?
— Надо попытаться.
Да, оптимист — опасная профессия. Оптимист всегда рискует, в отличие от пессимиста. Тот в любом случае выигрывает.
— Хорошо, а я буду писать кассацию в Верховный суд. Я надеюсь — нет, я уверена, что добьюсь своего.
Мне понравилось, как она… как она собиралась бороться за своего мужа. Многие жены находят причины, чтобы не беспокоить себя так сильно. Конечно, уважительные причины. Защитные механизмы психики — по Фрейду, кажется. Да, но в России водка стоит дешево, а иллюзии — дорого. Дороже самой жизни.
Светлана Гаевская отличалась узкой костью и, возможно, чересчур азартным ощущением реальности. Быть может, женщине не хватало нормального общества. Или общения. Как я быстро узнал, она умела играть на гитаре и петь, то есть в совершенстве владела боекомплектом российского гуманитария. В качестве приложения к диплому исторического факультета Петрозаводского университета.
Бывает, гонор, апломб и претенциозность доводят гуманитариев до истерической бессонницы. Они утверждают, что это большая луна. Или расклад гороскопа. Пока гуманитарию морду не раскорябают, она, морда эта, будет думать, что принадлежит принцу брунейскому. Или британскому. Какая разница — какому, все равно будет думать. Такая морда. Если в молодости я радовался, встречая гуманитария, то сейчас становлюсь задумчивым, узнав, что собеседник — мой коллега. Поскольку по себе знаю: нормальных мало. В общем, Гаевская меня настораживала.
— Вы скоро поедете на свидание к Василию?
— Да, — кивнула она, — на следующей неделе.
— Я дам вам диктофон, пленки и список вопросов — пожалуйста, пусть ответит на них поподробней, а вы запишите. Это возможно?
— Я все сделаю, чтобы помочь ему, — она посмотрела на меня большими блестящими глазами.
Раис ушел, исчезли гости, а мы с отцом, Иваном Давидовичем, просидели до самого синего утра. Знаете, как это бывает… Позднее, уже другой ночью, я написал об этом так: «Доставай папиросы сухие, разливай по стаканам спиртное. Говорят на дорогах России, будто время пришло золотое. Над Полюдовым Камнем туман поднимается в небо хмельное. Пьет армянский герой, партизан, награжденный Полярной звездою. Опускает граненый стакан аккуратно на плаху рассвета. Пьет за славных людей — за славян, за армян, за евреев Завета. И потом, не дождавшись ответа, пьет за всех, кого ждет пересуд, — почему, говорит он, поэты на земле этой мало живут? Кто не пашет, не пишет, не любит, тому зубы и перстни за труд? Жадность фраера, может, погубит, если прочие раньше умрут. Кто пригубит, того приголубит самородный сгорающий спирт, за Полюдовым Камнем остудит и Полярной звездой наградит».
А еще позднее Женька Матвеев написал на эти стихи музыку. Вы знаете Женьку Матвеева? Да нет, я ничего такого не хочу сказать — вам просто не очень повезло в жизни. В Перми барда знает каждый, кто хоть раз попробовал взять в руки гитару. Да не только в Перми. Сам он утверждает, что из территорий недостаточно хорошо освоил только восток, что за хребтом и далее, точнее — Восточную Сибирь и Дальний Восток. Хотя большая часть мира думает, что Урал и Сибирь — это одно и то же. Помнится, в Крыму, у берега Чёрного моря, одна тетка спросила меня, откуда приехал. «Из Перми», — ответил я. «А, это там, за Волгоградом!» — протянула она. Да, это у них за Волгоградом Сибирь начинается, с Якутией и Чукоткой. И вообще, что знают они о мире, в котором живут? И знают ли они что-нибудь о той земле, на которой повезло родиться? Моя метафора — это люди, факты и та земля, где физически невозможно спутать вишерские алмазы со стразами и метастазами метаметафористов, куртуазных маньеристов и других соцреалистов современности. Это конкретная территория Северного Урала — в центре России.
Евгений Матвеев
В город завезли партию складных ножей — по два рубля пятьдесят копеек с двумя лезвиями и по рубль пятьдесят с одним. Женька купил, что было по карману. Он пробовал затыкать его в раскрытом состоянии за пояс, как делали герои фильмов об индейцах, но лезвие все время норовило перерезать пояс брюк или ремень. А в сложенном состоянии он открывался так туго, что Женька начал закладывать под лезвие кусок бельевой веревки, чтобы в любой момент можно было рывком привести его в боевое состояние.
Вечером компанией они пошли в кино. И уже в сквере у Дворца культуры бумажников Федька Дружинин сцепился с парнем из «красной» школы, названной так в честь кирпича, из которого она была сложена. Фамилия у парня была Антипин, а звали его все Стропилиной, за длинный рост.
Женька не выдержал, подскочил и один раз пнул Стропилину под зад. Это он зря сделал. Стропилина про Федьку забыл, а вот про Женьку запомнил.
Через неделю они снова пошли в кино. Но у «красной» школы, у бокового входа в сквер дворца, их уже поджидала серьезная компания: братья Бычины, братья Гурины, другие приблатненные пацаны. Было предложено драться один на один. Всей гурьбой свалили за дворец, за тир, к берегу реки.
На Вишере царил ледоход. Льдины плотно шли по реке, шурша и наползая на пологий берег. От реки веяло холодом уходящей зимы.
Женька и Стропилина встали друг против друга, окруженные кольцом друзей и врагов. Сначала они осторожно пытались нанести удары, но никому это не удавалось. Женька был ненамного меньше ростом, а смелостью вообще превосходил противника, все время наступая и не давая ему остановиться. Во время очередной попытки сбить врага с ног Женька почувствовал, что с пояса у него соскользнул кожаный солдатский ремень. Он увидел его уже на земле, а в следующее мгновение Стропилина наклонился, схватил ремень, выпрямился и одним захлестывающим движением намотал его свободный конец на правую руку.
Имея такое оружие, можно идти в атаку. И уже второй мах тяжелой медной пряжкой с пятиконечной звездой достиг цели: удар пришелся чуть ниже переносицы. Боль, кровь и ненависть хлынули из Женьки, застя взор и последний разум. Он с ревом, переходящим на визг, бросился на врага, схватил его за воротник куртки и рванул на себя. Они упали на землю — пацаны расступились. Сорвались с обрыва и покатились вниз, наматывая на себя мокрую, вязкую глину крутого берега. Потом Женька понял, что сидит на враге и наносит ему удары кулаками. Нет! Не бить! Не бить! Его надо убить! Убить суку-у-у!.. Он выхватил из кармана нож, но не нашел бельевой веревочки — забыл заложить ее под лезвие! Он попытался открыть нож, но пальцы, скользкие от глины, срывались с узкой полоски металла.
— У-у-у! — взвыл Женька, вскочил и бросился вверх. — Откройте! Откройте мне нож! — кричал он пацанам.
Кровь бежала по его лицу. Весь в глине, от резиновых сапог до воротника фуфайки, он протягивал пацанам нож, кричал, но они почему-то отступали от него, отходили все дальше и дальше, со страхом глядя на своего товарища.
Женька остановился, потоптался на месте, поняв, что нож никто открывать ему не будет, развернулся и пошел вниз, размазывая по лицу кровь и глину. Поверженный враг пытался подняться, но это ему не удавалось. Он лежал на спине, страшный, как утопленник. Женька миновал его и направился к реке, начал умываться ледяной водой. Он поднял лицо и увидел на той стороне реки Полюд, в легкой весенней дымке, с остатками снега у самой вершины. Он не оглядывался ни на врага, ни на зрителей. Он ощутил, что злость прошла, но пришло какое-то смутное чувство, будто мир вокруг стал иным…
Через час в травмопункте районной больницы ему зашили перебитый нос, на котором на всю жизнь остался шрам наискосок, как молния, вспышкой выхватившая кусок бездны. Когда Женька вспоминал об этом, он с ужасом понимал, что точно убил бы парня, если бы нож открылся. И может быть, как и другие вишерские пацаны, пошел бы по лагерям, сидел бы сейчас на нарах, а не в кресле самолета, летящего в столицу братской Украины.
Уберег его Бог для чего-то…
Сверхзвуковой разлет черных клешей, темно-малиновый пиджак, розовый отложной воротничок рубашки и прямые темные волосы ниже плеч. И вот он пошел, пошел, привычно раздвигая узковатыми плечами праздничную толпу. С ходу прыгнул на эстраду и с коротким жестом бросил несколько слов музыкантам.
— «Мисс Вандербильд»!
Открытая, ярко освещенная танцевальная площадка, гудящая под кронами высоких вишерских сосен, опрокинулась на спину в суровом и варварском шейке.
Один друг сделал для него перевод этой песни, но Женя, сжимая микрофон, как молодой Адамо, исполнял ее на английском. Не поверить гармонию алгеброй, не расчленить музыку и звукопись языка.
«Шагаю к другу своему, чтоб рассказать, как я сгораю, как будто я в родном дому чужую музыку играю», — пел, помню, он, когда я пришел из армии в университет, где Женя уже учился на историческом факультете. О себе пел…
Он пел, по-азиатски скрестив ноги на кровати в студенческом общежитии, по пояс голый, с темным птичьим профилем арабского кочевника; пел с телевизионного экрана — скромный такой юноша в белой рубашечке с закатанными по локоть рукавами; пел, расставив длинные ноги на асфальтовой дорожке вишерского парка: «Я подковой вмерз в санный след…» — а напротив стоял старый, маленький, пьяненький зэк, освободившийся из лагеря, и плакал…
Он пел с большого винилового диска жестокие слова Николая Домовитова: «Дорогая, стоят эшелоны, скоро, скоро простимся с тобой. Пулеметы поднял на вагоны вологодский свирепый конвой…» Тогда один хороший человек признался мне, что прослушал эту песню двадцать раз подряд. Кто слышал, тот уже никогда не забудет, как после третьего куплета нарастающий рев сибирского паровоза передается морозным, сдирающим кожу звуком американского аккордеона.
Многие годы барды и другие причастные к делу лица уходили, уезжали из городов, скрывались, как сектанты. Они проводили свои сборища в лесу, но особенно любили берега рек. Это было бардовское братство, не признанное властью, но контролируемое спецслужбой.
И вот 1989 год — жара, самый разгар сухого закона. Но на дворе стояла осень, когда из далекого города Киева пришло официальное приглашение на Третий Всесоюзный фестиваль авторской песни.
Женя предупредил жену Галину и остальных — Николая Каменева, Андрея Куляпина: «Репетировать будем каждый день!»
Первым учителем Жени Матвеева был Валерий Чезаре, итальянец, руководивший вокально-инструментальным ансамблем вишерского Дома культуры. Однажды Женя, игравший на бас-гитаре, заметил, как Чезаре потянулся за шоколадкой, упавшей на пол. Когда он оглянулся вторично, любитель сладкой жизни исчез под «ионикой» полностью и только одна правая рука продолжала гулять по клавишам. И люди танцевали, и музыка играла… Может быть, в тот самый момент он засек, что мастерство должно иметь изящный и легкий почерк, а песня должна быть вкусной и горькой, как шоколад, как вишерская вода…
Это о Матвееве один чилийский поэт написал стихотворение: «Хоть богом не был я отродясь, я не работал по воскресеньям, от понедельника до субботы — тоже, потому что от веку ленив…» Этот поэт, кстати, за свою жизнь написал пятьдесят тысяч произведений — конечно, вы знаете, о ком тут идет речь. Человеку, который дышит песней, а передвигается в ее ритме, трудно представить, что такое трудолюбие. Когда смотришь на некоторых музыкантов, кажется, что они стоят у токарного станка. Матвеев предпочитает стоять у микрофона.
До начала фестиваля оставался месяц.
Человек, который не любит работать, не давал своим музыкантам ни дня покоя, точнее, ни вечера. Они репетировали во Дворце культуры КБМаша. Про это предприятие, так называемое Конструкторское бюро машиностроения, в то время ходил такой анекдот. Будто бы в закрытый город Пермь был заброшен американский шпион с особым заданием — узнать, что производится на предприятии с таким безобидным названием. А наводку дали ему только одну: секретный объект находится рядом с общественной баней номер восемь. Ну, высадился шпион из электрички и спрашивает, как пройти к бане. «А милок, — ответила ему бабка, — пойдешь по этой улице вверх. Через три квартала упрешься в военный завод, где ракеты делают, а справа, через дорогу, будет твоя баня!»
Директор Дворца культуры КБМаша имел высшее авиационное образование. Правда, он честно признавался, что до сих пор не может понять, как эта железная махина взлетает, ведь она тяжелее воздуха. А Женька, музыкант с гуманитарным образованием, работал во Дворце главным инженером — значит, был главным по водопроводу, теплоснабжению, канализации и прочей матчасти.
До Киева через Москву добрались самолетом, хотя он и тяжелее воздуха. Гостиница была набита бардами со всего Советского Союза, который организаторы фестиваля поделили, будто на военные округа — Дальневосточный, Среднеазиатский, Уральский и так далее, — на десять регионов.
Гостей и участников фестиваля приветствовал главный продюсер фестиваля Борис Гройсман. А за ним всех отправляли к столам регистрации. Доброжелательная красавица, похожая на нераскаявшуюся Магдалину, заполнила бланк на каждого музыканта ансамбля.
— Регистрация стоит десять рублей! — она подняла свои прелестные черные глаза.
— С чего это? — удивился Матвеев.
— Это взнос в фонд фестиваля! — еще радостнее добавила она.
Матвеев молча смотрел на нее, одновременно прикидывая, сколько осталось денег на обратную дорогу.
— Вы киевлянка? — спросил он.
— Нет, москвичка, половина фестивального штаба из Киева, половина — из Москвы.
— Понятно, — кивнул головой Матвеев, — дайте нам квитанции о том, что вы получили деньги.
Магдалина улыбаться перестала.
— У нас нет квитанций.
— Найдите! — потребовал музыкант.
Магдалина исчезла — в сторону Гройсмана. Стала скапливаться очередь. Послышались недовольные голоса. Наконец Магдалина принесла бланки, похожие на квитанции, приняла деньги, отметила суммы, выдала каждому члену ансамбля по расписке.
Матвеев решил выступать в номинации «Автор музыки».
На следующий день начался первый тур фестиваля — прослушивание. Жюри возглавлял известный композитор и певец Сергей Никитин. Ансамбль Матвеева исполнил три песни — на стихи Николая Рубцова, Олега Чухонцева и Анатолия Жигулина. Жюри, понятно, приходилось нелегко: претендентов на победу было более трех десятков.
— А вы хоть знаете, что у Никитина тоже есть песня на эти стихи Чухонцева? — подлетела к ним после выступления дама — по всей видимости, из бардовских оргов.
— Знаю, — ответил Матвеев, — но моя музыка нравится мне больше!
Странная это вещь — бардовское жюри, если не ино-странная. На Грушинском фестивале, на берегу Волги, Матвеев слушал, как обсуждалось выступление ансамбля с песней «Мальчики» на стихи Юнны Мориц.
— Аккордеон звучит тихо! — выкрикнул Борис Гройсман, бывший тогда рядовым членом жюри.
— С микрофоном все будет нормально, — спокойно ответил Николай Каменев, работавший в Перми звукорежиссером телевидения.
Гройсман огляделся вокруг: тихо… Как будто не песню прослушали, а шум хвойных верхушек.
— А вы что молчите?! — набросился он на председателя жюри.
— Эту песню я давно знаю и люблю, — ответил Виктор Берковский.
«Поешь-поешь, а они — молчат ино-странно… Асланьян сказал: они, Женька, тебе завидуют, поэтому хвалить не получается, а хулить еще стыдно».
Первый тур они прошли. И Матвеев думал недолго — уже через час направился в зал, где проходило прослушивание в номинации «Бардовский ансамбль». Виктор Берковский, возглавлявший жюри, записал Матвеева без единого вопроса. В тот же день они прошли во второй тур и этого конкурса.
На следующий день выступили в двух концертах — и победили в обеих номинациях. А на третий день состоялся гала-концерт, перед началом которого слово предоставили Виктору Берковскому, который был словоохотлив и доброжелателен.
— Самым интересным мне показалось выступление ансамбля Евгения Матвеева из Перми, который стал победителем в двух номинациях из четырех. Хочется отметить слаженность коллектива, мастерство и, конечно, музыку самого Евгения, деликатную, благородную, выразительную, скупую аранжировку, в которой нет ничего лишнего, которая точно соответствует стихам… Я думаю, что сегодняшние победы Евгения Матвеева — самые заслуженные.
— С Берковским все понятно, — раздался сзади громкий шепот, — это он решил, кто будет победителем!
Говорящий рассчитывал, что произносит достаточно громко, чтобы сидевший впереди Матвеев его услышал. Но Женя не шелохнулся, только большие пальцы постукивали по красному дереву гитарной обечайки. Он благодарил Бога, что жюри оказалось независимым от продюсеров фестиваля.
И вот Матвеев вышел на сцену — высокий, мощный, с короткой стрижкой и большим великолепным лбом.
Они пели с Галиной — красавицей с огромными глазами и слегка вздернутым носиком. Она, бедная, раздвигала большой американский аккордеон, будто душу разворачивала. Ей было нелегко. Николай Каменев менял инструменты, как иллюзионист: мандолина, банджо, гитара… Андрей Куляпин тихо работал с перкуссией.
Сам Матвеев играл на семиструнной гитаре и пел стихи Олега Чухонцева: «Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина, ржавчина крыш, дрожь проводов, рокот быков под мостом. Кажется, всё, что улеглось, талой водой взбаламучено, всплыло со дна и понеслось, чтоб отстояться потом».
Это только кажется, будто Матвеев — монумент себе. Однажды, собираясь предстать перед стотысячной аудиторией Грушинского фестиваля, он глотал транквилизаторы стаканами. А в другой раз, после неудачного выступления, схватил гитару за гриф и разбил ее о землю.
В то памятное лето Матвеев был на Вишере, писал эту музыку — на стихи Олега Чухонцева: «Гром ли гремит? Гроб ли несут? Грай ли висит над просторами? Что ворожит над головой неугомонный галдеж? Что мне шумит, что мне звенит издали рано пред зорями? За семь веков не оглядеть! Как же за жизнь разберешь?»
Если музыка Никитина передавала ритм поезда, проходящего мимо лирического героя, то музыка Матвеева воплощала печаль и скорбь на фоне проходящего состава: «Но и в тщете благодарю, жизнь, за надежду угрюмую, за неуспех и за пример зла не держать за душой. Поезд ли жду или гляжу с насыпи — я уже думаю, что и меня кто-нибудь ждет, где-то и я не чужой».
— Будем рады видеть вас на следующем Всесоюзном фестивале авторской песни, — блеснул ино-странным взглядом Борис Гройсман, провожая ансамбль после банкета. Продюсер любил широкие жесты, если они ему ничего не стоили.
На фестивале было еще две номинации — «Полный автор» и «Исполнитель». Конечно, Женя мог бы попытаться выступить и в последней, но решил, что не стоит: три из четырех — это многовато. Да и двух было много. Да чего двух, когда вышла магнитофонная кассета с фестивальными записями, на ней не оказалось ни одной песни Матвеева, занявшего два первых места из четырех! А в часовом репортаже Центрального телевидения с места события победителя вообще не показали. И ни слова не сказали о нем, будто такого музыканта и не было вовсе.
Борис Гройсман, продуманный человек, не простил ему ни высокого роста, ни квитанций, ни успеха.
После этого ансамбль побеждал на всех фестивалях и конкурсах авторской песни, проводившихся в Советском Союзе, а позднее в России. Но только однажды я смотрел по телеканалу фильм, в котором Евгений Матвеев исполнял песню на стихи поэта Ивана Елагина: «Ждем еще, но всё нервнее курим, реже спим и радуемся злей. Это город тополей и тюрем, это город слёз и тополей…» Жесткий видеоряд пермской фактуры — тюрьмы, вокзала, тротуарной нищеты — шел на фоне матвеевского шедевра. Странно, но стихи написаны не о Перми. Они о Берлине сорок пятого года, где оказался бывший военнопленный Иван Елагин. Там, за границей, поэт и остался… Стихи написаны не о Перми, а как похоже!
На моей полке стоят лазерные диски Евгения Матвеева с песнями на произведения Николая Рубцова и Анатолия Жигулина, Николая Гумилёва и Владимира Маяковского, Алексея Решетова и Редьярда Киплинга. Да, в одной программке советского периода, помню, было написано: автор слов — Р. Киплинг (Великобритания), автор музыки — Е. Матвеев (СССР).
Конечно, Женя пишет не только с удовольствием, но и со вкусом. Со вкусом ягод рябины — поздних ягод. Да, он всегда делает то, что ему хочется. И платит за это неуспехом, который дорого стоит. Но знает, что творчество — это освобождение…
Вот они — большая виниловая пластинка фирмы «Мелодия» и три лазерных диска. Помню, как слушал одну из передач столичного радио, где исполнялась его песня. «Евгений Матвеев! Запомните это имя!» — закончила программу ведущая. Это она правильно сказала! Да, Женя, потом она, вся эта чума и холера, будет гордиться тобой.
А пока ты с Галиной и со своей семиструнной гитарой сидишь под открытым вишерским небом на берегу реки и поешь-упеваешься рубцовской тоской: «Не грусти на холодном причале, теплохода весною не жди. Лучше выпьем давай на прощанье за недолгую нежность в груди…» А я пишу тебе по ночам письма, которые не доходят до адресата.
С той сухой, с той песчаной земли поднимаются в небо теперь вертолеты… Все, что сделать хотели мы, но не смогли, с пылью смешивают молодые пилоты. Это небо достойно свирепых машин, эта бездна не тянет меня за предел, за руины тех гиперборейских вершин, за которые я отомстить не посмел. И высокая тяга прозрачных винтов распускается рябью по синей воде с ароматом бензиновой розы ветров, как букет озаренья на Страшном суде. Опускается в бездну поселок лесной, и вращаются лопасти — будто часы. Я бегу с пацанами песчаной косой на другом берегу безымянной слезы…
Сеанс этой последней радиосвязи должен был быть в шестнадцать часов, а в шестнадцать пятнадцать. Василий узнал, что у начальства с собой резиновая лодка. Точнее, лодка ждала путников в тайнике. Об этом ему сообщил контральтовый голос милой девушки Алёны Стрельчонок.
После радиосвязи, по выражению самого Зеленина, у него произошло «замыкание в мозгах». Появилась мысль об убийстве. Или мысль о том, что пришел наконец хороший момент для реализации задуманного? Почему именно тогда возникла мысль? Может, потому, что в этот момент на кордоне никого не было: Светлана ушла на обход, и не с кем-нибудь, а с бывшей женой Идрисова — Викторией.
Василий надел брезентовый плащ с капюшоном и засунул в карман пять патронов двенадцатого калибра со свинцовыми пулями. Через километр миновал по бревнышкам ручей и попал в русскую народную сказку: дорогу пересекали белки — сотни, может быть, тысячи белок. Зверьки перебегали тропинку, сверкали в воздухе пушистые хвосты, уши с кисточками. Взлетали и спускались по стволам, легонько посвистывая. Бросались в мойвинскую воду. Он понял, что нарвался на массовый переход белок — еще вчера тут было пусто. Они не пугались, увидев человека с ружьем, доверчиво замирали в каком-нибудь метре от него, смотрели с любопытством. Казалось, можно протянуть руку и погладить пушистого озорника. Шишка тем летом налилась хорошая, вот они и вернулись на Вишеру.
Никак не мог он забыть тот санитарный борт в мае 1997 года, когда на кордоне впервые появилась Алёна Стрельчонок.
Последний год они поддерживали связь с центром — городской конторой заповедника — через эту вишерскую радистку. Каждый день мойвинских инспекторов приветствовал искренний девичий голос: «Доброе утро! Как там у вас дела?» А с вертолетных бортов снимались заказанные грузы, аккуратно упакованные Алёной, с короткими записками, сделанными ее рукой.
Зеленин и Гаевская познакомились с Алёной в эфире, пролетая над тайгой и отрогами Каменного Пояса. Почему-то решили, что радистка похожа на Дюймовочку с белокурыми волосами. А как еще может выглядеть девушка, которую зовут Алёна Стрельчонок? Она появилась на кордоне в мае 1997 года и оказалась большеглазой брюнеткой с богатым телом, говорливой украинкой. Она увезла с собой больного Никифорова и Гаевскую. Потом Светлана два месяца посылала мужу приветы из разных точек своего круиза по родственникам. Алёна бережно передавала краткие тексты на таежный кордон, назначала дополнительную связь, если была плохая слышимость. Как будто за двести пятьдесят километров чувствовала, как тяжело Василию там, на острове одиночества, со смертоносным вопросом, который оставил ему Никифоров, вопросом, на который, возможно, уже готов страшный ответ. Чекисты определили: Вишерский край относится к Соловецким островам, заброшенным бурей в самый центр континента.
Что поделаешь, если директор Идрисов оставил инспекторам только один способ общения с миром — эту самую рацию. Пятнадцать минут Василий упрямо ждал, когда в эфире появится контральтовый голос Алёны, — и дождался: узнал, что Идрисов движется по реке в сторону кордона. Как будто кто-то гонит человека по узкому коридору…
Гостей Василий встретил, не доходя устья Малой Мойвы. Они шли слишком близко друг к другу. «Наверно, директор командует Агафонову не отставать, — подумал Зеленин, — что-то предчувствует, сука…» Он был уверен, что не промахнется, и все-таки… Все-таки он, всю жизнь проведший в лесу, в первый раз шел на человека. Он вел их не менее километра.
Может быть, в лунных лучах августовской ночи увидел Идрисов тот свет. На этом он оставил стальной нож, лежащий в прохладной мойвинской траве, мерцающий космическим светом.
Идрисов скинул рюкзак, достал нож и повернулся лицом к прохладной реке, холодному свету вечности. Шкурой зверя, безошибочным чутьем тюркского охотника он ощутил смертельную опасность. И достал нож, и посмотрел в небо, и мысленно произнес молитву о благословении. Но было поздно — безвозвратно, неумолимо. Враг, ненависть которого он вскормил сам, уже не сомневался в том, что делает: он бил и добивал оккупанта.
Нет, в засаде Зеленин не сидел — в показаниях было написано: «Я прошел от кордона километров семь-восемь, увидел, что по тропе, метрах в двадцати, мелькает Идрисов…» В своих показаниях Василий не расписывал, что вел гостей более километра.
Зеленин шел и завидовал Алексею Бахтиярову, который видел даже в темноте, как зверь. Однажды на Ольховочном появились два северных оленя, которых Алексей разглядел с Ишерима. А стоявший рядом Василий так и не смог увидеть их в восьмикратный бинокль. Конечно, дикая жизнь формирует физически другого человека: Алексей, выросший в берестовом чуме, с детства вообще не болел, не знал, что такое насморк, и жил как первобытный охотник.
Интересное слово — «мелькает». Я вспомнил, как увидел сквозь полиэтиленовую пленку окна на кордоне Ольховка фигуру человека — она то появлялась, то исчезала. Как оказалось, к домику шел Алексей Бахтияров, по горбатой тропе, которая напоминала караван верблюдов. Может быть, Идрисову, казаху, она напоминала караван? Никогда не забуду, как в армии, на первом месяце службы, я стоял с метлой на краю плаца, а напротив меня — маленький человечек, казах, заместитель командира взвода с тремя сержантскими лычками на погонах. Казах что-то выговаривал мне и тихонечко пинал носком сапога в голени моих ног — аккуратно и точно в косточку. Очень больно, между прочим. Трактористом работал на гражданке. Как-то вспомнилось, что известный чеченский палач имел кличку по своей мирной профессии — Тракторист. И не говорите мне, что клички бывают только у собак, а у людей — прозвища. Чеченцы и казахи нагло брали в рабство русских людей, а между делом рассуждали о правах человека в Европейском парламенте. «Вот идет караван по сыпучим пескам — сам Ходжа Насреддин план везет в Пакистан…»
В ту ночь Василий Зеленин двигался по густой, по синей, по холодной траве — туда, где начиналась узкая тропа, уводившая путника в лесные заросли по буреломному берегу Мойвы. Они достали его!
В каком-то научно-популярном журнале он прочитал, что по фотографиям из космоса ученые пришли в выводу: на планете Земля существует два самых не освоенных человеком места — это Северный Урал и Гималаи. Василий выбрал Урал. Но они достали его!
Как говорят на географическом факультете, они достали его до самой Марианской впадины. И эту лаву уже никто не сможет остановить: багровая пелена застила сознание Зеленина.
Они достали его: предатели, бизнесмены, для которых родина — разновидность минерального сырья, импотенты, неспособные возродить великую державу, утверждающие, что любовь — это статья Уголовного кодекса, продажные чиновники — мерзостная короста на теле страны.
Они достали его — до ядра, до самой цитоплазмы. Он уходил, улетал на край земли, где северные олени и рыси, где останцы, гольцы и водопады Ишерима, пенящиеся в желтой и красной листве, в первом сентябрьском снеге. Где брусничные россыпи на моховых коврах гранитных плит. Он нашел это место — рай за розовым Тулымским хребтом, розовым, если смотреть утром с востока, с кордона Лыпья. Но они достали его! Поднялись за ним вверх по течению на моторках, приземлились на вертолетах, примчались на снегоходах.
Инспектор Югринов пошел встречать Идрисова через Ишерим и верховья Молебной, поскольку это был самый короткий путь с Цитринов на кордон Мойва. Инспектор попался на собственной логике таежного человека, точнее — инспектора заповедника «Вишерский».
Тут Якова мало кто обойдет. Три года назад он делал большие километры по весеннему снегу, по тому, по правому берегу Вишеры, и вышел на шкуры трех освежеванных лосей, части туш и кровавую требуху. Не смогли все унести. Югринов преследовал браконьеров по лыжному следу пять непрерывных часов, пока не настиг в одной из таежных избушек, с оружием и мясом. Составил протокол, насмешливо отвечая на вооруженные ненавистью взгляды вайских охотников. Тайга, кругом одна тайга… Впрочем, чего стрелять — и так все обойдется: штраф, который он тогда выписал мужикам, не выплачен, скорее всего, до сих пор — откуда у безработных деньги? Бедные бедными, а лесные правила нарушать нельзя: бери столько, сколько унесешь. Жадность не только фраера губит. Животных жалко. Следующей весной нашел сохатого в полынье с разодранными сухожилиями задних ног. Наверное, серое зверье выгнало лося на лед, где он и провалился. Эти волки вообще штраф не платят и охотятся без лицензии, как менты. Да что волки. Тут одна норка обнаглела: стоило Якову отойти, как она по одной выбросила всю рыбу из ведра, которое стояло в лодке. Утащить не успела. Во борьба идет кровавая!
В 1996 году Инспектор уже жил в Березниках — большом городе южнее Красновишерска на сто пятьдесят километров. Два года, слава аллаху, не видел Идрисова. Но однажды в однокомнатную квартиру, которую он снимал, ввалились местные менты и забрали у него легальное ружье. А самого отправили в Пермь на психиатрическую экспертизу, которая признала его нормальным. Оказалось, что этот козел, Идрисов, накатал донос в милицию — через два года после прощания со слезами на глазах! Дескать, работая в заповеднике, Югринов гонял сотрудников с ружьем и неоднократно грозился убить кого-нибудь. Потом полгода Яков выцарапывал ствол из ментовки.
Работал на частной турбазе, построенной богатым хитником севернее заповедника, в той самой Республике Коми, где когда-то пахал шофером. Хитник купил себе сто километров дикой и богатой речки, куда доставлял вертолетом богатых — порыбачить, поохотиться, камешки пособирать. Неожиданно Якову сообщили, что на базу его более не берут и в вертолет, чтобы забрать свои вещи, тоже. Борт улетел на север. Югринов сел на мотоцикл и за один день преодолел триста километров, добравшись до 71-го квартала. Спрятал технику, вброд перешел Вишеру и утром следующего дня был на кордоне Мойва. Отдохнул, снарядился у Василия и ушел в верховья реки и далее, через горный перевал, на северо-запад — до турбазы, километров сто пятьдесят в одну сторону. Добрался до места, зашел в балок для рабочих, смотрит — его дорогого охотничьего снаряжения нет. Понятно: хозяин поделил с работниками. Югринов вышел подышать воздухом.
И тут он увидел: по зеленой полянке в его сторону бежит бригадир Зыков, двухметровый «бугор» по прозвищу Миша-машина. С топором в руке, которая сама напоминала оглоблю.
Бригадир, плотник по зоновской профессии, имел странности свободного человека: зарубит кого-нибудь в гневе, построит в лагере церковь собственными руками, помолится за упокой души несчастного, получит условно-досрочное освобождение и снова становится свободным человеком со странностями. На этот раз, похоже, «несчастным» должен был стать Югринов.
Миша-машина весело осклабился и на ходу вогнал плотницкий инструмент в мягкий дерн. «Рукой убивать будешь, — вздохнул Яков, — а ты такой большой — не достану я…» Он сделал короткий шаг влево, чтобы правое плечо нападавшего было напротив собственного правого. Замер. Миша — машина стандартная: прямой правой пошел в голову Якова, тот ушел маятником влево, одновременно «отдал честь» правой, обкатывая удар. И в тот момент, когда рука «бугра» проскочила мимо, правой ногой нанес скручивающий удар под правое подставившееся колено Машины. Ребром правой ладони двинул в голову противника, создал пару сил, захватив левой поясницу и отправив Зыкова в полет — броском по спиральной траектории влево. Бригадир молча ушел головой в бревенчатую стену стоявшего рядом сарая. И сполз по ней, размазав на черном дереве кровь.
— Что значит плохо знать коллектив, — покачал головой Инспектор. — Надо знать интересы и возможности подчиненных. Работодателя это, кажется, тоже касается.
Яков зашел в сарай и вынес оттуда канистру с бензином, щедро плеснул на угол гостевого дома, стилизованного под древнерусский терем. Когда бригада во главе с главным хитником сбежалась, он достал зажигалку, чиркнул, помаячил огоньком, кивнул належавшего у стены Зыкова, приветливо улыбнулся.
— Все сожгу, если краденое не вернете!
Хозяин кивнул головой — и вся команда свалила в сторону склада, стоявшего за балком. «Ага, припрятали, суки, догадывались, что я могу появиться — как снег в июне. Воруют, но боятся». Вернули — принесли и аккуратно сложили на траву перед Яковом.
— Идрисов мне все про тебя рассказал, — заявил бригадир на прощание. — Он узнавал, сколько стоит отстрелять такого, как ты. Оказалось, дешевле, чем он думал.
Югринов медленно пошел к перевалу и далее — в сторону речки Молебной. Василий говорил, что через два дня директор прилетит на Цитрины, а потом двинется к Мойвинскому кордону. Надо перехватить ублюдка.
Когда Идрисов не появился в девять часов вечера, Яков понял, что его не будет и в двенадцать. Было такое ощущение, будто кто-то водил Югринова по тайге и топил печь перед его приходом. Казалось, кто-то все время находится рядом.
Обычно Инспектор засыпал, втыкая над головой длинный офицерский кортик в сосновый сруб. Он владел холодным оружием — мастер спорта по фехтованию саблей. А по тайге ходил с ракетницей, в которую вставлял патрон двенадцатого калибра. Это так Идрисов вооружал свою охрану — боялся казахский хан русских романтиков: перекрестятся, сморкнутся в руку, вытрут сопли о штаны, а потом пристрелят как суку.
Яков Югринов по прозвищу Инспектор стремился к буржуазной педантичности — пунктуальнее человека, чем он, на Северном Урале не было, не существовало точнее часов, а слова — обязательней. Если он сказал, что убьет, то уже не стоит бегать по блатным корешам, лазить по загашникам и расчехлять незарегистрированные стволы, надо варить рис с изюмом и писать прощальные письма, а не заявления в милицию. Потому что все твои жизненные заботы уже позади. Да нет, он никого никогда не убивал, просто слово свое держал.
А ружей, припрятанных где надо, у него хватало. Ракетницу носил для понта.
Он шел в длинной накидке из полиэтиленовой пленки, светился от огонька сигареты, будто призрак, и посматривал на песочные часы Ишерима — камни, покрытые замшей времени, напоминали песок, сбежавший в нижнюю колбу из верхней, невидимой. Интересно, сколько камней в этих часах? Рубиновых камушков. Надо было торопиться, святое дело — раздать старые долги. Конечно, могут взять в оборот Василия Зеленина, а если он — все на себя? Этот придурок способен на многое. На миг Инспектору показалось, что сигарета слабая — да, не достает до дна. И он только головой повел, будто бык.
Валаам — остров на Ладоге. Какой-то уникальный микроклимат, древний православный центр. Гаевская приехала туда в восемьдесят пятом, Зеленин — годом позже. «Все в том острове богаты, изоб нет — одни палаты…» Жили в монастырском корпусе. Всего человек четыреста. «Светлану я, конечно, сразу заметил, — сказал Василий, — она меня, конечно, нет…»
До ближайшего берега пятьдесят километров. Летом добирались на кораблях, зимой — на вертолетах. Когда подсчитали, прослезились: Ми-8 в тот день ожидали четырнадцать человек, а борт брал только двенадцать. У трапа началась борьба за первые двенадцать мест, остальные места не были вторыми, даже третьими не были. Потому что двое должны остаться за бортом — как лишние люди из учебника русской литературы XIX века.
И тут небесная арифметика отличилась невероятной, божественной точностью: именно два человека отказались работать локтями. Они стояли и смотрели на захлопнувшиеся изнутри двери. Поскольку винты борт не глушил, ничего не было слышно. Василий увидел, как командир экипажа выглянул в открытое окно и показал ему большой палец — дескать, молодец парень! А потом ткнул указательным в землю — жди меня здесь!
Эти двое, что остались на земле, друг друга знали только в лицо. Женщина сразу же спросила:
— Почему не стал давиться за место на небесах?
— Наверное, им это место нужнее, чем мне, — ответил он.
— А мне сегодня надо было быть там, на материке.
Они стояли рядом с разбитой аэродромной будкой. Потом начали прогуливаться, не замечая, как летит время. Еще как летит… Летит! Это возвращался на остров вертолет. Вот это да. Погнал небесный архангел вверенный ему борт в заведомо убыточный рейс. За двумя пассажирами погнал, которых он заочно обвенчал — при нулевой слышимости, на языке морского сигнальщика. Они запрыгнули в пустой и просторный салон, сели к иллюминатору. А пилот — он не спешит, пилот — он понимает… Низко-низко идет он над Ладогой. На льдинах тюлени загорают, улыбаются, задрав морды к борту. Март 1989 года. Возможно, сплошного ледостава в ту зиму на озере не случилось из-за того самого парникового эффекта-дефекта.
Женщина оказалась родом с хутора Латгалии, куда они и отправились жить — как оказалось, на два следующих года. Ездили по ее родным местам. Потом жили у бабушки Василия.
Мистика. «Не называйте детей именами тех предков, которые плохо кончили» — так написал мне Василий с чусовской зоны. Прадеда Зеленина по отцу звали Василий Алексеевич — полное совпадение. На фотопортрете, сделанном до 1915 года, запечатлен офицер царской армии, служивший в Варшаве. Его сын, Василий Васильевич, дед Зеленина, родился в Риге. (Кстати, Светлана Гаевская имеет латышско-польское происхождение.) В тридцатых годах Василий Алексеевич был репрессирован и умер в лагере. Плохо кончили…
Время перестройки осталось в памяти как бардачный угар алкаша — что-то ирреальное, вонючее и липкое. «Эстетика помойки — не моя эстетика».
На бабушкином хуторе, в девяноста километрах от Питера, стояло зимнее безмолвие. Василий вслух читал Светлане книгу Саши Соколова «Между собакой и волком» и радовался, чувствуя, что ей тоже нравится. Окружающий мир был пиром безобидных алкашей, местных артистов жизни. Василий знал это измерение: он в него рано вошел и быстро вышел. Заблеванные столики — не его эстетика. «Вообще, — возразил мне Василий, — я не бежал от жизни на край света, не бежал, а просто возвращался в то время, когда мне еще не исполнилось семь лет. И там был не край света, а Светлана, ясный зимний свет…» И это ощущение давали ему заповедные места с недоугробленной природой: «А Светоньке моей всегда хотелось филармонии — в уральской тайге и теплохода с рестораном — в каких-нибудь чучмекских горах. И наоборот… Это от жизнелюбия. Она вообще запредельная оптимистка, а я — клинический пессимист».
Я дочитал очередное его письмо и, уже лежа в постели, открыл сборник стихов одной красавицы, живущей в столице, поэтессы по имени Анна Бердичевская, которая родилась за колючей проволокой — в Соликамском лагере, в ста километрах от вишерского Лагеря, где родился я. И вот, вообразите, читаю в книге такое стихотворение: «На Вишере в поселке Вая уже никто не жег огня, и лайки местные, не лая, смотрели строго на меня. Они лежали в теплой пыли вдоль холодеющей тайги, их уши острые ловили скрип елей и мои шаги. В тот час привычное доверье к собакам дрогнуло мое. Для них домов закрыты двери, они — таежное зверье! Чьи зубы там блестят во мраке? Чьи там глаза горят из тьмы?.. Но знали лайки: „Мы — собаки!“ И волки знали: „Волки мы!“».
Меня удивило название стихотворения — «Час между волком и собакой». Я сразу вспомнил повесть Саши Соколова, так любимую Василием Зелениным. Какой-то код прочитывался во всех текстах, разговорах, воспоминаниях…
В Мойвинской геолого-съемочной партии царил культ личности Игоря Борисовича Попова. Например, имел место такой случай вандализма. Известно, что в Перми жил и работал изобретатель радио, однофамильцем которого был начальник партии. Преданные начальнику люди сорвали с одного из домов на улице имени изобретателя указатель с фамилией ученого, привезли в тайгу и прибили к дереву у палатки. Так на берегах Мойвы появилась улица имени Попова. Кстати, одна американская миллионерша целую минуту ржала — не могла остановиться, когда Игорь Борисович на пальцах объяснил ей разницу между Поповым и Поповым.
Геологи — не экологи. Более того, экологи для геологов — инородное тело. Это Попов открыл месторождение цитрина. Рабочему, копавшему тот шурф на берегу Ольховки, Игорь Борисович пообещал: «С меня стакан „Агдама“». Да что там кристаллы хрусталя в фундаменте паженого дома! И все эти речки Золотанки с руслами, усыпанными сухими, как яйцо, камнями! Возможно, есть третья речка Золотанка, которую все ищут. А на самом деле золота здесь немного, Сибирёвский прииск стоит чуть-чуть южнее, на реке Велс, той самой, по которой шел первый путь из Руси в Сибирь. Веревки привязывались к стволам деревьев, стоявших на берегу, и суда подтягивались вверх физической силой ушкуйников, казаков и неугомонных негоциантов. Они шли в Азию, а за бортом лежала шкатулка, имевшая форму «вогульского треугольника», вершинами которого являются Полюд, Помянённый и Саклаимсори-Чахль, и наполненная золотом, алмазами, хрусталем, железом и медью, вольфрамом и нефтью. Но зачем вольным новгородцам минеральное сырье?
В 1955 году, в том году, когда я появился на свет, в Молотовском издательстве вышла книга Николая Асанова «Волшебный камень». (Молотов — так с 1940-го по 1957 год назывался областной центр в честь живого министра иностранных дел.) Я прочитал в книге, что на золото-платиновом прииске у села Крестовоздвиженское Пермского уезда четырнадцатилетний мальчик Павел Попов, рабочий вашгерда — станка для добычи золота, снял с промывочной машины первый кристалл алмаза, который он принял за топаз — «тяжеловес», как его называли на Урале. Было это в 1829 году. Удивительно, но цитрины открыл тоже Попов, правда Игорь Борисович. «Кристаллы отличались от африканских и индийских камней своей необыкновенной прозрачностью, так называемой водой». Интересно, что уже тогда здесь вовсю промышляли хитники — втайне от казны. Хитники — это кто, хищники? А мастера «при помощи простого болотного хвоща полировали гранит и мрамор неделями».
В пространстве и времени по каким-то неведомым мне формулам были разбросаны, будто драгоценные камни, совпадения, которые мне никак не удавалось идентифицировать…
Там же, помнится, прочитал: у скал Камня Писаного все дно было забито останками судов, бревнами-топляками, чугунными чушками, а может быть, и слитками золота. Около деревянных богов, обращенных на восток, лежали каменные плиты с углублениями посередине, куда стекала когда-то жертвенная кровь людей и животных. Кровь жертвы стекала…
Из показаний Юрия Агафонова, начальника охраны: «От поселка Вая до 71-го квартала мы поднимались на моторной лодке. К Чувалу шли по старой французской дороге. На кордоне Ольховка, где никто не живет, спрятали радиостанцию, шахтерский фонарь, резиновую лодку, весла и направились к Цитринам. Когда вернулись, вышли на связь. Собрали вещи и упаковали в непромокаемые мешки. Директор начал сплавляться, а я пошел по правому берегу Большой Мойвы. Друг от друга находились в поле видимости. Остановку запланировали около скалы Печка. Ели рис, зеленый лук, хлеб, пили травяной чай. Там он вытащил на берег и отдал мне рюкзак — сказал, что лодка переполнена. И быстро скрылся из виду…»
Разве Василий Зеленин знал, что Рафаэль Идрисов остановится? Что он остановится за пять-семь секунд до встречи со своим врагом, на открытом месте, освещенном потусторонним светом? Скинет рюкзак и отвернется к реке?
Я подумал, что Зеленин увидел Идрисова издалека — когда тот еще «мелькал». Тогда, читая дело, я не знал, что Василий вел Идрисова более километра в ожидании подходящего момента. Но почему нож Идрисова оказался на земле? А потому что они здесь остановились. Идрисов сменил обувь — сапоги на ботинки. При этом ножом что-то перерезал.
Я долго рассматривал фототаблицу уголовного дела: в высокой траве лежал человек — лицом вниз, в брюках защитного цвета с широким кожаным офицерским ремнем, в куртке-штормовке, немного задранной. Спина в крови. Справа виднелся комель старого березового ствола, обломленного, наверное, ураганным ветром. Почему-то вспомнились слова маленькой девочки, подслушанные мной в троллейбусе: «Тама ничего не было, мама, тама одна трава, зеленая…»
Жалко тебе эту жертву, кровь которой стекала в Мойву по каменному желобу? Мне — может быть. Или нет? Я понимал, что этот человек был сыном матери и отцом маленьких детей. Странно, я смотрел на убитого, но не испытывал обыкновенной жалости — приличного чувства, необходимого для участия в черном ритуале. Только и заметил, что холодным речным ветерком прошло что-то по груди — может быть, сожаление? Печаль о несостоявшейся жизни? В стране диктовала свои примитивные правила гражданская война, вторично развязанная большевиками, поэтому я привык к виду бесчисленных трупов на телевизионных экранах — людей, расстрелянных в подъездах и автомашинах, на окраинах чеченских сел. Василию жалко не было, и я, кажется, его понимал…
Светлана Гаевская передала мне с оказией диктофон с пленками. Я пришел с работы домой — сын вылетел навстречу: «Папа, нам сегодня сказали на уроке, что Пушкина убил Дантес! Ты знаешь, все готовы были разорвать его на кусочки. Вот бы построить машину времени!»
Прежде всего меня интересовала фигура начальника охраны Димы Холерченко, главного телохранителя бизнесмена — Владимира Петровича Кузнецова. Это все еще был мой шкурный интерес, но уже, конечно, не тот. Гаевская рассказала в письме: всегда вежлив, дружелюбен; когда стреляли из пистолетов, несмотря на спитость, в нем проявился офицер — в классической стойке при стрельбе. Больше и добавить нечего.
Стрелять умеет. Но меня стрельба уже не пугала. Кажется, не пугала. «Добавить нечего» — это что, характеристика чекиста, развитое чувство мимикрии?
Убийцы свидетелей не оставляли, а заказчики — убийц. Если все изложено верно, получается, Зеленин знал о том, что будет свидетель, которого он не убьет. Или не успел он убить? А может быть, растерялся?
Если человек получает пятерки, первый разряд по боксу или большую зарплату, бывает, у него создается иллюзия, будто он лучше других — умнее, сильнее, поэтому достойней самого большого куска. Но это иллюзия, золотой песок и голубой океан, в котором утонули миллионы млекопитающих. Скажи человеку о мираже, он все равно не поверит — и полезет своими босыми ногами проверять глубину Марианской впадины. Почти все жившие на Земле, миллионы и миллиарды людей, ставшие потом ее почвой, плодородным слоем, прошли печальный путь эмбриона до конца. Каждый близнец пытался сожрать своего брата еще в утробе матери. Почти все жившие, почти все, но все-таки не все. Одиночки. И на них вся надежда.
Я продолжал читать показания начальника охраны Агафонова: «К 23 часам мы вышли к устью Мойвы. Направились в сторону кордона. Двигались с дистанцией метров двадцать, иногда переговаривались…
Зеленин выстрелил и стал поворачиваться в мою сторону — он практически посмотрел мне в глаза… И я побежал прочь, с одной только мыслью: чем дальше убегу, тем лучше. Раздался второй выстрел… Я сбросил рюкзак, сорвался в воду, начал вброд переходить речку. На другом берегу свернул в тайгу, спрятался в какой-то яме и просидел там до двух часов ночи… Боялся… Но Зеленин за мной не пошел. Я решил согреться и разжег костер. Для себя я решил, что моя жизнь практически закончена. Меня колотило…»
Очень странный начальник охраны — обыкновенного убийства испугался. Как же он собирался охранять эту землю? По правилам каспаровских шахмат или кремлевского тенниса? Молодой. Потому Идрисов и взял его, что тот ничего не смог бы защитить. А ты — ты сам разве не испугался? Ну, немного.
Тут другая жизнь — денег за выстрел не платят и стреляют метко. С двухсот метров в рябчика попадают. С берегов Вишеры белое мясо поставляли к царскому двору, а потом вывезли этот двор на Урал — и перестреляли в упор, кого в пермском логу, кого в подвале Ипатьевского дома. Куда колокол везти — неизвестно. Такой стала месть за безумные преступления царской династии.
В уголовном деле упоминалось, что оружие убийцы имело техническую неисправность, — деталь, которая кое о чем говорила. Человек, живущий в тайге круглый год, пользуется неисправным ружьем? Или пользуется им редко? На охоту ходит с неохотой? Не хищник по натуре? Действовал в состоянии аффекта? Кстати, надо уточнить значение этого слова — аффект. Вдруг я не так понимаю слово. Утверждает, что нашел ружье, — врет, наверное, разве можно найти ствол в такой тайге, как вишерская? Попов, конечно, знает, что говорит: «Если это не так, то с меня стакан „Агдама“». Но мне кажется, не стал бы Зеленин присваивать конфискованное ружье — только в случае длительной подготовки к убийству, а такой, похоже, не было. У меня отец, опытный охотник, потерял ружье в тайге. Один раз в жизни такое случилось. Приставил его к дереву, отошел — и всё, не смог вернуться обратно. Будто кто-то увел его в сторону. И еще: если Василий действительно нашел ствол, может быть, по высшему закону убийца попадает под амнистию — значит, Бог послал этот ствол Зеленину, чтоб он нарушил заповедь. Благословил, одним словом — или двумя.
«Пыжи, изъятые с места происшествия, имеют общую родовую принадлежность и, как было установлено, сделаны из обреза валенка, изъятого из дома подозреваемого… Принимая во внимание… Принимая во внимание свойства входных ран и наличие войлочных пыжей, следствие пришло к выводу, что повреждения причинены из гладкоствольного оружия». Замечательно сказано: «повреждения». А какая стилистика: «наличие войлочных пыжей». Кстати, где они взяли эти пыжи? И что это за неисправность в ружье? Я вернулся к уже просмотренным страницам.
Всё, включая баллистическую экспертизу, указывало на охотничье ружье УТ-2176 модели ТОЗ-34Р, калибра 28, которое технически оказалось неисправным, но для стрельбы пригодным. Указывало… Прежде всего указывал сам обвиняемый. Интересно, был адвокату Агафонова? Кто дал право столько времени держать его в ментовской камере?
С пыжами в материалах следствия не сходилось. Василий объяснил мне эту нестыковку. Пять пулевых патронов были заряжены далеко от Мойвы. И войлок от тех же валенок никак не мог оказаться в доме на кордоне. «Но мне, честно говоря, эти ментовские навороты были без разницы, — закончил он свое сообщение. — Вообще, все основывалось на показаниях Агафонова и моем признании».
Вот оно что. Происхождение пыжей — это навороты, предназначенные для того, чтобы придать следствию более убедительный характер. Дешевые пинкертоны, браконьеры вишерские — ничего сделать не могут, импотенты…
Если Зеленин заранее планировал убийство, то почему не исправил ружье или не подготовил другое? Наверное, все происходило в состоянии аффекта — психического взрыва, извержения вулкана… Да, можно было и пораньше сообразить. Значит, что-то произошло — конкретное и очень опасное. Человек вернулся из отпуска, а там…
Тут я что-то почувствовал. Действительно, в цепочке не хватало одного звена. Стоп — вот оно! Причина расстрела очевидна, но где повод? Не провокация, а повод! Неожиданный, эмоциональный, безудержный! Он должен быть! Василий по типу личности не является расчетливым убийцей, наемником или мстителем. С чего это вдруг — до отпуска не убил, а после, притом сразу, пристрелил, да еще двумя выстрелами. Второй вообще был похож на контрольный, только без паузы.
Угрозы в мой адрес вызывали подозрение, что дело нечисто. Это уголовное дело. В голову пришла мысль, требовавшая срочной проверки. Если еще есть возможность стать человеком, то не следует ею пренебрегать.
Короче, я решил съездить в поселок Велс. Чтобы, дескать, написать материал о реальной жизни России. Или сбежать от друга Раиса. Или найти в тайге какого-нибудь старика с речки Шудьи. А если еще точнее — попробовать заглянуть в собственную бездну.
Хотелось узнать, что думают по поводу убийства местные жители — с Велса, самого близкого к заповеднику поселка. Да и в конце концов, добыча кедра на заповедной территории или в охранной зоне — это чьи-то миллионные доходы. Часто случается, когда грабители делят добычу — начинают истерично стрелять. А бывает, все начинают стрелять друг в друга. Правда, для этого необходимы определенные условия — например, особая духовность нации, «тайна души» и, конечно, снежная высота помыслов.
Как раз с женой и детьми мы должны были встретить там трех моих друзей, переходивших Уральские горы с резиновой лодкой на плечах — из Азии в Европу. И все-таки мне хотелось найти человека — «приемного сына лесника, работавшего в тридцатых годах на Шудье». И отец попросил передать привет Виктору Краузе.
На том берегу реки, куда нас переправил в лодке десятилетний капитан, на крутом, на зеленом берегу стояли, как старинные каменные башни, две скалы. На первой застыл маленький кедр — с человеческий рост, крепкий, неподвижный, блестящий, как игрушечка.
Романтичное место выбрал для себя управляющий заводом — перед этими береговыми камнями, сложенными из известняков и доломитов силура, покрытыми мхом и лишайниками. Около скал сохранились остатки фундамента того здания, которое до сих пор помнят здесь как «дом барона». Имелся в виду французский управляющий заводом, живший на берегу в начале XX века.
Левее, вверх по течению Вишеры, тянулись сплошные прибрежные скалы, серо-белые, с какими-то красноватыми, охровыми разводами над зеленой водой, напоминавшей полнокровный березовый лист.
Правее начинался Велс — самый северо-восточный населенный пункт Пермской области. Деревянный поселок, среди срубов которого стояло много свежих, разящих запахом дикой таежной жизни. В течение последних ста лет это, считай, третье поколение домов на острове.
Вот именно — на острове… Соловецкие острова, остров Возрождения, Новая Земля, Валаам.
На берегу мы обнаружили ручейковый поток голубоватых, зеленоватых камешков, похожих на бирюзу, любимый минерал восточных самодержцев. Как раз тут проходил до XVI века тот самый путь из Европы в Азию — он поворачивал с Вишеры в русло Велса и шел на северо-восток. До тех пор пока не открыл дорогу от Соликамска Артемий Бабинов, которого называли вожем сибирской дороги.
А голубоватые камешки — сохранившийся шлак от горного завода, построенного в конце прошлого века французским акционерным обществом. Домна и кирпичный корпус находились на острове, но узкая протока между Велсом и Вишерой была засыпана отходами металлургического производства. В результате поселок очутился на стрелке рек.
Об этом рассказал мне Павел Терентьевич Горшков, живший с женой Надеждой Ивановной по соседству с большим пустующим домом, который нам предложили для временного проживания местные. Горшковы вырастили девятерых детей, из которых — «семь сынов», как с гордостью произнес отец. В семидесятых годах семья уехала жить на юг, на Кубань, где растет виноград, но уже через полгода дети сказали: «Папа, вернемся, а? Мы тебе сами хариуса ловить будем». Дрогнуло отцовское сердце — он смотрел, как поднимаются на Российский Север перелетные птицы, стягивая с неба зимний брезент.
Как подумаешь о первопроходцах — тянуло же рисковых людей в безумный путь. У «французского барона» склады находились в Велсинской пещере, длина которой составляет двести шесть метров. При сооружении складов там нашли кольчугу и шлем, оставшиеся, вероятно, со времен дороги в Сибирь.
В пещеру вели деревянные полозы — рельсы, по которым двигалась вагонетка. Вход закрывался воротами. Барон хранил там французское шампанское. А при советской власти, в тридцатых годах, были оборудованы ледник лесопункта и продовольственный склад.
Строился лесопункт — второе поколение домов (после «французских») — спецпереселенцами, раскулаченными со всего Советского Союза. По словам Варлама Шаламова, немного южнее Велса бывал сам Эдуард Берзин — надо думать, чекист добирался на своем гидроплане и сюда.
От дома Виктора Краузе, к которому я зашел передать привет от отца, хорошо просматривался просторный остров на речке Велс. Здесь и был в тридцатых годах аэродром, куда регулярно прилетал двухместный самолет. А телефонная связь существовала еще в конце XIX века!
Дома строились не очень большие, чтобы легче было обогревать. Виктор Краузе, однофамилец философа-идеалиста, сын феодосийского немца, высланного сюда во время войны, — мужчина в зрелом возрасте, крепкий, как сибирская сосна. Он работает в поселке электриком — свет с шести часов вечера до двенадцати, от дизельного генератора.
— В тридцатых по всему району света не было, а здесь — пожалуйста. Напротив того места, где мой дом, стояла небольшая гидростанция. Спецпереселенцы, спецы, построили плотину на Велсе, отводной канал и ворота, поднимавшиеся во время паводка вручную. Гидростанцию закрыли во время войны.
Новый сруб из бруса, три большие комнаты, кухня, веранда, автономное отопление, вода проведена в дом и в баню. Во дворе стоит ЗИЛ-157, собранный собственными руками из брошенных деталей и купленных запчастей. Перед окнами — сплошные цветы.
— Это моя немецкая кровь скрестилась с русской кулацкой — мать выслали сюда из Татарии.
Поселковая улица, где стоял дом Краузе, отличалась обоснованной претензией на долгое будущее. Слева — большой новый дом Александра Цахареаса, справа — такой же, со стилизованной саблей на трубе, Виктора Шевченко по прозвищу Тарас. Еще правее начинал строить дом Леонид Шиллер, глава местной администрации.
Шевченко, Краузе, Шиллер… «А Гёте у вас нет?» — спросил я одного местного. «Может, и был в сороковых», — ответил мужик серьезно, безо всякой улыбки.
Да, Велс родине нужен. Когда война идет, например. С Германией или Чечней.
Среди переселенцев был старик Затей Боровков, сын которого в тридцатых ушел в дальние бега и вернулся сюда только после войны, с фронта, без ноги. Забрал стариков и увез в родную Сибирь, которой до сих пор весь мир пугают. Откуда на Урал ссылали, однако. Представляю, что было в доме Боровкова, когда вернулся сын, с того света.
В поселке я познакомился с Василием Дроздовым, парнем в защитной армейской форме. За девять месяцев он отправил из Чечни три письма, но не получил ни одного. Родители писали ему, да, как оказалось, не туда, а родина не побеспокоилась сообщить верный адрес. Обещали выдать два с половиной миллиона за войну — не выдали. «Что делать будешь?» — спросил. «В Казахстан уеду», — ответил.
Наездами здесь появлялись сторонние работодатели, например господин Горобинский, которого вспоминали, не подбирая слов: «В случае чего так разденет, что не скоро оденешься». Я еще не знал тогда, что придется столкнуться с этим господином.
Молоко тут такое, что, пролившись на стол, отказывалось бежать. Это по склонам, между останцов, августовской земляникой и малиной, по зеленой травке, без пастухов, как божьи коровки, передвигались коровы местной, велсинской породы — коровы-скалолазы.
Хозяевами улиц стали свиньи, пугливые овцы тихо наглели. С наступающим безденежьем люди активно разводили домашний скот. Потому что быстро поняли, в каких случаях родина о них вспоминает. Картошка, лук, репка, черноплодная рябина. «Была бы мука да сахар, — сказал Александр Цахареас — и нету других забот».
Продавали хариуса. В день нашего приезда предлагали пятикилограммового тайменя. Иван Александрович Неклюдов, чердынский учитель математики, автор путеводителя по Вишере, написанного в 1935 году, приводит случай, когда местные поймали белугу весом в сорок пудов. Во время движения рыбы вверх по реке на перекатах у нее были видны плавники.
Люди жили рекой и лесом, как первобытные. Завалить медведя — обычное дело: если человек — пария, то к чему ему чужой закон? Только не забывай, что у медведей в августе гон и в это время с ними лучше не встречаться. А в сентябре — у лосей, могут растоптать. «Я еще ни одного охотника богатым не видел — только горбатым», — сказал мне Шиллер. Сам Леонид Андреевич пятнадцать лет проработал охотником-промысловиком госпромхоза «Денежкин Камень».
В шестидесятых годах по реке Велс был заказник баргузинского соболя, да недосмотрели, случилось, зимой — распустили. И до сих пор мелькает в тайге след — черный цвет меха.
Деморализация велсовских личностей была успешно подготовлена безудержным советским пьянством. Алкоголь настолько вошел в составные обмена веществ, что отдельные организмы пропивали даже «детские» деньги. Как говорил Шиллер, таким и продуктами выдавать помощь бессмысленно — они пропивали все, продавая соседям. Интересно, что соседи покупали. Конечно, в этой ситуации страдали самые маленькие, которые уже умели щелкать безымянным пальцем по горлу: кроха-сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Папа, это хорошо?» — «Да, сынок, неплохо». Некоторые семьи голодали в буквальном смысле этого слова.
Между Тулымским и Березовским хребтами ветер гонял тяжелые тучи. Шел обложной дождь — который день, беспросветный.
Тут многие остались за бортом белого теплохода — в длинной, узкой и черной лодке, которую кто называет «вишеркой», кто «чалдонкой» (позднее появилось новое название — «бурмантовка» — с кедровым днищем, по имени чердынского мастера, соорудившего такую на заказ для одного известного путешественника). И оставшись в лодке, люди пристали к ближайшему берегу, достали свои ружья и обрезы. Но и в этой ситуации один убивал зверя, продавал мясо и покупал детям одежду, а другой — пропивал деньги. У каждого свой моральный кодекс строителя капитализма.
За черникой, голубикой и брусникой велсовские люди поднимались по воде до Чувала — утверждают, что там ягоды тетя Сима посадила, знаменитая Серафима Собянина — таежная охотница, которая прожила на Лыпье девяносто лет.
Шиллер и другие, с кем я беседовал, не смогли назвать мне «приемного сына лесника с Шудьи». И безо всякой надежды я спросил о нем у своего соседа Горшкова.
— Да это я, наверно, — ответил он. — Когда отец умер, меня взял на воспитание его брат, отчество которого я и ношу. Избушки у него по речке Шудье стояли.
Точно говорю вам: мы не ведаем, не знаем, где живем, кому служим и за сколько, что поем.
— Тут на острове пара лебедей поселилась два года назад. Смотрю как-то — один остался. А потом и он пропал. Два дня назад над Вишерой тоже один лебедь летал — и сразу мысль нехорошая появилась, что второго уже съели. И белую цаплю, случилось, не пощадили… Зона здесь была, с поселенцами. Я мастером у них работал. И однажды мужики говорят мне: иди, за штабелем гуси сели. Я туда, а там — одиннадцать лебедей, всех пересчитал, красота бесподобная. Поселенцы машут: стреляй! Я вернулся и говорю им: «Не такие голодные мы, чтобы лебедей жрать».
Много позднее Василий Зеленин расскажет мне один случай. Осенью 1994 года, их первой уральской осенью, в октябре, когда уже лежал снег, они со Светланой услышали крики с небес. Выскочили на крыльцо — была низкая облачность. И вдруг из этого молока выпало на кордон около двадцати лебедей. Возможно, птицы отбились от косяка и сбились с пути — кричали они тревожно, несколько раз пролетали над кордоном туда-обратно, будто прося о помощи, а потом пошли строго надо льдом Малой Мойвы — в сторону Большой.
— Как бы они не погибли, — сказал Василий, глядя вслед белым красавцам, летевшим над белым снегом и льдом осенней реки.
— Ничего, лебедь — самая холодостойкая птица, — ответил ему Никифоров, стоявший между ним и Светланой. — По Мойве они долетят до Вишеры, а по ней пойдут к югу. Там с каждым десятком километров будет теплее.
Потом была радиосвязь, и Василий узнал, что даже на Лыпье лед еще не установился, а по Вишере идет шуга, есть открытая вода.
— Не погибнут, — добавил тогда Никифоров, будто предчувствуя свой трагический исход с этих берегов.
Дом у Павла Терентьевича большой, с горницей, похожей на зал. А рядом другой — из свежего бруса, с деревянной резьбой, мезонином и балкончиком. Настоящий теремок. На стене — ковер, оленьи рожки, подзорная труба.
Историю про казака и его детей он, к сожалению, не помнил — много чего в жизни было.
Он показал мне в сторону Южной Юбрышки — горы, гольцы которой почти постоянно в это время года находятся в облаках. Там, говорит, осталась «французская» штольня, а рядом аккуратно сложены чушки неиспользованной руды.
Приехал как-то секретарь областного комитета партии на Шудью, машина забуксовала. Вылез он из нее и говорит: «Ну, где тут у вас голубой мрамор?» — «А вы буксуете в нем», — с усмешкой ответили рабочие. Монолитные залежи находятся на глубине девяти метров.
Очень похоже на российскую жизнь, по кардан засевшую в золотую грязь.
Ах этот затяжной велсовский дождь, эти бесконечные тучи, которые гоняются ветрами туда-сюда между Берёзовским и Тулымским хребтами. Мой друг Валера и его сын Антон, которые двигались в нашу сторону с той стороны хребта, появились только на пятый день, по причине непредвиденных обстоятельств: Большая Мойва, по которой они должны были плыть, оголила свои валуны — снежной воды не хватило. Поэтому пришлось продираться сквозь тайгу. Добрались до нас, до печки, до бани — и жизнь показалась сладкой, как малина на берегах Велса.
В последний день мы все спустились в пещеру, которая тоже сначала дырой показалась. А когда вернулись, вспомнили, откуда появились на свет. Вспомнили — и пошли на север.
Прошло тридцать лет с того времени, как Валера появился здесь первый раз, шестнадцатилетним школьником. Сейчас он стоял в зарослях высокой травы, пахучих, медовых, снежных метелок бражника, фиолетовой красоты ядовитого аконита, папоротника, похожего на зеленые скелеты каких-то морских обитателей пермского периода.
Прадед моего школьного друга Валеры жил в деревне Южаниново, что выше Красновишерска по реке на пятнадцать километров. Все его предки обитали там, и все были Южаниновы, и вели свой род от первых русских переселенцев, свободолюбивых первопроходцев, уходивших на восток от средневековой элиты — князей и других кровососов. Отчаянные это были люди, первопроходцы, создавшие самое большое в мире государство в погоне за личной свободой.
В сентябре, когда заканчивались сельхозработы, этот прадед, Семён Архипович, поднимался на шестах вверх по Вишере, на сто пятьдесят километров севернее, где на хуторе Лыпья у него стояло зимовье. Брал с собой двух взрослых односельчан и двух подростков. Шли на черных и узких лодках вдоль берега, где течение потише, отталкиваясь от галечного дна длинными шестами. Подростки отгоняли лодку обратно по еще не замерзшей реке с двумя бочками кедровых орехов по сто килограммов, которые успевали налущить за несколько дней.
Зимой они добывали в тайге пушнину — белку, соболя, куницу. Порох берегли, используя силки и капканы. Иногда заваливали одного-двух лосей. Это в двадцатых-тридцатых годах прошлого века, когда охота на сохатого уже была ограничена. С собой охотники брали соль, крупы, муку. Перед дорогой Семён Архипович покупал фунт сахара, половину оставлял дома, а когда возвращался, привозил с собой еще кусочек — для детей, которых было семеро.
Впроголодь жили на зимовье. Возвращались на плотах весной, после того как сходил лед на реке. Старались прибыть в село ночью, привязав подсоленное мясо к бревнам снизу, под водой, чтобы никто не увидел, перетаскивали домой тайно. Потому что соседи могли заложить властям. Надо думать, развал империи первопроходцев начался с распада общества. А вот в других деревнях — Говорливой, Горевой — не закладывали. И может быть, поэтому сама Россия еще стоит.
Валера Южанинов стоял на том самом месте, где когда-то было зимовье его прадеда, Семёна Архиповича, на хуторе Лыпья, где речка с одноименным названием впадает в Вишеру. Он — поджарый, спортивный, но уже седой, бородатый — стоял и смотрел на Тулымский хребет, из-за которого поднималось июльское солнце, на самую высокую точку Прикамья, вспоминал свой первый приезд сюда. Его широко расставленные зеленые глаза хранили всё.
Этот хребет невозможно заснять одним кадром, поэтому мой одноклассник Валера фотографировал его кусками, а потом склеивал черно-белые фотографии в панорамы. Отец Валеры, Пётр Максимович, внук Семёна Архиповича, инженер по профессии, умный, начитанный человек, продвинутый, как сказали бы сейчас, повез своего сына на север специально — по дороге предков-первопроходцев. Петр Максимович с братом и детьми поднимались на двух лодках, с моторами, удочками, коробкой румынского вина «Хемус» и шубным одеялом из овчины. Это было первое поколение интеллигентов в роду первопроходцев и охотников.
Валера окончил школу всего с двумя четверками и слыл среди ровесников примером сдержанности и целеустремленности. Был спортсменом, поклонником точных наук и победителем всевозможных олимпиад. Он написал мне на фронтисписе учебника химии стихотворение Генриха Гейне, по памяти — в оригинале, конечно, не в переводе, а однажды целую ночь, гуляя по белым, по летним улицам города, пересказывал мне новеллы французского летчика Антуана де Сент-Экзюпери, которого я тогда еще не читал. Помните «Маленького принца»? «„Куда вы посоветуете мне отправиться?“ — спросил он географа…» Химико-технологический факультет политехнического института, куда Валера отправился, он окончил с красным дипломом, без единой четверки за пять лет учебы. И в короткий срок сделал карьеру на производстве. Чтобы потом в одночасье бросить все и уйти работать капитаном яхты.
Мы наняли лодку и пошли вверх по реке на моторе — я, мой сын, жена, Валера Южанинов и Антон. Выше поселка Велс расстояние меряют не километрами, а поворотами, плесами и перекатами, на которых мы прыгали за борт и тащили лодку руками, шебурша деревянным днищем по цветному галечному дну реки. Сорвали пять шпонок. Мы поднимались по чистой воде — прозрачной дорогой предков — к таежному хутору Лыпья, где еще до недавнего времени жила с мужем Агафоном и отцом Пантелеем известная охотница баба Сима — Серафима Собянина, та самая, про которую говорили, что это она посадила чернику на Чувале. Выше Лыпьи лодочник подниматься вообще отказался — там камни в воду великаны набросали. На тропе, что вела туда, к тысячелетнему шуму вишерских порогов, то и дело попадались свежие медвежьи следы, взлетали рябчики и кедровки. Да, урожай шишек нынче хороший.
Кровь первопроходцев взяла верх: Валера начал гонять на горных лыжах и яхтах, подниматься в горы Кавказа, Камчатки, Урала.
Было дело, перегонял «однотонник» — яхту самого крупного речного класса в России — по Каме, Волге, Волго-Донскому каналу, Азовскому морю и Днепру до Киева. Экипаж, членом которого был тогда тринадцатилетний Антон, миновал двадцать три шлюза, прошел две тысячи пятьсот километров. Ночью на Куйбышевском водохранилище началась гроза, волны перекатывались по палубе, вокруг сплошная темень. Стало ясно: чтобы выжить, необходимо спрятаться в какую-нибудь бухту. В кратком свете молнии увидели: яхта двигается к берегу, который ощетинился железобетонными «ежами». И снова темень, впереди — крушение. Максимальная собранность, напряженность, ожидание — жизни или смерти… Опять вспышка молнии, резкая смена курса — и яхта прошла в бухту уже в полной темноте.
В тишине благодарил Валера Николая Угодника, покровителя путешественников.
Его предки по бабушке, отцовской матери, были из тех самых чердынских ямщиков, что гоняли зимние обозы до Печоры. Извоз держали. Особенно прославились и запомнились трое бабушкиных братьев-погодков, про которых в семье сохранились залихватские легенды. Будто ходили они покупать самогон — и разбивали трехлитровую бутыль о порог хозяина, если не горел, или выпивали «четверть» на троих, а потом отправлялись на гулянку. Дед рассказывал Валере, как пацаном ездил в санях до Печоры, куда они возили порох, соль и муку, а обратно доставляли пушнину и красную рыбу.
Когда не надо тащиться по перекату, можно лежать в лодке на спине, наблюдать за облаками, считать наклоненные над водой березы, ели, кедры — пару раз слышали ночью в палатке шум падения с подмытых берегов этих деревьев. Жалко их, да и печально, что древесина пропадает. Лучше слушать шум переката и треск догорающего костра.
Мы поднимались на север по территории заповедника «Вишерский». Два раза наше разрешение на посещение этой территории проверяли инспектора. Мы заходили на кордоны Анчуг и Круглая Ямка, по притоку вышли на дом старика, который живет здесь в таежном уединении. Хорошо оборудованный дом, баня, охотничьи лыжи под навесом, рыболовные снасти. Человек ушел в автономное плавание, как уходили на северо-восток первопроходцы. За личной свободой.
На Лыпье нас встретили три студентки-практикантки биофака, охотившиеся на лютики и другую красоту и гордо называвшие себя «ботанами». Девушки рассказали, что неделю провели на кордоне за Тулымским хребтом, куда прошли без тропы, по болотам и буреломам, по компасу! О, отчаянные «ботаны»…
Ничего не сохранилось от хутора бабы Симы. Валера нашел полянку, поросшую иван-чаем, где стояло зимовье Семёна Архиповича. Тридцать лет не был он тут, с того первого раза, и вот вернулся. Объездил весь Советский Союз, чтобы подняться в верховья, назад, к зимовью своего прадеда.
Вспомнил: с прадедом бывал тут один мужик. Однажды зимой он ушел проверять капканы, увлекся — опомнился, когда уже обтемнялось. И выяснил, что забыл спички. Если идти в темноте, можно на скале голову себе свернуть или заблудиться в лесу. А если остаться на месте, ничего не стоит заснуть и замерзнуть. Мужик достал из-за пояса топор, свалил ель и в течение нескольких часов разрубал ее в щепу. Потом свалил вторую ель — и тоже в щепу. Всю ночь работал. Поэтому и не замерз, вернулся утром на зимовье. Да, человек должен быть сильным.
В домике под шифером, в стекле небольшого окна, золотилась от заходящего солнца, слепила вода Вишеры. В августе здесь уже бывает снег, какой застал Валеру тридцать лет назад. Он смотрел с берега и думал.
Наша жизнь не должна быть такой, чтобы к весне оставался только кусочек сахара. В поселке Мутиха имелась машина «скорой помощи» — забрали в город. Поэтому недавно умер старик, которого не смогли вовремя доставить в больницу. Телефонной связи нет! А была здесь сто лет назад, при французах. Пилораму недавно увезли. «Досок не смогли найти, чтобы гроб сделать», — говорили в лесном поселке.
Валера Южанинов стоял на высоком берегу реки, на поясе висел охотничий нож, подаренный ему отцом тридцать лет назад, сделанный из стали, с рукояткой из лосиного рога. Он смотрел на Тулымский хребет, за которым два дня назад исчезли ребята из чердынской станции юных туристов, разглядывал небольшой снежник на склоне. Он завидовал им, ушедшим в тайгу на двадцать пять дней, имея в рюкзаках немного крупы, муки и сахара. Они пройдут Муравьиный хребет, речку Ниолс и поднимутся к самым верховьям Вишеры, туда, где граница Европы и Азии, где на Саклаимсори-Чахль находится водораздел трех великих российских рек — Волги, Печоры и Оби. Его сын Антон, эти «ботаны» и эти чердынские пацаны — другие люди: они не будут закладывать соседей, грабить соплеменников, обманывать свой народ. Валера Южанинов всегда верил французскому летчику Антуану де Сент-Экзюпери: «Посети планету Земля, — отвечал географ. — У нее неплохая репутация…» Эти пацаны — первопроходцы времени: они поднимутся вверх, к истокам реки, будто по ленте Мёбиуса, туда, где прошлое неизбежно становится будущим неистовой «Планеты людей».
Виктор Краузе, второй раз провожая нас на берегу — теперь вниз по течению, заметил, что есть только один реальный путь добычи кедра в охранной зоне — со стороны Свердловской области. Граница не контролируется, а там есть дорога, единственная лесовозная дорога, ведущая к заповедной территории. Валера Южанинов, пришедший с той стороны гор, подтвердил, что встретил там три груженых лесовоза, двигавшиеся им навстречу.
Правильно, волшебный камень, зеленый гранит, малахит, притягивающий богатство, добывается, и всегда добывался, на том склоне Уральских гор, становясь украшением петербургских дворцов. С чего это мы будем богатыми? С оленьих шкур, что ли? Или с алмазов? Слава богу, удалось остаться белым пятном российской земли, идущим от варниц Соли Камской, от скважины с обсадной деревянной трубой, давшей горькую соль с красноватым оттенком, от железной и золотой лихорадки до Чусовского озера с абсолютно секретным ядерным взрывом, от которого содрогнулась планета. Но все равно я счастлив, что у меня есть город, в котором хорошо проводить детство.
«Что с вершины Полюда виднеется? Что скрывает каленый гранит? На изгибе реки полумесяцем тихий город лежит и молчит. Оглянулся вокруг — вижу: Ирод обживает мой пермский период. Но возносит гольцы голубые Пермь Великая в центре России… Схоронился в юдоли земной, проседая палеными бревнами, мой любимый, родимый, родной, мой оболганный и обворованный. Все что хочешь, чего только нету — рыщут птицы по белому свету. Но мерцают гольцы соляные в самом центре проклятой России».
Когда мы на катамаране плыли вниз, сделали остановку на высоком и ровном берегу с аккуратно скошенной травой и стогом, поставили палатку, разожгли костер и приготовили ужин. Все легли спать, солнце зашло за камни противоположного, правого берега, а мы с женой сидели у затухающего пламени. Кругом сильно стемнело, и только пространство реки продолжало сохранять высокий свет уходящего дня. И вдруг над водой раздался какой-то звук, скоро определившийся как работа лодочного мотора, за которой проявился человеческий голос, громко певший какую-то незнакомую мне песню. Лодка шла вверх — она появилась из-за скального поворота и двинулась прямо на наш огонек. «Я родился на Язьве, в семье рыбака, от семьи той немного осталось… Хоть и мать беспредельно любила меня, но судьба мне ни к черту досталась», — еще громче зазвучал одинокий и наглый голос.
Движок заглох, днище прошебуршало по дресве. Мужик поднялся к нам — невысокого роста, самоуверенный, видно, что поддатый.
— Угостите чаем? — спросил он.
Тут я неожиданно разозлился — сказалась, наверно, усталость и некоторая развязность незваного гостя.
— Костер уже потух, — ответил я, — нам пора спать.
— Ничего, я сейчас подкину дров и заварю, — сказала Лиза и встала.
Я тоже встал и пошел в палатку, досадуя на норовистый характер жены. Полежал рядом с детьми и друзьями, но заснуть, конечно, не смог и решил вернуться обратно — кто знает, что на уме у этого веселого придурка? От жениного чая я отказался. Сидел разглядывал лицо аборигена: широкие, но не толстые губы, нос немного вздернутый, без резких и выразительных линий — ну совсем как у меня…
— Как тебя звать? — поинтересовался я, не очень старательно изображая минимальную вежливость.
— Паша, — ответил он между двумя короткими глотками.
— А фамилия? — продолжал изображать я веротерпимость и библейское всепрощение.
— Кичигин, — ответил он.
Жена подняла голову, посмотрела на меня. Да я сам впервые слышал такое — я сидел и подавленно молчал, продолжая рассматривать незнакомца. Я впервые в жизни встретил человека, которого звали Паша Кичигин. Даже моя мать не помнила его, потому что Павла Кичигина, моего деда, по приказу латыша Эдуарда Берзина расстреляли в 1932 году за конбазой четвертого отделения Соловецких лагерей особого назначения, неподалеку от берега Вижаихи, речки моего детства… Маме было три годика. И вот из тьмы вишерской ночи выплывает узкая лодка с человеком, который так просто представился: «Паша Кичигин».
— Откуда ты родом? — спросил я.
— Из деревни Кичигино — была такая, — оголил Паша крупные зубы. — Не слышали? Стояла на Язьве, на берегу, на высокой скале.
Ага, встретились недобитые родственнички…
К утру Паша уже вернулся, как раз к чаю.
— Иди сюда! — махнул он рукой.
Я спустился к воде. Он сдернул брезент, укрывавший носовую часть лодки. Там лежала кровавая лосиная холка. Паша задернул мясо брезентом, расстегнул куртку, достал из-за пояса обрез.
— На, — улыбнулся он с вызовом, — постреляй.
Я взвел курок и поднял ствол. Раздался грохот, появился легкий дымок и знакомый с детства, уже подзабытый запах сгоревшего пороха. Давно я не был в Кичигино — деревне язьвинцев, моих угорских предков. Помню, мы приехали туда с мамой — мама была в приталенном платье и газовом шарфике. Показывала мне и сестренке кедр над скалой, с которого сорвался ее братишка Егор, сын Павла. Сорвался, но крепко схватился за ветвь дерева, повис над водой и потихоньку выкарабкался.
Когда стремительная вода становится похожей на расплавленное олово, а холодный туман скрывает от взгляда хвойные берега, тогда выходит на дорожку голая луна, освещая путь черной и узкой лодке, уходящей вверх по течению реки, по багровому плесу Вселенной, на космический свет нарастающей Селены. Когда я вспоминаю прошлое, я не нуждаюсь даже в настольной лампе. Я закрываю глаза — и мне хватает энергии тайных слез, ярких, как источники вдохновения, как вода, воздух и звезды города, в котором хорошо проводить детство. Как будто наступает то самое время, когда все есть и ничего уже не надо другого, чтобы быть счастливым человеком, поскольку вокруг шумит, гудит, трубит подземными реками территория твоего Бога.
Эту землю еще никто не покорил. На этой территории живут одни одиночки. Да-да, я вспомнил, что вертолет, выполнявший тот санитарный рейс, разбился возле пермского городка Очёр, откуда родом могучие лиственницы, на которых, по легенде, уже века стоит знаменитая Венеция. И я подумал, что одиночки — это те самые сваи, острова, что держат в черной воде прошлого наше единственное мироздание. И я увидел алмазы чистой вишерской воды, пристальные взгляды молчаливых одиночек, бредущих в туманах Кисловских болот в поисках клюквы: неизвестных поэтов пермского периода, наглых и стильных северных музыкантов, художников, прошедших детские лагеря смерти, охотников-промысловиков и грубых лесорубов с философскими фамилиями, беглых зэков и мансийских шаманов, которые навсегда растворились в запахе багульника, офицеров, державших палец на кнопке пуска стратегических ракет с ядерными боеголовками, и милиционеров, переквалифицировавшихся в археологов, бичей с высшим лингвистическим образованием, подаривших собственную жизнь четвертому энергоблоку, и вертолетчиков, разбившихся возле Очёра во время санитарного рейса, путешественников — неутомимых инспекторов территории, и золотодобытчиков с речки Велс, до сих пор похожей на живую дорогу из Европы в Азию, благородных авантюристов и народных артистов, крымских партизан, награжденных Полярной звездою, и суровых дипломатов, умиравших от разрыва сердца в столицах капиталистических государств, экстремальных парашютистов и гениальных провинциальных педагогов — я увидел нательные кресты и параллельные прямые, уходящие в дикую, непознанную бездну холодной и голодной Вселенной.
Мой дядя Егорка выкарабкался — и мы выкарабкаемся, вот увидите. Мы тоже схватимся рукой за мощную ветвь сибирской сосны, нашего кедра, и потихоньку вылезем из этой пропасти, страшно качающейся под ногами.
«Интересно, когда он это решил?» — подумал я, продолжая подозревать, что мысль об убийстве не была спонтанной, возникшей в состоянии аффекта. Велсовские охотники подтвердили, что расстрелять Идрисова намеревались многие — почти каждый. Но реально сделал это Зеленин. А так ли на самом деле? Какого черта — хотели многие, а убил именно он?
Убийство из-за «кедрового бальзама», как я назвал этот вариант после поездки, напомнило мне версию гибели Петра Копытова: когда он с командой пропал в Хибинах, родные неожиданно выдали на-гора мысль о том, что ребята попали в одну из заброшенных шахт тридцатых годов, где работали заключенные. Сумасшествие какое-то, помутнение рассудка, тихая истерика, последняя надежда, вроде веры во Всемогущего, в масляные краски, левкас, доску и мастерство художника. Не было реального повода для убийства директора Василием, не причины, а повода! Но «кедровый бальзам» стал казаться мне чересчур сложным, как вариант с шахтой. Я чувствовал, что никаких миллионов из кедровой древесины за выстрелами не стоит. С другой стороны, сколько раз я ошибался, когда «чувствовал»? Я разговаривал с велсовскими и другими вишерскими мужиками. Местные страстно ненавидели директора заповедника, наглого казаха, они хотели, чтоб он оказался крупным вором, который схлопотал за дело. Да, так и должно быть в жизни, думали они, воруя по-мелкому и быстро пропивая добытое.
Я достал из архивной папки письмо Малинина и перечитал. Потом снова вернулся к показаниям свидетелей из уголовного дела: «…вспыльчивый, злопамятный, спиртное часто не употреблял, но, бывало, если выпьет, начинал изъясняться высокими материями. Употреблял вегетарианскую пищу и был очень мстительным… Случалось, он проворачивал дело так: давал кому-нибудь устное разрешение на ловлю рыбы в заповеднике, а инспекторам охраны приказывал ловить этих рыбаков как браконьеров и составлять протоколы. Поэтому имел много недругов и ходить по тайге, особенно в первые годы, боялся — всё на вертолетах… У Идрисова было двуствольное ружье, газовые пистолеты „Вальтер“, „Револьвер“, система „Удар“…»
Охрана ходила по тайге с ракетницами, а директор имел целый арсенал. Это только официально. Хотя, конечно, у того же Инспектора стволы все равно были. А куда в России без них? Кто тебя защитит? Не милиция же.
Оксана Николаевна Копытова рассказывала, что разрешения на рыбную ловлю в заповеднике выдавались и регистрировались в бухгалтерии. Согласно приказу директора. Какой с них навар, с местных жителей? Одни кости, бульончик. А как оплачивали залеты спекулянты из Перми, которые гордо называли себя «бизнесменами», неведомо никому, кроме Идрисова. Поскольку цифры нигде не фиксировались. Зато известно, что бани и домики на кордонах рубились посторонними бригадами, с которыми директор расплачивался наличными. И постройки эти ни на каком учете не стоят. Казах делал деньги. Его трясло от понятий «заповедный режим», «летопись природы», «раздел фенологии», «проект дендропарка», «методика подсчета ущерба редким видам от разработки золотоносных месторождений»… Ученых Идрисов ненавидел. Его интересовали оптимистические отчеты.
Когда Василий Зеленин жил под Петербургом, он представлял Пермский край сплошным заболоченным ельником. После приезда в Красновишерск очень удивился, а поднялся в верховья Вишеры — и очаровался. Позднее стал другом семьи коренного жителя, а потом сам захотел стать вогулом. А почему нет? Осенью 1995 года они с женой на территории остались одни — на сотни километров вокруг никого.
Хотя целенаправленной политики по искоренению аборигенов русские не проводили, но добились многого — еще в двадцатых годах Велс считался чисто мансийским селением. Постепенно вогулы были ассимилированы пришлыми рабочими французской концессии и последующими волнами спецпереселенцев. Понятно, самым нужным продуктом считалась водка — саамим. «Саами» — относящиеся к финно-угорским народам. Но конечно, не нам, русским, осуждать за это вогулов. А вы что, думаете — православие, мусульманство, язычество? Нет, государственная религия России — алкоголизм, насаждаемый правительством, думой и президентом. Пьяными легко управлять. Напиваясь, вогулы дурели, случалось, убивали друг друга. Бывало, русские убивали манси, но никогда — наоборот. Сам Василий Зеленин убежден, что причина пьянства оленеводов не в том, что существует некая генетическая предрасположенность, о которой писали специалисты, а в особом языческом мироощущении лесного народа — поэтическом, порожденном природной щедростью, духовностью. На Кваркуше — помните? — я ночевал в избушке Бахтияровых, у стены которой на деревянных кронштейнах хранился самодельный трехструнный инструмент — нарс-юх. Но не внутри домика, а снаружи, под стрехой. И в этом — вся вогульская бескорыстность: чтобы ветры играли на струнах, чтобы звезды, Вселенная слышали. Алчность — это не про манси.
— Почему ваш бог все время молчит? — спросил Югринов Бахтиярова. — Почему он ничего не говорит? Не пишет? Прочитай мне хотя бы одну мысль вашего деревянного бога.
Алексей молчал. Он смотрел в звездное небо, чуть выше языков пламени. Они сидели тогда у костра, который разожгли у подножия останца на Чувале, курили и жевали пикшу — черную водянистую ягоду.
— Бог ничего не обязан нам говорить, — наконец ответил манси с печальной железной улыбкой, — он должен порождать мысли…
Бывшие советские руководители, как купюры, не обеспеченные собственным достоинством, до подмышек потели при слове «деньги». Ни начальник милиции, гостивший в доме Зеленина, ни глава администрации — никто не пощадил его потом, даже не поговорил. Шпана. Потому что денежных людей много — порядочных мало. Да и не всё можно купить у нас — денег не хватит. У нас в России. Конечно, за миллион можно приобрести любого патриота. Речь не о патриотах. О каком миллионе, Господи, тут идет речь? Да за стакан «Агдама»…
Конечно, китайцы едят китов, поэтому их так называют. Это утверждает мой сын Сашка. А если ты жрешь малосоленого хариуса? Тогда у тебя должна быть харя с усами. Должна быть, а нету. Трудно все это понять. Как говорит Сашка, мой сын, «глупый ты — из лепешки сделан». Совсем как вогул сделан.
Там, за морями-океанами, люди зарабатывают десятки миллиардов долларов исключительно за счет собственных мозгов. Василий смотрел на депутата Законодательного собрания области, сидевшего на крыльце дома: трейдер, посредник, спекулянт. Это все, на что способны мозги, ограниченные черепной коробкой советского производства: «А кто имел „Победу“ или ЗИМ, тот был вообще неотразим!» Люди, жирующие за счет ближних, они подозревают, будто ничего другого, более достойного, в природе не существует. Вот в этой природе, которую они называют окружающей средой, а Россия представляется им совокупностью дотационных регионов и ясачных территорий.
Историки потом напишут: человеческое достоинство было настолько утрачено, что даже попытка его проявления вызывала снисходительную улыбку российских бизнесменов, вознесших собственное жлобство на уровень национальной идеологии. Василий вспомнил историю, которую рассказал телохранитель депутата по прозвищу Холера. Во время приватизации Чусовского металлургического завода из Москвы чартерным рейсом прибыла команда бандитов с карманами, набитыми баксами, зажигалками и пистолетами, сунула ствол в подбородок главному оппоненту, местному журналисту, и заставила три тысячи людей работать на себя. Переодетые в кашемировые пальто коммунисты. Страну они, быть может, не погубят, а вот народу похоронят много. Ни интеллекта, ни достоинства — сплошная ущербность сознания. Выбирают минеральное сырье и в образовавшийся карьер свозят ядерные отходы со всего мира. А себе покупают землю на юге Франции или Испании. Козлы винторогие. Пусть от голода, вегето-сосудистой дистонии и белокровия дохнут чужие дети. Баи, бояре, ублюдки от накрутки. У нас должны быть элитные школы, кинотеатры, рестораны! Дети элиты будут учиться в английских университетах — в графстве Оксфордшир. А всех, кто против, эта элита размажет по боевой броне своего черного БМВ!
Прослушивая магнитную пленку с записью зеленинских ответов на мои вопросы, читая его письма, изучая уголовное дело и разговаривая со свидетелями, я надеялся понять этого человека, которого ни разу в жизни не видел. Узнал: по мере возможности он старался стать православным человеком, но, кажется, с самого детства ощущал какую-то древнерусскую тоску — и сегодня был готов принять мансийское язычество. Василий читал «Велесову книгу», но пришел к выводу, что это поэтично изложенная летопись. Он чувствовал: русскому воздуху не хватает обрядов и сокровенных знаний, которые были накоплены в дремучих тысячелетиях. Почвенник и сторонник национальных традиций, он считал, что история — это вытеснение милосердных цивилизаций бандами выродков и извращенцев. В результате вогульские монотеисты исчезли, скрылись вместе со своими идолами с европейской территории под напором православных. Только Бахтияровы остались. И сама русская церковь кровью окрасила гусеницы идеологии тех идолов, которых привезли в страну из Англии и Германии, застив свет длинными бородами.
Полуослепший, полуглухой вогул Николай Бахтияров, отец Алексея, перед смертью, как оказалось, произнес — будто на прощание: «Вы уйдете вслед за нами». Старый шаман так сказал, вогул Николай. Страшное дело.
Работать надо, а не «ура!» кричать. В тот же день я пришел в редакцию и взялся за обработку материалов. Пришлось скрупулезно отбирать факты, поскольку фактуры хватало на повесть, а я был ограничен газетной полосой А3 пятничного выпуска. При этом детали и аргументы следовало показать и сформулировать таким образом, чтобы на меня кто-нибудь не накатал какой-нибудь иск. Чтобы не накатали, не накатили, не наехали. И чтобы у меня не появилась вероятность проиграть процесс. Если он будет. Помнится, на моего друга Славу Дрожащих обиженные руководители предприятия написали иск на миллиард рублей морального ущерба, а потом снизили до восьмисот тысяч. «А какая мне разница, — индифферентно отреагировал Слава, — что восемьсот, что миллиард». И я его понимаю, поскольку наш реальный диапазон находится между буханкой черного хлеба и автобусным билетом.
Я опирался только на то, что было в уголовном деле, а также на диктофонную запись своего разговора с Гаевской, Поповым и адвокатом. На запись опирался с оглядкой. Субъективный женский взгляд на то, что происходило в тайге, чувства, гиперболизированные трагедией, и конечную истину, никому не доступную, — все надо было учесть. В конце всех концов я не Бог, чтобы судить людей, даже не судья, коэффициент эффективности которого равен размеру мзды. И разве Бог имеет право приговаривать людей к смерти? Он кто такой? Из какого страшного века нам удалось выкарабкаться живыми! Нам удалось. Тут один положил в Чечне сто тысяч, а ему — мотоциклетный эскорт, пенсию в долларах и липовый мед с белым хлебом. И все это вместо нар на последней ныробской зоне. За что Зеленина? Неужели России действительно пришел конец? Вот, был один человек… Да, опять один.
Правда, какой-то гений сказал, что мы не имеем права на такую арифметику. А на что мы вообще имеем право? Мы имели и будем иметь только одно право — защищаться. А защита может быть неадекватной, когда проводится в состоянии аффекта. Они насилуют наших жен, избивают детей и звонят по телефону, чтобы готовили гроб, а мы не можем взять в руку ничего тяжелее авторучки или стакана с водкой?
Я должен был защитить Зеленина. Но что я против суда, милиции, государства, общественного сознания выжившей из ума, деградировавшей империи? Он уехал на самую окраину мира, но они нашли его — браконьеры бытия.
Он стал царским егерем, стрелком из-под Санкт-Петербурга, белогвардейцем. Или настоящим революционером?
Он медленно накинул плащ с капюшоном и ушел в серое пространство между волком и собакой.
Я понял потом: Идрисов состоял в партии ВКПП — Всемирной коллаборационистской партии предателей. «Коллаборасьон» с французского переводится как «сотрудничество». Члены этой легальной, но не заявленной в официальных реестрах организации стараются поддерживать между собой мирные и даже любовные отношения. «Вы все тут передохнете, а мне ничего не будет!» — говаривал Идрисов за зверобойным чаем. Он знал: если завтра кто-то не даст, то те продадут, предадут, опустят вниз — и двинутся дальше. Таковы правила элитной игры. Поэтому давал — и сам ставил.
Официально они называют себя фашистами или коммунистами, прокурорами или ворами в законе, они называют себя демократами, патриотами и даже интеллигентами, а на самом деле это одна порода людей, которую очень легко определить: они всегда живут лучше, богаче и дольше других. Понятно, чтобы так благоденствовать, надо находиться в состоянии публичной или латентной, но постоянной агрессии. Проигрывают или погибают они только потому, что живут с абсолютной уверенностью в собственном уме и удачливости. Вспомните вывод Алёши Копытова: чаще всего в горах пропадают мастера спорта, потерявшие элементарную осторожность. Или потому, что у соседа по партии реакция оказалась более стремительной — во время очередного дележа. Поэтому в гробу у них случается очень удивленное выражение лица. Паразиты, вампиры, кровососы, которые действуют на всех уровнях мирового социума — государства, корпорации, семьи. Живут за счет других, используя реальных созидателей культуры. Они живут, но постоянно чувствуют присутствие рядом с собой членов подпольной группы молчаливого сопротивления, свободных егерей, неторопливых одиночек…
Интересно, что первыми предали СССР три кита империи — партия, спецслужба и милиция. Те структуры, которые были самыми рьяными и отъявленными в деле защиты советской власти. Это они сажали людей в тюрьмы, ломали кости и расстреливали только за намек, за сомнение, за поднятые брови. Есть такая партия: когда понадобилось предать, коммунисты стали капиталистами быстрее демократов. Они первыми побежали к западным менеджерам — быстро-быстро, обгоняя друг друга. Какова скорость реакции! Теннисисты.
Жизнь этих людей охраняется законом — как памятники природы. Читайте, я цитирую закон демократического государства — ст. 105, ч. 2, п. «б» УК РФ: «Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга…» Подразумевается, что остальные не ведают, что такое общественный долг.
Я уже хорошо понимал, что эта структура начала взращиваться одновременно с кристаллами алмаза и горного хрусталя, в глубинах земли, под умопомрачительным давлением тектонических плит, гораздо раньше, чем появились наскальные рисунки на берегу Вишеры. Рисунки, сделанные самой естественной краской — суриком, оксидом железа, стекающим по серым, по белым скалам в зеленую воду северной реки. Это цвет ранней ржавчины, первой крови, в которой тоже имеется металл. Но в разных количествах. Рисунки изображали людей и лосей — смешные детские фигурки, поднявшиеся над местом жертвоприношения…
Структура — это система эксплуатации человека человеком, как заметил один вор в законе, заказывая пилотам военно-транспортной авиации персики для ленинградского руководства. В 1942 году. Может быть, поэтому вспомнилось Пискарёвское кладбище, в земле которого аккуратно лежит полмиллиона человек, умерших от голода в блокаду. Это твой Санкт-Петербург, рядовой Зеленин, колыбель, бля, революции…
Я ясно понимал слова советника юстиции, прокурора района Веры Петровны Родионовой, зафиксированные в уголовном деле: «Вопрос о занимаемой должности директора заповедника „Вишерский“ Идрисова, его профессиональные качества находятся в компетенции вышестоящей организации — департамента заповедного дела Минэкологии Российской Федерации…» Стоящей выше кого? Человека? Зеленин преступил черту — и перевел этот вопрос в свою компетенцию, назначил себя главой департамента, председателем Верховного суда и палачом. Завел самое заповедное уголовное дело в России. Безграмотные юристы — нет в Москве такого министерства, нет и не было. Существовал Государственный комитет по экологии. И эти вот прокуроры решают сложнейшую интеллектуальную, духовную задачу. Гений Достоевского испугался однозначного толкования Нагорной проповеди. В тысячестраничных томах, в суперстилистике Легенды о Великом инквизиторе он так и не смог сказать своего последнего слова. А специалисты с тонкими книжками юридических дипломов и мозгами, похожими на консервные банки с ливером, какими-то субпродуктами, пытаются что-то сказать, громко заявить, путают названия столичных ведомств, мычат, не зная, где запятую, где двоеточие поставить, где многоточие.
Василий Зеленин сам себя назначил. Суровый мужик, как сказали бы у нас в поселке. Но какое он имел право поднять ствол на человека? Достоевский… Кто и когда первый вывел формулу убийства? Кто-то должен был взять на себя этот страшный грех…
И далее — теперь уже по делу, уголовному: «Зеленин сознался сам. Психическими заболеваниями не страдал и не страдает. Правонарушение он совершил вне какого-либо психического расстройства. Его деяния не были безмотивными, а были последовательными и целенаправленными».
Глубина мысли поразила: у Зеленина, оказывается, был мотив. Но какой? Умные какие, эксперты. Считают себя здоровыми.
Я вспомнил: в частном секторе у Центрального рынка в Перми бандиты убили восемнадцатилетнего сына моих знакомых, чтобы снять с него кожаную куртку. В Балатовском лесу изнасиловали беременную женщину, а потом положили ей на живот доску, на которую стали по очереди прыгать, чтобы выдавить плод. Четыре человека держали потом ее мужа, мастера спорта по самбо, чтобы он не убил молодых людей. Зачем держали? Надо было убить их. А тот летчик, вспомните, бомбивший афганские деревни, детей и женщин, вообще был награжден золотой Звездой Героя Советского Союза. А позднее назначен на пост вице-президента страны. В результате человеческая жизнь стала дешевле всего остального, дешевле российских денег.
Я был на грани срыва. Я сидел за столом, напоминавшим взлетную полосу аэропорта Савино, и боролся с приступом алкоголизма. Казалось, только водка могла спасти меня от страха перед жизнью и смертью.
Но тут подошла Алина Малышева, наша компьютерщица, — высокая женщина, похожая на ангелa-телохранителя. Она почти незаметно улыбнулась и сказала, что сегодня к ней на работу зайдет братан — двоюродный брат Сергей, он сильно старше — ему шестьдесят: «Поговори с ним. Ему сейчас тяжело».
Пришел Сергей — высокий, седоватый, красивый мужчина. Я разговаривал с ним шесть часов подряд, ненавязчиво стараясь включать и выключать диктофон. И только потом, расшифровывая магнитную запись, отметил, что мой собеседник делал большие паузы — тогда, когда в просторном зале раздавался стук каблуков проходивших в буфет женщин… Еще силен мужик. Стук затухал — и он продолжал последнюю, может быть, исповедь в этой жизни — жизни, которая может пролететь за десять секунд.
Десять секунд жизни
В тот день на военном аэродроме под эстонским городом Пярну проходили спортивные сборы перед чемпионатом республики. Инструктор Сергей Бердичевский руководил укладкой парашютов. Он торопился — начинал накрапывать летний дождь. Кроме того, он не выспался, поскольку допоздна прогулял с девушкой, прокатался в лодке. Поэтому его состояние находилось не на той высоте, на которую надо было подняться. Правда, девушка того стоила. И за спиной висел не просто парашют, а более двухсот прыжков и звание кандидата в мастера спорта.
Дождь прошел быстро, и самолет начал свой подъем в небо. На высоте восьмисот метров Сергей отправил в полет молодых — пацанов, которых он готовил для службы в воздушно-десантных войсках. Биплан Ан-2 летел вдоль побережья моря — внизу виднелась узкая пляжная полоска. Начинался великолепный летний день.
Ветер дул с моря, и Сергей знал, что его отнесет к аэродрому, когда сам прыгнул с высоты двух километров двухсот метров.
Конечно, ветер отнесет, но опасная это штука, если пролетишь с прогнозом. Помнится, три дня сидели, смотрели на ветродуй: больше восьми метров в секунду. Потом вроде бы утих. И решили прыгать. Все трое — кандидаты в мастера. А когда полетели, поняли, что скорость по горизонту гораздо больше и равнодействующая, по которой они неслись к земле, получалась грозной — для здоровья и даже жизни. Можно и копчиком не отделаться. Вскоре Сергей увидел, что его товарищ не смог попасть в двадцатипятиметровый круг, наполненный керамзитом, легкими шариками из глины, — во избежание травмы. Хотя спортсмен и парашют развернул против ветра — для снижения скорости, и сам развернулся на сто восемьдесят градусов, чтобы встретить землю не спиной, а лицом.
В течение нескольких секунд Сергей видел, как парашют тащит по аэродрому уже безжизненное тело спортсмена. Он был в ста метрах над ним и понял, что тоже костей не соберет, если не попадет в круг. Тогда он схватился за стропы и подтянул кромку парашюта к себе, погасил его и, круто теряя высоту, угодил прямо в центр площадки для приземления.
А сегодня Бердичевскому надо выполнить комплекс акробатических фигур в состоянии свободного падения: две «восьмерки» в горизонтальной плоскости и два сальто…
Акробатику «крутили» маленькие ребята — и выходили в мастера. У Бердичевского с этим была проблема: конституция, габариты, рычаги не позволяли. Высокий, крупный, он должен был быть кем угодно, но не парашютистом. Допустим, шахматистом. Мастер международного класса Геннадий Кузьмин, сыграв с парнем несколько партий, посоветовал ему дерзать в этом королевстве — на клетчатой доске.
Отделившись от самолета, Сергей падал «паучком» — в состоянии неустойчивого равновесия. Затем он выбросил руки в стороны, сделал спираль, остановился и начал закрутку в другую сторону. Поджал ноги и два раза перевернулся через голову — в сальто, на скорости пятьдесят метров в секунду. Десятки, сотни раз отрабатывалось все это на другой доске — тренажерной, имитировавшей свободное падение.
«Под тобою воздух — воздух на ладонях, воздух на лице. Воздух тебя держит, воздухом ты дышишь, воздух тебя кружит в вихревом кольце…» — так писал Сергей Бердичевский в своем стихотворении, которое он читал Владимиру Высоцкому, когда после спектакля Театра на Таганке они шли вдвоем по вечереющей Москве. Тогда не десять дней потрясли мир, а молодой актер, сыгравший в спектакле Керенского. Впрочем, и десять секунд могут стоить для человека всего этого мира.
Сергей дернул за кольцо — и ровно через полторы секунды понял, что парашют не раскрылся…
Он глянул вверх — и в то же мгновение молнией его пронзила мысль о своем первом и последнем недосмотре.
Дело в том, что маленький шаровидный вытяжной парашют с сетчатой нижней полусферой складывается блином, но имеет внутри пружину, которая зажимается специальной бобышкой с отверстием и фиксируется укладочной шпилькой, вроде гранатной чеки.
Сергей увидел: купол основного парашюта оставался в ярком, оранжевом, длинном чулке чехла — с закрытым клапаном, потому что еще не освободились стропы. И не могли этого сделать без того самого вытяжного парашютика, беспомощно мотавшегося сверху наподобие все того же блина, не наполненного воздухом. Перед полетом, во время укладки, шпилька достается из бобышки и заменяется другой — уже от вытяжного кольца. Что и забыл сделать невыспавшийся и торопившийся Сергей. Подтягивать снаряжение к себе, чтобы вытянуть шпильку, было бессмысленно.
Бердичевский купил две бутылки коньяка и упаковку охотничьих колбасок — для начала хватило, позднее в его гостиничном номере люкс собралась половина «Пекина». Владимир Высоцкий до утра пел и читал стихи: жесткий пафос социально-бытового романтизма…
Бердичевский и по сути, и по возрасту тоже был «шестидесятником». Поэтому он боготворил Никиту Хрущёва.
Когда женился и начал работать прорабом, попал в микрорайон черных пермских бараков — тех самых, которые нигде не числились. За квартиру даже никто не платил: грязь, алкоголизм и братья наши по крови — клопы. Стойла бывших армейских конюшен стали комнатами, в которых жили семьи.
Молодой Бердичевский тут же написал письмо своему другу Хрущёву — с уведомлением: «Ваше письмо передано в общий отдел ЦК».
«Что же вы к нам не обратились?!» — с циничным притворством сказали ему, пригласив в обком партии. Всех после этого выселили, дали квартиры (в том числе и Сергею — однокомнатную), бараки снесли, а люди на радостях чуть до смерти его не упоили.
Сергей дернул кольцо запасного парашюта. До земли оставалось десять секунд, но он об этом не думал и никакого страха не испытывал. Со скоростью электрического импульса ему надо было решить шахматную задачу жизни и смерти.
Вспомните хриплый голос знаменитого барда, певшего свою страстную песню о парашютисте: «Несут меня и рвут воздушные потоки…» Он написал ее после разговора с Бердичевским.
Сергей стоял в охране, сдерживая натиск толпы, ожидавшей появления эскорта черных правительственных лимузинов с Никитой Хрущёвым, сделавшим остановку в Приморье по пути из Америки. «Когда он появится, вы сминайте нас, оцепление, — сказал Бердичевский людям, — устраивайте митинг!» Предложение молодого человека в форме морской авиации было принято с восторгом и через несколько минут реализовано.
А затем был караул у дачного дворца. Бердичевский увидел, как на дорожке появился генеральный секретарь. И подошел к нему. «Откуда?» — «Из Перми», — ответил Сергей. «Не бывал», — покачал головой Хрущёв. «Приходите к нам!» — кивнул юноша на гору. «Нет, к вам высоко, я вниз пойду, к подводникам», — ответил человек, освободивший из Соликамского лагеря мать Сергея Бердичевского.
Так разговаривали они, глава великой державы и стрелок, парашютоукладчик, механик по вооружению с разведывательного гидросамолета. Никита Сергеевич знал о своем будущем не больше, чем этот красивый парень…
Сергей летел лицом вниз, горизонтально — нераскрывшийся парашют стабилизировал падение. Ярко-оранжевый цвет чехла предназначался для того, чтобы видно было, сошел он с парашюта или нет…
Это была смерть. Земля неумолимо двигалась навстречу со скоростью поезда с громадного экрана кинотеатра.
Ранним утром теплый воздух поднимается вверх — и земля приближалась потоком тепла и аромата трав.
Понимая, что все равно погибнет, Сергей перешел из горизонтального в сидячее положение — с подогнутыми ногами, положение, обязательное для приземления. Автоматически — с безумной верой в абсолют, которого, как говорят философы, не существует. С безотчетной верой профессионала, живущего по правилу: делай то, что надо, и пусть будет то, что будет.
Человеческий позвоночник устроен природой так, что вертикально, вдоль самого себя, на сжатие, может выдержать большую нагрузку. А поперек стукни палкой — и переломится. Кроме того, коленные и тазобедренные суставы подогнутых ног амортизируют при посадке с парашютом — без него все эти действия не имеют смысла. Как и страх, который просто сковывает движения.
Сергей Бердичевский написал рапорт командующему с просьбой перевести его с кораблей в морскую авиацию. Командующий, удивленный наглостью новобранца, решил посмотреть на него. Посмотрел, одобрил стать — и отправил в эскадрилью. А там никто и подумать не смог, что прибывший всего лишь салага. Такая у него была выправка.
Но один штабной писаришка достал документы Бердичевского и настучал кому надо. Тогда «деды» порешили «отбить банки» новичку. Нельзя сказать, что это очень больно: кожа защипывается, оттягивается, проворачивается — и отрубается ребром другой ладони. Ничего страшного, но унизительно — как всякое насилие. Была совершена попытка этого акта подчинения, но неудачная. К тому же Бердичевский хорошо запомнил многих в лицо. На следующий день он вышел из строя и одним ударом свалил с ног первого. Получил пятнадцать суток гауптвахты. Вышел из строя снова — и одним ударом свалил второго. Получил пятнадцать суток. Вышел из строя — и свалил третьего. Потом следующего… А затем сказал: «Если попаду с кем-нибудь в караул, пристрелю». Когда пришло пополнение, он объявил «молодым», чтоб держались вместе. На этом дедовщина в эскадрилье закончилась.
Жизнь завершалась со скоростью мысли: запасной парашют раскрыться не успеет, хотя он без чехла и вытяжника. Но Сергей успел пожалеть о том, что не догулял ночью с девушкой… И тут мышцы напряглись в жестком предчувствии конца: всё! всё! всё!
Всё: его мать, художница Галина Михайловна Бердичевская, оказывается, английская шпионка. Он вернулся из школы и увидел в коммунальной комнате чужих людей, разбросанные книги из большой библиотеки, в том числе и на английском языке. Мать действительно читала зарубежных классиков в подлинниках. А на стене висел портрет Эйзенхауэра. Но самое главное заключалось в том, что Галина Михайловна проигнорировала претензии офицера, которому подчинялась, работая в клубе военного училища. Она, женщина интересная, жила в то время одна — с сыном. Ее муж, Холмогоров, собкор «Социндустрии» по Уралу, погиб при таинственных обстоятельствах в конце тридцатых, вскоре после рождения сына Сергея. Теперь она была влюблена в другого человека…
Отвергнутый офицер Советской армии написал на нее донос. Галине Михайловне дали пять лет лагерей, когда она была на пятом месяце беременности. И дочь, Анна, родилась за колючей проволокой.
Сергей отстаивал честь матери и свою с кулаками — в школе, а потом попал в детприемник, где старшие били младших и отнимали кусок хлеба. Бабушка забрала его оттуда. Позднее они ездили с ней на пароходе в Соликамский лагерь — к Галине Михайловне и Анночке.
В следующее мгновение голова Сергея отделилась от тела — отлетела в сторону. Он это понял по тому, что мозг продолжал работать, а чувств, ощущений не было вообще — ни боли, ни смертельной истомы. Он подумал тогда так: «Я погиб, я уже умер, но сознание еще не затухло…» Потом посмотрел на правую руку, пошевелил пальцами, не поверил глазам — и пошевелил еще раз… И в это время услышал знакомый звук сверху, поднял глаза: прямо на него пикировал самолет. Сергей попробовал приподнять руку — получилось. Тогда он тихонько помахал ею, а в ответ летчик качнул ручкой управления — и самолет покачал крыльями. А по радиоволнам понеслось сообщение: Сергей жив, Сергей жив!
Инструктор выпрыгивал последним, и летчик видел, как он сжался в пространстве до невидимой точки.
И летчик первым понял, что Сергей попал в узкую полоску торфа, оставшегося на месте прибрежного лимана. Вошел в него по грудь, как пробка в горлышко. Ни одного перелома.
И вы знаете, что Сергей сделал в первую очередь? Не поверите: он подтянул к себе парашют и вытащил ту самую шпильку, чтоб впоследствии ему не смогли запретить прыжки. Да, потом он прыгал еще более ста раз.
«Дядя Саша» — так до сих пор зовет Бердичевский недавно ушедшего от нас Александра Фёдоровича Малышева, поразившего своими шахматными композициями чемпиона мира Михаила Таля. Он действительно приходился ему дядей, в его семье Сергей провел много времени, когда мать и сестренка сидели в лагере. Дядя Саша вернулся с войны слепым и в глаза ни разу не видел любимой жены и дочери. Именно он дал юному Бердичевскому те уроки, которые позднее позволяли Сергею делать точные, безошибочные ходы. И возможно, уходить от смерти.
Если, не дай бог, не раскроется ваш парашют, если вы станете точкой в пространстве и не останется ни одного шанса, все равно держите свой позвоночник прямо, вертикально — и тогда обязательно попадете, войдете по грудь в ту узенькую полоску торфа, которая тянется вдоль побережья Балтийского моря.
Как тянется узкая полоска города по берегу холодной и стремительной реки, имя которой каждый выбирает себе сам. Серёжа Бердичевский умер через полгода после нашей беседы — от рака. Возможно, десятисекундный прыжок в молодости, дикий стресс, сделал ему насечку на уровне шестидесяти лет. Тогда он испил одиночество в чистом виде, будто чашу дистиллированной воды, — и вернулся оттуда, с неба, откуда возвращаться не принято.
Да, Алина Малышева — дочь того самого слепого дяди Саши, а Анна Бердичевская, написавшая стихи о вайских лайках, — сводная сестра Серёжи. Встречали такое имя — хоккеист Лев Бердичевский, игравший одно время за чешскую команду? Его сын.
В общем, я решил действовать дальше. Потому что только жалость друг к другу может спасти обезумевшее от мировой пустоты человечество.
Вера Дмитриевна, первая жена Волка, начальника вишерской милиции, летом девяносто шестого находилась на Мойве, где около месяца возглавляла детский экологический лагерь. Заметно было: умница — у детей пользовалась авторитетом и даже любовью. Как оказалось, она давно и безнадежно страдала экземой. Давно — это с развода. Вероятно, на нервной почве. Светлана посоветовала ей делать пихтовые ванны. Результат был налицо, точнее — на ноги: Вера Дмитриевна не успела покинуть этот горный курорт, как началось выздоровление. Позднее сын ее, Игорь, для которого Светлана стала медицинским светилом, авторитетом, серьезно просил вылечить мать еще от одного недуга: каждый месяц она уходила в запой, как в кругосветное плавание.
Иногда на Светлану находило — и она начинала видеть…
С утра у Гаевской появилось такое ощущение, будто кто-то начал перекрывать небо. Она возвращалась домой, когда почувствовала чей-то взгляд, подняла голову и увидела летевшего прямо на нее сокола-балобана, окрас — коричневое с белым. Он летел и смотрел на женщину тяжелым взглядом — черным, будто бусы, сделанные из августовской ночи. Господи, это он… Василий показывал эту птицу. Хищник сделал круг над кордоном и ушел в сторону Ишерима.
Она шла и думала: Господи, почему душа Идрисова вселилась в эту красивую и гордую птицу? Никогда раньше не видела у кордона балобанов… Сокол из Красной книги. Да, хищник — он охотится на голубей, грачей и жаворонков каждый день. Арабские сокольничие ценят балобана выше кречета и сапсана, дороже верблюда и лимузина.
Светлана тряхнула головой — мерещится все, наверное. Может быть, крыша поехала? Вспомнила пожилую женщину, жившую в лесном одиночестве — в маленьком домике среди огородов. Хозяйка рассказывала Светлане, что после смерти мужа к ней несколько дней прилетал голубь — садился на карниз и смотрел в стекло. Она не сразу поняла, что это муж.
Василий, Василий, Вася… Сильный человек — взглядом лечил головную боль. Голубь… голубь… голубь… Соколы питаются голубями? Не тот случай.
Она лечила пихтовым отваром, избавляла от экземы. А гостям ставила на стол молодые побеги пихты в сахарном сиропе — варенье. Супруги, прожившие в тайге годы, знали, что на самом деле человеку надо очень мало. Она вспоминала Алтайские горы, красный и черный шиповник, который был сладким в кипятке и потому более выгодным, чем байховый чай. Там она собирала, сушила малину, дикую клубнику и лист черной смородины. У казахов научилась добавлять в свои лесные напитки жирное молоко или сливки, покупавшиеся в заброшенном селе со смешанным казахско-кержацким населением. Иногда она вздрагивала — ей казалось, что снова слышит космические звуки лопающегося в первозданной тишине ясного, морозного дня поздней алтайской осени озерного льда.
Очень мало надо человеку. Еще меньше — богу. Где-нибудь в глубине вогульской тайги, у самого подножия Молебного Камня, стоит языческий идол с былинным русским именем Илюша. Стоит и смотрит своими деревянными глазами на холодные капли дождя, секущие потемневшие скулы, на снег, который ложится на узкие плечи убогого божества, на стаю волков, уходящих на север по следам диких оленей. Идол смотрит, как кланяется ему невысокий, узкоглазый человек с винтовкой за плечом, кланяется и бормочет, бормочет и кланяется. Ничего не понимает суровый Илюша из того, что говорит ему Алексей Бахтияров, вырубивший своего бога топором — два столетия или три года тому назад. Ничего не понимает Илюша, но внимательно слушает.
Мне было тяжело, как в армейском строю в летний резко континентальный полдень. Разве не там я понял, что самое главное качество личности — это способность преодолевать окружающую среду? Я должен был подняться вверх не сходя с места, как вертолет. Очень, очень мало хорошему человеку надо, так ведь?.. Сын был в школе, а жена — на работе. Я сел на диван и автоматически включил телевизор. И увидел Сашу Сумишевского, который жил от меня через три огорода. О, это вишерское небо Сумишевского…
— Я Сума, мальчик с Вишеры, — осторожно представился он, появившись на голубом экране телевизора в ослепительно белом костюме.
Саша Сумишевский
Над Вижаихой, над всей Вишерой — сухое, ясное, рассеченное реактивным следом безоблачное небо. Каждый день какой-нибудь военный самолет, истребитель, летит к Ледовитому океану. А пацаны лежат на белом песочке, смотрят вверх и щурятся от солнца, загорают — ждут, когда на груди останется белый след от песка, выложенного в форме парящего орла. Саше тоже хочется стремительно подняться вверх, облететь земной шар и увидеть весь этот невероятный мир, в который он, Саша Сумишевский, попал, наверное, каким-то чудом — а как иначе?
Саша еще не знает, что, если идти на север все лето, до палевой травы осени и первого снега, до водопадов Жиголана, которые в декабре спускаются с неба голубым льдом, и дальше, до каменных идолов Мань-Пупы-Нёр, идти и идти — до самого Ледовитого океана, то можно не встретить ни одного человека, никого, кроме дикого оленя, полярного волка и сверхзвукового истребителя, пролетающего в сухом вишерском небе с боевого задания, связанного с охраной воздушных границ самого великого в мире государства.
Вижаиха, впадающая в реку Вишеру, — белый песочек, черная вода нашего бесценного цыпочного детства.
Саша вырос на улице Островского, а я — рядом, на Маяковского, в поселке Лагерь. «Все писатели сидели здесь», — шутил он позднее по этому поводу. Но нет уже того двухквартирного финского домика, в котором светловолосый мальчик жил со своей матерью, приехавшей сюда из Курска по вербовке для работы в геологической партии, где она познакомилась с будущим мужем, поляком по национальности.
Родители развелись до рождения сына. Позднее отец работал в Ростовской области, откуда приходили алименты, иногда в натуральном виде — гречкой, пшеницей и даже семечками. Так расплачивалось социалистическое государство с колхозниками…
Все лето Сума, как звали его пацаны, проводил на берегу Вижаихи, в двухстах метрах от дома. Черные сатиновые трусы, кусок хлеба с маслом, посыпанный сахаром, — что еще надо гениальному человеку? И лесотаска на берегу речки: чах-чах-чах-чах-чах… Бревна укладывались в длинные, высокие штабеля. Какими они тогда казались высокими, эти штабеля… А неподалеку от дома сидели на дощатом щите гидранта мужики: «Гуси-лебеди! Барабанные палочки! Дед!» В лото играли. В кинотеатре шли «Три мушкетера», а рядом, на «милицейской горке», в сосновом бору, — танцы.
Мать, Анастасия Игнатьевна, вкалывала — катала баланы на лесной бирже, получала шестьдесят рублей в месяц, работала женщина. Саша пилил и колол дрова, носил на коромысле воду и ремонтировал электропроводку. Два года учился играть на баяне, который-таки купила упорная мать. Но и за учебу надо было платить…
В пятом он остался на второй год. Потому что никогда не делал, чего не хотел, а делал только то, что хотел. Доверял себе, углан лагерский. «Не помню, ты школу, кажется, с золотой медалью закончил?» — спросил я его, знаменитого человека, в мегаполисе, где мы встретились через тридцать лет. «Да, в седьмом классе — экстерном…»
В доме Сумишевских был старенький проигрыватель и только одна пластинка — с песнями Клавдии Шульженко. Однажды галактика этой пластинки выскользнула из рук Саши, упала и разбилась на несколько черных сегментов, безмолвных, как небо ночи. Пять минут он плакал над ними, кусая от досады пальцы. А на следующий день начал петь сам, подражая голосу великой певицы.
Профессионально-техническое училище по старинке называлось «ремесленным». Там, в длинных коридорах, в перерывах между занятиями, началась артистическая карьера Александра Сумишевского. Он, подвижный, как коленвал двигателя внутреннего сгорания, куражился, изображая других, пародируя известных певцов и собственных педагогов.
Сколько лет прошло? Всего тридцать. Саша был за дощатыми кулисами, поэтому не слышал, как говорили в толпе зрителей на праздничном открытии сезона в парке культуры и отдыха: «Сейчас, сейчас, сейчас Сумишевский выйдет». И он выходил — подросток, экстерном вылетевший из нашей средней школы.
Саша прислушивался к себе. И никогда не слышал от матери бранного слова в адрес отца, которого никогда не держал за руку. Поэтому в пятнадцать лет решился: сам купил билет на автобус до Соликамска, где впервые увидел железную дорогу и поезд, который домчал Суму до самой Москвы. В столице мальчик закомпостировал билет до Ростова. За окном — южные степи, пирамидальные тополя, бесконечные виноградники. Владислав Людвигович работал пастухом в ста километрах от Ростова. Сводная сестра была на год младше Саши. Сели за стол, отец — красивый, высокий, с вьющимися русыми волосами — заплакал… Подарил сыну часы — первые часы в жизни Александра.
Однажды Владислав Людвигович купил лотерейный билет, в котором с выигрышем не сошлась одна цифра — и он тут же ее подделал. Жена, когда узнала, что муж выиграл, заревела от счастья: мотоцикл «Урал» по тем временам равнялся годовой зарплате. Завидовал весь колхоз! Владислав приехал в столовую, заглянул к посудомойщице. «Хочешь, подарю?» — «Хочу!» — «Сходим один раз в кукурузу?» — «Сходим!» — «Я только домой съезжу — у жены разрешение возьму», — кивнул Владислав.
Самолет Ан-2 опрыскивал поля ядохимикатами, часто пролетая рядом с высокой трубой маслозавода. Председатель публично не раз предупреждал пилотов, чтобы они так более не шутили. А летчики только усмехались нагло… И вот появилось объявление, что в субботу, в семнадцать ноль-ноль, на площади состоится суд над летчиками. Такого там еще не случалось: собрался весь колхоз на майдане — с детьми и стариками. Стали ждать начала суда. Ждали долго, настойчиво, недоуменно, пока не сообразили, кто бы мог написать это объявление: опять Сумишевский купил, за лотерейный билет! Советские люди, дети идеологического чародейства, безоговорочно верили не только печатному слову, но и написанному от руки веселым колхозным пастухом.
Светловолосый мальчик вырос в поселке Лагерь, созданном для уничтожения людей. Он никогда не знал, что это такое — лавочные плахи северных деревень, лоснящиеся от прикосновений времени. Все, что встречалось вокруг, уничтожалось на глазах, сжигалось, оставляя паленые стены бараков. Опротивел ему черный цвет пожарища, серый и белый цвета опротивели ему тоже!
Саша начал буквально блистать на сцене Дома культуры бумажников и летних эстрадах городского парка, где собирались целые толпы его поклонников. Стандартные клоунады для рыжих и красных клоунов, миниатюры Министерства культуры становились спектаклями, которые демонстрировал городу замечательный второгодник Александр Сумишевский.
Да, скоро Сума пошел на взлет: для начала — в солдатский эстрадный ансамбль при полковом оркестре, потом — в институт культуры, позднее — в ансамбль «Контраст», который возглавлял известный певец Виктор Руденко.
— Ты кем работаешь? — спросил Владислав Людвигович сына, когда Саша навестил его в очередной раз.
— Артистом, — ответил Александр.
Отец внимательно посмотрел на него, усмехнулся — в него пошел парнишка, мастером будет по розыгрышам.
— Да нет, ты правду скажи!
В 1983 году Саша стал лауреатом Всесоюзного конкурса артистов эстрады, который проходил в Москве. Выступление Сумишевского, исполнявшего музыкальные пародии на известных певцов, показали по Центральному телевидению в спецрепортаже, а затем — в передаче «Утренняя почта». О нем написали в газете «Советская культура» и журнале «Эстрада и цирк». Это была всесоюзная известность!
В результате он попал в график Росконцерта. Начались гастроли, на которые Сумишевского приглашали без остановки. Вот, вот когда он облетел всю страну: «Парад пародий» в Лужниках в Москве, фестиваль «Утро Родины» на Сахалине, концерты в Калининграде, Одессе… И наконец выступление в Ростове, куда приехала из деревни сводная сестра. Если отец собирал майдан, то Саша — стадион, пятьдесят тысяч зрителей. Пастух поверил: сын стал известным артистом, переиграл отца… Он обрел отца и начал собирать не майданы, а стадионы и более — всю страну у голубого экрана телевизора.
Саша стремительно поднялся вверх, в небо своего детства, — ни долларов, ни спецшкол, ни сотовых. Потому что человеку надо черного хлеба, можно — с белым сахаром, и немного сухого вишерского неба.
Сумишевского на всю Россию демонстрируют центральные телеканалы, а Саша до сих пор не может расстаться с гордостью лагерского второгодника: «Да, было дело — меня вся Вишера знала!..»
И вот он опять появляется передо мной в темной комнате в белом костюме — на голубом экране телевизора и тихо так произносит: «Это я — Сума, мальчик с Вишеры…»
Из показаний и воспоминаний Василия Зеленина: «Потом я подумал, что если не сознаюсь, то милиция и дальше будет терроризировать других, ни в чем не виновных людей. Не оставят в покое начальника охраны, крупные неприятности ожидают Югринова, у которого был мотив…
В содеянном я не раскаиваюсь: для Идрисова человек, не имеющий денег, ничего не стоил. Поэтому убить его мог кто угодно… Вооруженных людей на севере много. Но убил я… Конечно, были варианты другие — Астрахань, Дальний Восток, но мне со Светланой выпала Вишера…
Вообще-то характер у меня спокойный. А в тот вечер я ощутил какой-то душевный порыв: другого такого случая не будет!
Вы знаете, Белков, бывший начальник охраны, признавался мне, что Идрисов задумал подбросить в наш дом капкан и мясо, чтобы убрать меня с женой, выгнать с кордона как браконьеров или посадить».
Я вспомнил Белкова, который вскоре покинул Вишеру. Этот биолог передвигался по России как белая точка, одиночный выстрел, одинокий самолет на экране радара.
— Идрисов вообще вел себя так, будто каждый день подозревал о своем божественном происхождении, — заметил Белков, прикуривая сигарету от зажигалки, когда мы сидели с ним в вишневом жигуленке у вертолетной площадки нефтяников в Красновишерске. Он смотрел в небо и ждал появления в пространстве той самой точки, имя которой — Судьба…
Да, у судьбы есть только одно имя — имя собственное: Судьба. Эта хитрая бестия способна так аккуратно причесать твои вихры автоматной очередью, чтоб ни разу не задеть черепную коробку. А может вогнать пулю в спину, будто титановый штопор. Или свинцовый жакан.
Да, что такое Судьба? Это возможность, предел, который тебе предоставляет Бог.
Похоже, гениальные люди специально воспитывают своих детей посредственностями. Чтобы уберечь наследников от смертельных крайностей — трагедии нестандартности. То, что принято считать силой, на самом деле является слабостью. Такая мысль пришла Василию Зеленину, когда он читал книгу о семье Льва Николаевича Толстого.
Человек потому бросается в крайности, что не может выдержать на стремнине, где холодно, прозрачно, где никто тебя не увидит, не поможет, а мощное течение срывает твои ноги с разноцветных донных камней. У берега, на краю течения, легче жить.
«Судья: „Если все хотели убить Идрисова, то почему же убил именно Зеленин?“
Свидетель: „Просто он раньше других успел…“ Смех в зале».
Впрочем, публика оказалась столь же восторженной, как и жестокой. У публики девичья память и маразматические мозги. Фамилия свидетеля, который рассказывал суду о самом начале конфликта и его причинах, была Югринов. Ухо сжалось до игольного ушка — и суд бережно пропустил его слова мимо ушей.
В умах некоторых наших соотечественников, из местных, вертелись горячие вопросы. Почему Зеленин? Почему не Инспектор? Почему не Бахтияров, которого Идрисов выгнал с семьей из заповедника? Пять человек, из которых трое — дети, мансийская диаспора на берегах Вишеры.
Значительно позднее, когда мы встретились с Яковом Югриновым на Вае, Инспектор признался мне, что смотрел на Василия, сидевшего на скамье подсудимых, и завидовал ему — в том, что именно он пристрелил ублюдка. «А меня бы живьем никто не взял, — добавил он с усмешкой, — я бы ушел на тот свет — с компанией ментов, конечно».
Манси, ставшие диаспорой на берегах Вишеры… На берегах, что были исторической родиной — страной, которую сначала захватили татары, а потом русские, пришедшие с огнем, мечом и православным крестом. Искор, Ныроб, Чердынь — все погосты, форпосты ушкуйников, агрессивных новгородцев на востоке.
А кто решил, будто язычество хуже христианства? Бахтияров — язычник, но он не убивает людей. Даже рыбу и дичь не стреляет больше, чем необходимо. Консервы не ест. А православные сожгли протопопа Аввакума. Огнем и мечом уничтожили тысячи иноверцев в Азии. В результате сегодня идет обратная волна — откатная, от Ичкерии, Азербайджана, Казахстана… Сегодня волна обещает превратить Москву в город минаретов и медресе. Перенаселенный юг вот-вот хлынет на пустынный север, когда менты продадут Золотое кольцо за грузовик хурмы.
Ночами я мысленно продолжаю разговаривать с убийцей. «Ты помнишь Нагорную проповедь, Василий? Про „не убий“…» — «Я помню сотый псалом — псалом Давида: „С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие“». — «Сапер не имеет права на ошибку, Василий». — «Я не ошибся. Я считаю, что господа смогут существовать до тех пор, пока будут холопы».
Мошка на берегу Мойвы откусывает человеческое тело кусками. От комара остается на лбу кровавый мазок, сделанный из твоей крови. А что испытывает хариус, когда вода Ольховки насыщается хлоркой или борной кислотой? Вертолет поднимается вверх, и уже никто не может рассмотреть бортовой номер… А в стекло иллюминатора бьется изумленное насекомое, неспособное понять, отчего так стремительно удаляется земной шар и как оно попало в брюхо этой гигантской железной стрекозы. А куда, в какую пропасть мы падаем? Каждый день уносит бесценные жизни молодых соотечественников — тотальное жертвоприношение на серых чеченских камнях, в бандитских разборках и бытовых убийствах. Люди откупаются от собственной совести жизнями и счастьем своих соседей.
Яков Югринов, рассказывая мне на Вае о своей встрече с вишерским волшебником, вспомнил один из первых диалогов с этим стариком.
— Опять они за золотом пришли — вернулись. Они из великой страны мечтают сделать карьер, шахту, штольню… Нельзя допустить этого!
— А экономический кризис в начале века и Русско-японскую войну не вы организовали?
— А что, на пользу пошли?
— Я читал, что Волжско-Вишерское горное и металлургическое общество, акционерное, вообще не вышло тогда из тайги. Домны и заводские корпуса были взорваны… В таком случае, Фёдор Николаевич, вы черный колдун, а не шаман. Не белый колдун, я хотел сказать…
— Да хоть горшком назови, только в печь не ставь. Они приходили сюда, чтобы взрывать землю, мутить воду, отравлять воздух. Им нужны алмазы и хрусталь, золото, железо, молибден, нефть… Все, которые везут отсюда желтый хрусталь, цитрин, чтобы украшать им свои тщеславные головы, будут наказаны, сурово, по закону военного времени.
— Фёдор Николаевич, вы имеете в виду Папу Римского или покушение на него — тоже?
Кто-то копал землю в заповеднике, в центре Северного Урала. В поисках цитринов. Может быть, след тянется оттуда — от безумной жажды короноваться? А зачем человеку корона? Разве царь — это не человек, совершающий царские поступки?
Я вспомнил: дно Ольховки, Мойвы, Вишеры усыпано цветными камнями и похоже на цветочный газон. Камнями — цветными, овальными, отшлифованными водой и временем. И ничего более человеку не надо.
— Есть такие женщины: посмотришь и увидишь — залапанные. Ялта — залапанная. Я построю себе дом на границе Европы и Азии, в горах, в тайге, у истока Вишеры, — сказал мне на прощание Яков Югринов, переправляя нас с Валерой Демаковым через реку в лодке, когда мы объявили войну браконьерам, уничтожавшим кедр на правом берегу Вишеры.
Я сидел дома, расшифровывал магнитную пленку с голосом Василия, которую записала во время свидания Гаевская, дописывал материал. Кажется, журналистское расследование получилось эффективным и даже эффектным. Вечером домой залетел мой сынок Сашок, он рыл во дворе снег, поэтому был похож на маленького снеговика. Явился и заявил, что искал в сугробе цветы, «которые под снегом растут — подснежниками называются».
Так все мы в этой жизни — слишком буквально понимаем слова. Сказали нам «правда», «справедливость», «честь» — и мы пошли рыть сугробы, блаженные. Пошли — кто в Чечню, кто в тюрьму, будто обреченные — двинулись вперед по какому-то узкому коридору. Почему Зеленин не сбежал сразу? В перестроечной России мужика не смогли бы найти. Вполне. Один политический зэк рассказывал мне про другого — только уголовного, москвича. Тот сбежал из лагеря и пришел к семье. И никто его не искал — при советской власти! Пять лет он спокойно жил, дочку в садик водил. А один раз пятак в метро пожалел бросить — автомат сработал. Подошел милиционер, попросил документы. Так он, бедный, и попался — за пятак.
«Фраза Льва Толстого о том, что величайшей трагедией в жизни каждого является его спальня, еще в юности вызвала во мне протест и отторжение. И наверное, мое молчание на суде являлось нежеланием признавать собственное идеалистическое заблуждение. Может быть, причина — в элементарном стыде».
Господи, о каком стыде он говорит? Ничего не понимаю. Я снова включил диктофон…
Мне надо было найти Игоря Борисовича Попова, нынешнего директора заповедника, чтобы задать ему вопрос, всплывший по ходу дела. Я позвонил, узнал, что сегодня он читает лекцию с демонстрацией слайдов в зале Союза художников, где проходила выставка фотографий заповедной территории.
Напомню: месторождение горного хрусталя открыл геолог Попов, в том числе желтого, цитрина. Золото тоже он обнаружил. Он собственными руками построил избушку на курьих ножках, вокруг которой сегодня лежат на земле куски граненого кварца, прозрачные друзы. Ходить приходится по хрусталю. Древние называли его нерастаявшим льдом.
Склон Ольховочного хребта — это не сосновый бор: высокие мокрые травы, сухие ветки, паутина, чавкающая, затягивающая ногу почва. Прорезиненный армейский плащ не дает телу дышать. Идешь будто между воронками, оставленными взрывами: склон зияет ямами и шурфами, стенку осторожно тронешь лезвием ножа — и на ладонь вывалится прозрачный карандашик сияющего ювелирного хрусталика. Валяются лотки для промывки породы, ломы, лопаты. Хитники трудятся. Хищники.
Игорь Попов
В зале полутьма. Игорь Борисович стоял спиной к небольшому экрану и менял в аппарате цветные слайды, комментируя моментальные снимки минувшего:
— Тридцать лет назад — территория, которая еще не была охраняемой. В настоящий момент вы смотрите на заповедник глазами главного его разрушителя… До 1991 года самый главный нарушитель режима, которого тогда еще не существовало, — это, конечно, И. Б. Попов: разрушал камень молотком, стрелял глухарей… Это всё вы увидите. Я занимаюсь слайдами давно — с 1968 года. Я вам коротко расскажу о работе геолого-съемочной партии на территории «вогульского треугольника». Забрасывались мы в те сложные, застойные годы только вертолетом. Завозили всё — горючее, тринадцать бочек, до последнего сухаря и коробки спичек. Часть доставлялась вьючным лошадиным обозом — случалось, даже из самой Перми.
Это апрель-май. Обычно после Дня геолога — первого воскресенья апреля. Вот: 5 апреля 1983 года, если мне память не изменяет. Мы высадились на болото, в полутора километрах выше устья речки Хальсории, на правом берегу Вишеры. За восемьсот метров перетащили спальники, печки, топоры, продукты. Нарубили лапника, свалили сушину, вскипятили чаек. Четыре часа вечера. В десять часов у нас уже стояла палатка. Для этого надо выкопать шестьдесят кубометров снега, толщина которого составляла полтора метра.
Ну а тут другой день: высота конька у палатки — два метра пятьдесят сантиметров. Труба торчит. Туда надо спускаться. А мы, браконьеры проклятые, уже трескаем рябчиков. Весенняя охота на них запрещена была всегда. Каюсь, грешны: десять рябчиков мы тогда съели. Ну и несколько зайцев. Нет, я не ем, я фотографирую. Там была полянка, мы ее расширили — десять березок завалили, пять елок. Вручную. У нас была пила-«разлука» — «Дружбы», которая электрическая, еще не было.
Самый хитрый у нас — этот кадр, Чичерин, он же Видякин, Пузырихин и Корченюк. Бегал от советской власти по тайге до 1964 года, потом сдался. Самый старый работник Мойвинской партии, из Бобруйска, из-за рубежа. Из Белоруссии. Как только высадились, начал готовить ужин, пытался разломить ножом кусок соли — проткнул соль, и руку тоже. Ладошку. Ему выписали бюллетень на три дня. Стрелял рябчиков. В общем, занимался хозработами, а мы втроем расчищали аэродром, занимались подготовкой к полевому сезону.
А это уже к концу сезона, в сентябре где-то, в августе, построена избушка — на камеральный период. Обратите внимание: палатка всегда на каркасе, в идеальных условиях она выдерживает три года. Дров море. Потому что в любой момент летом температура может понизиться до минус шести. Последний снег у нас четвертого июля, а первый — двадцать третьего. Лето маленькое. В этой кастрюльке — рябчики, в уксусе…
— Всё еще те? — спросили из публики.
— Нет, уже другие, — улыбнулся Попов. — Тут соленый хариус, а тут — два ящика пряников. С хлебозавода номер два. Порядок у нас был всегда. Все, что временно, это вечно. Лагерь ставится трое суток. Я пятнадцать лет чистого времени прожил в таких условиях. Нарки, печечка — все продумывается.
Во, солнечный день, студенты шарашатся, рюкзаки надели — времени всего одиннадцать часов утра. На работу пошли. Ну это я вам сообщаю, по знакомству, — другим говорю, что тут семь утра. Собака Мойва, лаечка. За одну осень на речке Лыпье с ее помощью поймано восемь соболей. На диктофон записываешь? Смотри у меня!.. Это драга — пятиэтажное сооружение, в ста пятидесяти километрах южнее заповедника, моет алмазы. Такой вот она оставляет после себя техногенный ландшафт: валуны, глыбы, вода мутная. На речке Щугоре. Драга плавает и сама себе делает пруд. Загребает грунт — до двадцати метров глубиной, который внутри промывается, перемывается — и пустая порода уходит по транспортеру в отвалы. Пустая порода, якобы пустая. А на самом деле… За сезон добывается всего два ведра алмазов. У меня тоже есть алмаз, в стеклорезе — за семь рублей у китайца купил. На самой территории алмазных запасов мало — не больше трех ведер. Золота гораздо больше. Специализация партии была золотая, но, как это ни странно, у геологов ни одной золотой вещи нет — пропили, за стакан «Агдама» отдали.
Еще одно полезное ископаемое — горный хрусталь. Одно из месторождений — на Пропащей речке, другое — на Ольховке, еще в 1964 году, когда уже Попов был известен как главный склеротик Мойвинской партии, в двадцать четыре года: я не поставил треугольник через сто метров, рядом с ручейком. Через каждые сто метров у нас рылись шурфы. Проходчик пришел — треугольника нету. А, дескать, Попов — склеротик! И в двух метрах от ручейка давай копать — молодой, неопытный. Выкопал шурф, два метра по воде, — и вся вода ушла в кварцевую жилу. Пошел дальше, вверху уже начал закапываться — с сорока сантиметров пошел хрусталь. Притащил охапку. До 1989 года шла разведка месторождения. Попутно с добычей. До сих пор добывают хитники: таскают хрусталь, облучают его на Южно-Уральской атомной станции — он приобретает золотисто-желтую окраску и продается от двадцати до ста долларов за килограмм. А карат уже ограненного цитрина стоит от одного до трех долларов. Такие вот делаются деньги на нашем сырье, на моем родном сырье. А я нищий, блин, в натуре. Ну, мы ведем всякими методами борьбу там…
Одна из самых красивых речек на территории заповедника — это Вижай. Ялтын-Я — «Священная река» по-мансийски. Потому что вдоль этой реки, в укромных уголках, у манси веками стояли идолы, которым они поклонялись и поклоняются. Вогулы их сами рубят. И стоят боги в лесу по двести лет. Коля Бахтияров, который в 1977 году вырубил очередного идола, назвал его Андрюшей. Старый был Илюша. Потому что тогда у него, у Коли, сын родился Андрюша, а у меня внук — Андрюша… И поставил он Андрюшу на пять лет рядом с Илюшей — богову делу учиться. Спрашиваю Николая: «Ну, как там Андрюша — соображает что-то? Какая погода будет завтра?» — «Да! — говорит. — Молодой, ничего не соображает!» — «А старый чё говорит? Илюша?» — «А старый совсем уже из ума выжил!» — «Так у кого ума Андрюша набираться будет?» — «Так у него, у кого еще — наберется чего-нибудь. Но ты в маршрут иди — погода хорошая будет». Да, предсказывал погоду безошибочно!
В общем, иди за ягодами, за черникой. А брусника фотогенично выглядит, как видите. Я предпочитаю чернику. Земляника выше Лыпьи уже не растет. Где-то заканчивается и черемуха…
А теперь о количестве и качестве снега. Это снежник на восточном склоне Мансипала, есть такой хребет. Итак, 17 июня 1975 года: глубина снега порядка трех метров, протяженность снежника три-четыре километра и ширина метров пятьсот. Вот тут, в перволесье, у стволов берез вытаивают такие воронки глубиной до двух метров. Одну из них вы видите на слайде. Дерево начинает распускаться с 22 июня, появляются зеленые листья над снегом. Это фирн, он плотный: я могу вот здесь стать одной ногой с рюкзаком шестьдесят килограммов — и он будет меня держать. Приезжайте, смотрите. Далеко? Всего пятьсот километров напрямую. Я сорок тысяч километров наездил. За один год.
А это студенты отбирают геохимические пробы. Сейчас, правда, они уже все начальниками стали.
Исток Вишеры. Обратите внимание: навеянные снежники. Преобладающие западные ветры навевают такие сугробы, с которых можно упасть. Один геофизик упал — сломал позвоночник и гравиметр. Гравиметр жалко.
Север хребта. Чувальский Камень. Останец. Одиннадцать часов вечера, солнце еще не село, 22 июня 1974 года. Снежный склон. Студенты смотрят в бинокль, идет ли дым в лагере. Если идет, значит, ужин кто-то варит — можно возвращаться. Если нет, можно еще покататься на снежнике.
Порог на Малой Мойве, где позднее метеорологи устроили пост и определяли расход воды речкой, которая зажата между двух коренных берегов. Весной тут творится черт знает что…
Следы медведей. Они у нас добрые — за все время только два случая было… Весной в петлю попадется лось — приходит охотник, а там уже сидит медведь и говорит: «Лось мой!» Охотник начинает спорить, стрелять, но если даже в упор два раза выстрелишь — трудно сделать это удачно, чтобы наповал. Медведь успевает отвинтить охотнику голову.
Ну, вот Маугли у нас попался — ему медведь выдрал глаз, сломал ребра. Маугли левую руку ему в рот засунул, а правой резал живот ножиком. Пока медведь его грыз. Потом восемнадцать дней Маугли существовал с глазом, висевшим на ниточке, и с распоротым животом, в котором уже буби ползали. Володя давай ему марганцовкой промывать, а он — да перестань, все равно сдохну. А тот лубок ему, шину, глаз отрезал — выкинул. Через месяц Маугли уже пил водку с мужиками. Маугли? Это Ваня Нестеренко, сидел в Ивделе, потом работал проходчиком в соседней партии.
Так называемый камеральный день. Самую маленькую девочку посадили долбить гранит на горе Саклаимсори-Чахль, а мужики сидят у начальника — трафаретики из бумаги вырезают.
Хребет Молебный Камень, южная часть. Где манси приносят своим богам жертвы, которые я называю взятками. В платки, в узелки завязывают шерстяные шарфики, рубашки нейлоновые. В качестве подарков, чтоб соболь ловился. Если олень начнет помирать, идола можно и поколотить — плохо работает. У них отношения простые.
Гора Хусь-Ойка — тоже бог, визирь, помощник главного бога Ойки-Чахль, ферзь…
Родиола розовая — вылезает где-то в начале июня, внизу, около ручейков.
А тут рудорозыскные собаки. Применялись для поиска золота, меди и халькопирита — медного колчедана. Разных рудных проявлений. Колли, а были и эрдели — хорошо работали. И лайки. Порода тут неважна. И овчарки — одна девочка отдала мне свою собачку, чемпиона. Грин — мы его звали Гриня. Золота не было, пришлось взять у Стёпы. Он тут перед полем в ванной мылся, пьяный, упал — выбил три золотых зуба, да… И положил их в мой сейф на хранение. Я говорю: «Стёпа, нечем собаку дрессировать. Можно я твои зубы возьму?» — «Бери, — говорит он, — только не потеряй». Что я когда терял? А Грин был чемпионом области по общему курсу дрессировки, там он предмет находил среди других и тащил хозяину. А нам надо было, чтоб он золото нашел, сел рядом и гавкнул. И вот он, паразит, подбегает к этим зубам, а найти не может — там мох, трава, у него морда тупая. Он чует, что тут где-то, начинает интенсивно рыть — и пока я эти десять метров бегу, там уже куча всего. Я его отталкиваю, он рычит на меня: дескать, сам вали отсюда — я золото ищу, а не ты, у тебя вообще нюха нету.
Один раз девушки его натаскивали. Стёпа кричит: «Я твоего Гриню зарежу! Там бабкин червонец, десять царских рублей!» — «Зарежешь, — говорю, — это чемпион города и области!» Как оказалось, Гриня быстро нашел зубы, в пасть взял — и сидит, молчит. Они ему: повтор! Он раз — и гавкнул, и зубы проглотил. И морду такую удивленную сделал. Три дня мыли золото — не вымыли. Гриня, видимо, через час или сколько отрыгнул где-то зубы — и всё, потерялся царский червонец. Кончилось тем, что я его выучил — все нормально. Отдал его девушкам, они стали работать и нашли золото.
А это гвоздика, которая растет на карбонатах, на мраморах. По ней и ориентируешься.
Олени. Теперь оленей нет, манси спились. Лёня Онянов, который зараз заваливал по три зверя в одной берлоге. Его медведи и съели, 8 мая прошлого года. Пошел петли проверять. Один рюкзак от него нашли.
Манси Мирон ремонтирует нарты. Вот эта деталь — из черемухи, эта — из березы, эта — из елки. Полоз — из красной елки, которая растет на болоте и устойчива к стиранию. На нартах ездить вообще цирк: олени натренированы до упора. Узкая дыра на тропе, между деревьями, — они все четыре в нее лезут, друг на дружку. И им наплевать, зацепилась у тебя нога за березу или нет, оторвалась или нет еще…
Гора, рядом с перевалом Испугавшегося оленёнка. С той стороны начинается река Вишера. Там есть потрясающий каньон — с пятиметровыми сосульками.
Лодка-вишерка. Толкаешься шестом, умеешь — десять километров вверх по течению, не умеешь — три, но вниз…
А это вертолет — за нами прилетел…
После другой, более быстрой публики к Попову подошел я. Задал свой вопрос. Игорь Борисович, собирая лекционный реквизит, вздохнул, покачал большой светловолосой головой.
— Как говорит один знакомый финансист, ни копейки сомнения: так оно и было. Идрисов был похож на моего младшего сына — тот, когда по разным каналам мультики идут одновременно, смотрит сразу два телевизора. Только что сейчас об этом говорить? Вы меня поняли? Кстати, Алёша Бахтияров передает вам привет и говорит, что он не вогул, а манси! Вогулы, говорит, это не мы, а какие-то другие племена.
Может быть, все может быть. Но на Вишере вогулами называют Бахтияровых и других манси. Вогулы, вольные люди. Рыбу солят, мясо вялят, чернику варят — без сахара, грибы сушат, а клюкву хранят на холоде. Огородов не разводят, заборов не городят. Пасут оленей, охотятся и играют на нарс-юх — трехструнном щипковом инструменте, который мастерят из ели, в форме рыбы с раздвоенным хвостом, на котором крепятся колки.
И вообще, Бахтияровыми не Азия завершается, а начинается тот самый Запад — на Молебном Камне, где проходит граница между Европой и Азией. Запад — это Западный Урал, Восточная Европа, Западная, Атлантический океан, за которым, мужики рассказывали, есть какая-то Америка. А центр мира — здесь, на Цитринах, у подножия светло-зеленого, будто покрытого патиной, голого, могучего Ишерима.
Полетел Алексей Бахтияров на юго-запад, в город Красновишерск, впервые. Дали геологи две тысячи своему другу — на расходы. И Бахтияров, узкоглазый, кривоногий, щуплый, с черной, густой, длинной, как у Конька-Горбунка, гривой, забрался в какой-то бар и начал активно угощать местное население — аборигенов. Хотя, если честно, его предки первыми появились здесь три тысячи лет назад, в ранний железный век, который ученые называют ананьинской археологической культурой. Так что помолчите — кто тут хозяин.
Алексей то и дело выглядывал на улицу и кричал прохожим оленеводам: «Русские, друзья, заходите — угощаю!» Ну, эти, конечно, мимо не проходили.
Когда геологи Алексея нашли, он уже был за пределами разговора. Поэтому тело вогула в салон Ми-8 внесли молча, вместе с коробками продуктов и мешками цемента, предназначенного для строительства домика. И всю воздушную дорогу, то есть полтора часа, Алексей не только молчал, но и не двигался.
А когда вертолет подлетел к Цитринам, выяснилось: машину не посадить — такой дул ветер в трубе между гор. Пришлось приземляться на самом Ольховочном хребте, хотя понятно стало: пятидесятикилограммовые мешки придется таскать вниз, за триста метров, на своих плечах. Но выбора не было, потому что была труба, да какая — что там аэродинамическая…
Да, как только стих шум-гул винтов, Бахтияров открыл глаза, поднял голову и вскочил так, будто сутки проспал трезвый у себя дома: почувствовал вогул, что вертолет опустился с небес туда, где тысячу лет стоял чум его вольных предков. Он вскочил и безо всякого вербального перехода включился в лошадиную работу: геологи отнесут по мешку, охотник — два. И никакого синдрома, раскаяния и жалоб на неудавшуюся жизнь.
В июле он насобирает дикий лук, растущий по берегам таежных речек, засолит ведро — и на год ему хватит. А сегодня поймает пять хариусов, накормит детей. Хотя, конечно, здесь эта рыба не такая крупная, как, скажем, на Печоре, но что Бахтиярову до Печоры? Его родина здесь, где на склоне Ольховочного хребта тысячу лет простоял чум вогульских предков. А Бахтияров родину на рыбу не меняет. Пусть морда у печорского хариуса тупее, тупоносей, зато местная вкусней. И вообще, при чем тут чья-то морда или усатая харя…
Правда, один раз Алексей попал на Мань-Пупы-Нёр, плоскогорье в верховьях Печоры. Да и то олени завели — пять дней двигался за ними по тайге. Это вам не два часа на вертолете! Подивился тамошним останцам — каменным столбам в горной тундре, похожим на окаменевших идолов. Ну и что? Молебный не уступит причудами времени.
Завершалась первая неделя после убийства Идрисова. В тайге стояла тишина. «Кажется, придется сдаваться и все сдавать», — по-хозяйски размышлял Василий. Он заметил, что произнес эту мысль вслух, наверное для кошки, сидевшей у печи и внимательно наблюдавшей за хозяином.
Светлана привезла эту рыжую Мусильду котенком из городской конторы заповедника для борьбы с лесными мышами. Полевок и крыс там не было. Когда подросла, кошка начала ловить мышей безжалостно: придет, принесет мышку, покажет — вот, мол, работаю — и только потом устраивает трапезу. Простая домашняя кошечка превратилась в неистовую террористку: давила птичек от снегиря до кукушки, бурундуков, белок и голенастых зайчат размером больше себя, а однажды обнаглела — принесла горностая. Через год Василий заметил, что у Мусильды сепаратный мир с норкой, бегающей по двору, — зверь кошке, похоже, был не по зубам, поэтому она делала вид, что не замечает его.
Осень 1996 года выдалась урожайной на еловую шишку, поэтому зимой вокруг дома собралось много клестов-еловиков, которые постоянно копались в трухе в большом и пустом сарае. Мусильда нападала на них из-за поленницы дров и сытая приходила домой ночевать. В конце зимы Василий заметил, что по пять-десять придушенных птичек она начала оставлять на ночь в сарае, но к утру от этих заготовок оставался только пух. Сама она их съесть не могла, поскольку дверь закрывалась, а вентиляционные продухи в подполе наглухо забиты паклей. По следам Василий понял, что ворует куница или соболь, или метисы — «кидусы» по-научному, которых он встречал здесь даже с красноватым мехом. В декабре он увидел, как куница гоняет по укатанной «бураном» вертолетной площадке здорового зайца. Он закричал, и она убежала в лес. Заяц подпустил Зеленина метров на пять и, оправившись от шока, рванул тоже, но в другую сторону. «Наверно, она ходит в сарай за клестами», — подумал Василий и решил отловить зверька, опасаясь за жизнь кошки: куньи сильнее кошачьих — так, росомаха справляется с рысью.
В марте Василий проснулся от стука на веранде — по звуку было похоже, что какой-то зверь спрыгнул с чердака. Он подумал, что это большой полосатый кот заявился в гости с Цитринов, за сорок километров. Но это было нереально — трудно не погибнуть в дороге, в когтях соболей. Василий взял фонарик и посветил в окно из кухни на веранду: над картонной коробкой с продуктами торчал пушистый хвост, не кошачий. Зверек, взбешенный светом, начал бросаться на стекло, сползая по нему, скрипя большими черными когтями. Пришла Светлана. Сказала: «Прелесть какая завелась!» — и ушла спать. По распластанному на стекле меховому пузу он понял, что это самка, и сразу назвал ее Кунигундой.
Вскоре куница стала приходить на веранду днем, поскольку ей понравилась нанизанная на нихромку, висевшая гирляндами оленина, которую принес Бахтияров. Сороковой, наверное, прыжок оказался успешным, но она не стала сразу грызть мясо, а просто перерезала зубами проволоку. Заслужила. Она не наглела — съедала два-три куска, как с шампура, и уходила. В апреле, когда потеплело, дверь на веранду держали открытой. Кунигунда проходила на кухню, проверяла кошачьи миски. А однажды они увидели, как куница и кошка прогуливались мирно по насту, рядышком, видимо о чем-то беседовали на своем зверином языке.
Как только Холерченко с бандой свалил в сторону, Василий связался с Бахтияровым по рации и попросил вернуть шестнадцатый калибр, который вогул брал у него доя обороны от медведей, таскавших в начале лета оленят.
Они встретились на середине тропы. Василий повернул голову и увидел на золотистом стволе сосны потемневшие насечки, вырубленные вертикально.
— Что тут написано?
— Осенью здесь прошли три мужика, две женщины и собака — к стойбищу на Лиственничном.
Алексей принес ружье и унес здоровенный арбуз детям, никогда не видевшим южное чудо. От банды остался.
— Скажу им: такая клюква на болоте выросла, зеленая еще, — улыбнулся Бахтияров на прощанье.
Возвращаясь на Мойву, Василий с улыбкой подумал: если бы предложили выбрать нацию, то стал бы вогулом — маленьким, кривоногим, заплатанным. Победителей воспринимал как красномордую мразь, вечно жующую «орбит». А манси даже на том свете занимаются любимым делом — пасут оленей, ловят рыбу или хлещут белое пойло. Николай, отец Алексея, пить пил, но даже в самом запредельном состоянии замолкал, когда спрашивали о языческой вере. Потому что вера для вогула — святое. Не доя публики. Недавно Алексей обещал Василию рассказать о своем боге. Жаль, не успел…
Не знал милицейский полковник Мамаев, что еще в 1774 году вогульский сотник Егор Андреевич Соловаров и Кондратий Семёнович Бахтияров «со товарищи» обратились в Соликамскую воеводскую канцелярию с просьбой выдать им грамоту на земельные угодья взамен подлинной, сгоревшей в селе Верхняя Язьва. По эту, по западную сторону Уральского хребта владения новокрещеных вогулов находились в верховьях Язьвы, тянулись к северу до Помянённого Камня, до Кваркуша и далее — до Печоры. В 1775 году Александр Борисов, Соликамский воевода, выдал вогулам копию грамоты на владение землей, размеры которой равнялись хорошему государству.
Странное это понятие — вишерские финно-угры. Может быть, «странные» от слова «страна» — большая страна с небольшим населением. Я всегда удивлялся количеству совершенно необычных для пятнадцатитысячного городка людей. Удивлялся потом, когда стал взрослым. А с какого-то детского ракурса запомнил одного стройного мужчину в яловых сапогах гармошкой и такой папиросиной «Беломора» в зубах — с пережатым гармошкой бумажным мундштуком. Однажды я, восьмилетний пацан, обратил на него внимание у библиотеки, что была в одном из бараков Лагеря. Так разбрасывает свои карты судьба — мы снова встретились с ним, через тридцать пять лет. И тогда я узнал, что он мой земляк и моего героя — Алексея Бахтиярова — тоже. Да, земляки по планете. Какое-то всемирное землячество угров. Помнится, я встречал его фамилию в гостевой книге заповедника, на Цитринах. Да каждый из моих героев — это вариант Васи Зеленина, с другим днем, годом и местом рождения. Впрочем, Эник еще и родом из-под Санкт-Петербурга.
Эник Финнэ
Великий царь Пётр отвоевал эту территорию в 1704 году у шведов. Ижорская земля была переименована в Ингерманландскую губернию, а затем — в Санкт-Петербургскую. Помните, у Пушкина: «Подъезжая под Ижоры…» или «Где прежде финский рыболов…» Там издревле жили ижорцы — народность, говорившая на языке финно-угорской группы. Конечно, многие удивятся, узнав, что ижорцы компактно проживали на Северном Урале.
В бывшем Лагере было девяносто шесть бараков, сангородок и образцовый парк, Третья, Четвертая, Пятая улицы Максима Горького — последние три сгорели.
Татьяна Финнэ, преподаватель математики, расстелила на полу рисунок — генеалогическое древо, родословную своей семьи. А ее отец, Эник Константинович, смотрел на эти белые рулоны кальки и вспоминал черные ленинградские ночи, которые так не похожи на белые санкт-петербургские.
В конце 1934 года был убит Сергей Киров. А в апреле следующего года тысячи жителей Ленинградской, а также Псковской областей насильно отправили на восток. Ехали в тех составах и финны из предместья Гатчины. Но сослали не всех: одна старуха сама просила, умоляла, чтоб ее забрали тоже — с семьей. Отказали старухе… Потому что нужна была рабочая сила.
Никто не пилил, не колол — не готовил на зиму дрова, настолько все были уверены, что вот-вот разберутся и отправят всех назад. Никто не думал, что это надолго, тем более — навсегда…
Так появились здесь странные для местного уха фамилии: Веролайнен, Пакки, Финнэ… А известная до сих пор фамилия Хистонин — на самом деле Хестойнен. В одном бараке жили люди из Гатчинского дворца — супруги Рендовичи, прачка и конюх, и бывшая барыня, внучка генерала и сестра дипломата, Варвара Ивановна Джериховская. А рядом — семья железнодорожника Финнэ.
Осенью 1937 года забрали отца, Константина Эдуардовича, и вместе с другими арестованными тогда мужчинами отправили в Соликамскую тюрьму. А весной, мартовской ночью, раздался повторный стук — на этот раз увели мать. Ее привезли в ту же самую тюрьму, откуда, как ей сообщили, отправили на этап мужа. И она никогда не узнала правды. Кстати, в этой тюрьме бывал Варлам Шаламов, из этой тюрьмы бежал еще один «финский парень» — «зеленый бандит» и писатель Ахто Леви.
Семья надеялась долго — всю жизнь. Но только через пятьдесят три года Эник Константинович узнал точно, что за несколько дней до прибытия матери в тюрьму его отец, «шпион», как и многие другие, был расстрелян. В квартиру Эника Константиновича зашел молодой человек из КГБ и сообщил: так, мол, и так… Жаль только, что слово «реабилитация» — не волшебное, оно не воскрешает отцов.
Мать, Сару Петровну, освободили через год. И она начала искать своих детей, малолетних Эника и Арво, которых разбросали по детским домам. Первым нашла старшего, Арво, и зимой 1940 года отправила его к родственникам, в Гатчину, а вскоре — и Эника. Чуть-чуть разминулись братья, рядом прошли, как мать с отцом в тюрьме, чтобы встретиться через очень много лет — в Стокгольме.
Из оккупированной Гатчины фашисты вывезли ингерманландских финнов в Эстонию, в лагерь интернированных, откуда их затребовала Финляндия. По дороге Арво отстал от поезда, и его взял к себе добрый финский крестьянин. Через несколько лет этот хороший человек даст Арво деньги и отпустит на поиски счастья. Будущий полиглот подойдет к шлагбауму на границе со Швецией — и еще раз перейдет на территорию другого государства без визы.
А Эник в то время бежал с другом — на фронт. Десятилетнего мальчика не раз ловили и водворяли в детприемник. Он называл другую фамилию. Первое письмо матери Эник написал из вологодской детской колонии. И когда пришла почта, перед строем прозвучала фамилия: «Финнэ!» Но никто не откликнулся. Потом Эник, радостный и перепуганный, пошел и признался. Заместитель начальника колонии сказал: «Красновишерск Молотовской области? Я там служил, Финнэ помню. Да, яблоко от яблони недалеко падает».
— Может быть, это он уводил, увозил ночью моих родителей? — вслух подумал Эник Константинович. — До сих пор помню его фамилию — Володин. Патриоты, они отдали за Россию миллионы жизней — чужих, конечно.
В сталинские времена область носила имя министра иностранных дел. На стене в квартире Финнэ висят небольшие красочные пейзажи вишерского севера, выполненные маслом. Эник Константинович, как и старший брат, с детства был склонен к художественному творчеству. А в колонии получил квалификацию резчика по кости. Мать и сын встретились в августе 1945 года в Красновишерске.
Жизнь старшего брата Арво сложилась благополучно, если так вообще можно сказать — ведь он никогда больше не увидел матери. Он жил в Италии и Швеции. Был рабочим и администратором отеля. Эник Константинович показывал мне шведскую газету, где целая полоса посвящена Арво: две фотографии элегантного мужчины, а рядом перечисляются языки, которыми он владеет: финский, русский, итальянский, немецкий… Всего тринадцать.
После войны Арво начал поиски своей семьи и нашел ее в 1956 году. Десять лет они переписывались. И через месяц после того, как советские власти не разрешили матери выехать на свидание с сыном, Сара Петровна Коломайнен, не выдержав потрясения, умерла. И мужа отняли, и сына, и жизнь…
Мне казалось, что этот человек никогда не позволял себе рассказать все — он всегда останавливался у какой-то невидимой черты и замолкал. Я догадался, что это за черта. Это запретная зона сердца, за которой человек остается один, как кедр на велсовской скале, наедине со Вселенной, прямо напротив красной звезды.
В прихожей квартиры Финнэ я обратил внимание на флажок с разноцветным крестообразным символом.
— Это флаг Ингерманландии, — пояснил он, — я привез его со встречи финнов, живущих там до сих пор, и тех, что разбросаны по всему свету…
Разбросаны — как по белой бумаге генеалогического древа семьи Эника Константиновича Финнэ, земляка Василия Зеленина, — по двум точкам на земном шаре: Петербургу и Перми Великой.
Когда городские гости поднялись в небо и быстро исчезли, оттуда появились другие — не менее многочисленные. То ли на объедья, разбросанные по территории у кострищ, то ли в порядке мистического предзнаменования к кордону слетелось большое количество птиц. Особенно нагло вел себя один хищник: подпускал Василия на три метра или ходил вокруг него, когда тот убирал граблями мусор, оставленный залетной компанией. Птица раскидывала крылья, что-то кричала и, взлетая, проносилась над его головой, едва не задевая когтями волосы.
На кордоне имелась оставленная каким-то орнитологом сеть, и Василий мог бы без особых усилий поймать птицу, но вместо этого вел с ней пространные разговоры о жизни и был уверен, что сокол все понимает. Ни подранком, ни больным хищник не выглядел. Дома Василий достал книгу — определитель птиц и выяснил, что на территории появился сокол-балобан, крупный, не менее сапсана. Может быть, он прилетел на запах шашлыков? Тоже птица, видать, важная…
В ту августовскую ночь Василий не спал — не мог заснуть. Во время последней вечерней связи из конторы сообщили, что завтра прилетит борт с операми, которые будут искать пулю на месте преступления. Зеленин вспомнил, что есть такая пермяцкая сказка «Пера-богатырь». Наверно, это про первого опера Перми Великой. Да чего там, имя так называемого великана Полюда принадлежало новгородскому воину и означало «ходить по людям» — дань собирать то есть: мытарь, баскак, налоговый инспектор. А мы: богатырь! И наконец, жертвоприношения Ойке-Чахль. Какая дань — кровавая! Взятка высшему должностному лицу. Василий смотрел в окно, в сторону высоко взметнувшихся двух совершенно голых, стальных вершин Хусь-Ойки, двух гольцовых вершин, напоминавших женскую грудь невиданной красоты и величины — все-таки тысяча триста пятьдесят метров над уровнем моря. Эта женская грудь, гладкая, полная крови, принадлежала жене и помощнице главного бога.
«Нет, — почувствовал Василий, глядя в августовскую ночь, — это не за пулей, это по мою душу». Во рту было сухо и горько.
Потом он лежал в постели с закрытыми глазами и в сотый раз прокручивал в башке черную виниловую пластинку: «Что-то мне показалось, что-то мне показалось, что все это за мной, и мой ордер подписан, и рука трибунала виска мне касалась, и мой труп увозили в пакгаузы крысам…»
Стихи Евгения Рейна он прочитал лет десять назад в журнале «Новый мир». Прочитал, ни строчки не запомнил, а тут проявилась в памяти целая строфа — надо же…
И еще чудо: высоко и кратко, будто молния, сверкнул воздух. Это лопнула струна на гитаре. Светлана проснулась, но ненадолго. Василию не хотелось омрачать последние, как считал, часы, которые они проведут в этой жизни вместе. Поэтому он ничего не сказал любимой женщине о своих беспощадных арестантских предчувствиях.
— На тебя никто не подумает! — успокаивала Гаевская мужа последние дни. Дипломированная оптимистка.
Утром, собираясь к месту встречи с вооруженными архангелами, Василий строго наказал жене:
— Гитару не трогай. Вернусь — перетяну струну сам.
Наказал, не веря ни одному своему слову. Поцеловал — и пошел к устью Малой Мойвы.
Он шел и не думал, что жена мужа ослушается — что-то нашло на Светлану. Она перетянула струну, настроила гитару. Она начала записывать на листок какие-то слова, подбирать аккорды. Смотрела в окно, потом снова записывала и подбирала. Она видела Василия, идущего по тропе вдоль таежной речки, сопровождала его взглядом со скоростью ангела-хранителя, летящего за плечами мужа.
Гаевская представляла себе: он возвращается, садится напротив, пьет чай, а она поет ему свой романс, первый в жизни. Представляла — и не видела блаженной, наркотической улыбки на своем темном, сухом, осунувшемся лице.
Светлана дождалась — муж вернулся.
День был хмурый, моросил невидимый и непрозрачный дождь — обычный августовский день Северного Урала. Василий шел к устью Малой Мойвы и с улыбкой вспоминал, что во время своего июньского, предпоследнего захода на кордон директор и начальник охраны обнаружили там ружье двенадцатого калибра, вынесенное водой на песок. Василий отмочил оружие в солярке и отчистил заводской номер на замке. А до того еще Югринов говорил ему: четыре года назад там перевернулась заповедниковская «чалдонка» и затонуло ружье. Он запросил по рации контору — номер тот. Зашедший уже в июле Агафонов со смехом рассказывал, что Идрисов предложил ему тогда составить протокол о том, что преследуемый директором браконьер бросил ружье и скрылся. Начальник охраны не согласился, указав Идрисову на состояние ружья, пролежавшего в воде четыре года. Интересно, сколько он таких подвигов себе приписал? Имитатор. А в России было время, когда не любили искусственные алмазы, стразы и другие разного рода подделки, было время. Позднее я узнал, что именно для этого ружья Идрисов нес чехол.
Зеленин пришел на место своего преступления раньше, чем прилетел вертолет. Стоял, смотрел в мокрое небо, не чувствуя ни вины, ни страха. Позднее смог определить свое тогдашнее состояние безысходным и божественным словом: обреченность. Пустота, полное отсутствие какой-либо опоры — и неумолимая, мощная гравитация черной дыры, уносящей тело и душу в неведомую бездну. И там, на самом дне этой бездны, он разглядел крохотную точку, которая становилась все больше и больше, в которую он падал, как приговоренный, — это из-за Тулымского хребта появился обещанный вишерским эфиром вертолет. Машина низко зашла над Большой Мойвой, раздвинула воздух и мокрые травы и опустилась лапами на галечный нанос в устье Малой.
Зеленин не двигался со своего места — стоял в накинутой на плечи армейской плащ-палатке. В руках он держал топор и лопату.
Позднее он подсчитал, что архангелов было восемь — только тех, которые шли к нему в касках, бронежилетах, с автоматами Калашникова и даже со снайперской винтовкой. Они двигались по самому короткому маршруту, как отряд могильщиков, и Василий протянул первому из подбежавших топор и лопату. Тот схватил инструмент, а остальные начали заламывать Зеленину руки за спину, обшаривать карманы в поисках гранаты или базуки, стаскивать рюкзак. Что делать, Василий не дергался — он предвидел все это до мелочей, до первых ментовских слов: «Тебя назвал Агафонов».
Была такая смешная мысль: брать будут не в подъезде, не в сельском доме, а в тайге, где он был хозяином, который мог бы принять гостей по высшему разряду — устроить им небольшую чеченскую бойню.
Через десять дней, находясь в красновишерском КПЗ, Василий узнал, что группа захвата, которую специально привезли из Перми, собиралась его отстрелять, невзирая на то, окажет он сопротивление или нет. Вероятно, героев России остановило большое количество свидетелей — трудно было бы убрать всех. Потом они говорили Василию: «Ты правильно сделал, что прикончил мразь, но зачем свидетеля оставил?»
А я вспомнил кусок записи с диктофонной ленты: «Дело не в том, что я пожалел Агафонова. Потому что о жалости речь вообще не идет. Я просто не собирался его убивать — понимаете? Мысли такой не было. Я шел убивать Идрисова. О какой жалости вы спрашиваете меня?»
Этот уникальный оперский рейс оплатил департамент заповедных территорий Государственного комитета по экологии России. Заповедное дело стало уголовным…
Светлана дождалась — Василий вернулся: он спустился с неба с «браслетами» на запястьях, в окружении дружелюбных автоматных стволов. Взгляды Светланы и Василия встретились — над космической бездной…
Зеленин немного позапирался, чтоб не нарушать правила светской игры. С вооруженными небожителями прилетели две женщины — прокурор и следователь прокуратуры, бывший заместитель директора заповедника Малинин, исполняющий на земле обязанности Идрисова, и даже начальник департамента Степанов, примчавшийся на Мойву из Москвы. Не каждый день казахов убивают на Северном Урале.
Гаевская подошла к Степанову — мужчине в расцвете лет, кандидату наук, интеллигентному чиновнику, воспитанному, как спаниель, окончивший Гарвард. Когда бы он, членистоногий, смог повидать Россию, если бы совсем не расстреливали директоров?
— Прилетели, Дмитрий Петрович? — кивнула она головой, приветствуя прямого начальника. — А где же вы были, когда сотрудников заповедника вывозили отсюда трупами и инвалидами?
— Я не знал, не знал, — быстро и негромко заговорил Степанов, — честное слово, не знал… Господи, как я сожалею!
В лицо Василия в это время весело смотрел габаритный убийца из группы захвата. Белобрысый губошлеп из Губчека.
— Да ты понимаешь, что сделал? Вся Пермь на ушах стоит! Уже который день!
— На соленых? — без улыбки поинтересовался Зеленин.
— Что — на соленых? — ответил озадаченный оперуполномоченный.
— Пермяки солены уши, — напомнил ему Зеленин поговорку.
— А-а! — протянул мент. — Скоро ты сам станешь соленым — от Соликамских слез. На зоне там не был?
Зеленин был искренне изумлен. Вся Пермь? На ушах? Из-за этого гада? Когда тысячи ежедневно умирают — в камерах, в заброшенных подвалах, на городских свалках? Когда дети живут, спят, голодают в туннелях теплотрасс? Бесконечно терпение Господа нашего…
Василий смотрел на свою Светлану в иллюминатор медленно поднимающегося вертолета. Продолжал накрапывать настырный заповедный дождичек. Жена одиноко стояла в траве, завернувшись в кусок полиэтилена, и заплаканное, родное ее лицо едва просматривалось. А борт неумолимо уходил в сторону, оставляя внизу, на сырой земле, белую, мерцающую точку, через несколько секунд исчезнувшую в мареве неумолимого прошлого.
Гаевская осталась одна — в тайге, во всем этом мокром и холодном мире.
А вертолет, прижатый к земле августовским небом, летел ниже Тулымского хребта и параллельно ему, потом — Чувальскому. Совсем близко к борту проходили, будто бока гигантских рыб, серые, чешуйчатые, туманные гольцы Уральских гор. Василий смотрел по ту сторону толстого стекла с блаженной улыбкой сумасшедшего, навеки прощаясь с этой божьей благодатью. На душе его было светло от алкогольного чувства — долгожданной обреченности. Он прощался с тайгой, свободой, жизнью — он понимал, что не сможет существовать в стаде, загоне, зоне. Не сможет — в тюрьме или на воле, без разницы — без узды. Или с ней. «В стаде у меня верх берут скорби…»
Как он узнал от сокамерников, обычно менты делают так: сначала бьют ногами по голове и только потом спрашивают, за что тебя взяли. Пути твои, Господи… Василий Зеленин, убийца, никому не известный инспектор заповедника, неожиданно стал национальным героем. На взлетной полосе бывшего вишерского аэропорта, окруженного желтыми песками, группа захвата окружила того, кого собиралась отстрелять. Чтобы сфотографироваться на память.
Похоже на встречу кумира с восторженной публикой. Василию заботливо подбирали сокамерников, чтоб убийца не испытывал психического дискомфорта, интересовались здоровьем, а женщины из прокуратуры искренно пытались направить уголовное дело по выгодному для подследственного руслу. «Этот Идрисов еще тот жлоб-то был, — обронила следователь прокуратуры Кулагина, — судился с уволенными за каждую чашку-ложку». А прокурор, женщина простая и даже доброжелательная, советовала Василию свести все к убийству из ревности. Зеленин испытал чувство благодарности. Испытал молча. Он был уверен, что любой приговор для него — смертельный. Жизнь казалась красивой, а была жесткой, как «браслеты».
Там, сидя в камере предварительного заключения, Василий нашел какую-то старую газету с материалом о контрабанде животных. Оказалось, что цена одного сокола-балобана доходит до тридцати тысяч долларов. Птицу используют для соколиной охоты. Позднее, уже на чусовской зоне, он вспомнил того пернатого визитера, явившегося на кордон незваным гостем. «Тебе надо было поймать этого балобана, продать и откупиться от ментов», — качали головой бывалые люди. В ответ Василий грустно улыбался и шутил: «На всех ментов денег не хватило бы». Господи, о чем он тогда разговаривал с птицей? О том, что да, жену можно оставить на кордоне и уйти в тайгу, хорошо вооружившись и экипировавшись. Век не найдут. Он же знал пещеры, где не ступала нога гомо сапиенс, умел жить в лесу. Была, была мысль сообщить по рации, кто убил Идрисова, а потом навсегда исчезнуть в хвойном мареве уральской тайги, раствориться в бескрайней свободе. А потом представил себе, как она смотрит ему, уходящему, в спину… Представил — да так и остался сидеть на дощатом крыльце, опустив сухое лицо в грубые егерские ладони. «Не возьмут меня, — подумал, — отыграются на ней…»
Понятно, Агафонова менты прессовали в течение недели. Он сидел в камере и опять, как в той таежной яме, дрожал — то ли от холода, то ли от страха за свою молодую жизнь. Вспоминал, как однажды плыл с Идрисовым в резиновой лодке по Большой Мойве. Как потом, в городе, к нему подошел знакомый по школе и передал привет с Ваи: «Рафик жив только потому, что тебя пожалели…» Агафонов представил мушку ружья в прибрежной листве, которая покачивалась, то и дело задевая белокурую голову, гладкий висок, горячий мозг. Где это могло быть? А сейчас что пообещал мент? Десять лет сидеть буду, и зэки опустят… Агафонов тихо заплакал.
«Нет, — выговаривал Василию уже другой мент, из местных, — ну ты правильно сделал, что убрал мразь, но зачем свидетеля оставил?» Ни менты, ни зэки не могли понять логики зеленинского поступка. Это было и есть выше уголовного сознания — того, что имеется по обе стороны колючей проволоки, выше сторожевой вышки.
Об убийце сообщали районные, областные и столичные газеты, его показывали по телевизору. Василий стал звездой экрана…
Позднее он писал мне: «Что вы! Дядюшка Фэй вовсе не был каким-нибудь мафиозным монстром — может быть, потенциальным клиентом психиатрической клиники, не более… Например, он кичился тем, что являлся потомком Муэтдина Газы, самого кровавого басмача Узбекистана времен Гражданской войны, этнического киргиза. Тот имел наиболее многочисленную группировку, отличавшуюся сатанинской жестокостью. Главарь лично вспарывал животы беременным женщинам и приказывал готовить себе манты из человеческого плода».
Конечно, сначала Василий не верил в столь «элитную» родословную директора, учитывая патологическое тщеславие азиата, но, все лучше узнавая повадки Идрисова, стал допускать, что, может быть, и не врет он. «Рябой басмач там целился в меня из узкого и длинного ружья», — вспомнил он Сергея Маркова.
Василий закрывал глаза и видел тайгу, Уральские горы: на юго-западе — Ишерим, на западе — Тулым, на востоке — хребет Молебный, на севере — Муравьиный Камень с двумя вершинами, похожими на женскую грудь. Взгляд опускался с Муравьиного и приближался к тусклой точке, едва видной, мерцающей сквозь густую хвою леса, к поляне метров сто на пятьдесят, окруженной березками, куртинами пихтового молодняка, отдельно стоящими высокими кедрами. Вот речка Малая Мойва, а рядом — пруд, в который впадает Серебряный ручей. На берегу пруда — старая баня, для сотрудников, и новая, с лесенками к воде, для отдыхающих. Далее, в самом центре, — метеобудки, радиомачты, флюгеры. Справа — вертолетная площадка, покрытая камнем, гостевой дом под шифером, дровяной сарай из досок, похожий на авиационный ангар, летняя кухня, от которой к речке Большая Молебная, что бежит на встречу с Малой Мойвой, спускается крутая лестница, двухквартирный бревенчатый дом с верандами, под железом. Выше метеостанции и левее жилого дома — чамья, амбар на столбах, далее сарай для коз, сеновал, железный склад для ГСМ, агрегатная, где электростанция, инструменталка, мастерская. Если смотреть с веранды зеленинской квартиры на юг, то через двадцать метров взгляд упирается в хвойную стену леса с поднимающимися надо всем мощными кедрами.
Он вспоминал, как в мае-июне, когда жена была в отпуске, страдал бессонницей, белой ночью выходил из дома, думал об умершем Карпове, бродил по поляне, по длинному стеблю находил валериану, выкапывал ее длинные белые корешки и заваривал, а часть совал по подушку, отчаявшись уснуть. Было такое ощущение, будто он попал в неуправляемое время-пространство.
Следователь Кулагина, яркая такая женщина, фактурная, мягко предупредила Василия: не давать показаний, что у него были претензии к Идрисову как директору, а то появится статья сто пятая, во второй части которой сказано: «Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга наказывается лишением свободы от восьми до двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы». Российские директора, руководители, племенные председатели — священные животные. Остальных можно мочить, солить и вялить.
Менты, водившие Зеленина на допрос к следователю прокуратуры, дивились прямо вслух: «Что-то она сильно тебя любит. С другими разговаривает иначе». Они же рассказывали, что пока Василия не взяли, ОМОНа на Вишеру нагнали больше, чем жителей в городе.
Зеленин смотрел в беспросветные стены камеры и жалел, что смертную казнь отменили. От адвоката отказался. Упивался собственной обреченностью. Была такая депрессия, будто смерть лежала рядом и только ждала отмашки Господа Бога. И лишь образ жены, являвшийся ему ангелом, закутанным в полиэтилен, не давал умереть — «подохнуть», как выразился он позднее, — безо всякого физического вмешательства со стороны, без отстрела, хотел он сказать. «Вся моя жизнь — это борьба с косноязычием, — писал он мне потом, — и нет в тюрьме лучшей психотерапии, чем поэзия». Поэтому он пытался стихотворить: «Между нами все кончено! Между нами все начато. Между нами стена… Не тоскуй о былом, а разлука оплачена — не вернутся ко мне горы и тишина. И от этой стены мы по разные стороны. Мы друг другу пошлем только письма и сны. Ты, как ласточка, бьешься в эту стену позорную, только я не вернусь с этой глупой войны. Вот и всё, вот и всё. Всё как будто бы кончилось — ни коснуться руки, ни в глаза заглянуть. Только знаю одно: из того, что запомнилось, мне объятий твоих никогда не вернуть. Не вернуть никогда! Только нежность останется — над тобою, как нимб, будет нежность моя. Я ушел навсегда, мне в аду теперь маяться, о тебе тосковать до последнего дня».
Василий смотрел в потолок и вспоминал, как двигался берегом замерзшей реки тот полярный волк, которого они встретили со Светланой по пути в отпуск. Огромный зверь шел прыжками по другому берегу реки, метрах в тридцати от них, — светло-серый, почти белесый, с длинной лоснящейся шерстью. Весом он, похоже, был килограммов семьдесят: плотный мартовский наст местами взрывался под этой торпедой фонтанами снега.
Они шли на неподшитых лыжах по лыжне, с палками и рюкзаками, без оружия, и волк, наверное, чуял, что запаха агрессии нет: Светлана и Василий приветствовали зверя радостными воплями. Они решили, что волк вел себя деликатно, не решаясь подать лапу, чтобы не испугать неожиданных попутчиков. Расстались километра через три, когда лыжня свернула в лес, чтобы срезать северный отрог Тулымского хребта.
Обычный любопытный и сытый пес, только белый и большой. Может быть, он спустился сюда от самого Ледовитого океана. А что? На Тахте, что по ту сторону Молебного хребта, в капкан, рассказывали, попался песец, которого на этой широте быть просто не должно.
Василий полтора года провел на Маркаколе — в волчьем краю, знал, что одинокий волк никогда не решится напасть на человека, тем более двух. В Казахстане хищники ходили рядом. Бывало, Светлана записывала на ноты волчьи концерты, которые зверье устраивало в ближайшем пихтаче — пихтовнике. При этом рыжий мерин в загоне начинал так метаться, что Василий стал привязывать его за копыто калмыцким узлом, чтобы стая не угнала и не разорвала его. На Мойве, в тайге, встречаются волки-одиночки, а стаи держатся поближе к человеческому жилью, к поселкам, где податливый домашний скот. На севере — там одиночки, дикое зверье, которое трудно взять. Не дается — и само не нападает на человека.
В самом начале зимы Кулагина пошла по свежему снежку — предъявила новое обвинение, по статье 105 (часть 2, пункт «б»), по той самой, по которой лучше не идти, как сама предупреждала: «Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга».
— Что изменилось? — решился спросить Василий, чтобы не заниматься мучительными поисками ответа в камере.
— К сожалению, я ничего не могу поделать, — медленно произнесла женщина, глядя в стол, — потому что следствием интересуется Алма-Ата. На меня оказывают давление, сверху. Очень сильное давление.
Зеленин молчал и далее старался много не говорить, чтобы случайно не сдвинуться навстречу Кулагиной, выполнявшей столичный заказ. О, эта женщина очень старалась, высунув язык, как первоклассница, чтобы каллиграфически вывести букву «б» в части 2 статьи 105, очень старалась. А что, «б» есть «б», какую бы должность ни занимала.
Если судить по той скорости, с которой пошла судебная машина в январе, из Москвы прислали конкретную разнарядку: осудить человечика до такого-то числа на такой-то срок.
Когда привезли в суд первый раз, один из сопровождавших конвоиров благословил: «Ну всё, Робин Гуд, ты пошел за десяткой». А в конце второго дня процесса тот же мент, после того как наслушался свидетельских выступлений, покачал головой: «Ну, тебе больше минимума дать не могут».
Другой милиционер, подполковник, который, было, возил Василия в суд на своей машине, тоже обронил доброе слово. Доброе — с точки зрения автора слова. «Ты молодец, — сказал он, — правильно сделал, что завалил этого верблюда — ублюдка, я хотел сказать. Он всех калечил — инспекторов и даже детей. Но десятку тебе дадут, это я уже знаю».
Импотенты. Зеленин сделал их работу. Потому что правоохранительные органы не смогли вовремя выполнить свои служебные обязанности. И за это они посадили Василия в тюрьму, чтоб никто не догадался о несостоятельности внутренних органов. Судили по завизированному вверху сценарию.
Василий вспомнил мемуары Сикейроса: когда мексиканского художника взяли за покушение на Троцкого, полицейские устроили в его честь банкет, на котором, конечно, присутствовал главный герой, украшенный «браслетами».
Зеленина перевели в кизеловскую следственную тюрьму, где старожилы встретили его чифиром и шоколадом. Он стал легендой. Но вскоре его увезли в больницу с осенним обострением язвы желудка. Светлана примчалась туда в тот же день, преодолев двести километров на перекладных. Но жену-торпеду к мужу не допустили — перекрыли подходы. Поскольку свидания с подследственными запрещены. А сама Гаевская еще не знала, как пройти сквозь малозаметное препятствие, основное ограждение и контрольно-следовую полосу. В кабинете врача она упала в обморок. Правда, длилось это не очень долго. Уже через неделю Светлана смогла нелегально проникнуть в тюремную палату. И стала приезжать каждую неделю. А в конце сентября ей, жившей в красновишерской конторе заповедника, позвонила прокурор.
— Не хотите навестить Василия в день рождения? — неожиданно предложила она.
Похоже, безупречный человеческий стиль поведения Василия был способен покорить даже прокурорское сердце. Если вспомнить о профессиональной детерминации, то станет понятно, как трудно добиться такого результата. Василий достиг, потому что не стремился к нему. Следователи понимали, точнее, шкуркой чувствовали: перед ними сидит человек другой духовной фактуры.
— Конечно, хочу! — обрадовалась Гаевская.
— Зайдите ко мне завтра, я выпишу вам разрешение на свидание.
Ранним осенним утром она шла по пустынным улицам шахтерской Губахи, что неподалеку от Кизела, в сторону больничной зоны. Было пасмурно и холодно. И вдруг из-за какого-то длинного, будто лагерный срок, деревянного забора выскочил человек — мужчина лет сорока — и схватился правой рукой за сумочку, висевшую у нее на плече. Но Гаевская мгновенно, не соображая, что делает, вцепилась, впилась пальцами в миниатюрную собственность. Краем глаза запомнила: грабитель был черным, какой-то кавказской национальности…
— Послушайте, послушайте! — запричитала она. — Я иду в зону, понимаете? На свидание с мужем!
Бог мой, Светлана почувствовала, что мужчина разжал руку, отпустил сумочку.
— Извините, — произнес грабитель, сделал шаг в сторону и быстро скрылся за серыми досками Кизела.
Изумлению Гаевской не было предела — она шла и смеялась с большими слезами на глазах. В сумочке лежало разрешение на свидание.
У Василия 30 сентября день рождения. Но правительственных телеграмм не ожидалось. И они не пришли. А 1 октября случилось неслыханное: Зеленина официально вызвали на свидание.
Он зашел. За деревянным столом, пропитанным тоской и горем всех, кто здесь бывал, сидела она. Рядом, на лавке, в сером матерчатом чехле лежала гитара, у которой Гаевская перетянула третью струну сама.
Все два часа они просидели, сцепившись руками и глядя друг другу в глаза. И только один раз разжали ладони, когда Светлана взяла инструмент, подстроила и начала петь тот самый романс, который написала в последний день свободы.
Конечно, государственные чиновники знают, что такое национальная гордость, любовь к детям и даже симпатия к неординарному преступнику. Всё они ведают, кроме чувства свободы, независимости, без которого невозможна личная порядочность, — приходится выполнять приказы, продиктованные душевнобольными президентами, министрами, директорами, председателями, генералами. В армии я дивился слабости духа служивых людей. Я видел, как от одного окрика полковника у лейтенанта разжималась ладонь и падала на землю только что закуренная в неположенном месте сигарета. Поэтому я не удивился разгрому Российской армии в Чечне, который устроили несколько банд бывших трактористов, сварщиков и торговцев. В партии предателей все зависит от скорости реакции — кто быстрее.
Приходится все делать самому — надеяться в России не на кого. В общем, «никто поделать ничего не смог, но был один, который РАССТРЕЛЯЛ…».
Все началось в 1993 году, зимой, когда к Васильевым, семье инспекторов, живших на кордоне до Зеленина, пришел Яков Югринов, инспектор, живший в соседнем домике. А следом появился директор Идрисов, прилетевший на вертолете.
— Да ты посмотри на себя — кто ты такой? — начал куражиться директор. — Образования нет, дома — тоже. А семья где? Лучшие твои друзья — браконьеры да хитники или вогулы долбаные. И сам ты капканы ставил. У тебя же ничего не имеется, кроме ружья и лыж. Конченый человек.
— Сука, — ясно сказал Югринов.
— Сука тоже наука, — согласился директор и вышел за дверь.
Яков переломил двустволку и вогнал в оба ствола патроны. Пошел к выходу.
— Ты куда? — спросил Васильев и встал с табуретки.
— Пойду пристрелю ублюдка, — тихо ответил Югринов, — отволоку в лес — соболя растащат. Этот бандит меня не победит.
Муж и жена Васильевы кинулись к инспектору, навалились, не выпустили за порог.
Но идея РАССТРЕЛА уже появилась на заповедной территории.
На второй день судебного заседания в зал вошла Вера Митракова, вторая жена Идрисова. И завела двух малолетних детей. И долго стояла так — у зала в глазах, слеза соленая, будто жестокий сюжет беспощадных русских «передвижников».
Зеленин знал, что мальчик и девочка — от разных отцов, ни одним из которых Идрисов не являлся. Он даже не усыновил детей, которые первыми назвали его так — Дядюшка Фэй. Было в этом что-то карабасовское.
— Вот эти ребята остались без отца, — доложила женщина и провела рукавом кофты под правым глазом. — А есть еще двое.
Еще двое — сыновья Идрисова от первого и второго брака, жившие на территории красновишерской конторы заповедника.
— Думали вы о детях, когда стреляли?
Обвиняемый смотрел на прокурора: думал он или нет?
Да, в камере Василий читал статью прокурора, Веры Петровны Родионовой, названную «Не народный герой». Женщина писала так: «В деле имеется положительная характеристика Идрисова с прежнего места работы — заповедника „Басеги“». «Интересно, кто ее написал?» — подумал Зеленин. Он вспомнил рассказ Якова Югринова, как Идрисов избивал Катю Железную, как стучала ее голова по ступенькам деревянного трапа. Положительная характеристика… Василий сложил газету и закинул руки за голову: смотри-ка ты, прокуроры стали оправдываться в прессе, так дойдем до свободы слова, совести и бесконвойного передвижения по территории. Думал он или нет?
Молодой адвокат Левитан приложил к делу на Зеленина постановление о закрытии уголовного дела на Идрисова — по факту нанесения тяжких увечий шестилетнему сыну Митраковой в июне 1996 года. Было такое: «травоядный» Идрисов начал учиться водить «Урал», разогнал тяжелый мотоцикл, но не смог справиться с управлением, снес ветхий забор и проехал коляской по игравшему в песочнице Данилке. У мальчика — перелом ноги, сотрясение мозга, множественные ушибы.
Нормальные российские мужики за такие дела, даже нечаянные, мотают по пять лет лагерного срока — никакие соленые слезы жены о том, что не надо разрушать семью, что это будет вторая трагедия, не помогут. Разрушат, упекут, сгноят в сибирских болотах. Самое большое количество заключенных в мире. И при этом вся серьезная мафия на свободе. Партия и Мафия — близнецы-братья.
Пролетая пассажиром Ан-2 над одним из крупнейших центров российской химии — Березниками, я наблюдал, как внизу, под лучами голого июльского солнца, сиял бирюзой, отливал перламутром и пурпуром громадный, как Аральское море, блестящий, как шкура смертельно опасной змеи, шламонакопитель. «Белое море»-так называли его местные. Березниковский комбинат — одна из «командировок» Вишерского лагеря, куда когда-то был направлен для работы Варлам Шаламов. Это — реальное настоящее.
— Лёва, ты будешь обучать меня дальше? — через неделю спросил Идрисов инспектора Акулина, который водил казенный «Урал».
Люди рассказывали мне, этот Лёва Акулин в прямом смысле слова начинал сходить с ума в присутствии директора. Поэтому вскоре уехал с Вишеры — и выздоровел на берегах Оки, пришел в себя.
— Однажды я угостил четырехлетнюю дочку Веры Митраковой, — удивлялся начальник охраны Агафонов, — а Рафик заметил, конфету отобрал и так дал девочке по затылку — я испугался, голова оторвется.
Думал Василий или нет? Только те, что работали непосредственно в конторе заповедника, видели, как летали митраковские дети по коридору, получая удары ручкой стамески. Да, любил бить по головам.
Однажды старший сын Идрисова играл с детьми Веры Митраковой, а вечером его мать, Виктория Нестеренко, сняла с мальчика футболку — вся спина была в красных полосках. Оказывается, это папаша избил скакалкой. И гнева мягкой, интеллигентной Виктории хватило только на то, чтобы разрезать скакалку ножницами на глазах бывшего мужа. «У меня еще десять скакалок есть», — с улыбкой кивнул «травоядный».
— Психически ненормальная безответственность женщин в главном деле своей жизни — выборе мужчины, — прокомментировал ситуацию Югринов.
Когда муж отбывал в командировку, Веру, случалось, притаскивали в шесть утра под руки и сбрасывали на крыльцо, будто куль с отрубями. А тут женщина в одночасье стала матерью-героиней, пострадавшей от идейного террориста, и начала шпарить по написанному, как грамотная. Говорила, что собиралась уехать с Идрисовым в Казахстан, где целина, космодром и яблоки Алма-Аты. Чалдонка чердынская… Русские бегут оттуда степями и пустынями, косяками и косулями.
Местные были на стороне Зеленина — не милиционер, так инспектор заповедника защитил этих людей. Поэтому Василий понял расклад верно: заход Митраковой прокурор рассчитала на публику, которая скажет: «Вот идиот, сорвался, а теперь сиди!» Прокуроры привычно воспроизводили наработанные сценарии.
При Идрисове Вера ходила в заплатанном спортивном костюме, а во время суда ее катали на машине, готовили к процессу, внушали, как и что говорить, чтобы Зеленину дали побольше.
— Дети очень скучают… Дай бог, чтобы каждый отчим так любил своих приемных детей, как Рафаэль Камильевич…
Покатали бабу на «Волге», менты-игротехники… Василию было страшно за Россию: это же какая кровь льется…
— Вы защищали взрослых людей, а о детях не подумали! — закинув голову, кончила свою прокурорскую мысль женщина.
«Конечно, дети Бахтиярова, Васильева, Шишкина — не дети для тебя, — думал Зеленин. — Тебя бы с тремя детьми выгнать в тайгу. О детях вспомнила. Почему не спросишь, кто тут так активно сажает на иглу вишерских подростков, детей алмазников? Это в городке, который ночью можно просветить лучом карманного фонарика. Кто садит? Только тот, кто заплатил человеку с фонариком, пистолетом и фуражкой. Менты и уголовники посадили Вишеру на иглу. Мать-героиня, отец — героин…»
Алексей Бахтияров оказался противником великой травоядной идеи. Ха, Бахтияровы уже три тысячи лет известны на Северном Урале как прирожденные охотники и оленеводы. А еще Алексей отличается немногословностью. И вообще — хорошо стреляет. Поэтому Идрисов решил убрать вогула первым.
Наверное, казах улыбнулся вслед узкоглазому земляку по одинокой планете, исчезающему в хвойном мареве мойвинской тайги с женой и тремя малолетними детьми. Но на кордоне оставалось еще две семьи — Васильевых и Шишкиных, в которых тоже было по трое детей.
Бахтияров откочевал за перевал — ушел к верховьям Велса по древнему вишерскому пути в Азию. Остальных после интенсивного мытья и катанья вывезли на вертолете. Это Идрисов освобождал вогульскую территорию для своих бессмертных травоядных стад.
Жили на кордоне русские мужики, вели метеорологические наблюдения, прорубали в тайге тропы, ставили избы, охраняли заповедник. Бывший директор, Иванов, закрывал глаза на то, что они рыбачили и охотились в пределах допустимого, на прокорм семьи. И пытался пробить ставку учителя для ребят — не удалось. Семь лет прожили люди там, у ишеримских водопадов, никуда не хотели уезжать, но Идрисов своего добился — выселил мужиков. Понятно, рассчитывал на царскую перспективу: создавал клан, династию, собирался жить вечно. Поэтому не ел мяса, чтобы сохранить свое необыкновенное заповедное здоровье.
На Вае, куда доставили семьи, Идрисов сразу обманул инспекторов — не дал обещанную машину, чтобы вывезти домашний скарб. И мужики взяли то, что смогли унести в руках. При этом ни одна вишерская, пермская или московская скотина за людей не заступилась.
Через год Идрисов встретил на вокзале Ирину Васильеву с младшим сыном. «Не давай этому дяде руку, — сказала женщина ребенку, — это он выгнал нас с Мойвы».
Васильевы перебрались через Уральские горы и стали работать на метеостанции возле Конжаковского Камня. В 1996 году Николай Васильев зашел на Мойву — пересек хребет. Соскучился человек.
— Как вы живете тут одни? — удивился он. — Это же невозможная нагрузка. Мы куда собирались — строить, заготавливать, — все-таки два-три мужика. Да и женам не так страшно оставаться.
— Я пытался договориться с Рафиком, чтоб разрешил Бахтиярову вернуться. Светлана тут собралась учить его детей, да и вообще легче было бы и нам, и им…
— Ну и что? — прервал паузу Николай.
— Идрисов посчитал, что дети будут портить окружающий пейзаж. Станут мешать отдыхающей мафии. Дети… мешать будут…
После каждого залета газовиков Гаевская и Зеленин отправляли вогульчатам сладости — конфеты, печенье, сгущенку. Василий встречался в назначенное время с Алексеем на таежной тропе.
Бывший начальник охраны «Вишерского» рассказывал: в июне 1997 года Бахтияров сопровождал его и директора от Цитринов до кордона Ольховка. Уже через километр Идрисов предложил: «Лёха, понеси мой рюкзак!» И безотказный Бахтияров, который ростом метр шестьдесят, повесил идрисовский груз на себя, спереди, на грудь, и шел по тропе с двумя, будто китайский парашютист.
Манси вообще не умеют обижаться. Еще в 1994 году Идрисов показывал в конторе унты, пошитые Ниной Бахтияровой. А Лёхе велел сообщить по рации, что не может их продать. Позднее, говорят, передавал какие-то деньги. Вот именно — какие-то. И осенью 1996 года взял оленье мясо, рога и еще две пары унт. На запрошенную сумму пообещал забросить продукты, список которых Василий повесил около рации и постоянно напоминал Идрисову о долге Бахтиярову. Два раза за зиму, в декабре и феврале, на кордон залетал вертолет с мафией. И оба раза инспектора спрашивали директора о продуктах для мансийской семьи. Но оба раза Идрисов беззастенчиво сваливал все на командира экипажа, который, дескать, утверждал, что машина и так перегружена и еще центнер просто нельзя. «Да хоть полтонны», — ответил на тихий вопрос Василия пилот Савченко.
Вертолетчики спокойно могли забросить груз на Цитрины к Никифорову, откуда до Бахтиярова было всего восемь километров.
В последний, февральский залет Зеленин узнал от Мамаева, что Идрисов продал ему две пары унт за сумму, превышающую ту, что запрашивал Бахтияров, в два раза. В результате Лёхе не досталось ни копейки. Полковник Мамаев содрал со стены список продуктов и договорился с командиром, что в апреле тот забросит груз, который бывший милиционер пообещал закупить сам. Так бы наверняка и было, судя по предыдущим поступкам Мамаева, но в начале апреля произошло трагическое событие: экипаж того вертолета, которым командовал Савченко, разбился, выполняя санитарный рейс в Очёрский район.
Зеленин не подумал о детях… Мне пришла в голову идея составить стилистический портрет женщины-прокурора. Я нашел статью «Не народный герой», которую она опубликовала в местной газете под рубрикой «Комментарий юриста». Прочитал всю — в подъезде, запоем, из горла, будто бутылку «Столичной».
«Убийство директора заповедника „Вишерский“ Рафаэля Идрисова, происшедшее на территории заповедника 14 августа 1997 года, всколыхнуло не только жителей нашего города, события этого преступления разошлись за пределы района и области…»
Мне понравилось, что преступление советник юстиции прочувствовала как цепь «событий». Только с первого взгляда предложение можно было принять за стилистическую ошибку — со второго становилось понятно: речь идет о психологическом проколе. Вот в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой слово «событие» определяется как «значительное явление, факт общественной, личной жизни»! А преступление Зеленина включало в себя несколько «значительных явлений общественной жизни». Прокурор права.
Текст — опасная вещь, чрезвычайно, это публичное саморазоблачение, стриптиз. О том, что автор действительно не осознавала значение слова, свидетельствовал второй абзац: «Да и сейчас, когда уже состоялся приговор суда и убийца наказан, еще идет обсуждение этого страшного события. Дело расследовалось прокуратурой района. И мне лично вместе с оперативной группой милиции пришлось вылететь на вертолете на задержание преступника».
Здесь слово «событие» употреблено уже в единственном числе. Понятно, прокурор не очень образованна, но при чем тут Василий Зеленин и его судьба? Оговорка, прореха какая-то, дырка в сером веществе. Бедная, ей «пришлось вылететь».
«Оперативно-следственной бригаде пришлось немало поработать, не считаясь с личным временем, разрабатывать и проверять много версий, чтобы установить виновное лицо.
22 августа убийца был задержан. Это был Зеленин В. А., 1965 года рождения, работающий инспектором охраны заповедника на кордоне Мойва, ранее не судимый, положительно характеризующийся как работник и как человек.
Предварительным следствием преступные действия Зеленина квалифицировались ч. 2 ст. 105 УК РФ как умышленное убийство человека, связанное с выполнением данным лицом служебной деятельности, так как из показаний обвиняемого усматривалось, что умысел на убийство у него возник из-за неправильного, пренебрежительного отношения директора заповедника к своим работникам, необоснованного лишения премии за второй квартал 1997 года.
2-3 февраля состоялся областной суд, который вынес приговор Зеленину — признать виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Суд квалифицировал действия виновного как умышленное убийство, совершенное на почве сложившихся личных неприязненных отношений.
В суде подсудимый Зеленин подробно изложил причины, по которым решил убить Идрисова: бесчеловечно относился к простым людям, вел себя вызывающе и оскорбительно по отношению к своим работникам, был к ним несправедлив.
Убийство Идрисова Зеленин мотивировал защитой людей, а также своей ненавистью к нему, накопившейся на протяжении определенного времени, личностными отношениями из-за жены…»
Если женщина в каждом предложении делает стилистические ошибки, дум ал я, то как она ведет следствие, пишет протоколы, определяет степень вины человека? Язык — это форма мышления, уровень познания мира. Отношения из-за жены были «личностными» или все-таки личными? Что значит суффикс?
«Судебное заседание проходило при полном зале сотрудников заповедника. Из показаний допрошенных свидетелей следовало, что подсудимому Зеленину отводилась роль народного защитника.
Поражало то, что ни один из допрошенных (кроме близких, родственников погибшего — бывшей и настоящей жены) не сказал ни одного доброго слова в адрес потерпевшего…»
Конечно, прокурор не поняла, почему ни один не сказал. Чтобы понять, надо владеть формой мысли, достаточным для этого интеллектуальным уровнем, владеть понятийным аппаратом формальной логики. С аппаратом у нее проблема.
Читайте: «Старинный русский обычай — об умершем не говорят ничего плохого либо вообще не говорят — напрочь был забыт». Если следовать логике этой женщины, то на суде стояло бы гробовое молчание.
«И как только не называли бывшего директора: и „чудовище“, и „вампир“. Характеризовался он и другими эпитетами. <…> Из материала дела усматривалось, что директор действительно допускал много грубых ошибок в обращении с подчиненными, был мелочно придирчив к их поступкам, навязывал свою волю и был нетерпим к критике в свой адрес».
Короче, прокурор решила перегнать мотивировку на бытовой уровень.
«Из показаний жен усматривается — „хороший, внимательный отец, человек с большими планами на будущее“, „мечтающий создать идеальный заповедник с идеальным коллективом, но нетерпимый к нарушителям“. <…>.
В суде обоснованно был поставлен вопрос подсудимому: кто дал ему право выступать от имени народа, совершать особо тяжкое преступление — лишать жизни человека? Так как взрослые люди, которых якобы пытался защитить „народный герой“, сами, самостоятельно могли и могут и вправе защищать свои интересы, если они нарушены, — для этого имеются специально созданные правоохранительные органы и суд».
Господи, интересы удовлетворяются, а нарушаются права! А «специально созданные» предельно заняты криминальным прикрытием наркоторговцев, если ты не в курсе. Вот враг народа. Из-за таких, как она, нам угрожают, нас избивают и убивают по всей стране.
«Так следует ли считать виновного народным защитником?! Считаю, мнение, сложившееся в коллективе заповедника по данному факту, не только ошибочным, но и общественно опасным. И не столь забота о благе других людей таилась в мыслях виновного, сколько личная неприязнь, личная обида, наслоение различных интриг и разговоров…»
Как будто забота о благе других не может выражаться в «личной обиде». Впрочем, у прокуроров — не может. Но самое главное — это слова об «общественной опасности»! Конечно, если судить по той статье, которую выбрала прокурор, опасность была не общественной, а государственной, направленной против представителей власти. А что — начнут отстреливать?
«К убийству Идрисова Зеленин готовился заранее. Это было хорошо спланированное и подготовленное, обдуманное трезвой головой (а не по пьянке, как это случается главным образом)».
Понятно, тот, кто с похмелья, беззащитен, он кается и плачет. А этот — этот молчит. Потому что сопротивляется — опасный тип. Народ — он должен быть пьяным, виноватым и управляемым. Алкоголизм возведен руководством в ранг негласной религии страны.
«Выступая в суде от имени государственного обвинения и сегодня, комментируя эту страшную трагедию, еще раз обращаю внимание граждан на следующие положения:
— никто не наделен правом учинять самосуды и лишать жизни других людей;
— нет оправдания умышленным убийствам;
— умышленные убийства — особо опасные, тяжкие преступления;
— не случайно законодатель предусмотрел очень суровую меру наказания по данной категории дел — лишение свободы до 20 лет либо смертельную казнь. И как бы ни тяжело порой складывались обстоятельства, личностные и общественные отношения, надо оставаться Человеком, не опускаться до крайности. Помните, что за совершенные преступления существует неотвратимость наказания».
Вылезло авторское мурло: честное слово, она так и написала — «смертельную» вместо «смертной»! Она даже не знала, что у этих слов разные значения! Меня такая смертельная безграмотность медленно убивала: и этот человек смеет судить, учить других тому, как надо жить?! В тексте ничего нельзя скрыть, текст — лучшая дешифровка личностной значимости, если говорить языком, похожим на прокурорский.
И я только сейчас понял совершенно простую вещь. Прокурор должна была настаивать на своей версии, иначе пришлось бы признать преступность собственного бездействия во времена правления Идрисова. А сделать это она не могла в силу своей косности. Менталитет такой. У людей имеется сознание, а у ментов — менталитет, который детерминирован социальной средой, невероятными условиями выживания. Вот наш фотокор Антон Зернинский рассказывал, как он купил японские часы, которые помещены в специальный футляр с водой. Противоударные! Бросал их, бросал с разной высоты — идут. Бросил с пятого этажа на асфальт — идут! Антон подумал-подумал — и бросил их в скороварку, под очень высокое давление. Достал — не идут. Отправил часы в Японию — оттуда пришли новые. И бумага с короткой просьбой: «Напишите, пожалуйста, в каких условиях работали ваши часы в России». В каких, каких… В тяжелых условиях.
Я опять шел по этой бесконечной эспланаде между зданиями Законодательного собрания и драматического театра, похожей на армейское стрельбище. Понятно, думал я, Идрисов был волевым человеком, целеустремленным — человеком, который привык добиваться своего. Да, добивался — и добился. Правда, в последний раз. Что жизнь? Как провал многоточия за вопросительным знаком. Два драповых пальто, сапоги износить не успеешь. А будешь плыть против течения, бракоши аккуратно прихватят тебя — лапами за жабры.
Зеленин — самый нормальный человек, живущий среди психически больных людей. Но что тут поделаешь? Наступает момент, когда человек попадает в пределы собственного абсолюта, пространственно-временной континуум, где отсутствуют всякие гарантии безопасности и успеха. У кого такой момент наступает в двадцать лет, у кого — в сорок, у кого — никогда. Момент, когда надо рискнуть так, чтобы понять: жизнь состоялась.
Я подумал, что недаром Соловецкие лагеря особого назначения назывались СЛОНом, что не зря я носил прозвище Слон и всю жизнь пытаюсь создать суровый сленг Асланьяна. Что-то в этом есть. Намек на то, что страна потратила немало средств на создание конкретного индивидиума. И надо иметь совесть, терпение, целеустремленность. Будет холод, будет голод, будешь вечно молод!
Параллельно с этими делами я успел сходить в старое четырехэтажное здание зеленого цвета с металлическими ступенями и перилами. Здесь доживала свой партийно-хозяйственный век элита Перми. Отец заставил — я ему пообещал поговорить со стариком, который много лет обитал в этом молчаливом номенклатурном доме. И я услышал-таки историю про вековую любовь Ивана Абатурова.
Иван Абатуров
Он стоял на высоком берегу и напряженно всматривался вдаль — вниз по течению, спрятанному глубоко подо льдом. Видимость в тот день была отличной, километрах в пяти, из-за поворота Вишеры, среди белого полотна снега должна была появиться черная точка. И наконец она появилась, медленно увеличиваясь в размерах. Он ждал этого мгновения три долгих года. Он не выдержал — и побежал навстречу тому санному обозу, который вез ему любовь и счастье. И горе, неизбежное, как смерть.
Его мать, Агафью Самойловну, грамотную староверку, и раньше возили на саночках — сельская детвора, которую она учила тому, что такое аз, буки, веди, глаголь, добро… За этим Добром пацаны прибегали прямо к дому и увозили ее на занятия в саночках — так любили Агафью Самойловну. А она только смеялась, исчезая в морозном сибирском тумане.
— Кажется, это было в 1906 году, — вспоминал, прикрывая глаза, Иван Назарович.
Когда в сибирское село Кама были присланы священник, пономарь и учитель, тогда открылась начальная школа. А еще через три года в доме Абатуровых остановился уездный начальник. Пока мать готовила пельмени, он подозвал к себе десятилетнего мальчика: «Ты в школе учишься?» — «Да, вот закончил нынче — с похвальным листом!» — ответила за Ивана мать. «Молодец! Мамаша, а ты хотела бы, чтоб сын получил образование? Я помогу».
В семье крестьянина Абатурова воспитывались семь дочерей и один сын. Со временем именно он должен стать поддержкой всех — так думал отец. Поэтому решено было везти Ивана в город Каинск, уездный центр (ныне Куйбышев, что в Новосибирской области).
Агафья Самойловна скрыла, что мальчику нет одиннадцати лет, необходимых для поступления в пятиклассное высшее коммерческое училище. Стоял сентябрь, и на одно остававшееся свободным место собралось пять претендентов. И пока дети сдавали экзамены, городские родители, в том числе и частная торговка, владевшая колбасным производством, насмехались над матерью: «Привезла грамотея…»
Насмехались недолго. Вышедший к ним инспектор объявил, что в училище зачислен Иван Абатуров.
Заключенный четвертого отделения Соловецких лагерей особого назначения бежал навстречу обозу, двигавшемуся по льду заснеженной Вишеры. Он бежал все быстрее, пока первая лошадь не оказалась совсем близко. И тогда Иван сошел в сторону, чтобы освободить дорогу.
Не первые сани интересовали его, и даже не остальные девяносто девять. Гэпэушники и заключенные знали, что из Соликамска идет ровно сто повозок. Но всего несколько человек были посвящены в это дело: одна лошадь, запряженная в сани, двигалась позади, на некотором расстоянии от обоза. Потому что люди, сидевшие в тех санях, пробирались в район лагерей тайно и незаконно. Но Иван знал точный день и час, когда они должны появиться. Он задумал это давно и продумал все до деталей. Чекисты будут поставлены перед фактом, а в остальном полагался на Бога, в которого всегда верил.
Свою самостоятельную жизнь Иван начал в десять лет. Мать поселила его в доме вдовы священника. За крышу, питание и стирку Абатуровы платили вдове по четыре рубля в месяц (корова в те времена стоила пятнадцать).
Вскоре мальчика приняли в церковный хор — хороший слух и голос были у него. Он начал петь в соборе и уже через месяц получил три рубля за труды! Он бежал к дому вдовы, крепко зажав целковые в кулаке. А после Рождества Христова, когда дети пели тропари по купеческим и другим богатым дворам, псаломщик раздавал еще по пять-шесть рублей. И теперь Иван ехал на каникулы с гостинцами — сам заработал.
«Самостоятельный парень растет», — радовался отец. Он с семи лет приучал сына к бороне и косе — стоял и смотрел со стороны, как получается. А парень, кроме крестьянского труда, школьную науку прошел, за коммерческую взялся и нотную грамоту освоил. Далеко пойдет Абатуров.
Как сказал Арсений Тарковский, «тогда еще не воевали с Германией, тринадцатый год был еще в середине, неведеньем в доме болели, как манией…». Два года всего лишь довелось проучиться Ивану в коммерческом. С началом мировой войны учебные заведения в Каинске были закрыты.
— Когда я прибыл на Вишеру, меня послали работать на лесопильный заводик на строительстве ВИШХИМЗа, — вспоминал этот удивительный старик. — Он стоял там, где известковые печи. Знаете это место? О-о-о! Каменоломня находилась за рекой. Известь была нужна для отбелки бумаги на комбинате.
А я подумал, что всех вишерских рулонов не хватит, чтобы описать одну человеческую жизнь.
Одна из сестер Ивана была замужем за поручиком, вернувшимся с Первой мировой войны в крестах. Урядник при встрече с ним делал шаг в сторону и стоял с рукой под козырек — такую картинку запомнил Иван. А после крестьянского восстания в селе Кама появились колчаковцы, разогнавшие местных партизан. Они построили сто мужчин и расстреляли каждого десятого. Одним из них оказался тот самый поручик — Павел Показанов. Не пощадили героя. «Озлобленность была страшная».
А сам Иван в пятнадцать лет стал делопроизводителем в ревкоме. Позднее занимался сбором и охраной семенного фонда. В двадцатых учился в Каинске, в специальном, «казенном», как его называли до революции, хозяйстве, на мастера-маслодела.
Мария работала с ним еще в ревкоме, и они дружили шесть лет. Поженились и родили двоих детей — мальчика и девочку. Сестры Ивана вышли замуж, и старики жили с Иваном. И еще долго бы жили…
Потом он стал членом ревизионной комиссии Союза западносибирских маслоделов и ожидал от будущего только счастья. Красавцу-парню было двадцать шесть, когда его провели по всему селу с заложенными за спину руками, как последнего бандита. И вооруженные милиционеры повезли арестованного за семьдесят километров, в Каинск, в тюрьму, где Иван провел первые в своей жизни четыре месяца неволи. Там он узнал, какую кадку называют парашей.
На допросах следователь-гэпэушник упорно сводил дело к тому, что в Каме готовился заговор. И свел — всем пятерым внесудебным порядком дали по три года. Это было время еще детских сроков.
— Манечка успела привезти мне теплое. А потом была омская тюрьма, старинная, екатерининская, будь она трижды проклята! Муравейник вшей. О том, чтобы поспать, и речи не было — все сидели, трясли, ловили, били, давили. Еще немного, и живьем бы нас там сожрали…
Вырвались — в Казань, а оттуда прямо в Москву, в знаменитую Бутырскую тюрьму. В камерах поговаривали о Соловках, но этап повезли обратно, пока не выгрузили в Соликамске. Выдали по черствой и мерзлой буханке хлеба. И по пятидесятиградусному морозу повели колонну пешком. Ночевали в пустых, брошенных домах, на охапках соломы. Но через каждые два часа пьяные конвоиры, одетые в теплые полушубки, поднимали этап на поверку и по нескольку раз кричали: «Ложись!» И люди безропотно падали на снег — в течение шести суток пути. В конце концов вышли к Соловкам, оказавшимся на Северном Урале. Удивительное дело — глубоко материковые зоны оказались четвертым отделением Соловецких лагерей особого назначения.
«Подумаешь, три года! Вы молоды — наберитесь терпения. Мы смертные приговоры не успеваем рассматривать», — сказал прокурор Марии, когда та приехала в Москву. Тогда она написала жалобу в Новосибирское ОГПУ, но ответ получить не успела. Старика Назара Абатурова лишили избирательных прав. И раскулачили: хозяйство разграбили, всю семью Ивана — отца, мать, жену и двоих детей — выслали на север Сибири, за Васюганские болота. Тот обоз с раскулаченными от деревни до деревни сопровождали верховые с ружьями.
— Шпана местная…
Бывший ревкомовец назвал комбедовцев таким точным словом, что сразу вспомнились нынешние комиссары, которых по-шахтерски называют «бригадирами», а самих красноармейцев — «рэкетирами». Только форму переодели, да влезли в джипы, да ружья стали помповыми.
После бани колонну построили возле двух еще свежих бараков сангородка. За заснеженным руслом Вижаихи, притока Вишеры, тянулся забор с колючей проволокой — там находился лагерь. И какой-то начальник, вышедший к этапу, произнес слова, которые Иван Назарович запомнил до конца жизни: «Думаете, вас пригнали сюда на лечение? Вас прислали на истребление!»
Человек девяноста четырех лет, сидевший напротив меня, неожиданно засмеялся. Абатуров прожил, как я понимаю, столько, что может позволить себе все, ведь он пережил своих палачей и остался единственным судьей жестокого прошлого.
— Так сказал ротный нашего барака, сам бывший зэк. Впрочем, там вся администрация оказалась из бывших. В крайнем случае — из будущих.
Ну вот, значит, так началась история Вишеры…
Заключенных, как выразился Абатуров, «зря не держали». А Иван делать мог всё, что сразу было отмечено.
— Потом появились южане в халатах. Я кричу им: «Что стоите? Вы же замерзнете!»
Так он попался на глаза начальнику по производству, отцу будущего Генпрокурора СССР — того самого, что выступал с обвинением на Нюрнбергском процессе. Александр Дмитриевич Руденко поставил Ивана учетчиком на 2-й лесозавод.
— И я стал самым маленьким начальником.
И там, в лагере, Абатуров снова решил учиться: достал литературу, начал изучать древесину, ее разновидности и качество. Был назначен бракёром — специалистом, который оценивает качество продукции. И даже получил право жить вне зоны — в сколоченной у лесозавода хибаре. Тогда и задумал то, что сделал в феврале.
В такой же хибаре жила семья Ивана за Васюганскими болотами, ширина которых — восемьдесят километров. Жена была беременна, и тот ребенок, сын, что родился, вскоре умер. Мария за кусок сахара стирала белье гэпэушникам. А через пол года в село Кама пришел ответ из ОГПУ: признать невиновными… И племянник Ивана, подросток, рванул на лошади к северу, за триста километров от родного села.
День и ночь думал о них Иван в далекой уральской тайге.
Иван Абатуров стал старшим бракёром. Он уже мог заказать себе повозку с кучером или верховую лошадь. И потихоньку, отказывая себе в лишнем, копил сухие пайки — готовил склад продуктов.
Вишерский комбинат был построен, а Иван заматерел и оброс связями. «Пора действовать!» — сказал он себе. Через кузнеца Сергея Судницына отправил семье несколько посылок. Шел 1932 год. Срок еще не закончился, а на родине ничего не было, кроме разоренного дома, родные жили на квартире.
Абатуров послал туда письмо, в котором подробнейшим образом проинструктировал семью, как надо действовать: какого числа, на чем и куда прибыть, у кого остановиться в Соликамске, как нанять лошадь, когда и за кем двинуться в путь. Договорился с морчанским кузнецом и старшим обоза, который ему был обязан.
Александр Дмитриевич Руденко до 1917 года служил начальником жандармского управления и одновременно поддерживал связь с политическими — такой «двойной агент». Большевики не забыли об этом, и Руденко стал командиром полка. Правда, потом они не забыли еще раз — и дали ему на всякий случай десять лет, которые он и провел на Вишере. Александр Иванович и назвал Ивану фамилию: Филиппов, заместитель начальника лагеря. Тот самый чекист Филиппов, о котором старый лагерник Варлам Шаламов писал: «Филиппов любил людей, любил и умел делать добро людям. Ведь людям делать добро трудно — надо не задеть самолюбия, надо угадать или понять чужое сердце, если не чужую душу». Трудно поверить, что речь идет о заместителе Берзина, но не поверить Варламу Тихоновичу невозможно.
Санный обоз двигался по льду реки трое суток. Когда мимо Ивана прошла сотая лошадь, он поднял глаза — и побежал… Он бежал навстречу саням и плакал. Он обнимал-целовал детей, жену и своих стариков. А вокруг стояли непроходимая тайга и дикий мороз, от которого некуда скрыться. Чтобы выжить, оставался только один путь. «Я возвращаюсь, а вы поедете направо. Минуете первый отворот, а потом будет второй. Там свернете. За церковью — дом двухэтажный. Хозяина звать Сергей Судницын, он ждет».
У Вижаихи стоял двухэтажный барак, в котором находилось управление лагеря. «Ты ко мне?» — спросил Филиппов поднявшегося при его появлении Абатурова. «Да», — ответил Иван. «Заходи».
Абатуров, здоровый парень, бывалый, встал посреди кабинета — и ноги его подкосились. Он сделал не то, что хотел, а то, чего никогда в его жизни не было — ни до, ни после: он упал на колени. «Что с тобой?!» — изумился гэпэушник. «Виноват, начальник, — сказал Иван, — наказывайте… Семью свою вызвал сюда». — «Ты у нас, кажется, старший бракёр?» — «Да». — «И срок у тебя скоро заканчивается?» — «Да».
Бывший жандармский офицер Руденко разбирался в людях, он знал, к кому направить Абатурова. Филиппов разрешил остаться семье Ивана, и более того — выделил квартиру.
После освобождения Иван был задержан еще на пять лет — теперь уже ссылки. Вскоре у него одна за другой родились две дочки. И он вызвал к себе младшую сестру. Но, как писал тот же Тарковский, тогда «судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке…».
В 1934 году выше вишерского водозабора была сброшена какая-то больничная зараза — и брюшной тиф в одночасье унес жизни девятисот человек! Среди которых — мать, отец, сестра и две дочери Абатурова. Самое страшное время в его судьбе. За него самого врачи боролись тридцать два дня, и с тех пор вот уже шестьдесят лет он не может смотреть на молоко — столько тогда пришлось выпить, без крошки хлеба.
Братская могила семьи Абатуровых появилась на вишерском кладбище. А сам он остался инвалидом, но продолжал работать.
В 1937 году вторично арестовали Александра Дмитриевича Руденко и увезли в Соликамскую тюрьму. Вскоре отпустили, он вернулся, но не выдержал потрясения и умер.
На фронт Абатурова по состоянию здоровья не взяли. Он организовывал работу военного госпиталя в Перми и от всяких повышений категорически отказывался. Тогда директор вишерского комбината не выдержал и решил вопрос сам. Приехал из Москвы и достал из портфеля бумагу, приказ министра СССР: Абатуров Иван Назарович назначается коммерческим директором Вишерского целлюлозно-бумажного комбината…
Бывший зэк, человек, пришедший в тайгу под конвоем, пробыл в этой должности двадцать лет. И, проносив клеймо врага народа в течение шестидесяти четырех лет, лишь в 1992 году был реабилитирован и назван жертвой политических репрессий.
— У меня было три дочки — Вера, Надежда, Любовь, — говорил Иван Назарович Абатуров. — Вера и Надежда умерли. Осталась одна Любовь. — Потом помолчал и добавил: — Хорошей женщиной была моя Мария Петровна.
Второй раз Василий увидел Алёну Стрельчонок в зале суда. А третий — когда был на больничной зоне в Соликамске, куда двадцатилетняя девушка приехала на свидание, назвавшись сестрой Зеленина. «Мне рассказывали, ты мог выслушать часовую речь Идрисова, полную идиотизма, и не сказать ни слова в ответ, — говорила она, — будто ты никогда не вступал с ним в спор, а потом все делал по-своему. Я удивлялась — считала, что это невозможно».
Потом тот самый мент, что пустил Алёну к Василию, добрый человек, ухмыльнулся ему в лицо:
— Понятно, какая она тебе сестра — в документах-то не числится!
— А как еще может назваться представительница братского народа Украины? — суховато улыбнулся Василий. — Только сестрой.
Алёна Стрельчонок — громодянка Украины, там родилась и выросла, там остались ее родители, а здесь она жила у бабушки.
«Как призналась, она меня „за муки полюбила“, — написал мне Василий с чусовской зоны. — Теперь уже, наверное, забыла…»
Так и вошли в человеческую историю годы, которые пермский миллионер вырезал пьяным ножом на сухих досках крыльца: «ХОЛЕРА-95», «ХОЛЕРА-96» и, наконец, «ХОЛЕРА-97».
Эта «ХОЛЕРА» обещала Светлане… После того как вооруженные архангелы унесли Василия на голубом вертолете, в ту ночь, когда она осталась на кордоне одна, Светлана сожгла в печке много бумаг — со своими стихами, верлибрами и романсами, а также собственные ноты, передававшие музыку реки Молебной, бежавшей под окнами кордона. В ту ночь, когда она курила, глядя в стеклянную темноту, в дом прокрались два сверкавших в свете печного пламени зверя — это их домашняя кошка по имени Мусильда опять привела из леса свою дикую подругу, куницу Кунигунду. Маленькие хищники легли у плиты, уставились на хозяйку и всю ночь не отходили от нее. «Даже зверье понимает человека, — подумала она, — значит, я не одна, поэтому надо действовать».
Эта «ХОЛЕРА» обещала Светлане… Да, Гаевская уговорила адвоката за шесть лимонов — с годичной отсрочкой. И тут Холера по телефону сказал: «Приезжай, какие проблемы».
Блаженный Дима Холерченко — человек из тех, из-за которых все это и происходит.
Навстречу Светлане двинулся парадный охранник. Гаевская представилась:
— Я с кордона Мойва, из заповедника.
— Директор «Вишерского» был моим личным другом, поэтому я оплатил стоимость вертолета с трупом, частично…
Гаевская изумленно разглядывала бизнесмена в кожаном кресле. Человек был на своем месте — как окурок в пепельнице. И тут она улыбнулась — вспомнила рассказ Василия о том, как «личный друг» записывал на пленку Холерченко и проститутку Проблему. Повеселился Рафик, наверное, поприкалывался потом, когда прослушивал порнографию…
Дима Холерченко по душевной доброте никогда никому ни в чем не отказывал. А зачем? Он всегда обещал помочь, чтобы не обидеть русского человека.
Светлана сидела на черном офисном стуле и дрожала, поскольку в спешке забыла зонтик и, конечно, попала под холодный сентябрьский дождь. Вспомнила, что в любой деревенской избе прежде всего тебе предложат чаю, чтобы согреться с дороги. А здесь — ничего: ни чаю, ни кофе, ни коньяку. Хорошо, не побили. Теперь уже Холерченко обещать ничего не стал.
— Видите мой офис? Трехэтажное здание. Все средства вложил в недвижимость — не знаю, как до конца месяца дотянуть.
Очень странно все получилось — Светлана потратила на поездку в Пермь последние деньги. Да, драгоценная, это тебе не в заповеднике гонор демонстрировать — подумаешь, мусор они вокруг стола разбросали! Сейчас ты согласна на небольшую экологическую катастрофу. Но только дикий зверь способен понять человека — как та куница Кунигунда, прирученная кошкой, как сама кошка.
Теперь, конечно, мне положить на угрозы. Помню, мой сын Сашка сентябрьским утром, после летних каникул, собирался в школу, перед зеркалом поправлял галстук и вслух прикидывал: «Так, математичка начнет с того, что будет запугивать». Э, мы с каждым классом становимся смелее, умнее, наглее. Мы снисходительно говорим: «Сильно играют» — и осторожно поправляем галстук, улыбаясь в серебряную Вселенную.
Пора было публиковать материал. Смотри-ка ты, я уже никого не боялся, с тех пор как узнал о том, что в чердынской гостинице милиция накрыла двух человек с пистолетом Макарова в туалетной корзине — Мамаева и Холерченко, а потом в уголовном деле прочитал, кто во время убийства находился на заповедном кордоне. Пасьянс сходился, если вспомнить, что в декабре были выборы в Законодательное собрание области, куда готовился баллотироваться Холерченко. Конкуренты, используя административный ресурс, искали на него компромат, о чем он, конечно, знал, поэтому стремился перекрыть утечку любой негативной информации. А из убийства в присутствии Холерченко можно было сделать фантастический сюжет. Асланьяна знали как самого возможного автора публикации — ну, вы догадываетесь: Соловецкие лагеря, заповедник — весь этот сленг… Хотя о написании материала, честно говоря, я тогда еще не помышлял. Но меня решили предупредить. И этим обязали приступить к работе. Депутатом Холерченко так и не стал, поэтому никто тебе, драгоценный, более звонить не будет. Привет охраннику Петровичу. Спасибо за звонок, чекист: «Готовь гроб, сука…»
Пока я занимался расследованием и вычислял, много вишерской воды утекло. Получилось, я вычислял не Петровича, а собственное бессмертие, как будто кто-то способен изменить космическое расписание, чтобы успеть туда и сюда. Да, изменить — это тебе не хрен через мясорубку пропустить. Взяли Василия в августе, а в феврале уже дали срок — на выездном заседании областного суда в Красновишерске. Кто знает бандита, которого определили бы с такой скоростью? Никто опомниться не успел: Алма-Ата давила так, что любая публикация была обречена. Не потому что Алма-Ата давила, а потому что Москва отступала, предавая Василия и Россию. Год прошел, а за человека никто не заступился. Если так дальше пойдет, то китайцы нас точно победят — и сегодня в России меня можно судить как шпиона, раскрывшего врагу основной, моральный потенциал армии.
Национальный герой
В тот августовский день 1997 года Василий нашел на столе записку, в которой жена сообщала, что с кордона Цитрины в их сторону вышли двое.
И Василий направился в чащу — туда, где находился тайник.
Рафаэль Идрисов был необыкновенным казахом — не ел мясо, не любил спиртное. Но если выпивал, то речь его становилась возвышенной, как гора Ишерим, и длинной, как Тулымский хребет. Тогда он говорил Василию и Светлане, что создаст здесь Вишерскую Швейцарию. В гостевых домах будут отдыхать состоятельные люди, а на Ишерим он проведет канатную дорогу. И глаза его горели чайным огнем властелина земли, поднявшегося на вертолете над громадами скал, зеленовато-серыми чешуйчатыми гольцами, над водой, шевелящейся от хариуса, над горным хрусталем и драгоценными мехами.
Директор заповедника «Вишерский» двигался в сторону основного кордона на резиновой лодке по небольшой таежной речке Большая Мойва.
Инспектор Василий Зеленин проработал с женой, Светланой Гаевской, три года на этом кордоне и хорошо изучил территорию заповедника. А также заповеди директора — проповедника вегетарианства.
У директора имелось ружье, два газовых пистолета и система «Удар». У Гаевской было табельное ружье. А другое Василий нашел в верховьях Ниолса — двадцать восьмого калибра. Он прочистил его, смазал и спрятал в лесной чащобе. Сегодня он шел туда.
Большая Мойва неглубока и камениста. Трудно плыть по ней. На очередной остановке Идрисов подозвал начальника охраны заповедника Юрия Агафонова, шедшего по берегу параллельно реке. Чтобы забрал свой рюкзак из лодки. И тот забрал и потащил, пробираясь сквозь заросли, преодолевая бурелом. А лодочка Идрисова полетела пулей.
«Быдло» — так называл директор местное население, вайских и велсовских лесодобытчиков, оставшихся без работы, без денег, без продуктов, без лекарств.
На этот раз Идрисов шел по тайге с Агафоновым, недавно начавшим свою работу в заповеднике. В одиночку он старался вообще не ходить. Стрелять здесь умеют. Он тоже умел.
Завтра сюда прилетит один бизнесмен и депутат. Жаль, что этот Зеленин так и не обстрогал стены гостевого дома — высоко, говорит, невозможно сделать рубанком. Лишился премии за квартал.
А вот и приплыли, отсюда придется идти пешком.
Они успели преодолеть полтора километра. Наступила темная августовская ночь, но луна светила вовсю. Как в последний раз.
Василий разглядел шедшего ему навстречу Идрисова на фоне реки. Метрах в пятнадцати тот остановился, снял рюкзак и повернулся лицом к воде. Холодной воде неизбежного. Удивительной иногда чувствительностью к судьбе обладает древняя человеческая натура.
Начальник охраны, похоже, отстал. Василий поднял ружье, прицелился и выстрелил: Идрисов резко развернулся в его сторону. Зеленин тотчас выстрелил второй раз — инспектору показалось, что первый выстрел был неудачным. Ему показалось…
Перед безоружным начальником охраны стоял человек в плаще с капюшоном и с ружьем. В уголовном деле есть показания Юрия Агафонова: «Зеленин выстрелил и начал поворачиваться ко мне лицом, он практически посмотрел мне в глаза — и я побежал от него: чем дальше, тем лучше».
Светлана Гаевская рассказывала, что Василий вернулся домой в три часа ночи, не как обычно — до полуночи. На вопрос, что случилось, он ответил с подозрительным ударением на первой половине фразы: «Со мной — ничего». На следующий день, продолжала Гаевская, прибыла «коммерческая группа».
А вскоре Василий ушел встречать директора и начальника охраны заповедника. Никто не догадывался, что он шел встречать их уже второй раз. Его еще не было, когда с Цитринов пришло радиосообщение: появился начальник охраны и сказал, что директор убит или тяжело ранен. Гаевская сразу передала это в город.
— На мои порывы бежать туда, куда ушел муж, телохранитель бизнесмена сказал: «Ты что! Тебя там пристрелят точно так же! И если все пойдем, будет то же самое! Сиди на месте. Может быть, это беглые зэки — они могут напасть на кордон».
А когда Василий вернулся, все бросились к нему. И он подтвердил: да, я нашел труп директора в воде. Ну, мужики сразу налили ему, язвеннику, ударную дозу водки, после которой началось обострение болезни.
Прибывшая из Красновишерска оперативно-следственная бригада обнаружила труп директора в реке, чуть ниже того места, где лежал рюкзак Идрисова.
Милиция задержала начальника охраны и увезла в город. И только через неделю Агафонов назвал имя убийцы. Почему не сразу? Вероятно, просто не хотел выдавать. Зеленин пользовался авторитетом среди работников заповедника и местных жителей.
В том году Василию Зеленину исполнилось тридцать три года. Возраст Христа, заповедь которого — «не убий» — он отринул.
Василий приехал в заповедник из-под Ленинграда. Он даже не охотился, как ему разрешалось делать это за границей заповедника, в восьми километрах от кордона. На упреки жены отвечал: «Мне жалко…»
Он служил в армии, но был комиссован. Окончил два курса лесного техникума. Молчаливый, сосредоточенный, самоуглубленный человек. Интроверт, как говорят психологи. Любил жену. И тайгу, в которой работал. Ни один человек на Вишере не сказал о нем худого слова — исключительно положительные характеристики. Прямая противоположность директору.
Зеленин мог пристрелить безоружного свидетеля. Мог сбежать, уйти в тайгу через хребет и уехать в казахские степи. Но он сидел на кордоне и ждал, когда за ним прилетят. Он мог молчать или отказываться, но он признался сразу.
Из показаний бывшего бухгалтера заповедника. Вот что говорит об Идрисове она: «При поступлении денег по целевому назначению — на зарплату, налоги — требовал эти деньги на другие цели. Учет до меня был слабый, некачественный, так как директор брал большие суммы, своевременно не отчитывался… Поэтому установить, где находится то или иное оборудование, предметы, которые купил Идрисов, невозможно было.
Когда в заповедник завозились вышестоящие лица, которых Идрисов называл „денежными мешками“, то директор требовал по рации: продукты, оставленные отдыхающими, ставить в подотчет Зеленину и Гаевской, удерживая из зарплаты. Не оплачивал им „полевые“, ссылаясь на отсутствие денег.
Разрешения на въезд в заповедник на рыбную ловлю выдавались и регистрировались в бухгалтерии, а отдыхающим он выписывал сам или не выписывал — не знаю, регистрации не было».
Мне описывали такую картину. Отдыхающий в заповеднике поднимает утром похмельную голову и спрашивает: «Где мы?» — «В каком смысле?» — «Ну где — на Мойве или Чусовском озере?» Чтобы отдохнуть день-два, этим господам надо было затратить миллионов двадцать (в основном на вертолет). А они не понимали, где проснулись. Инспектора, получавшие двести тысяч в месяц и объедки со стола господ (в подотчет), дивились на ярких представителей власти и бизнеса. «А спросите у директора, где вы». — «А где он?» — «Вон, чай заваривает». — «Это директор?»
«Ханство» Идрисова строилось на том, что в современных заповедниках велика текучесть кадров. Он вербовал работников со всей страны — романтиков или просто неустроенных людей. От профессионалов избавлялся — научных сотрудников Колобаева и Колбина просто вынудил уйти. Они проводили собрания, забастовку, обращались к местной власти, в облкомприроды и департамент заповедного дела Госкомэкологии РФ. Все бесполезно! Я опубликовал в «ПН» статью «Лягушка в желудке хариуса» — о той критической ситуации, которая сложилась в заповеднике. Никто не обратил внимания. Статью перепечатали в столичной «Трибуне». И опять тишина. «Под меня копать бесполезно! — объявил Идрисов. — У меня рука в Москве».
Ученые уходили. Остальные отступали: хан вишерский!
Идрисов устанавливал личные контакты с представителями власти и бизнеса. Люди, которых он оставлял на работе, не должны иметь собственного дома, должны полностью зависеть от него. И не иметь собственного голоса, чтобы не подавать его. Он обещал человеку деньги, продукты, спецодежду, оружие. Потом забрасывал в такое место, откуда пешком не уйдешь.
Идрисов неоднократно оскорблял жену Зеленина, Светлану Гаевскую, но ни доказать это, ни справиться с блатным директором инспектор был не в состоянии.
Обо всем этом и очень многом другом говорилось на выездном заседании Пермского областного суда. В тайге свидетелей нет, там все один на один. Но когда встают десятки людей и говорят одно и то же, поверить можно.
Зеленин получил десять лет строгого режима. Так кто же он: просто убийца или жертва тоже?
Сам Идрисов убийцей не был — он был организатором процесса. Процесса, в результате которого люди становились трупами или инвалидами. Зеленин пошел на убийство сознательно и не скрывал своей миссии мстителя. Ни местная, ни областная, ни федеральная власти не защитили этот народ — это «быдло». Говорят, на суде Зеленину задали вопрос: кто дал ему право выступать от имени народа? По этому поводу смею высказать мысль: Василий Зеленин потому посягнул на Христову заповедь, что три года жил в самом центре заповедника преступлений. Насилие порождает насилие. И тот самый народ, свидетельства которого не оценили в народном суде, возмущается не только сроком лишения свободы, но и тем, что опять остались ни при чем те, кто готовил, организовывал, провоцировал моральную ситуацию убийства. Как у Высоцкого: «В заповеднике, вот в каком — забыл, жил да был козел отпущения…»
Никто не спорит, что убийство — преступление, тяжкий грех. Но еще вчера народу доказывали, что человека можно убить, если в этом есть революционная необходимость. Сегодня те же самые люди читают мораль о неприкосновенности жизни своим нищим согражданам, умирающим от голода и болезней. А народ думает: они, наверное, говорят о неприкосновенности своей жизни, а не нашей, не наших детей, погибших в Афганистане и Чечне. Поэтому Василий Зеленин — не первый и, скорее всего, не последний из тех, кто хранит в тайнике смазанное и незарегистрированное ружье.
Призрак, господа хорошие, бродит по Европе, по нашим бандитским городам и заповедникам. Призрак в брезентовом плаще с капюшоном и с ружьем. Могильщик, как назвал его Карл Маркс. Мститель, как называют в народе.
Я опубликовал свой материал в газете «Пармские новости», однако вокруг продолжала стоять таежная тишина — ни одного выстрела, не считая заказных убийств: киллеры стреляли из пистолетов, как из Калашникова — со страшной силой, вообще не поднимая предохранителя. Убийцы получали за свою работу доллары и отдыхали на Сейшельских островах, а Зеленин мотал долгий срок на чусовской зоне.
Меня тошнит от демонстрации агрессивного интеллекта выпускников спецшкол, где обучение ведется на иностранных языках. Милиция демонстрирует региональному и столичному руководству, что с убийцами она справляется щелкая пальцами: первый выстрел, второй, а при счете «три» автор уже сидит в камере. Для этого надо было так деморализовать начальника охраны заповедника, чтобы он начал ссать на допросах от страха: назовешь имя стрелявшего или сядешь сам, понял? Но самое главное, менты не могли быть уверены, что он вообще видел стрелявшего. Скорее всего, Агафонов первоначально настаивал именно на том, что не видел стрелявшего, потом — что не видел в лицо, позднее — видел, но не уверен. Значит, менты способны доводить людей до состояния полной гармонии с миром.
Андрей Матлин сидел на подоконнике и утверждал, что председатель Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч родом из нашей Самары. Да чего там Самаранч — Андрей всегда так: на вопрос редактора «Когда ты сдашь материал в номер?» задумчиво отвечал: «Понимаешь, ход ищу, самобытный, неординарный». И находил, зараза, только не к этому номеру газеты, а к следующему.
— Наш полковник рассказывал, с военной кафедры, в университете. Стоял как-то солдат из его части и долбил киркой землю, каменистую, где-то в Южной Германии. Кабель они прокладывали. Подходит полковник сзади и слышит, как солдат долбит и тихонечко комментирует историю: «И на хуя наши отцы эту землю завоевали?»
— Во бля… — рассмеялся я. — К чему ты это?
Я разглядывал большую голову с короткой стрижкой, с тонкой оправой очков. За бандитской внешностью коллеги скрывалось доброе сердце вогула-оленевода.
— Башкирию вспомнил, Капскую пещеру, — загрустил Матлин, которого только что назначили начальником отдела экономики газеты. Вот он и задумался.
— A-а! Кисловские болота, клюква… — протянул я. — Значит, и ты жил в пещере? Башкирский концлагерь. Народ, пришедший с берегов Аральского моря. Остров Возрождения, Ренессанс, полигон сибирской язвы. Евреи, башкиры. Скажи, друг, кому на Руси жить хорошо?
— Мне, — ответил печальный друг, которого все время тянуло на первобытную родину — в Капскую пещеру, в башкирский заповедник, в Аркаим, как меня — на Кисловские болота.
В тот день я с помощью друзей встретился с одним профессионалом, который, правда, попросил ни в коем случае не упоминать его имя в печати. Он сказал так: «Эта фирма, как вы знаете, называется „народным предприятием“, хотя на самом деле является закрытым акционерным обществом. Имена главных акционеров — физических лиц — никто никогда и нигде не называет. Так ведь? Нелегальные фракции крупных алмазов регулярно уходят на Запад за „черный нал“, минуя казну. Представляете, самые прозрачные в мире алмазы — за „черный нал“? Если назовете фамилию, меня закопают на большой глубине безо всякой драги. Понимаете? Это миллионы долларов, деньги, отобранные у детей и стариков».
Да, я получил в бухгалтерии месячную зарплату — каждый ставил свою подпись в ведомости через прорезь трафарета. Чтобы не видеть, сколько получают другие. Редактор придумал — умница. Что-то новенькое, из области рыночных отношений. Получил и, честно говоря, немного загрустил. Вспомнил слова известного пермского журналиста: «Плевать, что мы хорошие люди! Мы должны научиться зарабатывать деньги! Запиши: Виталий Якушев, полное собрание сочинений, том первый, страница тоже первая».
Короче, надо было действовать: прежде всего связаться с орехово-зуевскими ткачами, сормовскими железнодорожниками и мотовилихинской бандой Лбова. Последней группировке отдается архиважнейшее место в российском революционном процессе.
Открылась дверь, и в помещение отдела вошел директор заповедника Игорь Борисовч Попов.
— Что, мальчики-девочки, надеюсь, вино вы еще не пьете? — приветствовал он аудиторию.
— Конечно, нет, — тут же ответила за всех Светка Матлина, — в основном водяру хлещем.
Саша Корабельников быстро выяснил, что директор совсем не пьет — как верблюд, то есть вообще не употребляет спирт, водку, одеколон, тормозную жидкость и чистящее средство доя оконных стекол. Интеллектуал Корабельников был настолько деморализован этим фактом, что полчаса разглядывал лицо геолога, пытаясь увидеть на нем следы патологии, деградации и вырождения нации.
А я вспомнил друга Раиса, который к этому времени достиг такого совершенства, что уже не мог пить ни вино, ни водку и начал развлекаться по-деревенски: накапает своему коту валерьянки на пол и смотрит с блаженной улыбкой, как тот катается по ковру пьяный. Смотрит и вспоминает молодость…
— О, с сахаром! — улыбнулся Попов, пробуя чай из чашки доя гостей. — Захожу в дом — сидят как монархи, пьют «Ройял», обнаглели. И после третьей заявляют мне, что согласны с автором статьи: Идрисов, мол, действительно был организатором смерти, вроде наших промышленников, преступников, генералов и президентов. Представляете? Потом заявляют: «Голодные люди, жители Ваи, Велса, Золотанки, — и вы, сотрудники заповедника». Дескать, чувствуете разницу? «Да мы тоже не шибко сытые, — отвечаю. — И вообще, если так судить… Если говорить о холоде, голоде, значит, мы еще не люди?» — «Значит», — головой кивают и наливают по четвертой.
Мне пришла в голову интересная мысль, но Светка, матлинская жена, опередила меня, сорока:
— Директор заповедника, вы небриты — наверное, в театр не ходите?
— Скопление животных, имеющих четыре миллиона беспризорных детей, не имеет морального права называть себя человеческим обществом. О каком театре вы говорите, девушка? Какие бритвы? Надо соответствовать скотскому положению. Если любите театр, то должны знать о единстве формы и содержания. От русской культуры остался культурный слой — археологический.
Когда директор допил чай, я пошел его провожать, имея к человеку свои вопросы. Вообще, у меня было много вопросов — вишерские отпраздновали убийство Идрисова и тут же забыли о Зеленине. И в этом — вся печаль российского бытия. Куда пойдешь с этими вопросами?
— Игорь Борисович, вы провели в той тайге тридцать лет, — начал я, — случайно не слышали про человека, который прожил там сорок лет — один? Одни говорят, что его дом стоит у Курыксара, другие — будто из его окна видна северная часть Тулыма, третьи говорят о Ниолсе.
— А, его звать Фёдором Николаевичем, — кивнул седой головой Попов, — а живет в доме, построенном сто лет назад выше Лыпьи, но на левом берегу Вишеры. Когда-то он жил с отцом, братиком и сестрой на Шудье. Мать у них, говорят, рано умерла. Кажется, они из казаков. Я встречался с Фёдором Николаевичем в шестидесятых. Да, не любит он геологов.
— И еще вопрос, который не дает мне покоя. Не знаете, как так получилось, что в 1963 году попытка свалила всех бахтияровских оленей? А почему она не свалила их раньше, допустим в шестидесятом?
Мы остановились в вестибюле второго этажа — не потому, что Попов собирался спускаться на первый лифтом. Он думал.
— А ты знаешь, что вчера ваш Матлин пришел на презентацию журнала с бабочкой?
— Ты чего, Игорь Борисович, это его жена.
— Я имел в виду галстук. Ладно, при бабочке. Есть версия. Наша партия — геолого-съемочная, я имею в виду — проводила замеры уровня радиации в тех местах, в тот год, и зафиксировала двадцать микрорентген в час при естественном фоне пять. Я думаю, что виноваты атомные взрывы на Новой Земле, проводившиеся в 1961–1962 годах. Пыль, принесенная на Северный Урал ветром, оседала на склонах гор, и радиация попадала в раны, вызванные копыткой, разрушая костную ткань. Отсюда массовый падеж домашних животных — восемьсот голов, кажется. Знаю, что в прошлом году у Бахтиярова было восемьдесят оленей, но они уходят — вслед за северными. Для того чтобы пасти стадо, надо не менее пяти человек, поэтому Алексей с Петром справиться уже не могут. Ну, небольшую часть вырезали волки. Слышал, теперь домашние приводят в ноябре диких обратно, к себе на родину, в гости. Братья отстреливают трех-четырех на мясо, чтобы зиму прожить.
Я сидел за большим, как аэродром, столом и думал: именно с манси начинается деколлективизация сознания и децентрализация нашей жизни. Потому что вогулы обладают настолько развитым достоинством, самостоятельностью мышления и поведения, что столица для них находится только там, где они живут, а все остальное — провинция. На чусовской зоне православные и мусульмане посещают одну церковь. Человек счастлив настолько, насколько что-нибудь находится в его воле.
Вечером в редакции должна была состояться встреча с Сергеем Шахраем. Матлин утверждал, что гость занимал какую-то должность в московском Кремле, но мне это было по барабану и до лампочки. Просто редактор приказал ждать его.
— Сегодня был в клубе военного института, — рассказывал мне Матлин. — Представляешь, там над сценой висит громадный лозунг: «Россия была, есть и будет великой ракетной державой!» Я прочитал — и вздрогнул: всегда будет! ракетной! Написано в клубе военного ведомства. Господи, за что ты так наказал нас? И фамилию дал начальнику — не поверишь: Горынычев! Генерал Змей Горыныч. А ты говоришь — сказки.
— Я говорю? Отстань, кондуктор, какие еще билеты? У меня денег на бензин не хватает.
Шахрай появился через три часа после объявленного времени — черная кавалькада подкатила прямо ко входу в здание Законодательного собрания, куда допускались только «скорая помощь» и инкассаторский броневик, похожий на БТР-40 времен последней Отечественной войны, но желтого цвета, с зеленой полосой и логотипом Сбербанка — того самого, который ограбил российских стариков в 1992 году и на эти бабки понастроил себе зданий из красного кирпича и тонированного стекла по всей стране.
Я запомнил только один ответ чиновника из того коллективного интервью, состоявшегося в кабинете редактора.
Секретарша внесла поднос и поставила его перед гостем, усаженным в черное вращающееся кресло редактора. В центре подноса стояла одна рюмочка с коньяком. Шахрай вежливо кивнул. Я отметил персиковое качество кожи на лице гостя.
— Собираетесь ли вы баллотироваться в президенты страны? — спросил Андрей Матлин. Вечно он прикидывается придурком.
Чиновник опустил взгляд и начал думать.
— Да, только не в следующие выборы…
Когда интервью закончилось, секретарша унесла поднос с рюмкой, так и не выпитой Шахраем.
«Здоровье бережет, — злорадно отметил я, — готовится к смертельной схватке за российский престол. Как еще тысячи таких же больных претендентов на бессмертие. Зря ты это, Серёжа, сказал — не доживешь до следующих выборов, по крайней мере как политик. Корона нужна им, бриллианты, цитрины… Сморчки, если бы у них ума было столько же, сколько претензий».
— А ты знаешь, как «Шахрай» переводится на русский?
— Нет, — устало ответил я Матлину.
— Шахрай — вор, воришка, жук, жучок, жулик.
— Это с какого языка? — удивился я.
— С африканского.
Ага, а утром я решил опубликовать материал в столичной газете «Трибуна». Меня вдохновило шахрайское простодушие. В «Трибуне» опубликовали. Я добавил там кое-что к старому тексту:
«Инспектор Василий Зеленин знал, что делает, — и тогда знал, когда смотрел, как убегает начальник охраны заповедника, шедший в ту ночь за директором в сторону кордона Мойва. Инспектору было известно, что начальник охраны не вооружен. Что тот узнал убийцу. Что тут на сотню километров вокруг никого нет. Но он не стал стрелять убегавшему в спину — стащил труп директора в воду и пустил вниз по течению.
Рука инспектора Зеленина уже сжимала приклад охотничьего ружья. Если бы мы жили в прошлом веке, быть бы Зеленину при господах да на хорошей лошади. Ведь учился он в лесном техникуме, бывшем училище царских егерей под Санкт-Петербургом. Но после второго курса его забрали в армию. Вы, наверное, думаете, что там все страдают от неуставных отношений? Да нет, немногие — только те, у кого развито чувство собственного достоинства. Лишь такие люди могут дойти до камеры штрафбата, до больничной палаты или морга. Как Зеленин: после очередной разборки его пришлось оперировать, а потом комиссовать. Никого не судили. В техникум он не вернулся. Позднее с усмешкой вспоминал разговоры своих сокурсников о доходных местах: роль егеря или лакея на царских охотах его не устраивала. Василий Зеленин — чудак, молчаливый, самоуглубленный, думающий человек. Ни армейское, ни гражданское общество не приняло его. Поэтому он выбрал таежный кордон: чистая вода, шевелящаяся от хариуса, зеленовато-серые гольцы хребтов… Видимо, он полагал, что здесь попадет в другое время. Надеялся.
После армии Василий Зеленин лечился на хуторе у бабушки. И сегодня, уже отбывая срок, мечтает о том времени, когда будет жить с женой в одиноком домике, рядом с пасекой. Мечтает и в который раз перечитывает „Между волком и собакой“ Саши Соколова.
На кордоне Мойва Зеленин в свободное время писал стихи. Он отказался строгать рубанком в гостевом домике, но любил вырезать из дерева фигурки зверей, шпильки и гребни, которые потом раздаривал. Совершенствовал свой немецкий язык — готовился стать профессиональным переводчиком художественной литературы. Читал любимых писателей — Курта Воннегута и Гарсиа Маркеса. Да, того самого Маркеса, известного не только космическим талантом, но и революционными пристрастиями».
Мне рассказывали: после публикации статей прокурор района назвала гласность наглостью. «Гласность — это наглость!» — визжала женщина, советник юстиции.
Российский чиновник… Вспомните, это к нему обратился со сцены известный советский поэт Роберт Рождественский: «Мне твой взгляд неподкупный знаком…» Конечно, не все продается, что покупается, но это не про то. У нас продается. И не очень дорого.
Две публикации — ноль внимания со стороны власти. «Ага, — злорадно подумал я, — ты хочешь купить за тридцать рублей учебник по формальной логике и выучить все параграфы за одну неделю? Взять истину по дешевке? Написать две статьи, оправдать убийцу в глазах российского общества и по ходу дела решить вопрос бытия? Скорее тебя закопают у подножия Ишерима, чем ты этого добьешься. С другой стороны, без высшей справедливости жизнь не имеет смысла, даже в Капской пещере».
Полученный Василием срок, десять лет, Гаевская от родителей мужа скрыла, сказала, что шесть. Скрыла и еще один важный факт. От всех. От всех — кроме меня.
Цитрины — это центр мира, который открыл геолог Попов. Поп — служитель культа. Небо похоже на Свинимское плёсо. И я верю в Бога, но не в Христа, Магомета, Будду или редактора газеты. Не в начальника отдела или президента страны. Я в этих вообще не верю. Религия меня интересует с точки зрения литературного опыта и суггестивной практики.
В избушке на Цитринах пахнет деревом, хвойным лапником, лежащим на топчане. Говорят, желтый хрусталь можно найти в короне Папы Римского. Смогу ли я посмотреть на этот камень? Зачем Папе цитрин? Чтобы выглядеть значимее, чем я, бедный российский журналист?
Цитрины — точка, из которой Вселенная начала расширяться. Для Лёши Бахтиярова. Отсюда он рассматривает звездное небо. Там он видит искусственные спутники и еще что-то.
— Алексей, ты знаешь, кто такой Папа Римский?
Алексей не ответил, он посмотрел на меня своими узкоглазыми телескопами, будто на созвездие Большой Медведицы, очень Большой. Похоже, он прикидывал, разыгрывают его или нет.
— Папа — это глава католической церкви, римский шаман, — тихонечко улыбнулся он своей шутке.
Книги он, конечно, не читает, но транзисторный приемник слушает регулярно. Для него весь остальной мир — это эфир, не более. Звезды и эфир… Как для меня в детстве он был географической картой.
Правда, в детстве он читал книги про войну. Сейчас не читает. О чем он думает, Алексей Бахтияров? Может быть, вспоминает сезон 1963 года. Может быть, сейчас он сидит за Ольховочным Камнем, на берегу озера, откуда берут свое начало Велс и Большая Мойва. Там не одно озеро — раньше они были не такими, раньше, когда еще стоял чум Николая Бахтиярова. Раньше эти озера были Великими. Тогда, когда лодки еще делали из кедра. Тесали доски из ствола и делали лодку — «хап» по-вогульски. Может быть, он поднимается на Ольховочный и смотрит на запад, на молчаливую, серую тушу Тулыма, на Цитрины и Ишерим.
Рассказывают, что беспощадный охотник стал сентиментальным. На Мойве, бобровой реке, бобры появились снова — Алексей спрячется где-нибудь и с тихой улыбкой наблюдает за созидательной деятельностью зверей. Не стреляет…
Здесь каждый камень назван его языком. Не Тулым, а Лув-Нёр, не Ишерим — Сат-Хум-Нёл: нос, который принадлежит семи мужикам, семи братьям, которые здесь жили. Вогульская семья. Бахтияровы — эту фамилию им дали татары, которые пришли с востока, из бескрайней Сибири. Может быть, как раз сейчас Алексей минует Сат-Хум-Нёл, остающийся по левую руку, держит путь к Молебному Камню, где было то самое жертвенное место предков, где до сих пор лежат серые камни с желобками для крови.
— Идрисов не ел мяса, значит, он святой человек, как ты думаешь? — спрашиваю я.
— Он мяса не ел не потому, что любил или жалел животных. Он просто хотел прожить больше всех.
— Правильно. Бога, конечно, нет, но он должен быть. Поэтому человек и создал Его. А не наоборот. Вырубил из дерева. Потому что без высшей справедливости жизнь не имеет смысла.
— Бог есть. И смысл есть.
Это я вспомнил нашу встречу с вогулом на кордоне. А чего вспомнил-то? Чего ты там чирикаешь, вечность? Алексей наблюдает за полюбившимися ему бобрами, а Василий разговаривает через решетку с утренними синицами на чусовской заре. Кто сказал, что мне не нужна такая сильная воля, которая каждый день опережает разум?
Я продолжал читать прозу Бориса Пильняка, русского писателя немецкого происхождения, его «Повесть о ключах и глине». О том, как пятьсот евреев плыли в 1929 году из Одессы на историческую родину, где не были уже две тысячи лет. О храме Айя-София, в котором турецкие янычары в один день зарезали сорок тысяч греков. О Геллеспонте, анатолийских фиговых лесах и беспощадном солнце Палестины, где так хочется пить, пить и пить… И тут я натолкнулся на такой вот абзац: «…Впереди была Палестина. На Урале… где-нибудь около Говорливого или Полюдова Камня, выбился из-под земли студеный ключ, протек саженей десять и вновь ушел в землю, исчез. Проходил мимо этого ключа путник, наклонился, чтобы испить, — и не выпил ни капли, потому что вода солена до горечи, негодна для питья. Или прилег путник, чтобы испить, — и обжег губы, ибо горяча вода, как кипяток. Но путник встал, пошел дальше и забыл дорогу к этому ключу, забыл про ключ». Я продолжал читать дальше…
По работе в заповеднике «Басеги» инспектор Югринов помнил, что Идрисов отличается какой-то невероятной подлостью души. Это он внедрил в жизнь личную формулу «3–1». Он выдавал лицензию на отстрел одного лося в охранной зоне бригаде охотников и договаривался при этом, что мужики завалят трех при обязательном условии — одного ему. И никогда не смотрел, кого охотники валили — быка, лосиху или теленка. Да-да, русские браконьеры стоили того главного лесничего, который это точно рассчитал, как личную формулу. А в другом заповеднике, рассказывали, он сдавал соболей мешками. «Так что ты мне предъявляешь, сука голая?» — процедил Югринов, устремляясь к югу с ружьем, в стволы которого уже вогнал два патрона двенадцатого калибра, с жаканами.
Инспектор понимал, что времени остается немного, совсем немного, поэтому шел по тайге напрямик — поперек бурелома, болота и запаха багульника. Через полчаса, как он рассчитывал, два маршрута должны были пересечься — на берегу речки, в трех с половиной километрах от кордона. Правда, выстрел или выстрелы могут услышать приезжие, но сейчас это Югринова мало волновало. Потому что у Судьбы только одно имя… Он знал все трясины на этом пути — огибал их торопливыми шагами, а порой начинал бежать — там, где выходил на лесные поляны, освещенные полной и беспощадной луной.
Круглые свинцовые пули дождались своего часа — теперь ожидали минуты, последнего мгновения в стволах шестнадцатого калибра. Он стирал с лица пот и прилипшую паутину, косился на лунный диск золотой чеканки, придерживал рукой ружье, которое нес на плече стволом вниз, потому что начинался мелкий, уже осенний дождь, ранний гость.
До места встречи оставалось минут пятнадцать, когда Вселенная взорвалась: справа раздался выстрел, а через секунду — еще один. Инспектор замер, прислушиваясь к обрушившейся на тайгу тишине, пытаясь определить место действия и азимут дальнейшего передвижения. Он присел на корточки, навалившись спиною на сосновый ствол, прикрыл веки, вдохнул запах смолы. «Не успел. Кажется, не успел…»
Теперь он уже не спешил и, может быть, от этого — оттого что переставлял ноги медленно — почувствовал, как они дрожат от усталости.
Он шел долго, но все-таки вышел к речке, встал на колени и, зачерпнув ладонью холодную воду, сделал три глотка. Луна светила в глаза, превращая воду в плавленое олово, мерцающее в темноте там, где поток огибал большие донные камни.
Инспектор сделал еще глоток, поднялся и шагнул с берега в мелкое русло, двинулся к середине реки. Он наклонился над одним из валунов и перевернул его — так и есть: в ночное августовское небо смотрели мертвые глаза Идрисова.
Он оглянулся: на берегу темнел какой-то предмет. Рюкзак — догадался он. С минуту Югринов простоял в раздумье, потом перевернул труп в первоначальное положение и осторожно пошел вниз по течению. Через двести метров он выбрал слева пологое место, поднялся на берег, пересек тропу и пошел параллельно Большой Мойве — к Малой, которую преодолел вброд, и направился к южной оконечности Тулымского хребта.
Югринов покидал заповедную территорию тем маршрутом, которым пришел. Точнее, он хотел уйти тем самым маршрутом. Он шел, оставляя позади прошлое, тайгу и тезку небольшой морской рыбки — Мойву, бобровую речку пермяков. Оставил по левую руку тундру Лиственничного хребта, обогнул его и пошагал на юг, где стоял высокий каменный гребень — Курыксар, Петушиный царь. К перевалу — сори, если по-местному.
Силы после отдыха на кордоне были, и Югринов не считал ни часы, ни километры. Может быть, он бессознательно делал это, чтобы впасть в безотчетное состояние полусна. Его тело воспринимало природную неровность земли как естественную, его голова мелькала в просветах кустарниковых зарослей. Он шел на Курыксар, как хариус против течения, разрезая холодное пространство августовской ночи.
Нет-нет, Югринову, только миновавшему Петушиного царя, лишь на мгновение показалось, что он сбился с пути. Он перешел вброд речку Доганиху и оглянулся, чтобы попробовать разглядеть останцы, но не разглядел ничего. Ничего не было позади, и ничего, казалось, впереди.
Взгляд Югринова засек какой-то тусклый блик в темноте, а может быть, ему просто померещилось, но вскоре он всей кожей почувствовал присутствие большой, неподвижной воды. Потом почудился запах печного дыма. Выходило, Инспектор не ошибся, когда решил идти той же дорогой, которой пришел на кордон. Фёдор Николаевич снова приветил его.
Югринов взошел на крыльцо и поднял руку, чтобы постучать в дверь.
— Входи, Яков, — раздался из глубины голос хозяина.
В углу топилась каменка. Фёдор Николаевич сидел на топчане, рядом, на столике, сделанном из широкого пня, лежала толстая книга. Такая вот фигура. «Только так и надо жить», — мелькнуло в голове Инспектора. Он приставил ружье к стене и стащил с плеч брезентовую куртку, с ног — сапоги.
— Что, кто-то перевел часы на кордоне? — произнес старик вместо приветствия.
— Откуда вы знаете? — удивился Югринов.
Он прошел к деревянной лавке, стоявшей у стены, сел поближе к огню каменки. Он смотрел на Фёдора Николаевича, но, казалось, ничего не ждал от него, будто ответа не могло быть вообще.
— Проживи в тайге сорок лет — и ты будешь знать, сможешь предугадывать, — ласково усмехнулся старик. — Начнешь чувствовать пространство и сдвигать время. Читал «Письма о слепых в назидание зрячим» Дени Дидро? Нет? У тебя еще есть возможность… На самом деле Бог создан по подобию человека, а не наоборот. Что смертный захочет, то и сделает, а не сделал — значит, не захотел. Значит, не стал представителем Господа Бога на нашей земле.
Югринов вытянул ноги и откинулся головой к стене — устал все-таки. Фёдор Николаевич тихонько поднялся, прошел к столу и насыпал в фарфоровый чайник сухую заварку: листья смородины, золотистый зверобой, белый цветок таволги, синий — вероники, фиолетовый — бодяги луговой.
— Сорок лет — это жизнь. Я вас правильно понял, Фёдор Николаевич?
— Правильно, — услышал он далекий ответ и журчание кипятка. — Например, я за три дня узнал о том, что сегодня пойдет дождь. Как я узнал? Ель стала стройной и острой, потому что ветви опустились вниз. Это клетки дерева реагируют на влажность воздуха и разницу давления. Послезавтра она распушится, разойдется в стороны — значит, можно будет выходить на охоту. Вообще, в жизни надо быть очень и очень внимательным, наблюдательным. Чтобы не закончить ее раньше времени. Оставленные в печи красные угли с голубоватым пламенем могут обернуться угаром и смертью не одного человека. Это ты знаешь. Помнишь и то, что шпонку у мотора реальней всего сорвать на перекате, где мелко.
— А там было плёсо, Свинимское, — дошел до Югринова смысл сказанного.
— Ты все делал сам! Я только попросил тебя свернуть левее, ближе к берегу, там, в одном месте под водой, завис старый топляк. Но это все ерунда. Люди вообще имеют невероятные возможности — например, читать Пушкина или Достоевского, писать поэмы и романы, изучать астрономию, звездное небо, генетику… Любой человек может стать богом, но согласными на это оказываются только единицы. Остальные потом, перед смертью, начинают плакаться, жаловаться, обвинять. А кого, Господи?
— Наверно, такими богами могут стать «травоядные», — кивнул головой Югринов так, как будто старик мог не заметить его плотоядной усмешки.
— Нет, эти люди никогда не смогут достичь пределов, — покачал головой Фёдор Николаевич, — выморочная идея, без личной крови, пожизненная инфантильность. Пройдет с десяток лет, и они все станут преподавателями, руководителями средней руки, менеджерами, бригадирами…
Старик показал пальцем в сторону транзисторного радиоприемника, стоявшего на дощатой полке.
— Геолог один в подарок оставил — Игорь Попов. Сегодня «травоядные» находятся не на своем месте, поэтому доставляют таежным людям лишние хлопоты. Кроме того, как я понимаю, директор заповедника использовал их в качестве провокаторов в той войне, которую вел с местным населением. Да, вайские называют «травоядных» «одуванчиками»! Кстати, очень точный образ: дунь — и ничего не останется. Но могут спровоцировать агрессию человека, у которого дома сидят голодные дети. Сам Идрисов тоже был провокатором.
— Вы уже знаете, что был? — открыл глаза Инспектор.
— Слышал выстрелы — двадцать восьмого калибра, кажется.
С чего бы это? Югринову показалось, что сидящий напротив старик — ожившее дерево, кедр, рубленый Илюша, неожиданно шагнувший вперед, оборотившийся человеком. Югринов прямо-таки отслеживал безукоризненные движения старика.
— Это был один из тех сумасшедших, отягощенных безудержным тщеславием. Из домов сталинской архитектуры выходили выродки, путавшие честолюбие и тщеславие, а из черных бараков — пацаны с ущербной психикой, порожденной нищетой и завистью. Пролетарии интеллекта, мальчики, которые с детства мечтали пожрать — за любой счет.
Идрисов — обыкновенный агрессор, оккупант, решивший создать свое государство там, где люди уже жили тысячи лет. Алмазы, золото, цитрины, вольфрам, соболя, лосятина, хариус — все это помутило слабый рассудок. Специально подбирал себе таких людей, неуравновешенных, «травоядных», с комплексом неполноценности. Поэтому тебе пришлось уйти, а Василию — убить его. Многие хотели, чтобы он сдох.
Яков с благодарностью принял из рук старика старую керамическую кружку с травяным чаем и снова прикрыл глаза.
— А почему Гитлера никто не пристрелил? Миллионы посылали ему проклятия!
— Потому, почему и Сталина — никто, — улыбнулся старик. — Миллионы ненавидели, а миллионы — любили, даже обожали, жизни готовы были отдать за своих вождей. Охраняли! До поры до времени, конечно, пока в очередной раз не поумнели.
— А может, потому, что Сталин был гений — так говорят? — возразил Инспектор.
— Конечно, гений, — согласился старик, — только гениальный ум способен раздавить миллионы, превратить в говно так, чтобы они ему за это были благодарны.
— Но ведь гений и злодейство несовместны?
— Правильно, значит, речь идет не о гениальности бандита, а о безмозглости народа. Народа, покинутого мной — не могу жить в бараке, с рабами. Есть такой класс людей — сдвинутые: президенты, министры, чиновники, политики, бизнесмены, генералы и другие уроды, установившие на земном шаре свои нормы, стереотипы, трафареты, понятия, ценности, законы, акты, рецепты, программы, песни, стихи, музыку, кино… Нормальным людям жить в этом желтом доме невозможно, поэтому они бегут, а чаще — гибнут. Сопротивляться способны очень и очень немногие. Единицы. В тридцатом году здесь, в четвертом отделении СЛОНа — Соловецких лагерей особого назначения, сидел Варлам Шаламов. Мы встречались с ним позднее, на берегу Охотского моря. Интересную он мне фразу сказал: «Я имел возможность почувствовать всей шкурой, всей душой, что одиночество — это оптимальное состояние человека».
— Да, я встречал эту мысль в его антиромане «Вишера», там он пишет: «Идеальная цифра — единица. Помощь единице оказывает Бог, идея, вера».
— В России ввели мораторий на смертную казнь.
— От слова «мор», — кивнул головой Югринов. — Столько людей мрет ежедневно, что нет смысла в официальном расстреле — они перешли на самообслуживание, приговаривая друг друга. Это и есть распад империи.
— Вот именно. Но Василий Зеленин вернулся к военному варианту публичного расстрела. Потому что в стране идет гражданская война.
— Но почему «публичного»? — не сразу понял Югринов.
— Потому что он сделал это на глазах начальника охраны, который уже через неделю его предаст.
— Догадываетесь или знаете? — опешил Инспектор, задержав руку у кружки на дощатом столе.
— Это называется жизненным опытом, молодой человек, — хитровато усмехнулся старик. — Я знаю, что Идрисов один по тайге не ходил, что у него появился новый начальник охраны, которого надо ввести в курс дела. Правильно? А самое главное — Василий безвинного не тронет.
— Через неделю, говорите. Страна предателей. Война шла здесь всегда — угры, тюрки, русские… Я читал, первые славяне появились здесь в XIII веке — новгородские ушкуйники, православные.
— А ты знаешь, кто такие православные?
— Нет, не слышал.
— Это те самые люди, которые сожгли протопопа Аввакума, писателя.
— Понятно, — протянул Инспектор, закидывая голову, чтобы размять затекшую шею. — Вы знаете, Гаевская, жена Василия, рассказывала, будто Идрисов претендовал на родство с Чингизом Айтматовым, знаменитым киргизским писателем.
— Да-а… А как сам писатель относится к Идрисову?
— Боюсь, он мог только догадываться о его существовании, судя по книгам — кстати, великолепным: «Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток… А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей».
Югринов шел от старика к югу. Он думал о том, что в табунах горного тумана можно заблудиться, что в одно и то же время в низовьях идет зеленый дождь, а в верховьях — фосфоресцирующий снег. Представлял, как в зеленой воде шевелят красными перьями гигантские таймени. За километр слышал гул вишерских порогов и мысленно благодарил тех, которые динамитом взорвали большую часть подводных камней. Он знал: рядом с порогами не слышно человеческого голоса, а ниже города родниковая вода реки становится темной от болотных притоков.
Он стоял на пожарной вышке Полюда и всматривался в даль, прозрачную на пятьдесят километров вокруг. Он видел каменные замки у реки, одинокие башни и «грибы», многотонные шляпки которых, казалось, покачиваются от ветра, вспоминал песчаные косы и сосновые бора на пологих берегах, разглядывал известняк с остатками морской фауны, цветное дно перекатов. Ему чудилось, что он идет по долгому дну моря, где камни медленно нагреваются и медленно остывают, где весенние заморозки не пугают, а радуют своей последней, детской, неожиданной наглостью.
Я получил письмо от Василия Зеленина.
«Здравствуйте, Юрий Иванович! Примите мою запоздалую благодарность за ваше участие в моем деле. Или, если не возражаете, нашем деле, поскольку вы раньше меня пытались поставить вопрос о деятельности покойного директора. Тогда никто не услышал, вернее, не захотел услышать.
А мы с женой смеялись и недоумевали: „Глянешь, плюнешь, отойдешь — ничего в нем нету, только скоро эта вошь всех сживет со свету…“
Но мы не директору более удивлялись — по нему психушка плакала (хотя, конечно, феномен, в грязном деле — гений). Местное население удивляло нас: людей топчут, унижают, с дерьмом заживо мешают — терпят, кто-то даже лебезить пытается. А вроде не совсем забитые. Как друг друга, так из-за соболиного хвоста под корень положить готовы. А тут ублюдок, соплей перешибешь — и никто пальцем не тронул. Ни за себя, ни за близких. Даже мент-полковник, сестра которого из-за Идрисова попала в больницу. Столько крови он из нее высосал. Трудно объяснить, но ведь умел — не зря один из свидетелей назвал его на суде вампиром.
Рассказывали, когда Идрисов работал в заповеднике „Басеги“, его прямо в конторе били — за то, что одну сотрудницу таскал за волосы по полу. А уволить нельзя — в Москве где-то партнер-покровитель. Если писать о его министерских сношениях, то, вероятно, их можно назвать „абрикосовый джем“. Не думаю, что звонки с угрозами вам делали залетные пермяки, скорее всего — столичные птицы.
С „Басегов“ Рафика кое-как на Вишеру сбагрили — с повышением и сопроводиловкой: мы с ним помучились — теперь вам предстоит. Зато в суд из того заповедника пришла крайне положительная характеристика. Люди сами себя приговаривают, будто в карты проигрывают.
И мне сама следователь сообщила, что Алма-Ата интересуется делом и меры ко мне будут применены самые суровые. Я спросил тогда: „При чем здесь Алма-Ата? Мы в какой стране живем с вами?“
В вашей статье, к сожалению, была неточность: меня прокурор спросила: „Кто дал вам право судить, то есть выступать от имени государства?“ (а не народа — как у вас). Не было смысла объяснять ей, что государства у нас разные: для нее это — погоны, мнение вышестоящих, немалый гарантированный оклад и прочие радости, для меня это — люди, среди которых я живу, и земля, на которой живу.
Прозвучало еще нелепее, когда та же женщина заявила, что Идрисов был положительным человеком, потому что не пил вина и не ел мяса. У меня сразу возникла аналогия с вегетарианцем Гитлером — тоже, похоже, положительным героем был.
На суде я, помнится, сказал, что Идрисов мое национальное достоинство унижал. И свидетели подтвердили — да, говорил: „Вы, русские, будете сосать у меня…“ И тут судья развел демагогию, что русский мужик, мол, такой… что русский мужик просто обязан сосать у всякого чурки вот это самое. А превозносили судью как спеца, автора статей разных. И по фамилии вроде русский… Национальный вопрос в России всегда замалчивался — с той самой ложной деликатностью, которая русскому народу стоила моря крови.
Однажды весной Идрисов спрашивает нас: „Ну, как зимовали?“ И я давай ему: численность, урожайность, глубина снега, толщина льда… Тут директор застенчиво так, но серьезно спрашивает: „А вот аномальных явлений не было?“
Вообще-то всем приходится мерзости в жизни творить, кому-то по материальным соображениям, кому-то для самосохранения. Идрисов творил мерзость ради мерзости, а это уже идеология, которую он, кстати, не скрывал. Идеология его была параноидной — аномальным явлением, восточно-травоядной кашей. Представлялся буддистом, хотя учение толком не знал. Тут же начинал проповедовать дианетику, какие-то навороты из разных магий, астрологий и шаманизмов. Единственное, что не признавал, — христианство. Помню, как с пеной у рта всю ночь доказывал художнику Городилову, православному старичку, свою правоту: „Это что за вера такая, если сказано: ударят по щеке — подставь другую?“ А про ислам ничего не говорил, хотя это его наследственная религия.
Еще он считал, что все, кто с ним в плохих отношениях, будут наказаны. То ли высший разум этим возмездием занимается, то ли сам Рафик, с помощью своих сверхспособностей, — я не понял.
Читают в конторе вслух газету „Березниковский рабочий“, сообщение: авария на производстве, обгорел аппаратчик Якушев. Вскакивает Рафик и орет на всю степь: „Я же говорил, кто против меня пойдет, тот плохо кончит!“ Потом оказалось, что это не тот Якушев, который работал в заповеднике инспектором.
Радику Гарипову, бывшему начальнику охраны, на ногу падает металлическая плита. А Рафик заявляет: „Испортил со мной отношения — теперь инвалид“.
Вертолетчик Савченко в свой последний залет на кордон узнает, что продукты, которые оставляют нам „мафиозные“ туристы, Рафик ставит на подотчет и собирается высчитывать за них из наших зарплат, по любой цене. Мы это всерьез не воспринимаем. А Савченко обещает, что разберется с Идрисовым. Игорь Пушков, бортмеханик, прямо при Рафике говорит: „Да как вы с таким дурным директором и в таких условиях работаете? Я найду вам место у себя в Кировской области“. Через полтора месяца слышу по радио сообщение: в районе Очёра разбился Ми-8 с тремя членами экипажа и двумя врачами. У меня появляется нехорошее предчувствие. Через три дня Рафик на связи: „Радио слушаешь? Да? Так вот, двое из них — это Савченко и Пушков!“
Так и сказал — слово в слово. Я в бесовщину не очень верю, хотя и не отрицаю. Опер, один из тех, которые меня брали, сказал, что у трупа нашли христианскую молитву. Я сначала удивился, но потом вспомнил, что сатанисты читают эти молитвы задом наперед.
Сначала я, когда слышал эту идею от других, был категорически против убийства Идрисова, считал, что слишком легкий для него конец. А тут самого замкнуло, стал как зомби: исчезла ненависть, заданность какая-то появилась — убить. Отчет, правда, себе отдавал, понимал, что я камикадзе, а после в тайгу убегать — жену оставлять опасался, что на растерзание… Они, что чурки, что мусора, друг друга стоят. А готовить все заранее, поверьте, я и не думал (вы в статье версией следствия воспользовались, но я не в претензии). Однако злоба меня душила и возмездие должно было грянуть. Правда, я думал, это сделает кто-то из местных, сильно обиженных, которые не раз говорили: если что — рука не дрогнет. Я и сейчас этих людей помню и люблю, хотя меня там все забыли и считают идиотом. А о том, что я тогда чувствовал, сказано в Библии: „Ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя“. Может, я неправильно понимаю, но для меня это не столько жизнь отдать, сколько взять грех на свою душу.
А насчет того свидетеля — знал, конечно, что он меня сдаст. И то, что не вышло из меня Раскольникова, вовсе не значит, что я его пожалел: просто дня меня вопрос такой не стоял. Симпатии к свидетелю как человеку я никогда не испытывал, скорее наоборот. Но прощения у него на суде просил вполне искренне. Парень даже в армии не успел послужить, а тут при нем — шарах-бабах! Нельзя от каждого партизанской выдержки требовать — он и так неделю держался, хотя ничем мне обязан не был. И меня он не боялся, когда у ментов сидел, просто к потерпевшему относился „как и все мои товарищи“. Помнится, под давлением всеобщей уверенности, что я просто обязан был убить свидетеля, начал оправдываться: мол, он русский, поэтому я его отпустил… Да нет, конечно, будь он узбеком, я все равно отпустил бы его. Хотя я националист — в свободном Казахстане им стал.
Что-то не то я вам написал… Сегодня я существую по обязанности. Давно бы кончился, если бы жена своим жизнелюбием не поддерживала. И о родителях думаю — как-то ближе они мне стали. К прежней жизни на воле вряд ли удастся вернуться, а любая другая для меня — не жизнь… Сейчас выбрал бы пожизненный срок, чем остаток этого… Я человек развращенный — тишиной, покоем и свободой.
Извините за беспокойство. Всего вам доброго.
Василий».
Служить Василий был готов. В Заполярье. В 1984 году.
Но кальсоны старослужащим стирать не собирался. И на один удар отвечал двумя. Поэтому советские азиаты начали вызывать Зеленина по ночам, каждый раз — для последней разборки. А он оклемается, свинья грязная, и опять за свое…
В восьмидесятых годах двадцатого столетия на территории СССР сказалась разница рождаемости в шестидесятых: сверхнизкая — в метрополии, сверхвысокая — на южных окраинах. К тому же проявилась разобщенность белой расы и сплоченность «черной». Короче, более половины зеленинской роты составляли узбеки. Они устроили очередную разборку на стрельбище, точнее, чуть в стороне. Четверо напали на Василия, закрутив на правую ладонь конец кожаного поясного ремня с медной бляхой на свободном. Когда двое от зеленинских ударов рухнули, подскочил еще один, с эскаэсом в руках, разворачивая на ходу не штык-нож, а штык старого образца — ромбический. Василий успел это заметить… Полная победа ислама! Граненый металл вошел в живот российского солдата.
Русские офицеры нашли машину, плашмя забросили Зеленина в кузов и отправили в госпиталь. А Василий, утратив зрение, со сплошным северным сиянием в голове, стонал, скрипел зубами, пытаясь запихнуть свои резаные кишки обратно.
— Когда случилось? Три часа назад? — услышал он голос свыше.
Ответил медику сопровождавший раненого мичман.
— Да ты, парень, уже давно на том свете, — склонился над Василием военный врач.
«Вы старше меня на десять, — писал Василий, — поэтому не застали в армии „черную“ экспансию, поддержанную продажностью белых офицеров. Вспомните Рубцова, который когда еще писал: „Россия, Русь! Храни себя, храни! Смотри, опять в леса твои и долы со всех сторон нагрянули они, иных времен татары и монголы“. Хотя против настоящих татар и монголов я ничего не имею. Но я знаю, что в девяносто первом в Душанбе с девятого этажа выбрасывали русских младенцев. А сегодня они везут сюда героин, чтобы довести до конца начатое тогда дело. Вот оно — предательство белых…»
В Усть-Каменогорске, казахском городе с русским населением, Зеленин и Гаевская сделали последнюю пересадку, граница была совсем близко… Ночью на вокзал ворвались трое здоровых, будто верблюды, казаха и начали избивать пассажиров, а в зале ожидания были дети, женщины и старики. Из мужчин — Василий да один освободившийся зэк. Они переглянулись, оторвали от скамеек тяжелые рейки и бросились к «черным», но верблюды, вообще, быстро бегают… Имелась возможность появления белой милиции, но так и осталась возможностью. Точнее, «розовые лица» появились после дел — как всегда, трусливое, продажное племя…
Мы сидели за дощатым столом во дворе будущего дома Алексея Копытова, который за пять лет в одиночку залил стены первого этажа монолитным железобетоном и уже два года поднимал второй этаж из гипсоблоков. Рядом с дорогой, которая вела в сторону брошенного, пустынного, песчаного пространства аэропорта и далее — на Ваю и Велс. В десяти метрах начинался сосновый лес, на севере поднимались Морчанские поля, с которых когда-то мы запускали радиоуправляемые планеры, а правее виднелась деревня Берёзовка. Алексей неторопливо рассказывал — мне и Раису.
— В этой Берёзовке родился Железный Влас — знаете об этом? Ну-у… — удрученно покачал он чуть поседевшей головой, дивясь необразованности своих вечных учеников. — В 1973 году его именем назвали теплоход, имевший ледовый класс.
«Опять эти корабли», — весело подумал я. Копытов, помнится, часто вспоминал древних: плавать по морю необходимо — жить не так уж необходимо. Алексей и дом-то поднимал для того, чтобы иметь возможность строить рядом с ним яхту, на которой по Вишере, Волге, Волго-Донскому каналу и Дону уйти наконец в Азовское море, Чёрное, Средиземное, а потом, понятно, в океан, Атлантический…
— Кстати, длина теплохода — сто пятьдесят метров.
Алексей замолчал. Наверно, он представил себе эту длину — и ушел в океан своей мечты.
— Он был приписан к Архангельску. Оттуда много лет назад русские проложили путь в Европу и Азию — правильно? А потом, во время Второй мировой войны, туда шли корабли союзников с оружием и техникой.
— Ты нам чего рассказываешь — о теплоходе или человеке? — не выдержал флегматичный Раис Сергеевич. — Я знаю про Архангельск, неподалеку служил в ракетных войсках — вентиляционщиком. Вентилятор командиру включал по утрам — жарко там, особенно в январе. До сорока доходило.
— О человеке! — согласился Алексей Алексеевич. — Америка тут не просто так. Ничков Влас Никифорович! В Берёзовке родился, здесь же работал — учителем в школе, потом учился в Ленинградской сельхозакадемии имени Кирова, ныне покойного. Поняли? Учитесь. Воевал на Ленинградском фронте, в минометном полку. Доктором экономических наук стал. Возглавлял Всесоюзное объединение «Экспортлес».
— Был награжден орденами и медалями, — не выдержал я вечно дидактического тона друга. — Ты что, некролог цитируешь?
— Очерк о герое-земляке, — Алексей достал из кармана сложенную вчетверо газетную полоску и начал читать уже по ней: «Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, двумя орденами Трудового Красного Знамени, многочисленными медалями…»
— Двумя орденами Трудового, — воскликнул я, — Красного, блядство, Знамени! А я даже значок ГТО потерял, по пьянке.
— «…Позднее Влас Никифорович возглавил советскую торговую фирму в США — „Армторг“, которая начала свою деятельность еще в двадцатых годах. На этом посту он много сделал для организации эффективной торговли между двумя странами. Тогда его и прозвали Железным Власом — за твердость, за непреклонность в проведении служебной линии. Надо думать, Ничков жестко защищал интересы СССР на международной арене. И тем не менее за границей к нему относились с открытой симпатией. Вот как писал корреспондент газеты „Советская культура“ Леонид Почивалов о корабле „Влас Ничков“: „…на борт идущего первым рейсом судна в западных портах, обнажив головы, поднимались десятки людей — коммерсанты, брокеры, промышленники — те, которые считали своим долгом почтить память уважаемого коллеги“».
— Ну и в чем мораль? — спросил я.
— Как в чем? — затянулся Раис американским дымом. — О нас так не напишут. Вот в чем!
— О нас напишут иначе! — лениво возразил я.
— О вас вообще не напишут, — поставил точку Алексей Алексеевич. — Может быть, эпитафию только, в стихах. Об эпитафиях. Читаю далее: «В 1972 году на советское торговое представительство в Вашингтоне был совершен налет — террористический или просто бандитский, с применением физического насилия. Факт этот долгое время скрывался и до сих пор широкой общественности не известен. Влас Ничков, бывший уже на семидесятом году жизни, тяжело пережил нападение — вскоре у него случился сердечный приступ, после которого он скончался. Похоронен „железный“ человек в Москве…»
— Все россияне мечтают быть похороненными в Москве, — заметил Раис, — кроме тех, которые воюют за Москву в Чечне. Те просто мечтают быть похороненными.
Эти вишерские легенды свели с ума целые дивизии людей! Сколько пацанов сбежало в мир с мечтой о похоронах в Москве. А кто знает, сколько динамита взорвано у Полюда авантюристами, приезжавшими сюда в поисках заваленной пещеры? Люди мечтают. Еще в тридцатых здесь видели лагу, с помощью которой открывался каменный вход в подземелье, и толстую веревку, уходившую вниз. И кто только не искал затонувшую на Вишере баржу с чугунными чушками, в которые хитроумные французы, добывавшие в верховьях руду, заливали тайно намытое золото, чтобы вывезти его за границу. Но все это фигня по сравнению с рассказами об армейском разведчике, майоре Павлове, которого после войны посадили в лагерь на Перше. Когда он покинул зону — сбежал с молодым зэком, разоружив караул, — в небе барражировали самолеты, а леса оцеплялись войсками НКВД. Но старый лазутчик усадил у костра манекен, по которому стреляли солдаты — и попали, сразили наповал беглеца, подошли к костру и были на куски порезаны автоматной очередью. Мой отец утверждал, что Павлов был убит и привезен на Вишеру в кузове грузовика. Другие были уверены, что разведчик ушел в тайгу и до сих пор там скрывается.
А какой силой обладала легенда о том, что злу не миновать воздаяния? Во все века! Мой отец рассказывал вишерскую историю. В двадцатых годах советская власть собрала в одном язьвинском амбаре иконы, свезенные с окрестных церквей, деревень. А в тридцатых годах в этом амбаре стали складировать мясо. И работал там один мужик. Он брал иконную доску, переворачивал ниц и разрубал на ней мясо. Потом началась война, мясника забрали на фронт, откуда он вернулся с обрубками вместо ног. Было что-то в этом: не убит, а обрублен… Заканчивая рассказ, язьвинские бабки поднимали указательный палец вверх! Как восклицательный знак. Как это делал Раис, пока не бросил пить водочку.
Я сидел возле дома Алексея и вспоминал одну картину, которую мне удалось увидеть тридцать лет назад. Солнце, как огненный щит воина, заходило за тайгу левее Полюда, и три багровых луча-меча расходились по августовскому небу в сторону города, до самой Вишеры, до того высокого берега в березах и соснах, где я, пораженный зрелищем, смотрел на феерический закат моей юности…
Потом я снова вернулся в Пермь. И в сквере Уральских Добровольцев неожиданно встретился с главным интеллектуалом Перми — Олежеком Гостюхиным, собиравшим пустые бутылки из-под пива, знаменитые «Чебурашки».
— Ты знаешь, зачем наш милосердный Бог сделал муравьев такими маленькими? — спросил Олежек. — Чтобы мы не страдали, когда случайно наступаем на них. Поэтому я такого роста — понял?
— Да, — согласился я, — а если бы они были большими, как слоны, то давили бы нас.
Понятно, мы немного выпили — на лавочке, рядом с которой стояла железобетонная урна, откуда мой вечный лингвист достал последнюю тару.
Песнь о вещем Олеге
Никакая это не «Песнь о вещем Олеге», обыкновенный протокол. Хотя, конечно, милиционер сам виноват был: зачем он говорил слова, коробившие изысканный слух Олега Николаевича? Олег Николаевич вообще терпеть не может, когда общаются «в рот, ухо и вокруг шеи».
Сержант стоял на дощатом уклоне пола, вроде пандуса, при входе в медвытрезвитель, которые нередко находятся в каких-то полуподвалах, с окнами, как в общественных банях. В любом случае ощущение погреба оставалось всегда. Да вы сами вспомните, где бывали, — хотя бы спецприемник на Перми II. Это и на подвал не похоже — могила какая-то, египетская пирамида, саркофаг четвертого блока. Тусклый электросвет, общие нары и удушающий запах сырой одежды на бельевых веревках.
Короче, сержант, засунув руки в карманы, покачивался с носков на пятки. И в тот момент, когда встал на каблуки, Олег Николаевич тихонько толкнул его в грудь. Центр тяжести милиционера вышел за черту опоры, он, как выражаются в единоборствах, «загрузился» — и слетел с каблуков, рухнул со всей своей высоты назад.
И наступила пауза всеобщего изумления, после которой послышался нарастающий хохот — это в восторге пригибался к коленкам собутыльник Олега, Шурик Завьялов. Как они потом догадались, милиционеров не столько возмутил антиобщественный поступок первого, сколько взбесил наглый смех второго. Поэтому милиционеры стали избивать Шурика. Впрочем, Олегу Николаевичу тоже досталось — только очки прошуршали по полу в дальний угол.
Откуда было знать этим убогим ментам, что Олег предпочитает блатному языку русский, в крайнем случае — древнерусский или старославянский. А если бы он заговорил на любимом английском? Рассказывали, к англоговорящим алкоголикам они вообще относятся с недоверием.
Конечно, это досадное недоразумение в медвытрезвителе могло произойти лишь в те далекие советские времена. Сегодня, как известно, там работают люди, которые прошли элитные школы этико-лингвистической подготовки, овладели эвристикой, эвфемизмами и знают, что такое эгалитаризм.
Сегодня властью обладают вообще люди другие. Впрочем, как говорит мой восьмилетний сын, если ударить по мозгам бронзовым тазом, то получится тот же эффект, что от газового баллончика. Такой вот красный галстук — зеленый прикид. Олег, кстати, по этому поводу заметил: «Когда комсомольцы называют друг друга „господа“, я начинаю тащиться так, будто на меня снова надели противогаз…»
А ты говоришь «Песнь»… Хорошо, если песню на следующий день вспомнишь.
Олег Николаевич, невысокий, сутулый, худой, передвигается в толпе так, словно галсом идет, стараясь занимать как можно меньше места. Зато когда Олежек выпьет, он поднимает все паруса и бороздит волны чайным клипером вокруг мыса Доброй Надежды: «И бегу я к началам ночей, обходя баб, ментов и врачей. Спросят: „Чей ты, бич?“ А я ничей. Ох, бичей на Руси, ох, бичей…»
Свободный он человек. И я решил попробовать так же — например, прочитать Пушкина слева направо. Белым по черному — в негативном варианте. В собственном ракурсе. И в зеркале. Такова моя прихоть. Мой каприз. Мой субъективный фактор и вектор.
Как ныне сбирается вещий Олег… Правильно, только не собирается, а собирает — бутылки из-под пива, «Чебурашки», самые ходовые у приемщиков стеклопосуды, приехавших к нам с далекого юга.
В бессмертной студенческой пьесе «На дне. Почти по Горькому» была одна такая фраза: «Юристы — это которые черненькие и прыгают». Имелись в виду кавказцы, проникавшие на факультет любыми путями, чтобы использовать закон (и беззаконие) с максимальной пользой — для себя, конечно. Олег Николаевич любил театр нашей жизни, а также изобразительное искусство, неплохо владел карандашом. И еще он утверждал, что имперская экспансия вернулась ответной волной с юга.
А куда собирается вещий Олег? Отмстить неразумным хазарам… Как сейчас помню, Хазарский каганат был разгромлен только в 964 году Святославом Игоревичем. Так ли? Время обманчиво, как зеркало, в котором переворачивается любой текст. И древнерусский князь оборачивается Олегом Николаевичем, реальным человеком и фантомом. Недаром он быстрее других понял работу Соломона Адливанкина «Очерки праславянской фонетики». Кроме того, проявил подозрительные знания, сдавая экзамены по истории, сначала в Кировском институте, потом в Пермском университете. Правда, ни разу не снизошел до пятого курса, считая диплом обременительной формальностью.
— Скажи мне, Олег, честно, это твой щит на вратах Цареграда? — спросил я.
— Пушкин все перепутал — то место называлось «химградом», химическим городком. И вообще, действие происходило на Сахалине, дружина была Советской армией, щит — шанцевым инструментом, а цареградская броня — противогазом и ОЗК, общевойсковым защитным комплектом. В результате, к несчастью, я стал химиком-разведчиком.
— А волхвы не боятся могучих владык?
И он мне напомнил строки: «Я не потерял до сих пор головы, кружась на земле океанной. Мне рыбу совали седые волхвы, копченую рыбу в пивнушке стеклянной…»
В то лето Олега взяли в качестве рабсилы братья из Закарпатья в Гремячинск, откуда он вскоре сбежал.
А в тот вечер он допивал шабашные деньги в пивном стеклянном чепке, что неподалеку от Перми II. На следующий день волхвы прогнозировали похмелье без пива и рыбы, поскольку в кармане оставалась сигаретная мелочь. А вокруг — никого, ничего, ни дома, ни родителей, которые неожиданно умерли в один год. («Желтеет лист на глянцевитой луже, как высохшее сердце на ладони», — написал он тогда свое единственное в жизни стихотворение).
Он стоял в чепке — вспомните: Пирует с дружиною вещий Олег при звоне веселом стакана… Вот-вот, а потом наступил черный провал. Шел 1983 год.
Олег так и говорит: «Я виктимная личность, за мной тянутся следы несчастий и преступлений». Правда, надо добавить — чужих преступлений.
Очнулся он на заднем сиденье «Жигулей», за рулем — человек с кавказской внешностью, говорящий почти без акцента и называющий Олега по имени. Справа лежала какая-то куча тряпья. «Как я сюда попал?» — «Ты сказал вчера, что нет денег, я предложил тебе подзаработать, ты согласился, на один месяц. Голова болит?» — и водитель достал из бардачка бутылку водки. «И мне!» — неожиданно раздался сиплый голос, а затем из кучи тряпья вылезла скрюченная рука.
Машина двигалась в сторону Оханска. В тех местах, как выяснилось позднее, обосновалось несколько строительных групп чеченцев, освоивших практику сколачивания рабских бригад из пермских бичей. Чеченцы подряжались выполнить объем работ, значительно превосходивший собственные возможности. А потом совершали набеги на привокзальные места.
Жили во времянке, оборудованной сварной железной печкой. Баланда, хлеб и работа в течение всего светового летнего дня. Вручную мешали в больших чанах бетон, заливали им полы будущего овощехранилища, таскали камень, кирпич и гипсоблоки. При появлении людей в милицейской форме прятались в лесу, в ближайшем кустарнике, как приказывали братья-чеченцы Мамед, Магомед и Муса.
Механизм рабства основывался на том, что бригада формировалась из полукриминальных элементов или бичей, людей без прописки, которым грозила статья за бродяжничество. «Хлебайте эту баланду, если не хотите тюремной», — предупреждали рабовладельцы. Таким образом люди оказывались в безысходной ситуации. «Убежать было невозможно — ни денег, ни документов. И надзирающий чеченский глаз».
— Ты доволен, что Чечню разбомбили?
— Кого? Разбомбили, да не тех, а те, что поумнее, давно расползлись по России.
Отпустили Олега не через месяц, а через полтора. И за эти железобетонные работы он получил в десять раз меньше обещанного — тридцать еще советских рублей. А из Перми привезли другого.
Конечно, мы не рабы — рабы не мы, а другие — люди, пережившие смерть родных, потерю жилплощади или документов, стресс, вызванный сокрушительной утратой иллюзий, тяжелую болезнь, а может, и хуже — близкое знакомство с тюрьмой или казармой.
Но разве не сами они выбрали дорогу? Свободу от семьи, прописки, работы, начальства, денег? Как писал Галич: «Я выбираю свободу — пускай груба и ряба, а вы — валяйте, по капле „выдавливайте раба“! По капле и есть по капле — пользительно и хитро, по капле — это на Капри…»
Кстати, о писателе, жившем на этом острове. В бессмертной пьесе «На дне. Почти по Горькому» имелась еще одна замечательная фраза: «Человек — это звучит горько!»
Наши домохозяйки называют таких людей бесхарактерными, на цивилизованном Западе — социально незащищенными, я бы добавил — лично беззащитными.
…На холме, у брега Днепра, лежат благородные кости. Только не Днепра, а его притока — Припяти. Неподалеку от последней столицы князя Олега.
Это был самый долгий срок пребывания союзного военкоматовского призыва в тридцатикилометровом «кольце окружения» — последний срок, четырехмесячный.
Каждое утро Олег Николаевич шел по бетонной дороге к четвертому блоку ЧАЭС. Через километр он подходил к контрольно-пропускному пункту, рядом с которым стояло уцелевшее здание с надписью: «Мы придем к победе коммунистического труда!»
Вот и пришли — в касках, в робах и в респираторах, лепестках так называемых, марлевых намордниках.
В отстойнике, одном из самых чистых мест станции, командир, точнее, бригадир давал каждому задание. Делали всё: мыли полы, пробивали стены, укладывали клеть из гнилых шпал, которая поддерживала треснувший саркофаг. И конечно, был бетон, опять бетон — как у чеченцев! Только теперь в полиэтиленовых мешках. От этого бетон легче не стал.
Во время очередного кратковременного пребывания в одном спецприемнике наш герой услышал легенду о местном начальнике, майоре милиции, кавказце по национальности, который создал целую систему работорговли. Майор принимал заказы от своих земляков, а потом проводил в своем «пансионате» психологическую работу с клиентами, попавшими с уголовной мелочевкой, — бичами: «Хочешь свободу?» И продавал в рабство целыми бригадами. Ну, конечно, это легенда, ведь мы были и остаемся самыми свободными людьми в мире. Особенно Олег Николаевич.
Последний чернобыльский призыв будто забыли, будто решили оставить в саркофаге навсегда. В ответ на забастовки и письма приехал какой-то генерал-лейтенант, собрал всех в клубе и заявил: «Мы тут решили дать вам дембельский аккорд».
Дезактиваторщиков моют дожди, засыпает их пыль, и ветер волнует над ними ковыль, а этот одно что «аккорд»! Зал по-мужски хохотнул и стал рядами выходить вон. «Это что за штатские штучки?!» — продемонстрировал генерал свой бас. «А пошел-ка ты на хуй!» — с удовольствием ответили из зала.
У Олега началось замутнение хрусталика одного глаза. Тело изошло коричневыми пятнами. «Теперь косточки к непогоде болят». Давление прыгает — вегето-сосудистая дистония смешанного типа. Но разве официально зарегистрированное количество полученных бэров, биологических эквивалентов рентгена, может отразить всю глубину угнетенного состояния психики? Когда человек находится на таком уровне, где «мой каприз, мой субъективный фактор и вектор» не играют роли.
Вероятно, Пушкин был очарован мыслью о фатальности существования личности. Или хотел сказать другое: человек, предоставивший себя Судьбе, обречен. Недаром князь так возмущался: Кудесник, ты лживый, безумный старик! Он верил ему. Он верил волхвам, которые подсовывали рыбу в пивном чепке у Перми II. Он предал коня — свой каприз, свою волю. Поэтому и очнулся в чеченском жигуленке.
«Но жить — обязательно значит выйти за пределы самого себя в то абсолютное вовне, которое и есть среда, мир; это значит постоянно, непрестанно сталкиваться и противостоять всему, что этот мир составляет: минералам, растениям, животным, другим людям… Это неизбежно… Я должен проделать этот путь в одиночку» — так писал испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, умерший в год рождения Олега Николаевича Гостюхина.
Конечно, каждый человек виноват в своих бедах, но моральное право говорить это имеет только он сам, лично.
В паспорте нашего князя отмечена только та самая «зона отчуждения», тогда как он работал непосредственно на самом четвертом чернобыльском блоке. На запрос Ленинского райвоенкомата Перми из Киева ответили, что данных по рядовому и сержантскому составу не имеют.
Если вспомнить слова Махатмы Ганди о том, что «цивилизация начинается с ограничения личных потребностей», то можно сказать: Олег Николаевич — один из самых цивилизованных людей в Перми. Не был замечен в чтении только одних книг — по диетологии. Имеет читательские билеты Пушкинки и Горьковки. Не имеет ни угла, ни работы.
— Я бы, конечно, мог сходить и проголосовать нынче за президента, — заметил он с усмешкой, — но мне как-то совестно стало, ведь я не налогоплательщик.
— Сегодня нет работы, но и рабства нет тоже, — попытался отстоять я демократические завоевания.
— Конечно, — сразу согласился он, — подъезжай к центру занятости и бери хоть роту, по любой цене.
Говорят, во времена древнегреческой демократии рабы не чувствовали ущербности собственного статуса. И к нашему полиэтиленовому мешку с бетоном приклеили фирменную этикетку. Поэтому остается только одно утешение: мы — самые свободные люди в мире, поскольку лишь свободный человек может понять, что живет в V веке до нашей эры, в древнегреческом государстве, в эпоху расцвета демократического строя.
— Понятно, — кивнул я, — а в Бога ты веришь?
— К нам, в наркологическое отделение, пришел святой отец и окрестил пятерых. «И как?» — спросил я одного. «Да что там, — отвечает, — всего и налил-то по ложке кагора».
Конечно, больничная палата — это не тот брег, на котором пирует дружина Олега. Да и за окном уже летят желтые листья, как из того вещего стихотворения.
Мы выпили с Олежеком по паре бутылок «Рифея», и я пошел на долбаную работу. Отец рассказывал, что в год моего рождения в город во время сильных морозов зашел одинокий волк — его обнаружили в подъезде двухэтажного дома, стоявшего на берегу Вишеры. Видимо, он перешел реку по льду, со стороны Полюда. Там и застрелили этого зверя, сжавшегося от холода, страха и ненависти в темном деревянном углу. Чего это я вдруг вспомнил про волка?
Я остолбенел: навстречу мне двигались по мраморному полу два тяжеловоза, один из которых сильно хромал. Они тащили письменный стол — будто проклятие. Бог мой, цирк и немцы…
— Что стоишь, как ювелирный магазин? — радостно прокряхтел Корабельников, опуская груз на пол.
— В чем дело, ребята? — спросил я, изумленный картиной сурового социалистического реализма.
— Нас выселяют — ты что, не в курсе? — улыбнулся Матлин. — Депутаты Законодательного собрания расширяются.
— Э, так у них и так два этажа! — искренне изумился я.
— А теперь им надо три, — ответил Саша, — число помощников возросло. Господа будут всегда, ты помнишь?
Андрей Матлин, умница, застенчиво улыбнулся, будто прося прощения за накладные расходы демократии. Было понятно, что мы покидаем свою пармскую обитель навсегда, не гоношась, как последний романтический бред двадцатого столетия — и вместе с ним. «Неужели ты с такой легкостью отдашь им свою мечту?» — спрашивала меня по ночам Судьба. «Да за стакан „Агдама“, мадам, — отвечал я ей, — пусть берут, если своей нет».
— Андрюша, давай уедем на Сейшельские острова…
— Не-е, я на юг больше ни ногой, — ответил Матлин. — Вот помню, я жил там. В Капской пещере. И съел как-то два соленых рыжика — в том заповеднике они встречаются редко, рыжики. И отравился. Выжил, конечно, гадина. Думаю, что на юге эти грибы более, чем на севере, способны концентрировать яд. От которого только водка спасает. Да, только она, родимая, горькая, ненаглядная, белая, светлая, ясная, спасет от смертельной интоксикации. Ты меня понимаешь, друг?
О, я его хорошо понимал. Оба тяжеловоза пристально смотрели на меня, гипнотизировали, сволочи. Интоксикация у них. Нет, меня в это дело не втянешь — я быстро обогнул Корабельникова и рванул в сторону, от самого себя, прыжками.
Поднимаясь по лестнице, я вдруг остановился — я вспомнил слова Василия из последнего письма: «Какой-то странный недуг у меня случился, похоже на пониженное давление — слабость, сонливость…» Может быть, он чувствует атмосферу вообще? Не только в смысле барометра. А что дальше? Я достал его конверт из сумки: «Обычно это бывает в начале отсидки, когда человек привыкает, а у меня уже четыре года… Особых душевных переживаний, как в начале срока, тоже нет, живу одним днем, а далее — неизвестность».
Я привез в редакцию новый материал с Вишеры и сдал его в секретариат. Потом зашел в отдел социальных проблем.
— Тебя пора назначать собственным корреспондентом по северо-востоку Прикамья, — улыбнулся Матлин.
— Я сам себя назначил, — ответил я.
— Почему он убил Идрисова ночью, в тайге? — спросил меня Слава. — Надо было вызвать директора на дуэль! Чтобы честно было. Или пристрелить публично.
— У тебя что, крышка слетела? Да если бы Идрисов узнал о том, что Зеленин задумал его убить, то уже на следующий день на кордон прилетела бы милиция и нашла бы в доме капкан с мясом. И какое-нибудь нарезное оружие нашла бы. А насчет публичного расстрела ты прав. Зеленин так и поступил — расстрелял его на глазах начальника охраны.
— Один выстрел. «Пусть не решит он всех проблем, не решит всех проблем, но станет радостнее всем, веселей станет всем», — запел Андрюша Матлин. — А два выстрела — уже праздник.
— Идрисов шел своей дорогой, на вершину горы Ишерим, — кивнул я. — Туда ему и дорога. Не жил, а Бога гневил.
Да, я искал бандитов, которые угрожали мне смертью. А нашел Василия Зеленина, Якова Югринова и Алексея Бахтиярова — инспекторов заповедной территории, которые видят в темноте, спят на снегу и стреляют без промаха. Я правильно сделал, что родился в России и начал писать книги. Я никому в мире не завидую, кроме самого себя. И я тоже думаю, что все только начинается. И закончится не скоро. Мой старый, мой седой друг, обогнавший меня более чем на двадцать лет, Роберт Белов, говорит, что «писатель — профессия посмертная». Он оптимист. Он тридцать лет ждал публикации своего романа «Я бросаю оружие». Гоголь, рассказывают, вообще сжег второй том своих «Душ», а некто Анатолий Сороченко свои опубликовал.
В нашей редакции была информационная доска, на которой вывешивались материалы, признанные редколлегией лучшей публикацией минувшей недели. Я вернулся с Вишеры: первая неделя — мой материал висит, вторая — мой, третья — опять мой. На четвертой неделе информационную доску сняли. Наверное, чтобы не травмировать психику редактора. Когда стало ясно, что другого выхода нет, что руководство меня сознательно выживает с территории, я перешел на работу в Пермский региональный правозащитный центр, который выпускал газету «Личное дело», — ответственным секретарем.
И вскоре опубликовал еще один вишерский материал.
Валера Демаков рассказал мне про знакомого, Игоря Белобородова, начальника партии в Магадане. В молодости Игорь служил во внутренних войсках. Однажды его с автоматом и тремя заключенными забросили на какой-то дальний кордон, чтобы мужики построили там домик. Осужденные работали, а солдату вообще делать было нечего, но в балке он обнаружил один из томов Большой советской энциклопедии, где слова начинались на «гео». И он столько раз прочитал этот том, что все выучил наизусть. Вернулся из армии и с легкостью поступил на геологический факультет.
У меня тоже не было выбора, потому что я родился на берегу Вишеры. Хорошо, когда достается один какой-нибудь том из Большой советской энциклопедии, другим, убогим, вообще ничего не достается. Поэтому они сбиваются в банды и бригады, синдикаты голубых и отряды коричневых, армии красных и белых, в похоронные и зондер-команды, во всенародные партии, инородные образования и антинародные спецслужбы; они становятся коммерческими фирмами, оперативными группами, телевизионными сериалами и массовыми галлюцинациями; они стаями идут по следу суровых одиночек, отрывающихся от преследователей — в тайгу, в тюрьму и на тот свет, отмахивающихся, отстреливающихся от потных, наглых жлобов, сбитых в банды и бригады, команды и спецслужбы.
Рассказывают, что крест, который стоял на могиле Адама, был сделан из кедровой древесины. Конечно, имеется в виду ливанский кедр. Крест, поставленный поэтами и альпинистами Перми Великой на Помянённом Камне, вырубили из сибирской сосны, которую на Вишере тоже называют кедром.
Машины в этих краях встречаются не так часто, как раньше, поэтому Валерий не мог не обратить внимания на лесовоз, шедший навстречу. Когда КамАЗ проезжал мимо, Демаков не поверил своим глазам: он был гружен кедром! Машина въехала на паром, Валерий быстро развернулся, навел фотоаппарат и несколько раз щелкнул затвором. На фото проявились даже номера: 57–83.
В тот день Валерий Демаков выехал из поселка Вая по дороге, которая вела в сторону так называемого 71-го квартала, где с берега реки начинается тропа в заповедник «Вишерский». Да, люди и машины встречаются здесь очень редко — реже кедра.
Валерий знал, что в нескольких километрах находится единственный в области кедровник — Велсовский, памятник природы, площадью четыреста сорок один гектар. Правда, следы лесодобытчиков он обнаружил не там, а неподалеку от дороги. Профессиональный геолог, проведший в тайге два десятка сезонов, он никак не мог спутать сосну или ель с кедром — у кедра кора мягкая, красноватого оттенка. Да и нет здесь уже сосны — повырубали. Так что если увидел машину с сосной, знай: это кедр.
Правда, следы оказались какими-то странными: метровые отрезки стволов с проставленными на торцах цифрами. Зачем их отпиливали, Валерий не понял. Из шестиметровых бревен получались пятиметровые — зачем? Обычно эти цифры, обозначающие диаметр ствола, ставит таксатор, определяющий объем добытой древесины. Не отрезают их никогда. Демаков сфотографировал остатки стволов.
Через неделю он снова встретил тот же самый лесовоз — уже в поселке. Прикинул — пятнадцать кубов. Выяснилось, что каждый день одна и та же машина увозит отсюда лес по дороге, ведущей к городу. В течение двух месяцев. А Демаков встретился с ними в середине августа. Появилась версия, что древесину доставляют в Березники. Потому что добывает лес тамошняя фирма «Форест». Этому же предприятию принадлежит переправа через Вишеру у поселка Вая. У кого паром, тот и переправщик…
В начале лета, когда Демаков, который возглавлял фонд помощи заповеднику «Вишерский», начал снова ездить на север, ему вообще отказывались выдавать приходные кассовые ордера. Он простодушно вынудил паромщиков соблюдать закон.
Он слышал, что кедр можно рубить только тогда, когда участок выделяется под сплошную рубку, а само дерево находится на волоке, по которому стволы тракторами доставляются к дороге. Судя по следам, оставленным добытчиками, основная работа шла дальше — ближе к Велсовскому кедровнику, а может быть, вообще на его территории.
Он узнал, что в постановлении губернатора области «Об усилении охраны ценных и редких пород деревьев, кустарников» сказано: «В лесах области произрастают породы деревьев и кустарников, которые являются редкими в общем составе лесного фонда и ценными как с точки зрения сохранения вида и видового состава лесов области, так и с точки зрения общей хозяйственной и природной ценности. Из хвойных пород наибольшую ценность представляют кедр (сосна сибирская) и лиственница (лиственница сибирская, лиственница Сукачёва), для сохранения которых необходим особый режим лесопользования».
Я показал цветные снимки, сделанные Демаковым на Вишере, Василию Васильевичу Груздеву, начальнику отдела лесопользования и лесовосстановления Комитета природных ресурсов по Пермской области. Василий Васильевич долго рассматривал фотографии и сделал заключение, что не может совершенно точно определить — кедр это или нет. «А зачем это вам?» — спросил он.
Конечно, можно было сказать, что я вырос на Вишере, и рассказать, как мы подолгу кружили в поисках кедра и его шишек. Да просто — жалко стальных красавцев.
Древесина мягкая и крепкая. Конечно, карандаши, музыкальные инструменты, паркет и резная мебель нужны. Но в Прикамье кедр остался только на Вишере. Дерево стало действительно редким. Встречается так же часто, как алмаз. Подумаешь, растет оно двести-триста лет! Плодоносное-орехоносное…
В календаре друидов, говорят, на дуб приходился один день в году. А на кедр — два. На остальные деревья — большее количество. Уже в древности дерево стало символом особой ценности.
Я вспомнил рассказ о том, как мужики валили кедры бензопилами, для того чтобы собрать шишки с верхушек. Дикие люди, советские. Нынешние березниковские добытчики поступают так же: чтобы хорошо пожрать, они заваливают бесценные вековые деревья.
Кто им судья — Бог? «Нет, — покачал головой Валера, — природоохранная прокуратура».
Я вспоминал вишерскую тайгу, белые от мха сосновые бора, перья глухарей в песке, паутинки, сверкающие в лучах осеннего солнца, чавканье болота, тяжелую походку идущего впереди отца, развесившего руки на ружье, как на коромысле, плавленый сыр и черный хлеб на привале, далекий лай Джульбарса… Отстреляемся.
Василий писал: «Зная мою жену, вы, должно быть, и обо мне имеете представление».
Действительно, подумал я, о тебе я имею только представление. Приблизительное. По материалам уголовного дела, письмам, рассказам, диктофонным записям. Когда казалось, что твой портрет завершен, образ преступника дополнялся все разрушающей деталью, моментом, мелькнувшим в просторах черного мироздания будто молния, трещина в скорлупе над моей головой.
— У тебя был конфликт с обществом, — констатировал я.
— Нет, — отвечал он, — конфликт с обществом был у Идрисова! Речь не идет о любви к людям или ненависти. Я не люблю людей, не ненавижу их — я отношусь к ним с той же долей признательности за сообщество, что и они ко мне. Может быть, больше других мне нравятся пилоты вертолетов. Понятно, это мое личное.
— У тебя тоже, думаю, был конфликт, но со знаком плюс. Потому что по отношению к истине вы — полюсы общества.
— Скорее всего, дело в моей расстроенной психике. Ну и в человеческом опыте.
— Какой опыт ты имеешь в виду?
— Опыт беженца. Правым я себя не считал еще в самом начале, просто замкнуло — предохранитель перегорел. Кто-то должен был его остановить. Наверное, каждому нужно брать на себя столько, сколько сможет вынести.
«„Здесь я выстрелил! Здесь, где родился, где собой и друзьями гордился, где былины о наших народах никогда не звучат в переводах“. Я на этом воспитан, этим смешон, понимаешь?»
Я прочитал и подумал: славянин цитирует человека, который придумал для себя красивую русскую фамилию — Светлов. Цитирует поэта, революционера — из тех, которые захлебнулись пролитой человеческой кровью. Прочитал и вспомнил, что, будучи рядовым тринадцатой роты четвертого батальона военной части 6604, выучил это стихотворение наизусть. Тогда меня учили стрелять ночью трассирующими пулями по поясным фигурам людей. А ты, Василий, взвалил на себя посильный груз? Язва желудка, туберкулез, депрессия… Национальный герой России, последний патриот, уже пять лет сидит в лагере, за колючей проволокой.
— Ты сделал это для других людей, — сказал я, — но тебя почти все забыли. Чуть позднее забудут и другие — у людей короткая память. От этого все проблемы человеческие.
— Кто помнит, тот не забудет, а кто забудет, тот не помнит, — ответил Зеленин. — Я шел с этим человеком на мировую до последнего предела. Таков мой предел. Я познал его. И никто другой. Да, и что касается свидетеля. Толстый пермский опер смеялся, рассказывая, что Агафонов представил меня крестным отцом мафии, кричал, что «у Зеленина длинные руки», и просил пожизненную охрану.
А раскололи его, говорят, на детекторе лжи. Этот аппарат он упоминал сам, когда стоял на коленях перед моей женой и бил себя в грудь: «Лучше б он меня убил!»
Светлана жила тогда в домике возле конторы заповедника. Непьющий до того Юра Агафонов запил. Сотрудники «Вишерского» с ним не разговаривали. И по вечерам он заходил к Светлане — покаяться и поужинать, поскольку все пропивал. «Что делать?» — спрашивал он мою жену, как известный революционер Чернышевский. Светлана советовала уехать подальше.
Но он остался, привез жену и ребенка. Теперь на Вае детей уже двое. Прошлым летом, когда я был на больнице в Соликамске, приезжала Алёнушка, рассказывала: Агафонов работает учителем, живет бедно, выглядит плохо. Уже не тот жизнерадостный спортсмен, борец с вредными привычками. Жизнь не таких обламывала. Я сказал, помню, Алёнушке: «Передай ему, что я зла не держу, пусть не мучается». На что она ответила так: «Ты его слишком переоцениваешь — он этим совсем не мучается».
По поводу того ружья двадцать восьмого калибра, из которого он стрелял в директора, Василий ответил мне неожиданно: «Я не воспользовался легальным исправным ружьем, потому что не для того давали мне этот ствол».
«Я очень редко вижу сны, — писал мне Василий из лагеря, — а те, что называются кошмарами, — вообще никогда. Случаются сны тревожные, но очень редко — раз, может быть, в пять лет. Один такой я видел в апреле 1997 года, когда стояла невероятно скверная погода — снегопад с бураном. А мне приснилось, будто иду ночью по полю, перегороженному жердями загонов для скота. Очень много загонов на летнем поле. Или лётном поле? Все загоны пустые. Мне приходится постоянно пролезать между жердями. Со всех сторон слышен собачий лай, который неумолимо приближается, разрывает воздух клыками, клубками колючей проволоки. И вот уже в нескольких метрах я различаю силуэты псов, прыжками несущихся прямо на меня. И я кричу — и от этого просыпаюсь…
А через два дня после этого сна я услышал по центральному радио сообщение о разбившемся в Прикамье вертолете. Помните, я говорил вам — тогда сразу закралось в душу нехорошее предчувствие, которое Идрисов подтвердил по радиосвязи: разбились те самые мужики, за которых я особенно опасался. И я почему-то сказал жене, что видел во сне то место, где произошло крушение.
Тут недавно распустили пенсионный отряд — и к нам подняли около тридцати дедов. Я разговорился с одним из них, тоже Василием, из Очёра. Спросил, помнит ли он, как весной 1997 года на окраине города разбился вертолет. И дед рассказал, что ему было известно. Борт летел санрейсом в какое-то дальнее село, к тяжелобольному. На взлете зацепился за растяжку телевышки и упал на поле, где летом обычно находятся загоны для скота. Разбились насмерть все пятеро — экипаж и два врача.
При Иванове, который был директором до Идрисова, никто не погиб, не изувечился на заповедной территории.
„Допустим, Идрисов был маньяком, — не выдержала прокурор на суде, — все равно это не давало тебе права лишать его жизни!“ Оберегание выродков — от Михасевича до Чикатило — похоже на партийную обязаловку, которую им спускают сверху. Так демократия обеспечила дотошным потрошителем каждый райцентр. Или сотрудники органов подсознательно чувствуют свое духовное родство, поэтому берегут ублюдков, будто родных? Вы не в курсе? После Идрисова прошло уже четыре года, и за это время никто не стал там инвалидом, никто не сгинул».
Тысячи раз обдумывал Василий свой поступок, пытаясь объяснить хотя бы себе, почему он это сделал, и всегда приходил к мысли, что другого выхода не было.
Он вспоминал ночь, которая наступила после ссоры Югринова и Идрисова. Директор остался ночевать — он был очень обижен на жизнь и три часа рассказывал Зеленину, будто три года прожил на Камчатке в полном одиночестве. Идрисов смотрел то в стол, то на молчаливого слушателя, все твердил и твердил о своем необыкновенном прошлом, доказывая себе, Василию и Вселенной, что его здесь держат не за того, кого надо, — за другого. Зеленин все это видел, верил ему, а более — не верил. Правда, один эпизод запал в память — о камчатской лайке по кличке Топа. Идрисову пообещали кобеля, и он уже придумал ему имя — Топ. А привезли сучку — и он назвал ее Топа. Зимой собака спала, зарываясь в снег, но стоило только позвать ее, как сугроб взрывался белым фейерверком с летящим в центре черным пушистым животным. Вдвоем — так они и жили на берегу океана. Идрисов говорил, как ему было стыдно уезжать с полуострова одному. Василий почему-то так и не смог забыть этот рассказ. Потом понял: потому что тогда, ночью, это была речь психически и нравственно здорового человека, с красивым оттенком нормальной сентиментальности. По ночам приходили эти вопросы: а кого он убил? Может быть, вовсе не того монстра, явившегося на Вишеру? Потом вспоминал, как однажды Идрисов зажал между колен и долго, с наслаждением, избивал прутом безродного пса, случайно забредшего во двор городской конторы заповедника…
В чусовском лагере Василий не раз вспоминал весну 1996 года. Тогда, в двадцатых числах мая, с неба пало яркое похолодание — несколько дней шел снег и не успевал таять. Да, в то время погибли все кладки, которые глухарки не смогли отогреть в суровом цвету черемуховой неожиданности. Ничего хорошего не сулило наступающее лето. От предчувствий сжимало сердце. Потом он все это вспомнит. Конечно, похолодание сказалось на численности боровой дичи.
В те майские дни у кордона появились три гостя — грач, галка и серая ворона, которые в заповеднике не водятся, появляются только пролетом, весной и осенью. А тут, застигнутые непогодой, пернатые быстро объединились по принципу «пришлости-нездешности», три дня паслись под мокрым снегом и ветром, бродили гуськом, пытаясь отыскать что-нибудь съедобное рядом с чужим жильем, помойные птицы. Или дружно сидели на одной кедровой ветке напротив окна.
«Интересно, кто же пахан в этой неожиданно сколотившейся группировке?» — задавались вопросом супруги, наблюдая за ними из-за стекла или с крыльца дома. На второй день Светлана крупно искрошила корку хлеба и вынесла на полянку. И что удивительно — главным оказался грач. Двое других, даже наглая ворона, приблизились к пище только после того, как тот поклевал-поклевал и отошел.
Василий вспоминал об этом случае, когда появлялся новый этап и один азербайджанец, маленький Али, настойчиво интересовался через решетку: «Нерусские есть?» Так он искал выходцев из бывших южных республик СССР, кучкующихся за проволокой по принципу «пришлости-нездешности» независимо от нации, вероисповедания, состояния войны или мира между нынешними суверенными государствами. А русскими называются славяне, татары, чуваши, удмурты и все финно-угры, заселяющие добрую половину континента. При этом, не испытывая агрессии со стороны «русских», эти пернатые нападают первыми, чтобы отобрать у собратьев по неволе лучший кусок. Они скупают чиновников и ментов оптом, как секонд-хенд на барахолке, до смерти травят деморализованный народ паленой водкой и героином, тайно выселяют из городских квартир одиноких и больных, заваливают «русских» женщин…
«Да, после Идрисова жизнь в заповеднике стала другой. Конечно, насколько я знаю, случалось всякое: то снегоход „Буран“ утопят, то лошадь копытом лягнет неосторожного. Но голодом никого не заморили, — писал мне Василий. — Правда и то, что люди нарывались на ножи и пули — уже по своей вине.
Мне уже тогда говорили: и за кого ты душу положил? Они безо всяких чурок запросто друг друга изведут, перебьют, перережут по пьянке. Что было после меня? В 1999 году в Красновишерске зарезали Владимира Михайлюка, бывшего „поселенца“ с Велса. В гостях, называется, побывал. Подстрелили Саню Усанина, крепкого паренька с Ваи, неутомимого походника, рыбака и раздолбая. В последний идрисовский год он уволился, а позднее восстановился. Его любимой песней была та самая — старая: „И Родина щедро поила меня…“ Еще как поила! Во время очередной пьянки ему и прострелили плечо — кость перебили.
Кстати, сегодня, как мне писали, каждый инспектор застрахован на десять тысяч рублей, чего при Идрисове, конечно, не было — и быть не могло.
Страховая компания отказалась платить Усанину. Но сердобольная Алёнушка стала ходить, ходатайствовать за него, просить-унижаться. И выбила-таки для парня пять тысяч рублей, которые Саня тут же начал пропивать. И пропил. Это вместо того чтобы ехать в Красновишерск, где надо было проходить комиссию на инвалидность.
Возникает такое ощущение, будто в русском народе запущен механизм на самоуничтожение — и ему никакие гитлеры-сталины не страшны. Поэтому слетаются, словно вороны, сбегаются, как шакалы, на заповедную землю идрисовы — из центра и с окраин бывшей империи.
Более того. К сожалению, как мне сегодня кажется, Дядюшка Фэй, басмач, ближе большинству вишерских людей, чем я. Кроме тех, что успели пострадать. Оставшимся вполне понятна параноидальная алчность Идрисова, желание захапать все, что плохо лежит, без охраны. Если что и сдерживает их, так только уголовное наказание, а более — ничего… Как на нашем кордоне, где много чего осталось от метеостанции. И я подбирал различные инструменты, запасные части, детали, которые бывают так необходимы в изолированных условиях, что стоят целой человеческой жизни.
Я жил на многих кордонах страны, но никогда в голову не приходило забрать то, что нажил. Всегда оставлял тем, кто шел за мной. Не думал задерживаться на Мойве до конца дней своих, поскольку чувствовал: жизнь только начинается…
Надо сказать, будучи в бегах от мира, я всеми силами старался не вникать в происходящее. В лагере приходится наблюдать и слушать. Я уже здесь узнал от одного вишерского зэка, работавшего в девяносто седьмом в заповеднике, что Калинин досматривал рюкзаки инспекторов, побывавших на Мойве, чтобы прекратить растаскивание имущества кордона. Один из таких, бывший мент из Соликамска, вообще хвастался вещами, похищенными оттуда. А на вопрос Светланы, не считает ли он подобное поведение подлым, ответил: „Если можно взять, то почему я должен оставить?“
Такие дела, Юра… Я думаю, что мир устроен сложнее, намного сложнее, чем мы себе это представляем. Смотрите, Карпов погиб уже после смерти Идрисова, но по его вине! Идрисов лежит на кладбище, в могиле. Все говорят, нет правды на земле, а правды нет и ниже… Вы меня понимаете?
И все-таки… На Валааме у нас был добрый знакомый, Боря Чупахин. Он лишился зрения на испытаниях в ядерной лаборатории. Жил один на берегу Ладоги, ловил рыбу сетями, выращивал овощи, мастерил по дереву и еще много чего делал из того, на что неспособны многие зрячие. Помнится, мы рассказывали о нем Карпову и тот мечтал съездить на Валаам. А съездил бы, может быть, не случись с ним тот, второй инсульт в доме инвалидов. Думаю, Борис Чупахин, заглянувший в компьютерный ад и ослепший от увиденного, вернулся, чтобы спасти наши души. Один в поле воин. Поскольку один своим примером может доказать, что это возможно».
А вот у вогулов ада нет — у них на том свете только рай. Недаром Василий хотел, чтобы Бахтияров рассказал ему о своем боге и посвятил в манси. Зеленин с детства слышал финский язык, карельское наречие, мягкий такой говор — со многими гласными. Но как представить рядом белобрысого дылду финна и маленького черного утра — манси? Забавно. Василий хотел бы быть вогулом, занимать как можно меньше места, владея Вселенной. Заповедная территория была ограждена зарубками рода Бахтияровых на стволах деревьев — и ничем более. В конце концов выясняется, что человеку земли надо очень мало, значительно меньше, чем ему казалось при жизни.
Странно, в последнее время мне самому тоже стали являться сны — и я даже что-то записал по этому поводу: «Вы меня достать, конечно, рады — я ценю подобное радение будто бытовое преступление. Вы усните, мои страшные видения, я прошу вас, замолчите, гады…»
Я продолжал читать Бориса Пильняка — о Смирне, родине Гомера, о Салониках — «городе разбитом и разграбленном». Вспомнил про греческую кровь, и про армянскую… Вспомнил, как говорил своему дяде в Анапе: «Понимаете, Армянак Давидович, иногда просыпается во мне армянская кровь и я думаю: а не провернуть ли мне какую-нибудь аферу?» — «Ну, а дальше? А дальше что?» — с азартом включался в разговор старый армянин, бывший директор стадиона, магазина и ОРСа алмазоразведчиков. «А потом, дядя, просыпается русская кровь, я говорю: „А пошло это все на фиг“, переворачиваюсь на другой бок — и читаю свою книгу дальше». Дядя хохотал и подливал мне в чашечку «кара кафе».
Итак, я читал Бориса Пильняка: «На Урале в России, где-нибудь у Полюдова Камня, идешь иной раз и видишь: выбился из-под земли ключ, протек саженей десять и вновь ушел в землю, исчез. Наклонившись над ключом, чтобы испить, — и не выпил ни капли: или солона вода, или горяча вода, а иной раз и не хочется пить, но наклонился и — нет сил оторвать губ от воды, — так хороша она. И вот тут, лежа у ручья, видишь, как один за одним — сотни, тысячи — гуськом ползут муравьи, падают в воду, плывут, тонут, ползут: эта армия муравьев пошла побеждать, умирая…»
Светлана Гаевская переехала в Чусовой, городок, в котором жил когда-то Астафьев и еще семнадцать членов Союза писателей СССР, где знаменитым Леонардом Постниковым была взращена команда чемпионов мира по фристайлу и воссоздана русская деревня XIX века, где за колючей проволокой трех политических зон мучились лучшие умы и души страны. Она поселилась неподалеку от поселка Скальный, где отбывал свой срок Василий Зеленин.
В архиве Пермского регионального правозащитного центра я нашел копию определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации, которая 27 мая 1998 года рассмотрела «дело расстрела» — я хотел сказать, дело по кассационным жалобам осужденного Зеленина В. А., адвоката Левитана Е. М., потерпевшей Шайдуллиной В. Н. А это кто такая? Не помню.
«Довод потерпевшей Шайдуллиной В. Н. о том, что Зеленин убил Идрисова в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности, в ходе судебного заседания тщательно был проверен и не подтвердился». Аллах акбар, да это та самая Вера, которую волоком доставляли пьяную домой, когда сожитель сваливал в командировку! По безграмотности она не смогла бы написать кассационную жалобу, значит, с ней целенаправленно поработали профессионалы. Очень хотелось кому-то догнать Василия, уже в зоне, и накинуть еще срок, еще немного. Потому что по российскому закону жизнь любого начальника, бригадира и даже милиционера стоит дороже, чем шкура рядового состава. Уроды родины… Смотри-ка, я не знал: здесь он, тюркоязычный «травоядный», бросил славянку, которая спустила его с гор, и нашел себе Шайдуллину, хоть и пьющую, и с детьми. А у отца ее, помнится, другая фамилия — русская. Фиг его знает. Сильна наука биология. Факультет, университет, Алма-Ата… А это кто? Левитан. Где-то я слышал эту фамилию. Кажется, что-то связанное с радио. Точно, адвокат говорил, что известный диктор — его родственник. Да-да, в конце он тоже появился за столом, когда я первый раз приехал на Вишеру по этому делу. Вспомнил — правда, фрагментарно: невысокого роста симпатичный холерик. «Просит с учетом положительных данных, характеризующих личность осужденного Зеленина, смягчить ему наказание». Просит. А сколько он попросил у Гаевской, получавшей двести тысяч рублей в месяц? Шесть миллионов. С отсрочкой. Милосердный наш, симпатичный холерик. Сначала сильно взялся за дело, говорили, даже с азартом, а потом исчез, будто мираж над зимней Вишерой. Еще бы — делом интересуются Москва и Алма-Ата, две столицы, Алма-Ата и Москва, хозяева гор и степей, верблюдов и людей…
Гаевская рассказала мне предысторию. Приезжая на свидания, Светлана настойчиво уговаривала мужа раскрыть тайну убийства. Василий, сломленный тюрьмой и болезнями, не сразу, но согласился. И вот она — эта белая вишерская бумага:
«В Верховный суд РФ от осужденного ИК-10, ст. 105, ч. 1, срок 10 лет, начало срока — 22.08.1997 г., конец срока — 22.08.2007 г.
Ходатайство о принесении протеста в порядке надзора.
Я, Зеленин Василий Алексеевич… прошу о пересмотре дела в связи с тем, что судом не был учтен ряд обстоятельств. А именно:
1. Основной мотив преступления — месть за грубое оскорбление действием чести моей жены… Именно эта причина, как последняя капля двухлетнего морального прессинга со стороны потерпевшего, привела меня к совершению преступления.
С 1995 года директор заповедника преследовал мою жену с недвусмысленными предложениями, предварительно отсылая меня по различным заданиям. В то время как на кордоне оставались жена, бизнесмены, залетавшие вертолетом на отдых, и он сам.
Мне она ничего не говорила, опасаясь последствий и публичного скандала. Только в мае 1997 года от тяжело больного инспектора В. Никифорова, ожидавшего санрейс на нашем кордоне, я узнал, что Рафаэль Идрисов…».
Я читал ходатайство в помещении правозащитного центра. Передо мной на полке шеренгами стояли десятки папок с толстыми цветными корешками. И в тот момент, когда я остановился, не в силах читать текст дальше, до меня вдруг дошло, что в этих папках — сотни дел, похожих на то, которым я занимался последние три года. Но я не смог представить себе эти реки крови и слез — воображения не хватило. Я закрыл глаза ладонями, успокаивая себя, и стал читать дальше. Но несколько строк из этого документа остались только в моей памяти — думаю, вы догадаетесь почему. Остальные читайте.
«…В тот же день жена вылетела вместе с больным и вернулась только 15 июля. В это время О. Сергеев, заходивший на Мойву с рейдовой группой, также подтвердил, что знает „этот слух“, как и другие инспектора.
В день трагедии директор дал мне по радиосвязи распоряжение отправляться за пятнадцать километров, а жене передать „подготовиться к встрече“. Но это унижение стало последним.
2. Соответствующих показаний я на суде не давал, поскольку не хотел трогать имя жены. Кроме того, адвокат Е. М. Левитан предупредил, что жена может быть привлечена „за подстрекательство к преступлению“.
3. Специфика условий нашего с женой проживания в трехстах километрах от города, когда мы не имели возможности защитить себя обычными средствами — с помощью общественности и милиции, также не была принята во внимание судом.
4. В связи со всем вышеизложенным я прошу:
— провести качественную оценку предварительного и судебного следствия;
— в надзорном порядке отменить приговор Пермского облсуда от 03.02.1998 г.;
— назначить новое судебное разбирательство с обязательным привлечением свидетельских показаний В. Никифорова, О. Сергеева, А. Белкова и других свидетелей охраны.
5. Я не пытаюсь уйти от ответственности и не отказываюсь от предъявленного мне денежного иска в пользу сожительницы потерпевшего и ее детей, выплаты по которому смогу производить только после освобождения, когда получу возможность зарабатывать».
Гнусное государство, беспощадное общество, обрекающее своих детей на гибель в военных госпиталях и тюремных лазаретах. С ассенизаторской бочкой оправданий. Там же, в архиве Пермского регионального правозащитного центра, я нашел ответ Верховного суда РФ от 15.05.2000 г. на письмо ПРПЦ:
«Сообщаю, что жалоба Зеленина В. А. … рассмотрена в Верховном суде РФ.
С доводами жалобы о том, что убийство он совершил в состоянии сильного душевного волнения и ему назначено суровое наказание, согласиться нельзя.
Необходимым условием для квалификации умышленного убийства, совершенного в состоянии сильного душевного волнения, является внезапность возникновения сильного душевного волнения и немедленность приведения в исполнение умысла на убийство. Однако эти условия по делу отсутствуют. Суд обоснованно признал, что Зеленин умышленное убийство совершил на почве личных неприязненных отношений. Мотивы убийства судом исследованы полно.
Назначая наказание, суд в полной мере учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, все обстоятельства дела, а также данные о личности виновного.
Наказание назначено в соответствии с законом.
Оснований для постановки вопроса о принесении протеста не имеется.
Член Президиума Верховного суда РФ В. К. Вечеславов».
Через год пришел ответ еще на одно письмо.
«Ваша жалоба, поступившая в Прокуратуру Пермской области из Администрации Президента Российской Федерации, рассмотрена в порядке надзора.
Приговором областного суда… Зеленин обоснованно осужден за умышленное убийство Идрисова…»
Интересно, что после победы демократии все здания районных комитетов коммунистической партии были переданы судам. Мудрейшее решение — точное. И Василия Зеленина судили в том самом здании, где сидел человек, под руководством которого на Вишере появились наркотики, браконьеры и Дядюшка Фэй.
Было такое ощущение, будто мое лицо и руки стали белыми и чистыми, как первый снег, мерцающий на Тулымском хребте.
Ну вот, Асланьян, сошелся твой пасьянс, сказал я себе. Я прогулялся по улице и даже проехал одну остановку в трамвае. «Счастье дала?» — спросил мужик, принимая билет от женщины с сумкой. «Жена даст», — тут же ответила та. «Жена дает только по праздникам», — вздохнул мужик. Я вышел на остановке, купил бутылку пива, сел на скамейку в сквере Уральских Добровольцев и закурил. Слева, от кондитерской фабрики, тянуло ванилью, справа, от табачной, — дешевыми сигаретами. А меня тянуло напиться. Было такое ощущение, как будто я все еще находился во сне, то есть ночь кончилась, а виденный мною сон — нет, какой-то вишерский сон, навеянный новой французской мелодией с русским надрывом. Я достал блокнот и попытался записать то, что у меня в результате получалось: «Сны, они приходят на рассвете — сны, как будто чувство неразгаданной вины, как будто я спешу туда который год, но до земли не долетает вертолет. В тот листопад и снегопад возьми меня, туда, за розовый Тулым, за кромку дня, возьми в тайгу, в долину ту, в тот водопад, который пламенем березовым объят. Возьми меня — я ничего не побоюсь, я полечу, я поползу, но я вернусь. Пыль поднимает на рассвете, пыль, взлетая, борт, который выше моих сил! И я лечу, и я спешу туда — за край, где явь и свет, где сон и бред, где ад и рай. О, этот край, который Господом забыт, я там рожден, я там крещен, я там убит! Залитый кровью и брусникою гранит, покрытый патиною бронзовый зенит. Гольцы, останцы и курумы бытия — я все равно туда вернусь, где ты и я. Сны, они приходят на рассвете — сны, как будто чувство неразгаданной вины, как будто я лечу туда который год, но до креста не долетает вертолет. О, этот крест, зажатый в каменной руке, за всех погибших, всех расстрелянных в тайге, за стариков, лежащих в соснах и песке, за пацанов, сгоревших в лагерной тоске! О, этот мир, который полон бытия, где моя мать, где мой отец, где ты и я…»
Как будто Бог дал мне время для стихотворения. Конечно, все это кончилось тем, что я начал пить сладкое вино, в одиночестве, в каком-то пустом чепке, и вспоминать свое «лагерное» детство с улыбкой человека, отошедшего в сторону, чтобы недолго полежать в тени, на прохладной траве. Может быть, я там бы и уснул — в прохладной траве, если бы не чувство долга и Олег Николаевич Гостюхин, который случайно нашел меня, обходя дозором территорию для сбора стеклотары, давно поделенную между местными бичами. Он вовремя подошел ко мне — я еще сидел на скамеечке, второй час разговаривая с Отто Штеркелем, вишерским немцем.
Отто Штеркель
Туз и два короля. Такими оказались карты Володи Штеркеля. А я решил взять еще одну, нарвался на девятку — понятно, вышел перебор. Это был сильный удар. Володя взял мои десять копеек и покинул заброшенный сарай, где играли в «очко» и «дурака», а также рассказывали похабные анекдоты. Банк срывал Володя Штеркель, а анекдоты, конечно, рассказывал мой братан Шурка.
Сарай стоял на том самом месте, где кончались щитовые финские домики. Потом шли частные — «свои» дома, слева начиналось открытое болото, на котором пацаны собирали дикий лук, а еще дальше — между елей и сосен — сочные ягоды морошки.
За лесом текла холодная Вижаиха, а за ней — местечко, называвшееся Тепловкой, где когда-то жили офицеры четвертого отделения Соловецких лагерей особого назначения. Там им, наверное, было тепло…
Потом там построили пионерский лагерь. Слово такое — лагерь.
А свою последнюю игру Володя провел через три года после моего десятикопеечного проигрыша, когда я не смог сходить в кино на знаменитую картину «Подвиг разведчика».
Через три года, когда Володе было уже восемнадцать лет, он проиграл в карты свою жизнь вербованным. Облил себя бензином во дворе финского домика, где жил со своими родителями, ссыльными немцами, и младшим братом Отто. Облил — и поджег пропитавшуюся бензином одежду. Рассказывали, что он катался по снегу, в состоянии ужаса пытаясь сбить пламя. И орал от боли. Этот ор люди услышали, но спасти парня никто не успел. Черный человек лежал на белом вишерском снегу.
Меня в ту зиму дома не было, поскольку я в очередной раз лечился в школе-санатории от туберкулеза, в другом городе. Вообще я проболел им десять лет, и мать очень боялась, что где-нибудь я простыну в последний раз, остыну…
Прости меня, рыжий Отто, я забыл черты твоего веснушчатого лица. Прости, что напомнил тебе о брате, который не вышел из огня. А мы с тобой прошли холодную воду, если ты помнишь. И что нам теперь медные трубы?
Наш первый, наш детский континент кончался кирпичными стенами и башней недостроенного мясокомбината за Вижаихой, темным притоком Вишеры. А все, что находилось дальше, к югу, оставалось географической картой, книгами, кино и восточными сказками взрослых.
В тот день мы пришли из школы, и через час примерно мне свистнул со своего крыльца вечно сопливый Мишка. Потом подошел Васька. Подбежали мой братан Шурка и ты, рыжий Отто. Сегодня, может быть, уже и не рыжий…
На речке стоял затор: серые, черные, коричневые баланы — до сих пор не могу сказать «бревна» — на сто метров плотно лежали скользкими и мокрыми торосами. Бурая, мутная вода затопила часть крайней улицы.
— Чё, побегаем? — спросил Мишка и привычно провел над мокрой губой рукавом фуфайки, которая всегда была не по росту, почти до колен.
Мы, вишерские угланы, были неразумными, смелыми были. Мы по трясине бегали — по зыбкому, ворсистому, страшному ковру. И как только не утонул никто в той трясине за поселком? Сегодня умными стали, потому что далеко не все выжили из тех, которые бегали — по болотам, трясинам, заторам.
А по заторным баланам надо бежать так, чтобы они не успевали целиком уходить под воду. И при этом помнить про все существующие подлянки: скользкий балан, крутящийся, тяжелый, быстро уходящий вниз.
— Так чё, побегаем?
— Беги первый, — ответил мой братан Шурка, самый старший и самый блатной из нас.
У Шурки за плечами было пять классов за шесть лет учебы и несколько мелких краж, которые не могла раскрыть местная милиция. Он присел на корягу, достал из кармана фуфайки «хапчик» и закурил. А Мишка в это время разглядывал затор, выбирая удачное место для старта и маршрут.
Застучали кирзовые сапоги. В одном месте он взмахнул руками — нога по колено ушла в воду. Он выдернул ногу, поскользнулся, но грудью успел упасть на толстое бревно.
— Сопливый и есть сопливый, — радостно отметил Шурка.
— Набрал? — спросил у Мишки Васька Сученинов.
— Чего-то есть, — пробормотал тот, сидя на комле и стягивая сапог.
Мой братан встал, приспустил челюсть вниз и враскачку пошел к воде. Шурка шкурой чувствовал, где они — грибы, ягоды, рыба и надежные баланы. Он прыгнул и легко побежал по затору, а за ним — Васька Сученинов. И все было бы хорошо, если бы Васька знал, что за ним устремился я — почти вплотную.
Обычно бывает так: бежишь и прикидываешь, на каком толстом и надежном бревне остановиться, чтобы перевести дыхание. Или прикидываешь сразу, на берегу, зря не рискуя. Вот Васька и остановился на таком бревне. И мне пришлось остановиться тоже, но на другом — более тонком и скользком.
Балан подо мной завертелся, я задергался в разные стороны — и вертикально, стремительно ушел под затор, втянутый туда деревянными валиками. Тяжелым холодом наполнились кирзовые сапоги и суконное пальто. Помутнело в глазах от воды и страха. Искали бы меня потом ниже по течению, а может, нашли бы тут же, под затором. Каких-то пять секунд оставалось на эту жизнь… Но яркая вспышка, бессознательная энергия самосохранения рванула мое десятилетнее, мое туберкулезное тело вверх — ровно настолько, чтобы над затором появились руки, безуспешно царапающие сырое и прокручивающееся бревно. И тут я ухватился за что-то — мертвой хваткой.
Что тут делать, мгновенно сообразил только Отто: он схватил длинную палку, лежавшую на берегу, и бросился ко мне по баланам. Тонкий шест, который он сунул в руки, тянувшиеся с того света, я не выпускаю уже тридцать пять лет. Спасибо тебе, Отто…
Домой я идти побоялся — и спрятался под высоким дощатым крыльцом магазина. И дрожал там, сидя на земле, не меньше часа, пока, крича и ругаясь, меня не вытащила оттуда мать. Добрые люди сообщили ей. И до самого дома я бежал по тротуару с ревом — впереди матери, подгоняемый попавшейся ей в руку вицей.
На следующий день я, конечно, в школу отпущен не был. Мать морила меня картофельным паром, посадив над кастрюлей с накинутым на голову одеялом, поила чаем с малиновым вареньем. Через день она заметила, что я умирать не собираюсь. И сама одела меня потеплее. Достала из шифоньера хранившуюся там книжку «Стихотворения А. С. Пушкина» и сказала:
— Пойдешь к Отто и подаришь ему.
Я сильно смутился и заупрямился: такие изысканные поступки в поселке, который всегда назывался Лагерем, просто не были приняты.
Но моя мать — женщина упорная.
Мне пришлось пойти в тот двор, где сгорел твой брат.
И ты, Отто, смутился не меньше меня. Ты порыжел в тот момент еще сильнее — может быть, от весеннего солнца, от запаха золотой сосны, от молодой крови.
Так и стоят передо мной два пацаненка — и не знают, бедные, что сказать друг другу. Поэтому приходится говорить об этом через тридцать пять лет. Научился. Где Отто? Где Магдалина? Где Роза? Широка страна моя родная — от Москвы до Магадана. И где они, эти медные трубы?..
Спустя двадцать пять лет я стоял на отвороте вишерской дороги на северной окраине Соликамска. С маленьким сыном, женой и тещей. Автобус уже ушел. Был выходной день, из-за чего я уже третий час не мог поймать ни одной попутки. Светила ночевка в страшноватой гостинице.
И вдруг появился синий ЗИЛ с металлической емкостью в форме кузова. Машина проехала мимо, но вскоре остановилась.
— Слушай, земеля, возьми, пожалуйста, женщин и ребенка, — начал уговаривать я шофера, оценив реальную вместимость кабины, — я с вещами останусь — доберусь как-нибудь.
— Конечно, — кивнул водитель, — давай их сюда.
Потом, стоя у распахнутой дверцы, я попытался объяснить водителю, в каком месте лучше высадить пассажиров, когда приедут в город.
— Не волнуйся, Юра, я довезу их до места, — сказал шофер.
— Извини, парень, — растерялся я, — не узнаю.
Водитель понимающе улыбнулся и тронул машину с места. А я закинул за спину тяжелый рюкзак и направился обратно, к перекрестку. И услышал, что ЗИЛ остановился. Шофер спрыгнул с подножки и медленно, вразвалку пошел в мою сторону, не скрывая насмешливой улыбочки. Мне, конечно, было неловко, что не узнал парня, любопытно, кто такой, но торопить события не стал.
— Сейчас подойдет второй содовоз, а у меня, сам видишь, только два места.
— Да, но он может не остановиться, — вопросительно заметил я.
— Остановится, — с той же улыбочкой возразил он, — проголосуй только.
Так мы стояли несколько секунд, разглядывая друг друга. Потом он повернулся и зашагал к машине уверенной мужской походкой.
Второй содовоз остановился. За рулем сидел знакомый, из старой вишерской гвардии шоферов.
— А кто в первой машине? — спросил я.
— Разве ты не знаешь его? — удивился водитель. — Кажется, в Лагере он жил неподалеку от вас. Это Отто Штеркель!
Вот тебе и «Песнь о вещем Олеге» — из того самого сборника Пушкина: Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною…
Недавно я был в поселке. Давно уже снесли те щитовые домики, в которых мы когда-то жили со своими родителями. Но домик Штеркелей еще стоит.
Знаю, не все смогли благополучно перебежать через свои заторы и трясины. А мне повезло, мне просто очень сильно повезло, что я бегал босиком по одной улице с Отто. А потом дружил с Розой и Магдалиной Декк, которые позднее уехали на свою историческую родину. Где они теперь, дети ссыльных немцев, болгар, татар, греков, армян? В каком это таком далеком Гамбурге?
Шофер из вишерской гвардии держал руки на руле — руки, похожие на карданы. Спокойный и мощный корпус, смуглое лицо, карие глаза, державшие взгляд над капотом. Что-то знакомое, из чего-то далекого, уже, казалось, совсем забытого… Я назвал себя — имя и фамилию, он улыбнулся, весело глянул на меня и тоже представился. И все в мире стало на свои места.
Особенно любил ходить на танцы Колька Бычин — ему, наверное, было лет одиннадцать, а мне десять. Мы шли на «милицейскую горку», поднимавшуюся над Лагерем, с фасадом деревянного кинотеатра, что имел высокую и острую, как вершина ели, крышу и был обшит дощечкой «в елочку». Вокруг стоял сосновый парк, в глубине которого находилась танцплощадка.
И вот мы сидим воробьиным рядком на вершине забора. Подтягиваются люди, несемейная молодежь: девчонки в приталенных ситцевых платьях, парнишки в пиджачках и «корах» двигаются «лондонским затяжным»… А мы знаем, кого ждем, и вот появляются они, группа пацанов из бараков сангородка: в центре двое смуглых парней в белых рубашечках. Один из них невнимательно достает из пачки сигарету, и та выскальзывает из пальцев на землю. Колька Бычин, воробей, ястребом падает на нее с забора, поднимает и гордо подает ее смуглому парню. Но тот едва кивает головой: бери себе. Достает вторую сигарету и шествует во главе процессии дальше. Начинаются танцы: звучит музыка, фокстрот, парочки удаляются в темнеющие сосны. А мы терпеливо ждем — скоро начнется…
И конечно, начинается — когда танцы уже кончаются. Слева, где встречаются забор и сосны, где курят парни, голоса звучат громче, появляется подозрительное движение. И через несколько секунд уже ничего невозможно разобрать — мужские тела превращаются в одну живую, сплошную, пылящую массу. Это сангородские дерутся с городскими. Наше напряжение достигает наивысшей точки, мы привстаем на заборе, пытаясь разглядеть, кто там кого, комментируя и повизгивая. Но вот диспозиции проясняются: в центре стоит самый здоровый из этих смуглых братьев — Набет. Его белая рубаха разорвана, на лице кровь. Он прорывается к забору и одним махом отрывает от него штакетину. Далековато от нас, мы срываемся вниз и приближаемся к полю боя — вот, вот сейчас оно и начнется… Из темноты выпрыгивает второй брат, младший — Эдик. Ну и начинается. Погнали наши городских.
Набет и Эдик — легенда вишерских пацанов, более весомая, чем сказки о каком-то Брюсе Ли. Об этих драках рассказывали в заброшенных сараях и на песке Вижаихи, вспоминали подробности и предсказывали итоги ближайшей схватки. А итоги были печальными — для врагов Лагеря. Ни разу я не слышал фамилии братьев, только имена, потому что легенда — это высшая степень персонификации, которая обходится без прибамбасов.
— А меня звать Набет, — представился водитель, не отрывая взгляда от белого, гравийного света дороги, которая тогда еще не стала асфальтовой.
О, я был ошеломлен: десятилетний пацан, дремавший во мне, широко раскрыл глаза.
— На-абе-ет?! — изумленно протянул я. — Тот самый? Вишерский боец?
— Ага, — устало улыбнулся он, — я боец Красной армии, механик-водитель. Это я на Дальнем Востоке служил, в танковой части. Лежу однажды на берегу Тихого океана, с белокурой девушкой, загораю на диком пляже. Вдруг слышу шуршанье какое-то, шаги, поднимаю голову — вижу: сапоги. И сразу удар, второй. Я вскочил, пару раз ответил, но сзади — мне по голове. Били прутьями, уголками металлическими. Но это уже потом мне рассказали ребята из экипажа — они меня сутки искали. Нашли в песке. Да, а в том месте только две части стояло — наша, танковая, и соседняя, артиллерийская. Ну, через три дня мы въехали на территорию их военного городка, в летнюю столовую, во время обеда, на танке. Там проход широкий, как дорога, по обе стороны — длинные столы. Ага, въехали, стволом над столами провели, три круга. Потом с командиром вылезли, пошли по рядам, я — с повязкой на голове, как комиссар Щорс. Двух человек нашли — запомнил, хотя по черепу били. Мы вытащили этих воинов в проход и прямо там отпиздили. В полной тишине.
Набет всю жизнь прожил в бараке сангородка, где, если вы помните, впервые увидел четвертое отделение Соловецких лагерей особого назначения Иван Абатуров. А потом я узнал от отца армянскую фамилию Набета, который был зачат в 1945 году, родился в Перми Великой, в семье крымских спецпереселенцев. О, если бы я знал об этом родстве в детстве! Каким авторитетом я бы стал! О, где моя вишерская штакетина?! И где Отто Штеркель, который спас мою десятилетнюю туберкулезную жизнь?..
На следующее утро я проснулся дома, на своей кровати, стоявшей у окна, у широкого подоконника, у белого тюля, у золотых корешков бессмертного Владимира Даля. Я проснулся на кровати, а Олег Гостюхин продолжал спать на полу. Прежде чем требовать братства и равенства, оглянись вокруг и спроси самого себя: о каком равенстве ты говоришь? О равенстве с кем?
Потом мы пили с ним пиво и говорили о жизни — со снисходительной улыбкой людей, прошедших сибирские казармы и чернобыльские зоны.
— Ты знаешь, — признался он грустно, — меня хотят убить.
— Что? — не сразу понял я. — Кто и за что тебя хочет убить?
— Меня хотят убить братья-бичи, которые прознали, что у меня в подкладе зашиты ценные бумаги, настоящие — понял? Паспорт, военный билет… В городе действует мафиозная организация, которая скупает документы убитых бичей. А потом по ним открываются разные фиктивные фирмы.
Я смотрел в окно, сквозь белый снег тюля, сквозь листья лимона, стоявшего в горшке на подоконнике, сквозь невозможную тоску цвета зеленого бутылочного стекла. И Олега, великого лингвиста, поэта Перми, хотят убить. Господи, в какой это стране я живу? Что это за люди вокруг меня? Да на ту ли планету я попал во время пермской панспермии — девятибалльного шторма в космосе? О чем думает Господь, глядя, как убивают в Байконуре? Надо думать, что Бог так же одинок во Вселенной, как бетонщик Олег Гостюхин, как капитан ракетных войск, беспробудно пьющий в чепке, как человек с нераскрывшимся парашютом, как деревянный Илюша, стоящий в мокрой, непроницаемой еловой хвое мойвинской тайги. Конечно, Бог — это самый великий из одиночек, отмечающий свою территорию светом истины, от которой белеют лица и руки альпинистов, как на картинах Рембрандта. Может быть, Господь плакал, когда увидел, что товарищ Ворошилов, бежавший из чердынской ссылки, спрятался от преследователей в часовне, что на Говорливом Камне, скрылся за красными кирпичами и узорчатыми металлическими решетками. Господь плакал оттого, что не имел морального права подсказать жандармам, где искать того меткого гада. Поэтому на Вишере и прозвучали выстрелы Василия Зеленина, будто эхо Говорливого Камня. Известно, что это большевики воспитали славную плеяду ворошиловских стрелков, учеников маршала, которого спас Господь. А эхо — оно ведь того, долгое… Попробуйте выехать в лодке на середину реки и крикнуть — посчитайте, сколько там выстрелов.
Я оставил у себя Олега, амбиции амебы, вчерашний день и пошел на новую работу — в правозащитный центр.
В последнюю зиму нам несколько раз посылали приветы люди, которые не представлялись и обещали разобраться с газетой в суде, на что директор Пермского регионального правозащитного центра Игорь Аверкиев с приветливой улыбкой, похожей на снег, коротко отвечал: «Конечно, это наша работа». Угрозы прекратились. И я парень упорный — из угров. Не читали, как написал о нас в прошлом веке профессор Сикорский? Читайте: «…общими характерными чертами являются: несокрушимая выносливая пассивная сила, смирение, настойчивость с ее обратной стороной — упрямством. Медленный, основательный, глубокий процесс мышления. Отсюда медленно наступающий, но зато неудержимый гнев». Прочитали? Один друг работал в «Статиме» — муниципальном похоронном предприятии. Так он отпуск всегда брал только в мае. «Почему не летом?» — спросил я его. «Ничего ты не понимаешь, — радостно ответил он. — В мае снег по лесам тает и появляются „подснежники“, „бедные Йорики“… Самое загруженное время для нас!»
Наверно, в лесу находили трупы убитых бичей. По всей стране шла резня, а белобрысые гэбэшники, шпана, щедро улыбаясь, обещали с голубых экранов газовые атаки, взрывы жилых кварталов и локальные ядерные войны.
В общем, в мае, как снег сошел, я с Валерой Демаковым рванул на северо-восток, на ту самую Ваю. Чего зимой под снегом найдешь? Мы ж не олени — копытами работать. Тайга — единственная радость в России: в нее всегда можно уйти, сбежать, скрыться от настырных сограждан. Только враг народа способен поднять на нее топор. Поэтому врагов отправляли на лесоповал. Все это мне объяснил Валера Демаков — веселый зверь с беснующейся по плечам лавиной черных кудрей.
За день мы прошли четыреста километров на белой «Ниве» Демакова — человека, который водит машину с закрытыми глазами, играет на гитаре и пишет бардовские песни, геолога, который спускался на лыжах с Альп, в «клети» — шахты Шпицбергена, поднимался по тропам на Тулым, Ишерим и Муравьиный Камень, на вертолете — в сухое небо Вишеры. Апологет греко-римской борьбы, он принципиально не пользуется лифтами, он пообещал, что, если я выкурю еще одну сигарету, высадит и заставит меня бежать за машиной. Тот еще гад — невысокого роста, но крепкий, как велсовский кедр. Это он объявил фирме «Форест» непримиримую гражданскую войну.
С этой фирмой вообще никто не мог справиться — ни управление по борьбе с организованной преступностью, ни прокуратура. Подполковник юстиции, старший следователь из Красновишерска Валерий Михайлов наивно утверждал, будто прокуратура пришла к выводу, что во всем этом деле черт ногу сломит. Господин Горобинский, директор березниковской производственно-коммерческой фирмы «Форест», настолько успешно организовал работу своего предприятия, что правоохранительные органы не в силах были определить, нарушается закон или нет.
Чтобы помочь прокуратуре, мы выехали на север.
На пути из Перми в сторону Березников повстречались два кедра, стоящие у самой дороги, самый большой — в три обхвата, с раздвоенной вершиной. Чаще попадаться они стали только за Соликамском, посылая привет из весенней тайги. Одиночки леса. Мне вспомнилась речка Молмыс, впадающая в Язьву, имеющая сухое русло — это когда вода уходит под землю и появляется через двенадцать километров. Господи, что там, в этом темном подземелье? Куда уходит первобытный лес, последняя тайга, которая прячется от нас за уральскими отрогами, скрывается в глубоких логах, зарывается в землю? Гудят, шумят, трубят, звонят, будто древние колокола, подземные реки Тулымского хребта.
Светились еще розовые березки, появилась первая мать-и-мачеха. За Красновишерском табунами ходил туман — наверное, от быстро таявших остатков лесного снега. Дорогу перебегали саблезубые зайцы, наглые предвестники неудачи. А по обочинам стояли ольха да ива, обгрызенные косыми на высоте человеческого роста и выше, что говорило о глубине снега прошедшей зимой.
Большая Колва несла большую, мутную, коричневую воду — возможно, с драгоценными камнями. Выше находится гидрокарьер. На речке Щугор, ниже железобетонного моста, в белом потоке тумана плавала пятиэтажная драга. Уральские алмазники.
Перед отъездом я посмотрел электронную карту лесов Прикамья, нашел единственное зеленое место — северо-восток, который весь надо бы объявить эталонной территорией, а не только сам заповедник «Вишерский» или Велсовский кедровник.
Через речки недавно проложили железобетонные мосты. Дорога поддерживалась в допустимом порядке. Речка Мутиха разлилась, вода шла такая, что сдвигала каменные глыбы, и деревья кружились в танце — по колено в воде и по пояс в тумане. Две речки — буйные Золотанки — шли на дорогу с горного склона, будто водопады, и, с ревом пролетая под мостом, исчезали внизу.
Когда глубоким вечером мы подъехали к берегу Вишеры, стояли туман, дождь и вайская темень. На пароме, принадлежащем фирме «Форест», нам сказали, что туда машину перевезут, а вот обратно — неизвестно когда.
Вода захлестывала трос переправы, отражая огни противоположного берега. Заночевали в балке на берегу. К утру река поднялась только на десять сантиметров, но мы переплыли на другую сторону в лодке. Узнали, что в тот день местная женщина отравилась сальмонеллезным яйцом, «скорая» направилась с ней к переправе, но вскоре вернулась обратно… Потому что вертолеты МЧС на безденежные вызовы не прилетают.
Мы выяснили, что фирма валила, а кроме того, в течение последних двух лет регулярно получала от других частных предприятий кедр в обмен на другую древесину или бесплатный провоз через Вишеру. Кстати, простой уход от налогов. Получалось, нищие вайские налогоплательщики были отданы на откуп частному лицу, который сдирал с них по второму кругу. Кстати, грабившая вишерскую территорию фирма налоги платила Березникам. Большая часть леса вывозилась нелегально, значит, и туда налоги поступали далеко не в полном размере. Мимо казны проскакивали ночные лесовозы.
По отчетам фирмы, показаниям рабочих лесозаготовительных бригад, по акту остатков заготовленной фирмой древесины на момент проверки, докладным запискам старшего оперуполномоченного управления по борьбе с организованной преступностью Аркадия Левинского, в кварталах 28, 48, 68 были срублены вековые гиганты, заготовлены тысячи кубометров драгоценной древесины. Но следов кедра в этих кварталах прокуратуре обнаружить не удалось.
Мы прибыли на место 22 мая. Собрали представителей местной власти: главу администрации, участкового, майора милиции, лесничего и представителя фирмы. Выехали к участку, где работала бригада.
По дороге встречались остатки кедровых стволов, лежавшие на обочинах. Вскоре мы попросили свернуть с дороги налево, в сорок восьмой квартал. И там увидели сотни две кубометров брошенного в штабелях кедра — подгнившего, сгнившего, посеревшего. Смертельный пейзаж. Сопровождавшие начали утверждать, что этот лес был «арестован за долги» фирмы судебным исполнителем да так и остался здесь, даже на дрова не вывезли. Ни у администрации, ни у жителей поселка просто нет возможности — ни техники, ни бензина. Раньше тут работал «Вишерабумпром», но на бумагу кедр не идет. Кедр вообще на бумагу не укладывался: объявленные прокуратурой объемы за прошлый год выглядели значительно меньше тех, которые называли свидетели.
— Кедр вывозится только с волоков! — утверждал сотрудник фирмы. — Оставлять его гнить?
Мы подъехали к пятьдесят девятому кварталу, где работала бригада фирмы. Волоки, которые должны быть пять метров, оказались в два раза больше, а пасека в два раза меньше необходимых тридцати метров. А на глаз видно, что вырубалось все подряд.
Заметно, что новая техника не покупалась — дожималась старая. Древний стиль хитников. Работали два трактора-трелевочника, погрузчик и лесовоз. Вдоль дороги лежали стволы ели, пихты, кедра, драгоценного дерева…
Участок представлял собой территорию примерно сто метров на сто, развороченную гусеницами, как танкодром, заваленную ветками, погубленным молодняком. Это в пяти километрах от последнего в Прикамье кедровника — Велсовского! Кедр, обнаруженный нами, нельзя было отнести к сухостою или гнилью — это были мощные стволы, здоровые, полные сил, свежего запаха.
Как утверждали свидетели, древесина вывозилась сразу, чтобы не привлекать внимания. Тот кедр, что в так называемой пасеке, между волоками, трогать нельзя. С участковым и лесничим мы зашли в пасеку и вскоре обнаружили четыре громадных пня, оставшиеся от недавно спиленных кедров, в пяти метрах друг от друга.
— Это что? — спросил я у проходившего мимо рабочего с топором.
— Что? Кедра, — ответил тот хмуро.
Он сделал ударение на конце слова — так произносили название местные — и отвел глаза в сторону.
Там же, в пасеке, лесничий показал мне последний номер районной газеты за 21 мая, в которой я прочитал сногсшибательную новость: «Хотя в целом кедр запрещен к рубке, есть постановление губернатора области, согласно которому его заготовка в некоторых местах может осуществляться. Прошедшая недавно прокурорская проверка на этот счет не выявила злостных нарушений».
Мы читали это 22 мая, стоя у свежих кедровых пней в пасеке пятьдесят девятого квартала.
— «В некоторых местах» — это где? — подумал вслух Валера Демаков. — В пяти километрах от единственного в Прикамье кедровника?
Мы узнали, что в поселке Вая люди ненавидели «Форест», получая за браконьерскую работу по сто-триста рублей — на хлеб. О, наши кидалы — профессионалы! И баланс фирмачи полностью кидали гнить, а елью расплачивались за распиловку кедра. Варвары шли по вайской земле. Как в бытность здесь исправительного учреждения В-300, щепа и комли горели по берегам — сжигались так, что только дым по реке стоял.
Десять лет фирма работала на Вишере и все эти годы пластала кедр. Так защищен и продуман был вертикальный механизм ограбления Вишерского края, что вообще не давал сбоя. Но люди рассказали нам, что творится в тайге, начертили схему, показали карту, написали график вывозки кедра за последние месяцы, поведали, что валка леса первой категории идет в водоохранной зоне Вишеры, на левом берегу, напротив поселка.
В одном из заброшенных балков лесозаготовителей мы увидели природоохранный плакат, на котором был изображен мальчик, поливающий деревце. А рядом — стихотворение: «Пусть скажут ребята из детского сада, каким надо быть и каким быть не надо». Мы прочитали и заплакали — от умиления, подумали: это любимые строчки господина Горобинского.
Точно вписалась Вая в излучину реки. На ровном берегу стояли чистенькие дома из бруса. Широкие навесы дворов. Высокие коньки сеновалов. Аккуратные поленницы, зеленая трава вдоль заборов…
— Даже если все уедут, один буду, но здесь останусь, — сказал лесничий Анатолий Анатольевич Дмитриев, высокий мужик в расцвете лет — как пожал мне руку, так я сразу понял, что такое сила.
В начале восьмидесятых восемь вайских одноклассников были призваны в армию — в Афганистан. И все восемь, слава богу, вернулись. «Он прыгал с вертолета в пыльный бред, который называется десантом». А на родине его семье, бывало, приходилось жить на одни детские пособия. Господин Горобинский устроил тут колониальную факторию.
Часть кедров стоит на каменистой почве, поэтому имеет слабую корневую систему. Некоторые наклонены. Бывает, падают от ветра. На эти ветровалы и пытаются списать свои немыслимые объемы «форестчики». Мне вспомнился Александр Галич: «А какой-то там „чайник“ в зоне все про кедры кричал… Делов!»
Когда отъезжали, я оглянулся: на обочине дороги, в грязи, лежал стальной ствол трехсотлетнего ровесника Перми, Петербурга и самого Петра Первого.
В машине, возвращаясь в Пермь, я вспомнил историю, которую рассказывал отцу его друг Николай. Они сидели вдвоем за жареной картошкой с мясом и пили водочку, а я, тогда десятилетний пацан, учил уроки и краем уха подслушивал разговор старших. Этот Николай вез на Ваю говядину, когда за километр до конца пути, до Вишеры, затянутой снегом и льдом, у него заглох мотор — бензин кончился. Не успел в городе подзаправиться, не дотянул. В сорокаградусный мороз сидеть в железной кабине — кто, скажите, пробовал? Только мой отец. Николай спрыгнул на дорогу и пошел к Вае пешком, один километр — не тридцать. Отошел, рассказывал, метров сто, а потом решил вернуться, перекрывая рекорды мира на спринтерских дистанциях, — и едва успел захлопнуть за собой дверцу ЗИЛа: грузовик окружили волки. Они выли и повизгивали, прыгая к деревянным бортам кузова, где лежало три тонны мяса, запах которого сводил голодных зверей с ума. Не сумев добраться до говядины прыжками, самые отчаянные полезли на капот — с крыльев и бампера, чтобы забраться в кузов через кабину. Они ползли по капоту — Николай видел близко, за не замерзшим еще лобовым стеклом, оскаленные пасти. Но когти скользили по гладкому железу, и звери с визгом соскальзывали вниз.
И только одному, самому голодному, самому сильному и удачливому из волчьей стаи, удалось добраться до цели — он разорвал клыками кусок мерзлого брезента и начал жрать окаменевшее на морозе мясо. Его товарищи внизу выли от голода, зависти и ненависти, разрезая голосами туманы, плазму и свет Вселенной. Волчья какофония продолжалась до утра, с небольшими перерывами и звериным плачем, пока на дороге не появились первые лесовозы. Николай запомнил эту ночь на всю жизнь.
Как мы — перестройку. И чего я вспомнил эту историю?..
А когда подъезжали к Красновишерску, Демаков сказал:
— Ты помнишь о том, что недавно алмазы обнаружили около Помянённого? А дорогу вот эту отсыпали тем гравием, что везли из карьера, от подножия камня. Представь себе, мы едем по алмазной дороге.
Я представил: мы набираем скорость: сто, двести, триста километров в час — по гравийной дороге, светящейся алмазной пылью, мы взлетаем и уходим к созвездию Тельца, в сторону красной звезды Альдебаран, про ветер с которой написал поэт Вячеслав Дрожащих. Интересно, ведь мой отец тоже возил песок и гравий — на строительство взлетной полосы вишерского аэродрома. Что бы это значило? Я возвращаюсь и возвращаюсь туда — в город, где, как сказал великий журналист Сергей Бородулин, хорошо проводить детство.
Вскоре мы добились выдворения березниковской фирмы с заповедной территории. Какой олень себя в стаде плохо ведет, того отправляют на мясо. А что, манси себя плохо вели? Но мы, дети и герои своего времени, конечно, понимали, что все только начинается… Ты уверен, что это твоя воля, твоя порядочность, твой разум? Смотри, за счастливым стечением обстоятельств, как правило, следует расплата. Еще никому не удалось победить жадность, злобность и завистливость господ горобинских. Все только начинается. Только начинается. Начинается. Президент прибрал якутские алмазы, а кто прибрал наши — даже мы не знаем. Да где же он — реестр тайных акционеров, подпольных ублюдков, этих белобрысых губошлепов из Губчека, расстрелявших одного Михаила Романова и задушивших другого в темном бассейне Камы?
Я оглянулся вокруг: Пермь, бараки из кирпича, каменный век. Я оглянулся еще раз: гигантские папоротники, акулообразные рыбы, пермский период. Полный мурчисон. Или поток сознания: «Мы не ведаем, не знаем, где живем, кому служим и за сколько, что поем, почему ночами пьем — по воле рока, не догадываясь даже, как умрем. Начинается печальная дорога, появляется прощальная тревога. Я вернусь, я говорю, что я вернусь, и прошу о снисхожденье — ради бога. От окна в автомашине отвернусь — что манило, то минуло, ну и пусть! Люди скурвились за бабки — ну и ну… Вообще, я с этим Богом разберусь. Если голову направо поверну, то увижу, может, голую луну — полнолуние пугает и сулит пулю в лоб, горбатую страну. Ничего, что не забыт, не знаменит — все равно что ровной строчкою прошит. Я молчу, я понимаю, что молчу, и страну благодарю, что не убит. Мы не ведаем, не знаем, где живем, кому служим и за сколько, что поем, почему не ставим Господу свечу и не молимся на пламя перед сном».
Борис Пильняк, прилетавший на Вишеру в 1925 году на самолете, позднее был репрессирован и реабилитирован. Кстати, памятник Железному Феликсу, вывезенный из Красновишерска в неизвестном направлении, недавно обнаружен на постаменте — в Ныробе, где начальник стражи задушил дядю первого русского царя из дома Романовых.
Иван Абатуров и Михаил Бутаков тихо умерли, ушли в сухой, белый, вишерский песок прошлого. Эник Финнэ увез всю свою семью в Финляндию. Да, административное руководство территории отказало Александру Сумишевскому в звании «Почетный гражданин города». А Евгений Матвеев выпустил три лазерных диска. Я написал роман-расследование «Территория Бога». Алексей Копытов построил двухэтажный дом неподалеку от вишерского аэропорта, где постоянно дуют настойчивые, настырные юго-западные ветры. Кстати, дошел слух, что и сын Володи Штеркеля решил строить коттедж на «лагерной» улице Маяковского. И мой Сашка заявил: «Когда я стану большим и богатым, я построю дворец из цветных мраморов, на хрустальном фундаменте». А я, помнится, мечтал конструировать сверхзвуковые самолеты с изменяющейся геометрией крыла. Но потом подарил свою мечту: берите, у меня их много.
Легендарный Инспектор Яков Югринов, живущий на Вае, по-прежнему утверждает, что жизнь — это временно. А Василий Зеленин до сих пор отбывает срок в лагере строгого режима, что в печально известном поселке Скальный-2. Светлана Гаевская работает рядом с мужем — в одной из газет Чусовского района. Генерал, возглавлявший Главное управление исполнения наказаний области, ответил письменным отказом на мою просьбу о свидании с осужденным Василием Зелениным. Так я ни разу не увидел своего героя, если не считать нескольких кадров телевизионной съемки, на которых оператор запечатлел осужденного с ежиком жестких волос, подходящего к своей жене, обнимающего ее, целующего…
Раис Шерафиев более не сидит со жлобами, не пьет — будто долг перед родиной выполнил. Он строит и ремонтирует вишерские школы. Директор заповедника Игорь Попов принял Алексея Бахтиярова на работу, а Валерий Демаков построил его семье дом на территории, и вогул до сих пор отзывает своих оленей от диких, северных, когда те появляются осенью на территории. Кстати, ему удалось вернуть нескольких животных домой.
Ведущие новостных телепрограмм утверждают, что началось новое тысячелетие — конечно, Бог им судья. Утверждают, что взяли умом и трудолюбием.
Через четыре года после РАССТРЕЛА первая жена Идрисова, Виктория Нестеренко, нашла безногого человека, Никифорова, ставшего инвалидом по вине того казаха, которого, будто козла, она когда-то спустила на веревке с гор. Нестеренко приехала к нему в интернат и забрала к себе в рай, в самый центр России, в Окский заповедник.
Да, еще в 1992 году Василий слышал в горах Южного Алтая рассказы о какой-то легендарной научнице по имени Вита. А спустя пять лет, уже в других горах, Уральских, они лежали на камнях вертолетной площадки — лицом вниз. Молодая женщина подняла голову и представилась: «Вита». Непрактичная, к жизни в стаде не приспособленная, а какой поступок совершила.
Руководство комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды области уволило с должности вайского лесничего Дмитриева, который не только согласился везти нас на браконьерскую делянку «Фореста», но и предложил видеопленку, на которую он снял следы, оставленные фирмой в разоренной тайге. А через полгода Игорь Попов принял Анатолия Анатольевича, человека, «бегавшего за речкой по горам», как называют себя «афганцы», начальником охраны заповедника. Отобьемся. Отстреляемся. Вырулим. Все сразу бывает только у спекулянтов.
Потом мы похоронили Игоря Борисовича Попова. Гроб стоял на гравийной площадке во дворе геологической базы, откуда он тридцать лет уходил на север. Он уже никогда не увидит взрослыми четверых своих детей… Лев Баньковский, старый ученый, сказал: «Надо бы назвать четыре улицы Перми именами пермяков — первооткрывателя радио Александра Попова, первооткрывателя российского алмаза, рабочего вашгерда, мальчика Павла Попова, автора „Хозяйственного описания Пермской губернии“ Никиты Попова, работу которого я нашел в библиотеке Варшавского университета, и геолога Игоря Попова, открывшего цитрины и золото Вишеры».
Последний раз будучи в поселке Вая, я встретился с Яковом Югриновым. Он построил себе дом, женился и ждал появления сына. Или дочери. Какая разница.
— Старик жив еще? — спросил я о Фёдоре Николаевиче.
— Да, слава богу. Помнишь, ты говорил мне когда-то, что пик твоей работоспособности приходится на двенадцать часов дня? Я тоже стал наблюдать за собой. У каждого, наверно, есть свои двенадцать часов. Время без гарантии, когда надо рискнуть, совершить главный бросок вперед. Иначе можно будет сказать, что твоя жизнь не состоялась. Это не выдумка честолюбцев. Потому что прыгают не только вверх, но и вниз, или в сторону, например. Я стал вспоминать все, что произошло, обдумывать и взвешивать. Ты знаешь, я понял, как сорвал шпонку на Вишере, почему пошел встречать Идрисова через Ишерим. Кто-то уберег меня. Для чего-то…
Он властен думать о случившемся что угодно. Может быть, ему все это приснилось, когда он закрыл глаза на реке, в лодке. Мне тоже постоянно что-нибудь снится, вроде летящего над городом вертолета и креста на останце Помянённого…
Во дворе пахло свежими еловыми досками, складированными у сарая. У забора лежали шпангоуты и другие заготовки для длинной и узкой вишерской лодки. На меня уже долго, пристально, внимательно смотрела белая вайская лайка. И я подумал: все только начинается. Югринов снова работает в заповеднике инспектором и делает большие километры по тайге, по каменным рекам и белым, желтым, красным безднам горной тундры Молебного хребта, еще волглого от прошедших ночью табунов тумана. Или облаков — какая разница.
— Скажу тебе по секрету: кедр тут рубить продолжают, рано вы победу праздновали, — «порадовал» он меня на прощание, — только делают это иначе.
— Да, теперь надежда на тебя, — ответил я Инспектору, сидевшему на дощатом крыльце дома, — так что, друг, до скорой встречи.
С реки шел прохладный весенний воздух, на противоположном, на левом берегу Вишеры стояла синяя готическая тайга, угорами уходившая в небеса. Было тепло, приятно, радостно осознавать, что где-то там, в глубине хвои и листвы, коры и звериной плоти, крови и лимфы, живет человек, без которого во Вселенной было бы пустынно и бессмысленно, — вишерский шаман, волшебник или беглый зэк, какая разница… Чалдон или полярный волк, пилот, случайно залетевший в нашу Галактику, человек, ставший богом, или Бог, принявший облик смертного. Одиночка или метафора Господа Бога, многозначная, будто формула воды, которую так и не могут понять ученые. Его существование доказывало мне, что не каждая попытка делается зря, что миллионы — не икра, что не всегда правы лица, обшитые кожзаменителем, дерматином или брезентом. Да, это была надежда, далекая, но великая, как красный Альдебаран, хотя я шкурой чувствовал, что все, все только начинается в прекраснейшем из миров. Я вспоминал маленький кедр, стоящий на скале у поселка Велс, с красноватой корой и зеленой хвоей, похожей на фамилию «Зеленин». Вспоминал низкое небо над ним, вдыхал запах лесной смолы и живой речной воды, дымок черных бань, слышал звон ботал на выях коров-скалолазов. Я вспоминал и улыбался — мне не хотелось пить водку или курить, опровергать или аргументировать. И я не хотел играть со смертью в карты. Я чувствовал, что теперь никому не сбить меня с мысли — я не изменю ни почерка, ни стиля, ни походки в угоду кому бы то ни было. И я рад, что все только начинается. Потому что теперь надеюсь успеть больше, чем намечал на второй день после рождения в городском роддоме.
От Василия пришло последнее письмо:
«Почему мы не уволились, не сменили место жительства? Ответ неожидан, потому что предельно прост: нам нравилось работать и жить на Вишере. Мы надеялись завести здесь хозяйство…
Но начиная с лета 1995 года Идрисов, прилетая на кордон, отправлял меня куда-нибудь подальше. Светлана рассказала, что в мое отсутствие Рафик подъезжал к ней „с конкретным предложением“. Когда я высказался по этому поводу, директор тут же ушел в глубину: „Она неправильно меня поняла!“ Так продолжалось до того, до последнего лета. Жена улетела в Красновишерск тем же санрейсом, что и Никифоров. Поэтому я смог поговорить с ней только через месяц. Светлана была в истерике: „Я была уверена, что милиция не поможет! Я за тебя боялась!“ На процессе она ослушалась меня и попыталась дать показания, но судья тут же прервала ее, объявив перерыв.
Помните, я вам рассказывал, как столкнулись Идрисов и Югринов у меня в доме? После ухода Якова директор полночи рассказывал мне о Камчатке, где он будто бы три года прожил в одиночестве. Из всего услышанного мне более всего были интересны слова о собаке Топе, которая разделяла с ним это одиночество. Он спокойно, тихо говорил о том, какая у лайки черная, густая, блестящая шерсть, с каким бесстрашием она бросалась на камчатских медведей, как ловила рыбу в горных речках. Понимаете, я слушал голос психически здорового человека. Позднее мне пересказывали эпизод, как Дядюшка Фэй избивал прутом дворнягу, зажав ее между колен, и улыбался от каждого ее визга. И сейчас меня мучает вопрос: совсем ли умер в нем тот человек, рассказывавший о камчатской лайке, или мог еще воскреснуть? Тут еще наблюдательная Алёнушка в последнем письме остановилась на „предсмертных“ парадоксах, будто бы добрейший Игорь Попов в последние свои дни стал нетерпелив и раздражителен, а вот Рафаэль Идрисов, наоборот, начал вести себя спокойно и адекватно. А вдруг я убил уже не того монстра, которого все знали, а человека, любившего свою камчатскую лайку? И как мне жить с таким вопросом в душе?
Смерть Виктора Астафьева отозвалась во мне чувством вины. К сожалению, мы являемся свидетелями ухода последних людей того поколения. Сейчас мне больно не от сознания собственной участи, которую Виктор Петрович пытался облегчить, когда хлопотал о моем деле в Москве. Сам я два года тянул с письмом, чтобы поблагодарить его за труды, пусть и не освободившие меня. Хотел пригласить его порыбачить на Вишеру в сентябре 2007 года. Половить тамошнего тайменя. Однако письмо так и не отправил, понимая, что пишут ему и так слишком много. Да и кто я такой? А хлопотал он потому, что жена моя была в Овсянке осенью 1998 года и он читал ваши статьи о моем деле, в которых вы меня представляете слишком положительно.
А вообще, я думаю, то поколение, поколение дедов, мне духовно ближе, чем поколение отцов, романтичных алкашей-шестидесятников. Ну, со сверстниками мне всегда было тяжело, а уж эту шеренгу „пепси“, кроме некоторых, глубоко презираю, хотя, конечно, понимаю простую вещь: а кого еще может взрастить духовная помойка, заваленная блестящими импортными обертками?
Я уже писал вам о том, что смерть старого человека потрясает меня гораздо больше, чем гибель юного наркомана, не рассчитавшего дозу, виноватого только в том, что вовремя не смог воспротивиться окружающему скотству.
Помнится, еще в школе я с интересом перечитывал найденные на чердаке журналы пятидесятых годов. Вникал в заметки, пытался восстановить хронологию событий, произошедших за десять-пятнадцать лет до моего рождения, погружался в то жестокое время. Но более всего меня привлекали лица простых людей на фотографиях — открытые, доброжелательные. И по ТВ я предпочитал смотреть кинохронику — чем старее, тем лучше. А глумливое превосходство современника-демократа над „оболваненным народом“ не признавал и не признаю. Нынешние хозяева страны навязывают людям такие понятия, что только с блевотиной можно освободиться от навязанного. Причем достают материал не из томов „Капитала“, а непосредственно из „широких штанин“. И многие задыхаются от запаха человеческого гниения до смерти. Задыхаются, не ведая, что происходит, веруя, что вокруг благоухают розы, духи и другие бальзамы. Блаженные… Только вера эта сохранилась от Содома, ублюдки которого выжили, сохранились, размножились — и теперь совращают последних ангелов.
Тут один монах, старик, из тех, что заблудились во времени и пространстве, собирается ехать на Велс, в дом Коли Собянина, бывшего тамошнего лесничего. У этого монаха необычная судьба: был диссидентом, писал, за что сидел на зоне, потом в психушке, а в последние годы советской власти числился в бегах, позднее работал в разных монастырях. Поселится на Вишере — познакомитесь.
Кстати, недавно прочитал в газете материал о том, как вы побывали в знаменитом Белом Лебеде. Думаю, что ко мне вас всяко пустят, если захотите приехать».
Конечно, я к нему могу приехать, а он ко мне — нет. Но на самом деле ему до меня — близко, а мне до него — далеко.
Это все наши зоны: Белый Лебедь, Красный Берег, Синяя Вода… В Перми Великой сосредоточено самое большое количество заключенных — из восьмидесяти двух регионов страны. И самое большое количество преступлений — в удельном весе. Давно все это началось, гораздо раньше Михаила Романова и Бориса Годунова.
Я вспомнил, что во время поездки сообщил мне Валера Демаков: дальше, в тайге, на севере от Лыпьи, умерла какая-то старуха, хозяйка никому не известного хутора, и там обнаружилось еще четыре человека, беглые зэки, которых она приютила в разные годы жизни. Дальше Лыпьи… А кто и что есть еще дальше? Одиночки, разбросанные по Вселенной, будто туманные галактики…
Я продолжал читать письмо Василия: «Пишу это письмо пятый день… Иногда ловлю себя на том, что не помню, как пишутся отдельные слова, а ведь я с детства писал без ошибок, не зная правил правописания. Понятно, симптомы разрушения моего сознания. Очередное помутнение рассудка — нет, это не из области психиатрии. Многие проживают в таком состоянии всю свою долгую жизнь. Сегодня мне кажется, что лучше пожизненный срок в одиночке, чем остаток моего — здесь. Происходит энтропия сознания. Но это не страшно — нет ничего страшнее жизни самой по себе.
Вот, сегодня Пасха, а меня чего-то сломало… На улице похолодало — там не попишешь, и здесь — тоже.
Прощаюсь. С Воскресением Христовым вас и ваших близких.
Василий».
Мне показалось, я увидел, как Василий вышел из чусовской зоны — и «маму потерял», настолько изменился мир… «О нет, — скажу я ему, — это всего лишь новые прибамбасы, а главное осталось. Все по-прежнему, кроме одного: ты, Василий, самый свободный человек в России».
Пришло последнее известие с Вишеры: ослепший Николай Бахтияров, живший по ту сторону Уральского хребта, совершил свой последний языческий поступок: ушел в лес и повесился на дереве. Интересно, почему Алексей не сказал мне, что его отец был шаманом? Василию сказал, а мне нет. Он верил Василию. Он встречался с ним на тропе — там, где на сотни километров нет жилья и людей.
Василий Зеленин, царский егерь из-под Санкт-Петербурга, охранявший покой сосланных на Вишеру дворян, остался один — в самом страшном человеческом скопище, кровавом капище и кладбище будущего. Он остался один, как полярный волк, встреченный им когда-то на берегу самой чистой в мире реки, спрятанной под алмазный лед.
Эту заповедную территорию отвел мне Господь Бог, деревянный идол, вырубленный предками-уграми из велсовского кедра. «Этого тебе хватит!» — сказал он мне голосом отца-армянина. «И не только мне», — подумал я в ответ, разглядывая сквозь хвойную хмарь вишерской тайги двухсотлетнее лицо одиночки — губастое, иссеченное длинными дождями, косыми снегами и настырными северными ветрами. Лицо того самого Бога, который ничего не предвидел, но все, умница, предусмотрел.
Там бобры на Мойве строят свои плотины, на альпийских полянах кувыркаются бурые медведи, а стаи нагловатых куропаток склевывают переспевшую морошку между небесами и мхом космодромной тундры на плоскогорье Кваркуш. Там идет неистовая, безумная, бурная жизнь. Вечером на Тулыме дождь, а потом весь этот священный ужас — гром и молнии — переходит на гольцы Ишерима. И разом — по взмаху незримой руки — все спадает: проступает яркое, чистое, бирюзовое небо, окаймленное багровыми угольками заходящего солнца.
И шумят, шумят, гудят, трубят подземные реки Тулымского хребта, уже покрывшегося первым снегом, уже порозовевшего в лучах заходящего за моей спиной последнего осеннего солнца.
Я вдыхаю запах багульника, я стою на коленях и шепчу, проговариваю, высказываю тягучие, горькие, старинные слова моему деревянному идолу: Господи, сохрани эту землю и этих людей, не допусти предательства и братоубийства, убереги от чумы и холеры, не дай, не позволь погибнуть этой княжеской красоте. Умоляю тебя, Всевышний!
Пермь, 2003
ПРОЛОМ Автобиографическое повествование
1
Из материалов, собранных комиссаром партизанского отряда Леонтием Афанасьевичем Уваровым
Это случилось ранним октябрьским утром. Фашисты под командованием карасубазарского коменданта Тисса окружили деревню Пролом. Первым увидел солдат Арсен Акшиян. Мальчик сразу же бросился к дому Шаганянов, чтобы успеть предупредить об опасности Володю. И тут раздалась длинная автоматная очередь…
Володя отдыхал в это время у родителей после возвращения из леса. Недавно пришли оттуда Ваня и Николай Михайлович Воликовы. Этих троих немцы взяли первыми. В Проломе и Васильевке были арестованы Саша Галыкин, Толя Егоров, Володя Бегличев, Игорь Отчий… Гриша Лабонин провел ночь в отряде. Подходя утром к деревне, он наткнулся на карателей. Они привели его к Васильевской комендатуре.
— Ты где шлялся, бандит?! — завопил на него комендант, уже подозревавший своего переводчика.
— Ты же был у родственников? — бросилась к Грише его тетка Варвара. — Я так и сказала им.
Но Гриша Лабонин хорошо знал тех, у которых служил.
— Нет, — сказал он, — я был у партизан.
Вечером всех арестованных увезли в Карасубазар.
Весь день пролежал тяжело раненный Арсен на берегу речки. Мать не подпустили к мальчику. И только после того, как фашисты уехали, она принесла его домой.
— Ушли гады? — очнувшись, шепотом спросил Арсен.
— Ушли, — успела ответить мать, с ужасом увидев улыбку на уже мертвом лице сына.
На первом же допросе в карасубазарской тюрьме Лабонину сказали:
— Твои друзья во всем признались. Советуем тебе последовать их примеру… Говори, где находится отряд?
— Мои друзья ничего вам не сказали, — ответил Григорий. И не ошибся. Потом, избитому, окровавленному, гитлеровцы устроили ему очную ставку с Толей Егоровым.
— Мы ничего не сказали им, Гриша! — успел выкрикнуть Анатолий.
Кровавой была осень сорок третьего года в крымской деревне Пролом.
После страшных пыток фашисты увезли подпольщиков на территорию бывшего совхоза «Красный» — к месту массовых казней. Живьем, повязав колючей проволокой, их сбросили в глубокий колодец.
Спастись удалось только Володе Шаганяну, бежавшему из тюрьмы.
Кто знает об этом? В тихом, уютном дворике, похожем на итальянский, живет сейчас бывший моряк, бывший комиссар партизанского отряда Леонтий Афанасьевич Уваров. Этот седой, атлетического сложения человек, завершающий свой восьмой десяток, известный в Симферополе многим, упорно ищет своих соратников. И находит их — от Кубани до Северного Урала. По всей земле разбросала судьба армян, греков и болгар — до самой Вишеры.
Русские из Петрограда, поволжские немцы, крымские татары и уральские чалдоны редко называют свой город Красновишерском, чаще — просто Вишерой. Если город и был Красным, то только от крови расстрелянных. Вишера — это река, город, тайга, камни. Это Вишерский край. Это место жизни и смерти опальных граждан великой страны. Есть красный гранит и голубой мрамор, есть голубая артезианская вода и алмазы, есть золото и нефть. И голубые елки лесоповала…
У моего отца хорошая память — армянская… Иван Давидович закрывает глаза, он тихо шевелит губами, называя имена и фамилии хозяев крестьянских дворов, бывших в деревне. И это через пятьдесят лет! Тридцать девять — тридцать девять дворов было в армянской деревне Пролом Карасубазарского района Крыма.
Сначала армяне собрались в степи. И даже название деревне придумали — Мелконовка, в честь старейшего и уважаемого Мелкона Христакяна из Бешуя. Правда, старики вовремя одумались: как армянин-огородник будет жить в степи, без воды? И они снова разошлись по Крыму. И сошлись позднее в предгорье, где вода текла хоть и не рекой, но все-таки речкой — Карасёвкой.
В этой речке утонул сын Анны Узуновой, Геворг, мальчик, страдавший припадками. Ведь эта речка текла и через Бешуй, тот самый Бешуй, что во время войны немцы спалят дотла как партизанское селение. Сын Анны Узуновой был еще жив, когда она работала в хозяйстве Мелкона Христакяна. Дядька Мелкой имел жену, четверых детей и хорошее хозяйство — он выращивал табак. Этим же делом занимался и Давид Асланян. Они выращивали золотые пахучие листья, складывали их в папушки — в пачки, папушки упаковывали в тюки и отправляли на фабрику в Феодосию.
Давиду Асланяну было уже за сорок, когда он познакомился с молодой гречанкой Анной Узуновой. Анна стала второй женой Давида. Его первую жену, его двоих сыновей убили мусульманские фанатики во время резни армян в Турции в 1916 году. Там же погибла родня двоюродного брата Давида, Ерванда Асланяна. Давид прибыл в Крым на пароходе…
«Бешуй — самое цветущее место в предгорьях Крыма!» — так утверждал мой дядя Армянак Давидович. Он знал, что говорит, он там родился. Там жили татары, греки и армяне — и жили дружно. Но потом турецкие армяне решили сойтись в один колхоз. И они все-таки нашли подходящее место — в пятнадцати километрах от Бешуя. Пролом… Слева тянулась древняя, длинная и извилистая скальная стена, посередине текла неглубокая и чистая, с плоским каменным дном речка, а справа поднимались вверх буковые и дубовые леса предгорий. Армяне вырубили, выкорчевали густой терновник, посадили яблони и вишни, построили саманные, из глины и соломы, дома. Позднее появились скотный двор и здание клуба из морского ракушечника, которое стоит и поныне — я сам не раз бывал в нем, когда мать давала деньги на кино. Или слушал в нем лекцию о врагах социализма американцах — они были для меня все равно что немцы. Я очень боялся их большой атомной бомбы…
Давид построил дом на зеленом склоне, почти у самого леса, как будто знал, что пригодится это соседство потом, когда Гурген будет приходить домой по ночам. Уже много лет на месте этого дома — самом высоком месте в деревне — стоит памятник. От улицы, снизу вверх, ведет к нему густая зеленая аллея.
Простой проломовский дом — кухня и комната, глиняный пол, белые стены и красная черепичная крыша. Давид и Анна занимались крестьянским трудом: выращивали овощи и хлеб, держали скот — корову, свиней, овец и кур. В двадцать третьем году у них родился первый сын — Армянак, Гурген, гордость и горе семьи, — в двадцать шестом, мой отец Ованес — в двадцать восьмом, а младший, Богос, единственный живущий сейчас в Крыму, появился в год создания проломовского колхоза имени Степана Шаумяна — в тридцать втором.
Рядом находились болгарская деревня Кабурчак и татарская Азамат, в Васильевне жили русские. И молчаливыми символами мирового единства стояли заброшенные чугунные столбы бывшего телеграфа между Англией и Индией.
Из материалов, собранных Леонтием Афанасьевичем Уваровым
Майским утром к дому Ерванда Асланяна подошли трое армян. Один из них — местный, двое — приезжие, одеты по-городскому. Закрывшись в комнате, они долго беседовали с Ервандом. Выйдя оттуда, они ни с кем не попрощались и ушли.
— Зачем они приходили? — спросил у Ерванда сын.
— Уговаривали меня дать согласие на работу священником в феодосийской армянской церкви, — ответил тот.
И только позже, уже в партизанском отряде, отец рассказал сыну о действительной цели этого визита. Как оказалось, она не была столь мирной. Они пришли к Ерванду, чтобы он, пользуясь своим авторитетом учителя, начал агитировать молодежь записываться в Легион армянских добровольцев, предназначенный для участия в «освободительной войне».
— Вы хорошо помните пятнадцатый год, истребление армян, депортацию, — так ответил им старый учитель, — в это время я находился в России. Когда в шестнадцатом году русские войска заняли земли, прилегающие к Кавказу, я вернулся в родные места. Но из многочисленных родственников я никого там не нашел — все были убиты… В дни октябрьских событий я с большими трудностями добрался до России. Здесь росли и учились в школе мои дети, здесь они стали гражданами. Теперь, думаю, вы поймете, почему я не приму вашего предложения. Если я и возьму в руки оружие, то оно будет направлено в другую сторону. Вот так, судите как хотите, можете донести немцам — это ваше дело…
Вражеские войска вошли в Крым осенью сорок первого. А в Проломе немецкие танки появились второго ноября, перед праздником. Советские истребительные батальоны ушли в горы. Но вскоре их продовольственные ямы были выданы предателями оккупантам. И с наступлением зимы в леса пришел страшный голод.
После разгрома немцев под Москвой в Крым полетели первые самолеты с оружием и продуктами. Однако спасти от голода тысячи людей им было не под силу. Когда я разговаривал с Уваровым, мне показалось, что он даже боится говорить о том, до каких крайностей доходили тогда в лесах люди. Только один раз обмолвился.
Вскоре фашисты погнали молодежь в Германию. Забрали они и старшего сына Давида — Армянака, закончившего перед войной карасубазарскую десятилетку. Сын Ерванда, Гарегин, уже был одним из самых активных членов деревенского подполья.
На помощь партизанским отрядам приходили мирные жители, молодежь объединялась в организации. В Проломе создавать ее начал дорожный мастер Иван Федченко, живший с женой в небольшом саманном домике под скалой. Самую юную по возрасту группу этого подполья составили ребята, окончившие в тот год Васильевскую восьмилетку: Баруй Фундукян, Володя Шаганян и его сестра Лиля, Тртат Оганян, Иван Воликов. Были и помладше — такие, как мой отец. А верховодили старшие, которым исполнилось восемнадцать-двадцать лет: Лев Оганян, Минае Кочиян, Гугарик Богасян, Павлик Кузьмин и его сестра Катя, сестры Кулякины из Васильевки — Ольга и Анна. Потом к ним присоединились ребята из соседних деревень. После гибели Федченко проломовское подполье возглавил Борис Алексеевич Павлов, бывший главный инженер Крымского лесхоза.
Два года действовала ППО — проломовская подпольная организация, членом которой был мой четырнадцатилетний отец. В Советскую армию шла информация о передвижении немецких частей, подрывались железнодорожные составы, нарывались на автоматный огонь машины врага, устраивались побеги военнопленным, отправлялись в леса продукты, вещи и оружие. Мальчишки убивали немецких офицеров, встречали наших парашютистов и мололи для партизан зерно. Они воевали, а не играли в войну. «Тяжело таскать ППШ по горам…»
«Сегодня наш отряд уходит в горы…» — поет мой отец старинную армянскую песню. Об этих мальчишках уже написано в книгах, им поставлены памятники. А мне надо рассказать о том, что пока неизвестно, и о самых черных днях семьи Давида Асланяна.
Перед началом войны окончил восьмилетку Гурген. Он послал документы для поступления в летное военное училище и даже успел получить вызов. Но война призвала его на службу раньше, чем он успел выехать в Ростов. Он стал подпольщиком. Подпольщиком стал и Ованес, и сам дед Давид помогал им.
Ованес был связным: доставлял пакеты из Пролома в Васильевку и обратно, развозил по соседним деревням листовки. Ездил на лошади в степные районы, где менял овощи на муку, которую потом отправлял в лес. Заготовка продуктов партизанам была для проломовцев рядовой постоянной работой. Они пекли хлеб и прятали его в тайниках.
Это было в 1942 году, когда в крымских отрядах начался страшный голод — немцы окружили их в горах, обложили со всех сторон. Люди умирали в ту страшную зиму, мерли без еды. И вдруг на плоскогорье появился четырнадцатилетний армянский мальчик, который одному ему известными тропами доставил партизанам пять мешков с крупой — на лошади с повозкой. Командир партизанского соединения, первый секретарь обкома партии, при всех поднял его на руки. Это был мой отец.
…Дед Давид и Ованес мололи зерно во дворе дома тетки Тушик. Самодельная мельница с круглыми каменными жерновами вращалась вручную с помощью системы шестерен. Ее соорудил муж тетки Тушик, Миран Егикян. Молоть зерно — тяжелая работа. И вдруг во дворе появились немецкие солдаты с офицером.
Готовой муки было уже достаточно, рядом стояли два полных ведра. «Я тикать хотел, дернулся в сторону, но отец схватил меня за загривок, поймал — и хорошо сделал, иначе пуля догнала бы…»
— Партизанам муку готовите! — закричал офицер, показывая рукой на ведра.
Понять, что он говорит, было несложно. Немец рванул на Давиде рубаху и разорвал ее. Может быть, они поверили оправданиям, может быть, не очень злыми были, но не убили отца с сыном и даже не арестовали. Они выпороли их плетьми.
Немцы, говорит отец, тоже разными бывали — и смелыми, и жестокими, и добрыми.
Не раз появлялся в доме Давида немецкий юноша, окончивший перед войной десятилетку в Карасубазаре. В одной школе с Армянаком учился. «Где Гурген?» — грозно спрашивал он, перешагнув порог — в фашистской форме, с хлыстом в руке. Знал про Гургена, искал его, догадывался, что тот в лесу.
Особенно жестокими стали оккупанты, когда их сильно начали долбить партизаны. В сорок втором Ованес своими глазами видел, как перед деревней немецкий патруль остановил ехавшего из города на велосипеде Ивана Федченко. Солдаты сняли велосипедное сиденье и достали из рамной трубки свернутые в рулон бумаги — это были листовки… Ивана Федченко жестоко пытали — ему вырезали на спине звезду, но никто из его земляков тогда арестован не был.
Из воспоминаний Леонтия Афанасьевича Уварова
В марте сорок второго меня вызвали в Центральный штаб. Я получил задание — установить связь с подпольщиками. Из землянки мы вышли с Иваном Гавриловичем Геновым, воевавшим в Крыму еще во время Гражданской.
— А теперь пойдем к начальнику связи, у него есть в этих местах свои люди.
В землянке Макаля сидел парень, почти подросток — черные волосы, большие черные глаза. Похоже, что армянин.
— Знакомься, — сказал Макаль, — это Гурген Асланян.
Осенью сорок третьего Гурген стал ординарцем Николая Денисовича Галича, командира партизанского отряда, базировавшегося в районе горы Берлюк, окрестности которой юноша хорошо знал с детства. Поэтому часто он бывал и проводником, и связным.
Выполняя боевые задания, Гурген ходил и в степи — к железной дороге на Джанкой. Он шагал по ночам и отдыхал днем, а добравшись до Пролома, спал в родительском доме, точнее, в подземном убежище, куда ход шел из сарая. Это убежище сделал для брата Ованес.
А в тот раз Гурген остался спать в комнате. Это было уже в марте сорок четвертого, после одного из самых сильных прочесов, проведенных немцами в крымских лесах против партизан. Отряд Галича разделился: кто ушел в старокрымские, кто в зуйские леса. Для встречи с одной из групп, которой командовал Павел Кузьмин, и шел в тот день Гурген. Остановившись дома, он помылся, переоделся и лег отдыхать в комнате, положив под подушку две гранаты, а под матрац — автомат и диски с патронами. Вечером в дом Давида вошли немецкие солдаты. Притворившись спящим, Гурген из их разговора понял: немцы и румыны идут туда же, куда и он — в болгарскую деревню Кабурчак, где находилась группа Кузьмина. Их надо было опередить.
На следующий день по Пролому прошел слух: в Кабурчаке немцы убили советского парашютиста. Кого на самом деле убили немцы, семья Давида Асланяна узнала только через месяц, когда по Пролому вместе с советскими войсками, наступавшими на Севастополь, прошли партизанские отряды. Семья ждала Гургена. Но в дом Давида, стоявший над дорогой, зашел командир отряда Галич. Долго молчал Николай Денисович, прежде чем смог сказать это родителям.
Вот как рассказал о гибели Гургена Володя Зиновьев в книге «Вылетали орлята в грозу», вышедшей на украинском языке в 1959 году в Киеве: «…Спрятав автомат под телогрейкой, вышел из дома и Гурген. Огородами он пробрался к лесу, а через час уже был в Кабурчаке. Не успел он рассказать про все, как по селу застрочили вражеские пулеметы. Партизаны начали отходить. Чтобы отвлечь внимание врага, Гурген с тремя бойцами „кинувся до кладовища“. На группу храбрых обрушился весь огонь фашистов. Выиграв время, Гурген приказал товарищам уходить.
— Отходите берегом! — и тут же схватился за грудь.
Друзья не хотели оставлять его, но он закричал:
— Отходите! Я задержу их! — и, повернувшись лицом к гитлеровцам, пошел им навстречу.
Гитлеровцы перестали стрелять.
— Десять… Двадцать… — „рахував юнак кроки“ — считал герой шаги, с великими усилиями переставляя непослушные ноги. Когда до врагов оставалось несколько метров, он стиснул автомат и дал долгую очередь. Герой упал, не дойдя до куста бузины, который не успел еще расцвести».
После боя немцы и румыны ушли из Кабурчака. А тело убитого, никому не известного в деревне парня, нашел староста Дульгеров и сразу вызвал из Карасубазара коменданта жандармерии. Отличиться ему захотелось — после войны Дульгеров за добросовестную службу немцам отсидел двадцать пять лет в лагерях. Приехавший комендант внимательно осмотрел тело и решил, что убитый — парашютист. Одежда партизан пахнет дымом, она порвана и прожжена огнем костров. А этот — чистый, в целой телогрейке и плащ-палатке, под свитером — матросская тельняшка, под ватными брюками — комсоставские армейские галифе, на голове — кубанка, каракулевая шапка с кожаным верхом, и на ногах только постолы — легкие обутки из свиной кожи, в которых удобно ходить по горам. Это не партизан!
Именно так, в кубанке, в плащ-палатке, изобразил Гургена на портрете проломовский художник Володя Сасунян — позднее, когда переселился на север Пермской области. Я видел этот портрет не раз в доме Армянака Давидовича. Судьба Володи тоже печальна…
Из местных жителей только один человек знал убитого в лицо — кузнец, мусульманин Сеид Джемалиев. Он нередко ходил по деревням лудить посуду и бывал в проломовском доме Давида Асланяна. Сеид хорошо знал, что будет с этой православной семьей, если он назовет имя убитого.
— Я хочу похоронить парня, — сказал Сеид немецкому офицеру. — Разрешите похоронить его, он нашей веры.
— Какой вашей? Ведь он не обрезан! — возразил дошлый жандарм.
— При советской власти это делать не разрешалось, — ответил ему Сеид Джемалиев.
И мусульманин предал тело православного земле — там, где ему разрешили, на деревенском лошадином кладбище. Об этой первой могиле брата отец узнал позже, через много лет, как и обо всем, что произошло в Кабурчаке мартовским вечером сорок четвертого года.
После освобождения Крыма от фашистов в эту болгарскую деревню приехали комсомольцы из Карасубазара и перезахоронили прах партизана в городском парке, а в пятьдесят шестом — на белогорском кладбище. В 1979 году останки пятерых погибших, в том числе и Гургена, перенесли на холм, где был установлен скульптурный монумент. Четыре раза предавали земле прах Гургена Асланяна! Посмертно его наградили медалью «За отвагу». Его вещи сдали в Музей боевой славы. О нем говорили с трибун. А в это время его партизанская семья — отец, мать и братья, его друзья, до дна испив горькую чашу утраты, катали баланы на вишерской лесобирже, мерзли в бараках и жевали черствую пайку «предателей Родины». Ну что тут скажешь? И что сказал бы об этом Гурген? Семья гордится им.
«…Утро выдалось пасмурным, но потом, ближе к полудню, солнечные лучи, пробившись сквозь тяжелую завесу туч, ласково коснулись омытой декабрьским дождем земли. У памятника Славы собрались в этот день жители Белогорска на траурный митинг, посвященный перезахоронению останков наших славных земляков. Никто не забыт и ничто не забыто! Этот девиз — священная память о павших…»
Так писала в 1979 году крымская газета. Один из ветеранов, бывший на митинге, заметил в толпе знакомое лицо армянина и сразу сказал об этом секретарю обкома партии. К армянину подошли, поздоровались, пригласили на трибуну.
— Привет с Вишеры! — так начал свое выступление на митинге Иван Давидович Асланян.
Большинство присутствовавших не поняли смысла этих первых слов. Переглянулись те немногие, что поняли. Что ж, остальным придется разъяснить. Дальше его речь была ясной.
— Вишера — это Красновишерск, тихий городок на Северном Урале. Он полумесяцем лежит на берегу реки, он стоит на ровном месте, на песках. За рекой поднимается синий плавник горы Полюд, а далеко на востоке виднеются высокие руины Помянённого Камня. На гербе города могла бы быть изображена сосна, поскольку ее золотистые стволы стоят повсюду. Есть и липовая аллея, которую вместе с другими девушками сажала в молодости моя мама. Мы, школьники, любили по ней гулять. Вишера стареет и строится: белеют кирпичные пятиэтажки Алмазного городка, краснеет брус домов нефтяников, чернеют осевшие стены бараков в поселке, имя которому — Лагерь.
Вишера — это самый порядочный город на Северном Урале. Кто бывал, тот знает. Это родина моей матери и вторая родина моего отца. Это город самых лучших людей в стране — сталинских заключенных и спецпереселенцев. Поэтому гордитесь, когда вам передают оттуда привет. Вишера — это мое болото…
2
Крымских татар вывезли на север в мае. Тогда председателем Карасубазарского райисполкома был Николай Денисович Галич. Ованес приехал в город к бывшему командиру, когда военные конфисковали у него велосипед. Галич хорошо знал, кто пришел к нему — чей сын и брат. Он выдал Ованесу другой велосипед. Знал или не знал бывший командир партизанского отряда, ходивший сам и посылавший под пули других, что вскоре предстоит пережить его соратникам, их детям и матерям? В любом случае такой человек не мог не испытать настоящей душевной трагедии летом сорок четвертого. И до сих пор не все простили ему молчание… А есть ли ему судья?
А что знала Нина Зиновьева? Скорее всего, ничего не знала она, сестра одного из самых активных подпольщиков. Просто приехавший советский офицер попросил ее назвать имена и фамилии проживающих в деревне, и все видели, как он прошел с ней по улице, останавливаясь у каждого дома и что-то записывая. Пройдут годы, и брат Нины Дмитриевны, Владимир, станет автором художественного повествования о борьбе и гибели проломовских подпольщиков.
Позади остались три года оккупации, смерть близких, впереди — свобода, жизнь… Но через несколько дней после приезда офицера, в пять часов утра, солдаты внутренних войск окружили армянскую деревню Пролом. Два пулемета они установили там же, где устанавливали их в октябре сорок третьего немцы, когда проводили последнюю операцию по захвату партизан и подпольщиков: один на взгорье, чуть выше дома деда Давида, чтоб отрезать путь к лесу, другой на скале при въезде в деревню, откуда вся она, уютная, белая, живая, хорошо простреливалась. Сколько раз я бегал по этой скале в детстве, когда мы жили в саманном домике Федченко, до сих пор стоящем в ее тени! Райское место — Пролом…
Постучали в дверь дома Давида. Анна Михайловна открыла. В дом вошли советский офицер и два солдата.
— Всем собираться! Поторопитесь!
В деревне стоял непривычный для столь раннего часа шум: кричали люди, звучали команды. По дворам летали куриные перья. Ревели коровы — как раз время дойки. Но корову, которую и немцы не тронули, подоить так и не дали. Пятнадцать лет создавалось крестьянское хозяйство — и пятнадцать минут отводилось на сборы. Такой была арифметика долгожданной советской власти. Только и успел дед нагрести из больших корзин, стоявших во дворе, два мешка сухих кукурузных зерен. Много чего повидал старик на этом свете, знал, мудрый: семью всегда и везде прежде всего кормить надо. А вот гармонь офицер приказал оставить.
— Это гармонь моего сына, он погиб в партизанах, — ответила ему Анна Михайловна.
Что может быть для матери дороже сына? Или памяти о нем?
И офицер отступился…
Солдаты сгоняли семьи к колонне автомашин, вытянувшейся по деревенской улице. С котомками и мешками бежали к ней люди — старики и дети. У Саркиса Шаганова жена была русской, поэтому ей с четырьмя детьми предложили остаться. «Я поеду с мужем!» — ответила Мария.
Карасубазар — базар на Чёрной речке. Место торговли невольниками, захваченными во время набегов на русские земли. Через морские порты невольников увозили в страны Запада и Востока. Армянака увезли в Германию. Мусульманские фанатики, немецкие фашисты, советские коммунисты… «Сер черт, бур черт, все одно — бес!» — гласит армянская пословица. Недаром Достоевский, в девятнадцатом веке разглядев мерзкий зародыш двадцатого, назвал свой роман «Бесы». Далеко видел, пророк…
Под надежной охраной солдат армянская деревня выехала через Васильевку в степь, к железнодорожной станции Сейтлер. И через несколько часов их выгрузили на пустыре, где вавилонской толпой собрались крымские народы: греки из Карасубазара, болгары из Кабурчака, армяне из Пролома… О том, что происходит, люди могли только догадываться. Все были потрясены и напуганы. Но вот по железнодорожным путям подогнали состав с вагонами для телят — для скота то есть.
Печальной и длинной была дорога в неизвестность, для многих, особенно стариков, безвозвратной. В тамбурах стояли часовые. Люди спали на полу, на станциях им выдавали похлебку и кипяток. В одном вагоне с семьей деда Давида ехала тетка Тушик и ее сын Вартан Егикян — с женой и тремя детьми. Старший сын Вартана, танкист, погиб на фронте. Показался большой город. Бывалые старики узнали: Ростов! Вот тут должен был учиться на летчика Гурген. На вокзале в Казани Ованес увидел голодные глаза татарских пацанов и начал жменями раздавать им кукурузные зерна, из последних семейных запасов… И вот показались темные большие ели. «Елки! Нас везут на Урал!» — догадался дядька Вартан. Известен Урал…
Мудры старики, мудры и наивны, как все любящие и жаждущие любви, справедливости. Поэтому, когда из Свердловской области состав потянули обратно, даже многоопытные обрадовались: домой! И каково же было в тот момент горе семьи Асланян! На одной из станций Ованес с Богосом выскочили на перрон и заскочили в вагон через другой тамбур, а дед Давид пошел искать детей на вокзал. Состав тронулся — и оставил старика одного, на краю света. Господи, что он пережил? Об этом дед Давид расскажет только через пять лет, когда найдет жену и сыновей там, откуда на родину уже не вернется никогда. Но Бог, прежде чем забрать Давида, даст ему счастья пожить с родными.
Безутешно плакала в вагоне Анна Михайловна, но состав назад не возвращался. Он повернул на север, оставляя в Губахе, Кизеле и Яйве тех, кто уже приехал. А когда железная дорога кончилась, крымчане увидели Соликамск. Здесь людей погрузили на баржу и потянули ее катером вверх, еще дальше, по красивой реке Вишере! То белая песочная коса, то сосны на высоком берегу… Тянули их долго, пока не показалась слева синяя громада горы, а справа — похожий на рубку подводной лодки главный корпус Вишерского целлюлозно-бумажного комбината, который воздвигли на берегу реки в начале тридцатых годов заключенные.
3
Одним из тех заключенных был мой дед по материнской линии Павел Сергеевич Кичигин, через два месяца после ареста ушедший в полугодовой побег. Нелегко охране поймать местного человека, чалдона из деревни Кичигино, охотника.
В двадцать восьмом году Павел женился на Лидии, которая после развода с первым мужем осталась с грудным мальчуганом — Егоркой. Павел землю пахал, сено косил, рыбачил и охотился. Имел большой дом у леса. «Красивый был, очень красивый — и рубаха красная, а как на гармошке играл!» — вспоминали его. В тридцатом году у Павла и Лидии родилась дочь Паша, моя мама. В тридцать третьем Павел, пытаясь спасти семью от голода, пошел ночью на колхозное поле и собрал в перевязанную с одного конца юбку Лидии десять килограммов пшеницы с мякиной. Деревня Кичигино стояла на высоком берегу реки Язьвы — десять дворов всего, свои да наши, все Кичигины.
«Ты сама ему юбку дала!» — кричала на Лидию соседка, жена Ивана Григорьевича, который засек Павла ночью, а утром уже доложил кому следует. Донес соседушка. А зачем донес-то? «Да темные все были, неграмотные, выслужиться перед властью захотел, — отвечает за него моя мама. — А потом сами же нам и помогали, и сало давали, и хлеб». Так-то оно так, вот только Иван Григорьевич до старости прожил. Всех пережил, «темный».
Павла Кичигина арестовали и посадили в красновишерский лагерь, из которого он вскоре и сбежал — ушел в леса. Знал Павел, где избушки стоят, зимовья, мог пройти через болота в недоступные для других места. Долго скрывался. И Лидия ходила в лес, носила еду и одежду туда, где ждал ее Павел, сидя в холодной темноте у костра за речкой Камшой. А иногда он сам пробирался в свой дом, чтобы повидать детей, погреться. И вот он вошел в дом со стороны леса, через коровник, а навстречу ему — конвойные. Ждали его охраннички. Павел как увидел их, так сразу и упал, потерял сознание — будто смерть свою в лицо узнал.
Пришло время, и вызвали Лидию Никаноровну в Красновишерск, сообщили коротко: умер муж. Обратной дороги — пятьдесят километров. Вышла Лидия из города, но рассудок ее так помутился от горя, что сбилась с дороги и заблудилась. Где шла и как вышла — ничего не помнила. Потом мужик один, знакомый из деревни Бычино, служивший в том лагере стрелком, сказал ей тихо, что не умер Павел, что расстреляли его за побег.
И сразу ушла из дома свекровь — к дочери, забрав корову и все остальное, от посуды до печной вьюшки. Пустой дом и двое малолеток в нем… А вскоре появился у нее и третий ребенок, дочка Аннушка, которую успел оставить ей Павел. «Матери вечно дома не было — все пожрать нам искала, все работала, а мы Анну в люльке качали. Прожила она года два». Жить без хозяина в доме у леса было боязно, и Лидия обменяла его на старый в самой деревне. Этот дом был холодным, да и хозяйка не всегда успевала топить печь, уходя на заработки в другие деревни. В этом доме у нее родилась дочка Клава. От простуды у Клавы на голове нарыв вырос — умерла тоже. А в тридцать девятом появился на свет Миша, нежный светлокудрый мальчик. Напуганный в малолетстве, Миша на всю жизнь остался слабоумным, навсегда сохранил улыбку младенца.
Летом Лидия работала в колхозе, а зимой — уборщицей в школе. Братья Иван и Василий, жившие неподалеку, в деревне Желубаево, помогали Лидии, чем могли, хотя могли немногим, ведь и свои семьи были немаленькими. Василий работал завхозом в больнице, а Иван землю пахал. Потом он ушел на фронт, после войны служил на Украине, где и умер от ран. Братья были добрыми и часто забирали Лидиных детей к себе. А Паша честно отрабатывала свой хлеб нянькой.
После гибели мужа жизнь, похоже, ни разу не улыбнулась Лидии. А потом взяла еще круче…
4
Баржа причалила к крутому песчаному берегу, на котором виднелись деревянные дома, черные бараки и заборы. Стояли и смотрели вниз люди — рядом был городской базар. Армян и болгар высадили на берег, дальше их не повезли — северней города из спецпереселенцев жили только крымские татары и цыгане. Потом на газогенераторном ЗИСе вновь прибывших партиями начали перевозить к зданию самой большой школы в районе, из серых кирпичных стен которой почти через три десятилетия выйду я с аттестатом зрелости. На этой же единственной комбинатовской машине — такая честь! — свозили переселенцев в городскую баню и обратно. Месячный карантин они провели в школе. Жили в классах, ели вареную репу и гороховую похлебку. Вскоре Ованеса вместе со старшими стали посылать на сельхозработы и прокладку лежневок. Там его и стали называть Иваном. Только вот не знал он тогда, что для себя дороги эти торил — на всю жизнь, до самой пенсии. И на охоту по ним ездил.
— У начальника НКВД фамилия Бологов была, — говорит он.
— А как его звали? — спрашиваю.
— Я только у хороших людей имена помню, — отвечает Иван Давидович.
Я же говорю — армянская у него память… Поэтому и не помнит, как звали офицеров Нетудыходу, Ничкова, Злобина, похоже, недаром носившего такую фамилию. Этот последний, комендант, страшно невзлюбил Анну Михайловну за жалобы и письма, которые та постоянно отправляла в Москву. Зато Иван Давидович за руку здоровался с Александром Шишигиным, бывшим комендантом поселка Лагерь. «Хороший парень, не орал, не унижал людей и пропуска всегда выписывал». Руки на Вишере просто так не жмут.
Под видом шмона — оружие, дескать, ищу — Бологов решил в первые же дни попотрошить переселенцев, порыться в крестьянских котомках. И правда, оружие он нашел сразу — забрал у отца трофейный нож-складень. Хотел было прихватить и гармонь Гургена, но мать второй раз отстояла ее. Армяне быстро поняли, что надо этому офицеру. И старики сказали женщинам: «У кого есть золото, надевайте на себя!»
Битые были старики — не посмел энкавэдэшник сдирать кольца с рук и выдергивать серьги из ушей, понимал: уголовщина это. И не только это понимал, быть может… В пятьдесят шестом Бологов сам себя казнил — повесился.
Когда карантин кончился, армян расселили по городу. Анне Михайловне с детьми дали девятиметровую комнату в коммунальной квартире двухэтажного дома по улице Пролетарской. Эти черные дома, эти белые сортиры и будки водокачек стоят в городе до сих пор. И в этих деревянных памятниках живут люди…
Мать была стара, а брат — мал. Поэтому Ованес (Иван) работал один, ведь в скотском вагоне сталинской железной дороги ему исполнилось шестнадцать лет. И он получил свой аттестат зрелости. По этому аттестату ему выдали лапти и суконную куртку, определив грузчиком в ПРК комбината. Он стал получать шестьдесят рублей в месяц и на эти деньги покупать по карточкам хлеб: пятьсот граммов для работающего и двести — для иждивенцев. Тяжело пришлось тогда крымчанам, голода не знавшим, туманного холода не видавшим. В квартире, кроме них, жила семья Бесковых — родители и две дочери. Сын погиб на фронте. Понимали люди: старуха и ее дети не могли быть предателями. И завхоз военкомата Павел Степанович Максимов, живший за стенкой, помогал картошкой — хороший человек. Но такими были не все…
Однажды Анна Михайловна пошла в деревню Морчаны за крапивой для супа. И местные пацаны жестоко избили женщину, метясь и попадая камнями в голову. В крови пришла домой. «Предатели! Предатели!» — так называли тех, чьи сыновья остались лежать в крымских горах.
Когда армян привезли на Вишеру, татары уже были здесь. Они валили лес и катали бревна на лесоскладах. Работали на лесопунктах — в поселках Мутиха, Парма, Тепловка и других. Много было татар, как в Карасубазаре. Среди них нашелся и знакомый — Смаил Ибрагимов из деревни Алямма, что значит «поворот». Тайга Северного Урала — вот где встретились крымчане, вот это поворот. И до сих пор в дом моего отца приходят друзья — крымские татары, оставшиеся жить на Вишере. И болгары приходят.
Лихая жизнь досталась в тот год цыганам. Зная свободолюбивый нрав артистов, гастролеров и гадалок, чекисты постарались забросить их подальше на север. И все равно не переломили хребет этому народу. «Мы не сажали этот лес — кто его сажал, тот пусть и рубит!» — дерзко огрызались они. И в первые же два года цыгане бежали «в сторону южную». Мужчины, женщины и дети шли пешком, летом и зимой, замерзая в снегу у дороги. Но ушли все — хоть на тот свет.
Первая зима на Урале стала последней и для многих армян — старики умирали. Не выжил Саркис Фундукян, не пережил ее заместитель председателя проломовского колхоза Аведис Захарян, занимавшийся до войны разведением гусениц, свивавших в коконы шелковые нити для будущих парашютов. Похоронили и дядьку Вартана, который первым понял, куда их везут. Пережила сына мать Вартана — тетка Тушик, помнившая турецкую резню, жившая в бараке сангородка. Сосновые гробы везли за город каждый день.
Один раз в неделю спецпереселенцы обязаны были отмечаться в комендатуре. Им запрещалось покидать город без специального пропуска. Двадцать лет каторжных работ в лагерях еще более северных широт обещала им за нарушение этого правила бумага, которую подписал каждый. Но в первый же год ушел в побег Ардаш Захарян, жена которого, Гугарик Богосян, была, как уже говорилось, одной из первых проломовских подпольщиц. Ардаша поймали и посадили за колючую проволоку, но почти половину двадцатилетнего срока ему скостил двадцатый съезд. Он освободился в пятьдесят шестом.
Мой отец грузил на баржи бумагу, возил тачкой сучья. И рядом с ним горбатился одногодок и друг болгарин Миша Нагалов из Коктебеля, отца которого, коммуниста, расстреляли немцы. Родной брат Миши, двенадцатилетний Петя, тоже ушел в бега со своим другом и пропал навсегда…
5
Старшему сыну Лидии Егорке было лет десять, когда кто-то из деревенских рассказал ему о судьбе его отца. Егорка взял топор и пошел к дому Ивана Григорьевича. В доме никого не оказалось, и он, как в припадке, изрубил топором дверь. Потом хозяева поймали его и избили, некому было заступиться за безотцовщину… Егорка отмахивался от жизни сам — рос угланом резким и смелым. Уходил из дома и спал в лесу, гонял на лошадях и бил острогой рыбу.
Егорка был почти ровесником моего отца. А матери, когда началась война, исполнилось одиннадцать лет.
«Мы с Егоркой землю весной боронили, босиком, а земля холодная, твердая — все пятки в крови. Лошадь раз по тридцать за день падала. Я тяну ее вожжами, тяну, вся вымотаюсь. Зимой-то лошадей соломой кормили… Да и сами ничего не ели, ведь наша семья беднее всех жила, коровы не было. Летом ягодами да рыбой кормились — женщины деревенские пойдут на реку, наловят три-четыре ведра, а мы, дети, сидим все вместе, чистим ее. Мать-то моя слабохарактерной была, но трудолюбивой. Осенью мы с ней ходили копать людям картошку, а зимой имели от них — кто мешок даст, кто два. Взвалю я мешок на санки и везу домой, а гора перед нашей деревней крутая-крутая… Но картошки все равно не хватало, и к весне дело доходило до пихтовой коры. Сушили ее, толкли, добавляли стакан крахмала или муки, если была, и пекли лепешки. Дерево ели. Когда снег сходил, откапывали на полях гнилую картошку — и ее ели. Потом я увидела, что полевые мыши прячут в норах зерно, под стогами. Я стала лазить в норы рукой, разрывать их, доставать зерно оттуда. Домой приносила — мать меня „мышкой“ называла… В сорок третьем у нас появился братик Витя — кормить его надо было. Сразу после войны я пошла работать уборщицей в школу, и мне давали по карточке пятьсот граммов хлеба. Я кусочек сама съем, кусочек домой несу. Открою дверь, а он сидит на печке — кожа да кости, ручки ко мне протягивает и лепечет: „Еб! Еб! Еб!“ — хлеб, значит. Парализовало его от холода и голода, тоже умер… Холод был такой, что Миша прямо в печку залазил, в русскую, и сидел там. Вот такая жизнь у нас была, японский бог…»
Егор повесился в пятьдесят шестом. Вся краткая и жестокая биография вела его к дощатому сараю в поселке Лагерь, где он задушил себя веревочной петлей. Дважды женат был. Троих детей оставил, как Павел. Первый раз его судили в семнадцать лет за кражу денег у старика, сторожившего колхозный склад с зерном. Суд проходил в сельском клубе Верх-Язьвы. Моя мать присутствовала на нем. «Он худой-худой, и одежда худая, а его судят. Даже судья тогда покорил сельчанам: как же вы, говорит, парня до лагеря допустили?» Год Егорка отсидел, вышел и почти сразу вернулся обратно в зону. Залез в колхозный склад и стащил муку. Товарища его, что с ним был, пощадили как хорошего колхозника, а Егорку — нет. И посадили парня за хлеб, как Павла Кичигина, когда тому не удалось спасти детей от голода. И Саша, сын Егора, братан и друг моего детства, отсидел недавно третий срок, — тоже сытым редко бывал. Наловит, бывало, щурят или хариусов в реке и жарит рыбу, поддерживая ее палочками над костром. «Хороши на мельнице мешочки, еще лучше — с белою мукой! Стащишь полмешочка, схватишь три годочка — сразу жизнь становится иной». Вот такой лесоповал, будь вы прокляты, голубые елочки! Подавитесь персиками, голубые шинели…
И отца судили — в сорок четвертом. Не вышел тогда на работу один из возчиков ПРК, который ходил за лошадью, таскавшей по узкоколейке платформу с бумажными рулонами. И на его место поставили Ованеса, с детства и до старости страдавшего страшными мозолями на ногах. Пошагал он за лошадью день, а на следующее утро не смог выйти на работу. Но больничный лист врач ему не выдал. Начальник ПРК Копылов подал на него за прогул. И на полгода лишили Ованеса пятой части зарплаты, наказали наказанного. Второй раз комбинат подаст на отца в суд через четверть века, но это дело у начальников уже не выгорит.
В сорок пятом Ованес (Иван) перешел работать слесарем в ремонтные мастерские, поближе к технике — тянула она его, как за рукав. И вскоре узнал, что в городе открылись вечерние шоферские курсы, пошел туда, но ему отказали — опоздал на месяц. Так он увидел, что преподаватель курсов, инвалид войны Михаил Николаевич Золотарёв, живший неподалеку, дрова у сарая колет. Он подошел к нему, взял колун и махом переколол все чурки. «Ладно, приходи на курсы», — сказал ему Золотарёв. И отец пришел, прихватив с собой друга-болгарина. Чтоб веселее было.
«Откуда на Вишере столько талантливых?» — спрашивают меня иногда. «На многих кровях замешаны», — отвечаю скромно. «Вишера — это котел, — говорит мой друг Женя. — Кого здесь только не было…»
За рекой, напротив города, поднимает тайгу к небу гора Полюд — ее видел из Чердыни еврей Осип Мандельштам. А под горой сидел русский Варлам Шаламов. По вишерской тайге уходил в свой последний побег эстонец Ахто Леви, написавший потом «Записки Серого Волка», — и в детстве, на Вишере, я смотрел фильм, поставленный по его повести.
Старожилы докладывали мне, что на Вишере доживали свой век личный врач Николая II и фрейлина императрицы, владевшая шестью языками (мои друзья учились в одном классе с ее внучкой). А курс по топливной аппаратуре читал моему отцу Василий Михайлович Кондарев, бывший полковник царской армии, очень хороший человек. И грамотный. Топливную аппаратуру мой папа знает не то что я — меня сержанты учили.
После окончания курсов отца определили слесарем в гараж, где все выпускники должны были пройти стажировку за рулем. И прошли — но ни прав, ни машин им не дали: машин не было. Тогда проломовец решил идти напролом! Они с другом, крымским татарином Амзаевым, оставаясь в гараже после смены, начали собирать свою машину. Они рыскали в поисках брошенных деталей, ремонтировали старые и собирали новые части, своими руками ковали в кузнице рессоры. Из воздуха и звездной пыли своей энергии они создали ЗИС-5! «В жизни раз бывает восемнадцать лет…»
— Успеете еще накататься, — сказал парням довольный начальник гаража, забирая у них технику.
Это был сильный удар. Только через два года отец соберет вторую машину, которую никто не посмеет тронуть. И он сам, намотав на колеса цепи, выкатит ее на дорогу, длиной в сорок лет.
Лицо и руки мужчины, как на картинах Рембрандта, освещает то дело, которым он занимается, а судьбу его определяет то, как он им занимается. В течение десятилетий мой отец, как птица, вставал в три часа ночи и вылетал в дальний рейс. Он оживал, он веселился, когда круто выруливал с бензозаправки на стокилометровую дистанцию Вишера — Соликамск. Сколько русских, армянских и татарских песен переслушал я, сидя в кабине его машины! И еще: с ним невозможно ходить по городу — друзья проходу не дают. Иван Давидович — это человек.
6
В ноябре сорок седьмого Паша Кичигина решила покинуть деревню и уйти в город. Может быть, не везде голод и нищета? В город перебрались двоюродные сестры, они говорили, что там можно поступить в школу фабрично-заводского обучения и получить специальность. И Паша уговорила Петра Егоровича Бронникова, директора верх-язьвинской школы, отпустить ее с работы. Добравшись до Красновишерска, она остановилась в бараке у двоюродной сестры Нюры. Мужчина со шрамом на лице, фронтовик Пестов, руководивший комбинатовской школой ФЗО, сказал ей, что набор уже закончен. Правда, одна девушка заболела, добавил он, принять можем, но только с паспортом — достань, получи паспорт. У колхозников паспортов не было, они не были гражданами Страны Советов. «Я пошла в райисполком, в милицию, а мне кричат: иди в колхоз! А я реву, я реву, не ухожу… лицо все обморожено, в коростах, валенки дыроватые. Хожу каждый день на базар и покупаю триста граммов хлеба — мать денег насобирала, дала мне с собой. И иду в барак».
Нюра во время войны возила в город на лошадях деревянные ружболванки для отправки на военный завод. А затем устроилась на работу в пригородный совхоз. Сколько помню, все болела тяжело. До последнего времени она жила с сестрой в лагерном бараке. В таком же бараке умерла другая ее сестра, Тася, учившаяся в сорок седьмом на слесаря-инструментальщика. Ее первый муж, дядя Коля Шнягин, отсидел двенадцать лет. «Золотые зубы за половник баланды вырывали…» Почернел он, высох в короткий срок и умер от рака желудка. Мы все любили его — плясать и работать мог сутками. Ягоды из леса на коромысле таскал — по два ведра. А что было, когда собирались все вместе! Пельмени да водочка в финском домике, дядьки и тетки, Вишера ты моя, Вишера, — «то не ветер ветку клонит…».
Выплакала мать паспорт за две недели. Поселили ее в общежитии — весело было, по десять человек в комнате. А потом приехала и Лидия Никаноровна, привезла доморощенный лен на продажу. Они вместе ходили на базар, и все вырученные деньги бабушка отдала дочери. И Паша купила «немного поношенные ботинки, платье вышитое, еще хорошее», другие вещи.
Полгода училась она на сортировщицу бумаги. Тут, в школе, познакомилась с девушками-немками, которых во время войны фашисты вывозили с оккупированных территорий для работы в Германию и которых после привезли на Урал — тоже для работы. И в городе впервые увидела крымских переселенцев. Больше всего ее поразили их каждодневные похороны.
И вот в мае, после окончания школы, Паша пошла на пристань — провожать своих. Тогда им выдали новое обмундирование: хорошее, добротное, мужское, не по росту и не по размеру. «Ботинки большие дали — ноги не поднять!» Бушлат, ватные брюки и гимнастерка достались Егорке, который после освобождения работал конновозчиком в лесном поселке Геж. «Сестра, когда мне валенки купишь?» — кричал он ей весело с телеги при встрече. А половину подъемных, пятнадцать рублей, полотенце и юбку Паша отдала матери. «Бабка русская — юбка узкая!» — дразнила, убегая, Лидию Никаноровну моя сестренка Аннушка, армянская кровь, в шестидесятом году. А тогда, в сорок восьмом, когда бабке было тридцать семь лет, она собиралась в самый дальний путь своей жизни.
В тот год вышел указ, по которому сельчане, не отработавшие определенное количество трудодней, подвергались ссылке. И в верх-язьвинском совхозе срочно начали искать таких. И конечно, нашли. Нашли Ивана Осиповича Собянина. И одну женщину по имени Клавдия — она дома шила, а муж возчиком в магазине работал. И бабушку мою со слабоумным сыном. Да почему их? «Да потому что водку с начальством не пили».
От Соликамска до Тюмени людей везли по железной дороге, а там всех загнали на баржу, и поплыли несчастные вниз по Оби, в страну хантов. Хохлов, кацапов и уральских чалдонов, мужчин, женщин и детей набили в трюм, посредине которого стоял… Как говорит моя мама, эта параша, эта публичная оправка больше всего изумила Лидию Никаноровну. Плыли долго, а потом долго шли пешком — в тайгу. Строили землянки. Но когда начались холода и пошел снег, охрана выгнала их оттуда и поселилась сама. А ссыльные спали на земле и работали на сплаве леса, по пояс стоя в ледяной воде.
7
Возвращались из армии солдаты и офицеры. Была радость: через семь лет нашел свою семью Армянак Асланян, увезенный в сорок первом в Германию. После прихода туда Советской армии он был призван в ее ряды и прослужил несколько лет на немецкой земле. Перед демобилизацией командир отговаривал Армянака ехать на Урал — догадывался, видимо, или знал точно, что ждет его там. Но Армянак не побоялся Урала. И нашел свою семью. Из красновишерского военкомата его направили в милицию, из милиции — в комендатуру, где и залепили красавцу-кавалеристу печать спецпересылки в документы. Через год после Армянака нашел свою мать танкист Андроник Егикян, сын тетки Тушик. «Приходи завтра отмечаться» — так сказали ему. Один вечер побыл танкист в бараке у матери, а ночью покинул город навсегда…
Шел сорок восьмой год. Армянак, как и Ованес в свое время, работал грузчиком. В ремесленном учился на слесаря Богос, самый младший.
И все они жили вместе в девятиметровой комнате, что в доме на Пролетарской. С одной печалью: главы семьи нет — деда Давида. И все эти годы Анна Михайловна, обижая упорством местных энкавэдэшников, искала своего пропавшего мужа. Под ее диктовку писались письма во всевозможные инстанции. Она отправила жалобу Берии! Нашла кому… Приходили безнадежные ответы, а Лаврентий Павлович объяснил женщине, что выслали их не как врагов народа, а как крымскую нацию, что почиталось, видимо, этим кремлевским козлом не больше.
А дед Давид никуда не писал, поскольку делать этого не умел — он крестики на бумаге ставил, о всесоюзном розыске не знал. И что было в доме, когда старик объявился сам! Зимой сорок восьмого года. Последние сто двадцать километров пути он провел в открытом кузове машины на сорокаградусном морозе. Восемь часов. Когда Ованес пришел с работы, он увидел в комнате отца: Давид сидел, опустив ноги в таз с горячей водой… Только с того света нельзя вернуться. Вот и собрались они все на далекой Вишере — все, кроме Гургена, оставшегося лежать в крымской земле.
Когда доярки уронили в колодец дорогое по тем временам железное ведро, рядом оказался семидесятилетний старик-армянин. Он спустился в колодец по срубу и достал ведро. Доярки были так удивлены и благодарны, что оставили бездомного старика при ферме. И пять лет провел Давид в одном из колхозов Свердловской области, пока не услышал про Вишеру, где живут ссыльные крымские армяне. «Он вообще был сильным, — вспоминает отец, — стариком пятидесятикилограммовый мешок за пятьдесят километров в город на плечах таскал. Аслан — это лев!»
Стар был уже лев. А без дела сидеть не мог — нанялся сторожить личные огороды. Стар был, плохо видел, и кто-то накопал ночью картошки с одного огорода. Хозяин, узнав об этом, избил старика. Давид прошел святой и трагический путь от Турции до Урала, пережив мусульманскую резню, фашистское нашествие и великое спецпереселение народов на север. Дед Давид, ровесник вождя народов, умер в один год с ним, навсегда остался лежать в сухом вишерском песке среди своих земляков-проломовцев. «Где ж ты был, Бог, когда гиб армянский народ? Амен. Амен. Амен», — пел под гитару мой ереванский друг Самвел Микаэльян, на волосатой груди которого висел золотой крест, подарок его деда.
Позднее строки эти стали эпиграфом к моему стихотворению: «Кто не забыл турецкий Трапезунд, войну в Крыму и ссылку на Урал, тот в этой жизни много повидал. Двух сыновей и первую жену Давида вырезали мусульмане. Амен. Давно, в последнюю резню, так далеко, что берега не видно. На пароходе в православную страну пришли армяне. Приемный сын ушел ко дну, родной в шестнадцать партизанил — и вброд не перешел войну. Амен. Давид Акопович скончался на Урале. Амен. В том самом приснопамятном году, когда и Сталин. Я призываю к Страшному суду. Отец, я помню, говорил: Давида брат, Ерванд, служил священником феодосийской церкви — и звезды в скорби над Понтийским морем меркли, когда он руки к небу простирал, как будто бы руками поднимал тяжелый камень. Нет нор, нет гор до небес, сер черт, бур черт, все одно — бес! Амен. Амен. Амен».
8
Лето сорок восьмого года было холодным и дождливым. Пашу Кичигину вместе с другими девушками, окончившими школу ФЗО, отправили в родной колхоз — Верх-Язьвинский. Только матери, Лидии Никаноровны, там уже не было. И два месяца Паша серпом жала хлеб — в ботиночках, поскольку сапог не имела. А когда вернулась в город, у нее на спине, у позвоночника, появился гнойный нарыв, увеличивавшийся с каждым днем. И как-то в цех завезли бумагу, и сортировщицы бросились разбирать ее, толкая друг друга… Оперировал Пашу врач по фамилии Шишкин, переселенец тридцатых годов. От боли она кричала. Потом услышала, как Шишкин сказал медсестре: пятьдесят кубиков гноя выкачал. После больницы она работать не могла, тогда комбинат в форме премии выдал ей пятьдесят рублей. На одной каше жила. «Доход с котелком, ты куда шагаешь? В райком за пайком, разве ты не знаешь?»
А на танцах в общежитии играл Иван Вихров, на танцах собиралась трезвая молодежь, пришел и спецпереселенец Иван Асланян. Для отца сорок восьмой год вообще был счастливым. Собралась семья. На своей землячке, Маргарите Оганян, искусной портнихе, женился Армянак. Правда, Ованес, родной брат, на свадьбу не явился: даже в этот праздничный вечер у него не хватило сил оторваться от руля ЗИС-5, второй машины, которую он собрал «из-под забора».
Ованес возил лес на комбинат, где из древесины делали целлюлозу. Чаще всего машины ходили в поселок Нижняя Язьва. Бревна поднимали из реки по лесотаске и грузили их на лесовозы. Тогда в гараже насчитывалось уже более полусотни машин — ЗИСов и «студебеккеров». Шоферам выдавали полушубки и валенки, их работа ценилась — и в деньгах тоже.
То вязкими, то скользкими были таежные дороги. Отец научился водить машину по узким лежневкам, а в гололедицу наматывал на колеса цепи. Старые вишерские шофера — это характер, рисковый и твердый, как сталь цилиндровых клапанов, из которой получаются хорошие охотничьи ножи. Один из этих старых водил, помнится, рассказывал мне случай: машина отца забуксовала, колеса вращались в грязи быстро и бесполезно. Он газовал-газовал, выскочил из кабины, снял с плеч новенькую фуфайку, швырнул ее под заднее колесо — и выехал. Что свадьба, себя не помнил, когда сидел за рулем…
«Мы часто поздно возвращались, косясь на время по привычке, и между век, чтоб не смыкались, вставляли на рассвете спички. Мы просыпались от удара, когда, осклабившись с налету, за лобовым стеклом волчара скользил когтями по капоту! Куда вела дорога эта? Если вела она не в рай, то выводила на край света, не раз хватая через край. В стакане плещется немного мной не приконченной печали… Так укачала нас дорога, что и врачи не откачали…» — это стихотворение я написал позднее, в память о Паше Пашиеве, напарнике отца.
Вишерские шофера… Сначала отец работал один, но потом у него появились напарники. Первым из них был Иван Шишкин, сын того самого врача-переселенца, который оперировал мать. Второй — Фёдор Шадрин, фронтовик, освободившийся из Вишерского лагеря. Это с ним они поехали в Березники за трубами и засели у крутой горы — порожний лесовоз не смог одолеть гололедную дорогу. Тогда они достали топоры и, стоя на коленях, за четыре часа изрубили четыреста метров подъема. И только поднялись в гору — мотор «застучал». Приехали в город, сняли картер, поставили вкладыши в шатун коленвала — и еще день ушел. И день грузились. И обратно — сто шестьдесят километров — сутки под колеса. В тот год, когда отец выходил на пенсию, Соликамскую дорогу заасфальтировали. Вот жизнь, японский бог, как говорит моя мама… Сорок лет проехать, чтобы вырулить на асфальт — и сойти на обочину.
Третьим напарником отца стал Паша Пашиев, тоже бывший фронтовик и зэк. Он вышел из Ныроблага в 1949 году и остался на Вишере, и жена приехала к нему из Кировской области. Я хорошо помню, как Пашиев приходил к нам домой — с мороза, веселый, угощал меня и сестру шоколадными конфетами. За несколько лет до смерти Паше — так звал его отец — ампутировали отмороженную ногу. Он подолгу сидел на лавочке под солнышком, и мужики подходили к нему, закуривали. А теперь шоферит его сын Валерий.
Зимой сорок восьмого отец повез бумагу, рулонами стоявшую в кузове под брезентом, в Соликамск. «В два яруса грузили!» Заправил бензином один бак, поскольку всегда хватало столько. Вырулил по старому Чердынскому тракту в чисто поле — и попал в непроглядную белую метель. «Выскочу из кабины, лопатой снег отброшу, заскочу — опять занесло». И так на шестнадцать километров сутки ушло, а за два километра до деревни Федюнькино сгорели последние капли топлива и мотор заглох. Вокруг ни души. Но уйти побоялся: машину могли обчистить зоновские шофера, курсировавшие по тракту. Допускать такую оплошность спецпереселенцу было накладно. Голодный, он двое суток провел в промерзшей кабине. Утром его нашли местные жители, шедшие на лесоповал. Отца загрузили в сани и отвезли в деревню, обогрели, накормили картошкой и хлебом-ярушником. Потом пришедшие с Вишеры машины дали ему бензин. И домой он вернулся на пятые сутки.
Отца всегда уважали — за бешеное трудолюбие, за ум, за веселый нрав. Поэтому когда он женился, начальство выделило ему комнату в благоустроенной квартире, в центре города, радом с работой — для того времени это роскошь. Спецпереселенцу — такие условия! Старый лудильщик, живший с женой во второй комнате этой квартиры, был очень недоволен.
«Предатель!» — говорил он отцу в лицо. А старуха не пускала молодых на кухню и при удобном случае устраивала скандал. До моих родителей в этой комнате жила пожилая женщина-врач, приезжая. Лудильщик вообще довел ее до ручки. Женщине дали другую комнату, а там — такие же соседи. И она со временем тронулась умом, ненормальной стала. В нашей стране для нормального человека это еще не самый страшный вариант. Короче, дело дошло до того, что сосед ударил моего отца. Провокатор…
У нас дома хранится фотография голого по пояс восемнадцатилетнего армянина: карие с ясным взглядом глаза, аккуратно зачесанные волосы, рельефные мускулы рук и торса… Еще работая грузчиком на комбинате, отец на спор взвалил себе на плечи стошестидесятикилограммовый рулон бумаги и перенес его на другой штабель. За пятьсот граммов хлеба, как оговаривалось условиями пари.
Но в 1950 году отец был под комендатурой и не мог ответить лудильщику ударом, от которого летали и не такие бойцы. Они с матерью собрали все свои вещи — «две фуфайки» — и ушли жить в барак, до сих пор известный в поселке Лагерь под именем «девяносто шестой». И прожили в нем пять лет. А квартиру с удобствами получили только через двадцать.
Этот поселок называется так потому, что раньше в бараках действительно находился лагерь для заключенных. Пушкина, Маяковского, Островского, Толстого — так называются улицы поселка. Литературный городок! Переделкино, можно сказать. Здесь людей переделывали в лудильщиков. Только именем Максима Горького называлось пять улиц — первая, вторая, третья… Как же, основатель социалистического реализма, посетил острова Соловецких лагерей особого назначения и одобрил тамошнее переделывание людей. А Вишерский лагерь был четвертым отделением этого СЛОНа, хоть и находился на материке, далеко от моря.
Именами великих назывались убогие шеренги черных бараков и щитовых финских домиков, промерзавшие в зимние месяцы насквозь, настолько, что углы в комнатах покрывались изморозью. Я до сих пор не пойму, почему дома эти назывались финскими — сомневаюсь, чтобы наши благополучные северные соседи жили в таких условиях. И видел бы Пушкин улицу своего имени! Стал бы он писать «Бахчисарайский фонтан», если бы увидел, куда занесло крымских татар?..
В центре поселка находится заброшенный карьер, заросший травой, затопленный водой. Рассказывали, когда его рыли, из земли стали появляться черепа и кости. Экскаваторный ковш вышел на траншею, куда в тридцатых годах сбрасывали расстрелянных заключенных. Может, там были и останки моего деда Павла — в нескольких метрах от нашего финского домика. Так тесен мир, что с покойниками не разъехаться… И нельзя не задуматься, глядя в пустые и черные глазницы прошлого.
На Вишере, как в столице, собралась вся страна. Рядом стоял магазин «десятый», куда мы пацанами бегали смотреть на тунеядцев, высланных из Ленинграда. Они были молодыми, в интересных жилетах с блестящими пуговицами. Сегодня я думаю: ведь, наверное, кое-кто из них перенес в детстве блокаду? Так, может быть, в это же время разглядывали и Бродского? Посевернее нас. Мне достались поэты парфюмерии и карамели: они пили одеколон из флакона и откусывали конфетку, не снимая фантика. И пили Белое море водки. Наш сосед из дома напротив замерз на крыльце; из дома, что стоял справа, мужика вынесли в белой простыне, сильно подкрашенной кровью: жена отрубила ему голову топором. А Володя, восемнадцатилетний немец, проиграл себя в карты вербованным…
Хорошие люди, родившиеся в мертвой стране. Не жлобы, не жулики. Тысячи ссыльных, вербованных и освобожденных уходили как песок с водой, оставляя в лотке крупинки золота. Лесорубы, сплавщики и шофера — с широкой костью, с веселой улыбкой… Вишера — храм человеческий, мое болото, над которым летает кулик и поднимаются желтые ягоды спелой морошки. На Вишере пахнет водой, молевым сплавом и сосновой корой, пахнет черничным вареньем, от которого темнеют зубы у пацанов. Простите мне эту слезу…
9
В год смерти деда Давида и Сталина, пятьдесят третий, Паша Кичигина поехала в Сибирь, чтобы навестить Лидию Никаноровну и Мишу. В Тюмени, переночевав на вокзале, она села на пароход и с долгими пересадками, живя на пристанях по два-три дня, поплыла в страну хантов. Прошло более полумесяца, и она осталась на берегу с двумя мужчинами-попутчиками, сказавшими ей, что тоже добираются до родных. «И как не побоялась — молодая была, двадцать три года…» На лодке перебрались на другой берег, где заночевали в гостеприимном доме местного учителя, накормившего путников ухой. До сих пор помнит… Чем дальше в лес, тем больше хороших людей попадалось. И попутчики оказались порядочными. Тридцать километров прошагали они по тайге вместе, на руках перенесли ее вброд через реку.
— Ой-е-е-ей! Как же ты добралась сюда? — встретила ее мать.
К тому времени большинство ссыльных уже жили в бараках без комнат, от торца до торца сплошь заставленных кроватями. В трюмах, вагонзаках и бараках советская власть продуманно лишала людей уединенности и личной жизни, чтобы избавить их от чувства собственного достоинства. «Ваше место у параши», — говорила она им.
В тот год Лидия Никаноровна работала уборщицей — после того как Миша заблудился и его искали в лесу всем поселком. А в таком случае пропасть было просто и тем, кто был в своем уме. Так произошло с одной женщиной, которая, зная, что ее будут искать, стала разрывать свое платье и сорочку, развешивая лоскутки на деревья там, где проходила. И женщину нашли по этим знакам — вернее, то, что от нее осталось… Мишу нашли живым. Но он нуждался в присмотре, он нуждался в надсмотре — всегда: потом, когда жил с Лидией Никаноровной на Вишере, местные пацаны швыряли в кудрявую беззащитную голову камнями, а один раз даже подожгли на нем фуфайку. И кто из них был более лишен рассудка? Бедные, убогие дети, родившиеся в советском лагере…
В пятьдесят третьем ссыльным уже жилось теплее, у иных имелись даже свои дома. И сытнее — был хлеб, прямо на улицах лежали горы сухих кедровых орехов, люди собирали ягоды и яйца уток, а рыбу «черпали из реки ковшами». Одна из женщин, владелица двух коров, начала уговаривать Пашу Кичигину выйти замуж за ее сына. Паша только улыбалась, она думала о другом — о том, как вытащить отсюда мать и братишку на Вишеру.
Погостив в Сибири, запомнив советы бывалых людей, как лучше действовать, она отправилась в обратный путь, который оказался еще труднее, поскольку вышли почти все деньги. В Тюмени ночевала у добрых студенток в общежитии, а водителю такси в поздний час пришлось отдать одеяло. Так и добралась до дому — голодным зайцем. И сразу начала хлопоты по вызволению родных из ссылки, пошла обивать пороги. Потом научили уму — поехала в Верх-Язьву, в колхоз, собирать подписи о том, что сельчане ничего не имеют против возвращения Лидии Никаноровны с сыном из ссылки. «Людей не собрать, иди по домам», — посоветовал ей Пётр Егорович, директор школы. И Паша пошла по домам земляков…
Но в тот год моя бабушка вернуться не успела, поскольку кончилась навигация. Они с Мишей приехали в пятьдесят четвертом и остались жить в городе, поселившись в деревянной будке одной из водокачек. Лидия Никаноровна топила печь, грела трубы, чтобы не перемерзали. Ей исполнилось всего пятьдесят лет, когда она умерла от рака в этой же будке. «У нее не жизнь была, а мучение», — говорит моя мама.
«Дороги, которые ведут в никуда» — так назвала наши лесные лежневки Галина Матвеева. А Женя, муж ее, добавил: «На Вишере снова начали появляться из земли кости…» — «У той самой конбазы, где расстреляли моего деда», — вспомнил я.
Куда вела дорога эта? Расступается земля, темнеет в глазах от белого света, хлынувшего в пустые глазницы прошлого. «Это город тополей и тюрем, это город слёз и тополей», — поет Женя Матвеев.
Поет о матери Марии. Так звали мать Фёдора Щепина, мужа моей сестры Анны.
До сих пор стоит он в центре города — двухэтажный двухподъездный дом, бревенчатый, черный, на восемь коммунальных квартир. Стекла на лестничной площадке выбиты. Перила покрыты блеском прошедшего времени. Стены пропитаны запахом недорогой человеческой жизни. Очень недорогой.
Помню, в девятиметровой комнате сидят две старухи. Гостья, Анна Алексеевна Карионова, на три года старше хозяйки, своей подруги Марии Яковлевны Щепиной, рассказывает мне про подругу:
— Помню, как она бегала с братиком и сестренкой под окнами — маленькие, как пестики, все игрища устраивали…
И распахивается на миг бездна. Плачет старуха. Восемьдесят годов прошло.
— Я в девять лет уже по миру ходила, в лаптях, — продолжает она. — Мужа на войну взяли — обратно не вернули. Все простила теперь… Девяносто лет прожила на свете — ни одной буквы не знаю. Да и глаза плохо видят. Вот Марии грибы принесла.
Мария Яковлевна и сама еще «по губи» ходит. Каждый день через дорогу — в городской парк. Медленно ходит, как знак вопроса.
Мать у Марии рано умерла, а отца убили белые, когда ей было восемь лет. Остались четыре сироты. Жила «у одних» в Чердыни, с детьми водилась. Правда, кормили и по семьдесят копеек в месяц платили. Не училась — хозяева говорили: «Потом научишься письма писать». При советской власти два раза сильно голодали — «траву ели, а сегодня хлебушко кушаем, хоть и дорогой».
Когда Мария приехала на Вишеру, в будущий Красновишерск, здесь не было ни одного дома. Этот дом, первый в городе, построили заключенные. В эту комнату она вошла шестьдесят лет назад — молодой, здоровой, красивой.
Тусклое зеркало, искусственные цветы. В углу — старый шифоньер, на котором образ Богоматери из календаря. Образ Матери…
Дочка Марии умерла перед войной, от кори. Сын, инвалид от рождения, лежал, ничего не понимал и не разговаривал. Пролежал одиннадцать лет — и умер. Старший сын, Фёдор, муж моей сестры, умер недавно. «Федю похоронили — день и ночь жалею…»
Мария Яковлевна работала официанткой, техничкой, прачкой в детсаде — пока руки не покрылись экземой. «Плакала, да работала…» Всю жизнь, с восьми до восьмидесяти лет, ходила за детьми, своими и чужими. Николай Гурьянович Чагин, с которым воспитывала своих детей, домой не вернулся. Остался в братской могиле под Ленинградом.
Во время войны, когда Валерик лежал один в этой девятиметровой комнате, она работала на лесозаводе, оставалась после смены — и еще работала: «таскала брак — по рублю в час платили». А ночью стояла в очереди за килограммом хлеба.
Квартиру никогда не просила, поскольку знала, что все равно не дадут. Дали вторую комнату, с окном, напротив которого стоит памятник Ленину, покрытый свежей серебристой краской настолько, что похож на инопланетянина в костюме. Откуда, с какой планеты он залетел сюда, Господи?
На стене я заметил пустую рамку для фото — кого в ней сегодня нет? Сына? Дочки? Мужа? Никого нет…
Россию у нас называют Матерью. Я вспомнил слова Евгения Рейна о будущем страны: «Мы все тогда войдем под колокольный звон в Царьград твоей судьбы и в Рим твоих времен». Мать Мария не читала стихотворения поэта из Ленинграда, где погиб ее муж. И Анна Алексеевна читать не умеет. Впрочем, разве это имеет какое-нибудь значение перед величием их трагедий.
Старший сын Марии Фёдор стал мужем моей сестры Ани. В сорок три года он заболел раком, полгода лежал. Аня каждый день покупала две бутылки водки и садилась рядом с кроватью — снимала ему боли. Фёдор оставил троих детей… Потом сестра, о чем бы ни шла речь, могла на любой вопрос ответить, казалось бы, потусторонней фразой: «Не говори мне про любовь…»
10
И вот он наступил — год пятьдесят шестой. Анну Михайловну вызвали в комендатуру и объявили: вы свободны, вы можете покинуть Вишеру. Вот Кавказ, а вот Средняя Азия — поезжайте куда угодно. Только не в Крым. В Крым нельзя — и точка, и подпись, то есть крестик, что не поедете.
Освободили, но денег не дали, дом не вернули, на родину не пустили. В тот год уехали Ваня Чалухиди, Степан Теназлы и Степан Манов — те, у кого было на что. «Остались братья Багчивановы, Юра Николаиди, я остался…» Отец называет их так: Ваня, Юра — тезки, ровесники, земляки. Депортации, оккупации, переселения, миграции…
Анна Михайловна жизнь повидала. Она родилась в 1886 году на станции Ислам-Терек в семье грека Узунова, у которого было семеро детей. Во время Гражданской войны погиб брат Иван. Тогда же погиб брат Георгий, похороненный в братской могиле в Белогорске. Они были партизанами, как и ее сыновья. Остались пять сестер, она старшая. В Крыму погиб сын. На Вишере умер муж. И вот комендант ей сказал: вы свободны. Это в семьдесят-то лет!
Армянак и Ованес были женаты, имели детей — им трудно сорваться с места. И она решила ехать с одним Богосом на родину! Но в милиции Карасубазара, ставшего к тому времени Белогорском, ее не ждали. Удивленные начальники сказали ей вежливо, но коротко: даем тебе сутки, чтобы ты с сыном успела исчезнуть с территории Крыма.
— Я ничего не могу поделать, вам запрещено сюда возвращаться. Поезжайте обратно. Или в Азию, — пытался образумить упорную старуху секретарь райкома партии, к которому она пришла после милиции.
Анна Михайловна встала и подошла к окну его кабинета.
— Тогда выкопайте из могилы моего сына, — сказала она, — я повезу его на Урал.
В то время вторая могила Гургена еще находилась в городском парке, перед белогорским райкомом партии.
— Он похоронен здесь! — показала она рукой на памятник, под которым лежал прах трех погибших в марте сорок четвертого года партизан.
Секретарь райкома все понял. И тотчас вызвал по телефону начальника милиции.
— Мамаша, подождите пока в коридоре, — попросил он.
И минут через пять ее пригласили обратно.
— Где вы хотели бы прописаться — в городе или в деревне?
— Я поеду в Пролом, — ответила Анна Михайловна.
Армянские дома в деревне были давно заняты. Поэтому старуху и сына поселили в старой пустой школе. В той самой, где Ерванд Асланян учил пацанов армянской грамоте. Но вскоре они переехали в Васильевку, поскольку Богос женился на тамошней гречанке. Русский выбор Ивана Анна Михайловна не одобрила, и даже очень, не ведая, что творит. Пройдут годы, и, умирая в доме моего отца, она попросит у моей мамы прощения. И на севере, и на юге Иван выдержал давление национального консерватизма — и сделал, слава богу, по-своему. Вот родители! Наградят детей своим характером, а потом диву даются, откуда что появилось.
Через год после Анны Михайловны в Крым выехал мой отец. Мне тогда было два, а сестренке — один год. Продать вещи, оставить жилье — это было рисковым предприятием. И точно: сельсовет в прописке отказал сразу. Тогда Иван послушался людей и рванул за счастьем по одному кубанскому адресу. Там его будто ждали и поэтому вели долгий и лукавый разговор. «В лапу хотели получить, — поясняет он, вспоминая те дела, — а что давать-то?»
Иван Давидович вернулся в Крым. В белогорской милиции его развернули. И в Симферополе, в облисполкоме, отказали. Отказал председатель, солидный человек. Иван Давидович вышел на улицу и закурил. И вдруг видит, что к нему подходит мужчина в кожаной куртке, появившийся из дверей того же учреждения. Как по следу вышел.
— Зачем приходил, товарищ? — спросил он душевно.
Отец, простой человек, охотно объяснил все, с надеждой глядя на незнакомца.
— Документы есть? Покажи. Хорошие документы.
Кроме прочих бумаг была у отца справка, полученная Анной Михайловной в Киеве, которая официально подтверждала, что семья Асланян — партизанская.
Через двадцать пять лет после этого случая моего университетского товарища Алексея Стаценко будут таскать на допросы в Пермское отделение КГБ. Там немало вопросов зададут ему обо мне и моей семье. «Его отец был в партизанах!» — скажет Лёшка. «Это еще надо посмотреть, в каких партизанах он был!» — отрежет молодой, розовощекий гэбист. Вот бы в проломовские леса козла вонючего…
— Хорошие документы, — отметил мужчина в кожаной куртке. — Приходи сюда вечером, приноси две тысячи — и прописка будет.
«Занять деньги! Да… Ты там выписался, здесь не прописался, убьют — и никто искать не будет!» — так сказала ему вечером моя мать. Так встретила родина своего Ованеса. Уже другое, не проломовское, а советское подполье действовало тут. И, завязав котомки, он с семьей отправился на Урал второй раз, но уже без охраны. Во второй раз, но не в последний.
Два года он проработал на самосвале, доставляя гравий на строительство вишерского аэропорта. А затем снова поехал туда — к прохладным скалам и цветущим вишням своей родины. На этот раз в Симферополь направилась Анна Михайловна — в управление внутренних дел. И добилась своего — прописала сына. Хар-рактер у нее был!
Нашей семье дали двухкомнатный кирпичный дом в новом углу Васильевки, который местные прозвали «бендеровским поселком». Везло нам на лихие названия — что Лагерь, что это… Нищета приезжая, голь хохляцкая да кацапская жила там. Пустая улица, без вишен, без яблонь, с углем и поленницами прямо в комнатах, чтоб не украли. В доме были голые стены. Мы жили в одной комнате, а во второй лежали доски, привезенные с Урала для строительства дома в Проломе, о котором мечтал отец. И все было бы ладно, и все было бы так, да родная советская власть не желала убирать руки с горла своего терпеливого народа.
Иван Давидович работал шофером — для него других профессий не существовало. И в 1960 году в колхозе имени XXI партсъезда он имел самое большое количество трудодней. Он в первые никогда не рвался, но не любил быть вторым, а тем более третьим. Во время уборочной страды с восьми часов до пяти возил зерно от комбайнов на ток. И я, сидя в его горячей, перегретой кабине, срывал абрикосы с веток бесконечных лесополос вдоль пшеничных полей. В тот год они уродились, их коврами стелили на черепичных и шиферных крышах — сушили сочные плоды юга, готовясь к очередной голодной зиме.
А вечером и ночью Иван Давидович успевал сделать два рейса в соседний район на элеватор. И отпускал руль, чтоб остыл, только в пять утра, три часа спал — и снова пылил в поле. Ему нужны были деньги. Он ездил в горы за камнем, закладывал фундамент дома в Проломе, уже собирался строить. Деньги нужны были.
Председатель колхоза обещал заплатить за трудодень пятьдесят копеек! В конце года. И отцу приходилось вертеться вместе с рулем, поскольку на руках было двое детей, больная жена и сумасшедший шурин Миша, которого взяли с собой. В том же году поздно вечером принесли телеграмму. Громко заревела мать, и мы, дети, ничего не понимая, сильно перепугались. Оказалось, на далекой Вишере умерла бабушка Лида…
— Ты почему не воруешь? — спрашивали Ивана соседи, регулярно посещавшие колхозные сады по ночам.
— Пусть подрастет, — мягко отвечал отец.
У этих бедных людей в «бендеровском поселке» дома сидели дети, которые хотели есть. Сейчас это страшно вспомнить, и вот я думаю: а я бы пошел, я бы пошел воровать… Потому что народная нравственность не совпадает с лагерно-милицейской. В этом мы уже убедились.
С колхозных полей тащили все, потому что своих не было. У вербованных хохлов, заселивших новый угол Васильевки, не было и садов — они чистили по ночам колхозные. Набивали мешки яблоками и грушами, продавали фрукты на городских базарах. И я с сестренкой лазил по виноградникам, и нас гонял сам однорукий заместитель председателя колхоза.
Как-то отец вез в кузове женщин с поля. У них под белье, под юбки и кофты были засыпаны кукурузные зерна. А на дороге колхозниц уже ждали участковый милиционер и зампред. Одна из женщин, испугавшись, побежала, однорукий — за ней. И тут кто-то удачно бросил в него камнем, угодив прямо в голову. Убить не убили, а того, кто бросил, не выдали.
Вот такая гражданская война шла. Вернее, продолжалась и идет до сих пор. Сам председатель и рад был бы дать колхозникам, да что? Зерно забирали, а денег за него никто не давал. И однажды председатель сам решил отогнать четыре машины с луком в Харьков, потому что в местной заготконторе давали всего двадцать копеек за килограмм. Но когда колонна подошла к Чонгарскому мосту, милиция развернула ее обратно. Будто страна была рассечена на зоны. Тогда председатель увел подчиненных в степь, где все легли спать. А с наступлением ночи машины, выключив фары, тихонько вернулись к мосту и быстро проскочили его в темноте. Чем не боевая операция? Проспала милиция. «Ну, теперь мы на Украине!» — радостно констатировал председатель. В Харькове они сдали лук по сорок копеек за килограмм.
Какая-то машина сбила под Запорожьем двух человек. Гаишники искали преступника. Они остановили колонну, председателя и всех восьмерых шоферов забрали в милицию. А чего мелочиться! Привыкли брать бригадами, партиями и народами. Выпустили только через сутки.
Когда позднее бывал в Крыму, я видел драки, избиения, мошенничество, но бегущую на помощь милицию я не видел никогда. Конечно, мне просто не везло. Мне повезло только один раз: когда я ехал по горной троллейбусной трассе из Симферополя к морю, на каждом отвороте стояло по «красноголовику». Как оказалось, они встречали не меня, а какого-то члена правительства.
Зато они любили встречать моего папу, хотя он не в черных лимузинах ездил. Через три дня после возвращения из Харькова он отправился в Симферополь за лесом на железнодорожную станцию. Он сидел за рулем ЗИС-5, армейской машины, с которой сняли прожекторную установку.
— Фары освещения не отрегулированы. Штраф пять рублей! — радостно сказал ему гаишник, тормознувший машину на выезде из Белогорска.
— У меня нет денег, — пожал плечами Иван Давидович, — мне их один раз в год дают, ведь я за трудодни работаю.
— Плати штраф! — с улыбкой продолжал выколачивать деньги блюститель закона.
— Хорошо, бери трудоднями! — осерчал отец. — Хочешь — бери сто, хочешь — двести бери!
Надо видеть этого армянина, когда он сердится, — темперамент! И хитроумный мент быстренько составил протокол «за оскорбление автоинспектора». Похоже, он просто не знал, что такое трудодень. А через неделю на заседании районной комиссии Госавтоинспекции отца лишили водительских прав на год. «Конечно, колхозник. Белогорским всем права вернули, а у них машины первоклассные были — э-э! Не то что моя…» Лишить его машины на год! Иван Давидович переночевал у друга и пошел на прием к секретарю райкома партии, все рассказал начальнику. «Нет, я был трезвый», — ответил на обязательный вопрос. Секретарь хорошо знал, что такое трудодень и сколько он стоит, — секретарь посмеялся. «Верните права!» — только и сказал он в трубку телефона.
Но в тот день, когда председатель колхоза послал отца в город за корреспондентом газеты, как лучшего гостя встретили его гаишники. Проверили — точно, люфт у тяги! Пригласили в милицию, составили протокол, спросили: член партии? дети есть? И отобрали права. Отец зашел в райком и снова все рассказал. «Где они?» — спросил секретарь. «Да вон, на перекрестке стоят», — показал Иван Давидович в окно. Секретарь вызвал инспектора к себе и приказал тут же вернуть права.
— Я все равно тебе дырку сделаю! — зло пообещал милиционер отцу, когда они вышли в коридор.
— А я снова в райком пойду, — ответил Иван Давидович так просто, что гаишник растерялся.
В конце года вместо обещанного полтинника за трудодень дали по двадцать копеек — как за килограмм лука в местной заготконторе. Точнее, не двадцать копеек, а зерно и растительное масло на эту сумму. Кроме того, Ивану Давидовичу вручили красивую почетную грамоту — за трудовые достижения. «Год проработал — одни долги, рубашку купить не на что было».
Не на что было купить лекарства, в доме не было сахара. Вскоре вышли последние деньги. И отец поехал в город сдавать свою любимую «белку», которую он привез с Вишеры, — охотничье ружье с двумя стволами для мелкокалиберных пуль и патронов тридцать второго калибра. Короче, сдал он ружье за тридцатку, идет грустный по улице, а навстречу — автоинспектор, обещавший ему обязательно проколоть талон в водительских правах.
— Ты почему не сказал мне тогда, что партийный? — спросил он Ивана Давидовича.
— А я каждому не докладываю! — самоуверенно ответил отец, из красных советских книжек имевший только одну — члена охотобщества.
А потом в нашем доме загорелся бензин. Мать бежала по улице, и на ней факелом горело платье… Нас развезли по разным больницам. Родители потеряли сознание — ожоги были страшными. В палатах они провели два месяца. Тяжело вспоминать об этом. Как будто за каждым поворотом нашу семью ждала судьба с каким-нибудь красным околышем.
Пахать в колхозе было накладно — на долги дом не построишь. Поэтому Иван Давидович перешел работать шофером в Белогорский лесхоз, где каждый месяц давали по шестьдесят рублей. И мы переехали в Пролом, в тот самый дом под скалой, где жил руководитель подполья, погибший в 1942 году Иван Федченко.
11
Я вернулся туда через двадцать пять лет и спустился к деревне уже по асфальтовому шоссе. Саманные дома были аккуратно побелены. В теплом весеннем воздухе над деревней плыл голубоватый дымок огородных костров, мерцала утром белая нежность цветущих вишен. Сколько армян мечтало вернуться сюда! Где теперь они, вырубавшие на этих склонах терновник? Спросите об этом у сухого вишерского песка.
Никого не встретил я на деревенской улице, постоял перед домом Федченко, так и не решившись побеспокоить новых хозяев. Потом прошел к центру, до магазина, и обнаружил в нем семь сортов виноградных вин. Мне это понравилось. Я взял бутылку вина, засунул ее в сумку и пошел вверх по склону, чтобы не по улице, а через горку выйти к тому месту, где стоял дом деда Давида. Поднялся и вижу пасторальную картинку: на поляне по молодой травке гуляют овцы, а на камне сидит пастух, мужчина в зрелом возрасте, и, запрокинув голову, пьет вино прямо из горлышка точно такой же, как у меня, бутылки. Я поздоровался.
— Ты кто будешь? — спросил он, оторвавшись от источника вечной радости.
Я понимал, что не очень вписываюсь в пейзаж.
— Асланян? — изумился пастух. — Иванович? Вот это да! Так ты с Урала приехал? А я там никогда не бывал…
Тут я ему весело посочувствовал. Он быстро говорил и смеялся, оживленный вином и неожиданной встречей. Выяснилось, что Валентин — друг моего отца.
— У тебя хороший отец! — сказал он в конце и объяснил мне, как лучше пройти, ведь за четверть века я запамятовал места. — Приходи ко мне вечером на кошару — поговорим.
От памятника проломовским партизанам и подпольщикам, стоящего на месте дедовского дома, я спустился по аллее к улице, прошел обратно по всей деревне и дальше — под длинной, извилистой скалой, усеянной, будто цветами, стадами божьих коровок, и вышел к речке. Вода в Карасёвке чистая, прозрачная, дно — из ровных каменных плит. В детстве мы наблюдали с мостика, как изящно двигаются внизу длинные серо-голубые тела рыб. А на другом берегу там стоит высокая и мощная дубрава, за которой — сказочная усадьба лесничества: цветы, сплошные цветы… Там у подпольщиков во время войны был штаб.
Войдя в дом, я увидел длинный стол, заставленный яствами деревенского юга. За дальним концом стола сидел красивый и совсем седой старик. Я знал, что это лесничий Лопатин, еще один друг отца.
— Посмотрела я на тебя, парень, в окно и подумала: а не сын ли это Ивана Асланяна идет? — громко и весело сказала пожилая женщина, сидевшая за столом. — Да, да, ты был совсем маленьким, когда вы уехали. Сколько тебе сейчас?
Знает Пролом Ивана Давидовича, помнит. «Жаль, что не удалось удержать его тогда в Крыму», — скажет мне позднее в Белогорске бывший директор лесничества, разливая красное вино из белого фарфорового кувшина.
Что теперь говорить об этом! Помню, вызывает мою мать на улицу какая-то робкая женщина, они разговаривают — и мать выносит ей хлеба. А неподалеку женщину поджидает девочка, моя ровесница. Обыкновенный голод… Поэтому Иван Давидович так хорошо запомнил случай, когда он ездил с начальником в фазанье хозяйство. Вечером вернулись, а утром порулили туда снова. Смотрят: пыльной и тряской дороги, которая была еще вчера, уже нет. За одну ночь грейдерами разровняли и лесополосы посадили. Оказалось, ждали на охоту Никиту Сергеевича Хрущёва, отдыхавшего в то время на берегу моря. «А фазаны-то, — вспоминает отец, — там совсем ручные».
А в нашем доме — глиняный пол, хоть шаром покати. По вечерам, при свете керосинки, мать читала нам книги — Пушкина, Мамина-Сибиряка.
— А где это? — спросил я ее после рассказа «Зимовье на Студёной».
— Это там, где мы жили, — грустно ответила мама. Ее, конечно, тянуло на свою родину.
И поехал Иван Давидович на Вишеру в третий раз. Но каждый год возвращался в Крым постоянно — в отпуск. Две родины у него. А сердце одно. Вот и астрологи назвали недавно из пяти благих мест в стране два — Крым и Пермь. Места с большой потенциальной энергией. Правда, мой отец знает об этом давно.
Через двадцать лет после окончания войны пригласили бывшего спецпереселенца на торжественное собрание в Дом культуры. И при всем честном народе неожиданно вручили ему медаль «За боевые заслуги». Нашла награда Ивана Давидовича. Все удивленно аплодировали, и только один мужик, сидевший рядом, заметил: «Послушай, а ведь никто не обратил внимания, с какого ты года — тебе же в сорок втором четырнадцать лет всего было!»
Да, и шестнадцать — в сорок четвертом.
1990






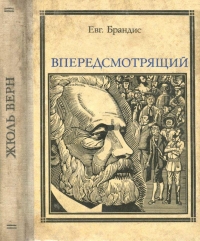

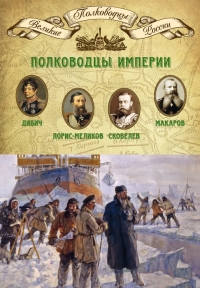
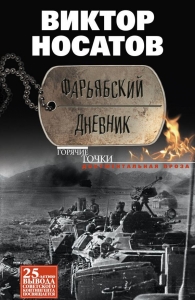
Комментарии к книге «Территория Бога. Пролом», Юрий Иванович Асланьян
Всего 0 комментариев